Не приходя в сознание
Книга состоит из романа и двух повестей. В романе «И запела свирель человеческим голосом...» рассказывается о молодом человеке, оказавшемся замешанным в тяжком преступлении. Чем больше мы понимаем нравственную сущность преступника, тем более очевидным для нас становится его поражение. Действие повести «Тайфун» происходит в пассажирском поезде, занесенном снегом. В одном из вагонов едет опасный преступник, ограбивший кассу крупного магазина. Найти его, узнать, задержать — сложная задача. В документальной повести «Не приходя в сознание» главное — психологическая борьба, разоблачение не столько преступления, сколько внутреннего мира человека, совершившего это преступление.
И ЗАПЕЛА СВИРЕЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ГОЛОСОМ...
Роман

1
В доме, где жил Демин, не у многих были телефоны — у начальника стройуправления, мастера по изготовлению модельной обуви, и у него, у Демина. Услышав звонок, он снял трубку.
— Демин? — прогудел в трубке голос Рожнова.
— Да, Иван Константинович, внимательно вас слушаю.
— А почему не слышу бодрости в голосе?
— Спать хочется... Двенадцатый час, слава богу. Нормальные люди уже не первый сон видят. Простите, Иван Константинович, там кто-то в дверь звонит, пойду открою.
— Это водитель пришел. По моим прикидкам, машина уже должна стоять у твоего подъезда.
— Даже так... А что стряслось?
— Утром сам мне расскажешь. Пожар. Пострадавшие. Кажется, кто-то погиб или недалек от этого. Положено быть следователю. Если ты везучий, к двум ночи будешь в своей постельке.
— А если нет? — спросил Демин.
— Тогда на себя пеняй. Иди открывай дверь-то, нехорошо заставлять ждать человека. Он на службе все-таки. Утром поговорим подробнее. Ни пуха.
— К черту! — с чувством произнес Демин, положив трубку.
Город уже спал. Пустынные улицы казались непривычно просторными, уходящие вдаль фонари делали их длинными, почти бесконечными. Из машины Демин изредка замечал поздних прохожих. Почему-то принято считать их торопящимися побыстрее попасть домой. Ничуть, эти никуда не торопились. Очевидно, на улицах остались лишь те, кому незачем спешить. Парочка у освещенной витрины кинотеатра рассматривает кадры будущего фильма. Мужчина с толстым портфелем бредет неуверенной походкой. Сразу за поворотом водителю пришлось почти остановить машину, чтобы не столкнуться с поющими, приплясывающими молодыми людьми — загулявшая компания шла по самой середине проезжей части. Перед Деминым мелькнули шалые девичьи глаза. Кто-то попытался заглянуть в машину, ребята что-то кричали вслед.
— А мамаши в окна смотрят, по знакомым звонят, валидолы-корвалолы хлещут, — проворчал водитель. — А им, вишь ли, весело, душа приключений просит!
— Пусть, — великодушно разрешил Демин.
— Конечно! Пусть гуляют, мне что... Зато мы с тобой, Валя, не останемся без работы. Тоже ведь на гулянье едем. — Пожилой водитель искоса глянул на Демина.
— Все это так, — со вздохом проговорил Демин. — Все это так, Владимир Григорьевич... Но только вот девушка, которая в машину заглянула с моей стороны... Очень красивая девушка.
— Я вижу, ты не прочь был бы провести с ними этот вечерок? — спросил водитель с улыбкой.
— Не прочь. Но стоят между нами стены и стены... Из должностных моих обязанностей, из возраста, из правил приличия, из неких условностей, которые называются нравственными устоями. Казалось бы, сущий пустяк! Провести вечерок в такой вот компании... Ан нет! Оказывается под угрозой уйма вещей, которыми ты живешь, которыми дышишь, которыми питаешься... Кстати, а куда несется эта машина?
— На пожар, — коротко бросил водитель.
— Да, похоже на то, — со вздохом согласился Демин.
Проехав центр города, машина как бы ворвалась в полутемную его часть. Фонарей здесь было поменьше, а светофоры посылали в темноту лишь мигающие желтые вспышки, дескать, езжайте, только осторожнее, чего не бывает на ночных дорогах. Шины звонко раскалывали весенние лужицы, затянутые тонким льдом, холодный воздух острой струей врывался в машину, но не обжигал морозом, в нем уже чувствовались запахи весны — влажный снег, оттаявшая кора деревьев, первые городские прогалины... Но вдруг в машину проник запах дыма.
— Запахло, — обронил водитель. — Я уже привез сюда и фотографа, и медэксперта, и оперативники здесь. Час назад здесь было куда светлее.
— Серьезный пожар?
— Да некогда было рассматривать. Развернулся и сразу за тобой.
Переулок был забит машинами. В их стеклах, на блестящих металлических поверхностях играли блики затухающего пожара. По номерам Демин узнал машину прокурора города, начальника УВД, стояла здесь и машина Рожнова.
Заметив Рожнова среди начальства, Демин не стал подходить. Нужно будет, сами позовут. Он решил попытаться узнать, что произошло. Людей было предостаточно, нашлось кому задать вопросы, у кого перепроверить ответы. Все в один голос говорили, что огонь вначале появился в окнах, загорелось внутри дома. Потом пламя набрало силу, прорвалось наружу, охватило чердак. А когда заполыхала крыша, послышалась настоящая пальба — раскаленный шифер стрелял оглушительно и часто. Даже сейчас, когда пожар в общем-то был потушен, время от времени раздавались словно бы одиночные выстрелы.
Нетрудно было представить, как совсем недавно в сухих комнатах, в просторном чердаке, в сквозняковых коридорах басовито и уверенно гудел огонь, словно занятый важной и срочной работой. Красноватые блики, проникающие в соседние дома сквозь окна и шторы, вызывали тревогу. В спешке набросив что-нибудь на плечи, люди выходили на улицу, смотрели, не перекинулось ли пламя через заборы, не побежали ли огоньки по ветвям деревьев, к чердакам, набитым сухим сеном. От жара дымились ворота, таял снег во дворе, выгибались и умирали яблони под окнами. Снег вокруг дома сошел, стек ручьями, показалась жухлая, мертвая трава, образовалась грязь и тут же высохла.
Разобраться во всей этой сумятице, людских криках, сполохах фар, когда еще шипели и дымились догорающие стропила и, не обращая ни на кого внимания, тащили шланги пожарные, было не просто. Кое-где еще вспыхивало пламя, стены поблескивали пепельно-черными чешуйками, в лужах плавала обгоревшая бумага, двор покрывали осколки битой посуды, пар смешивался с дымом, и дышать у дома было почти невозможно.
Демин обошел весь дом, заглянул в дымящиеся окна, послушал разговор соседок. В саду было темно, и догорающая крыша не обжигала лицо, не слепила. Между деревьями в снегу была протоптана тропинка к забору. Присмотревшись, Демин увидел, что одна доска вырвана. Протиснувшись в щель, он оказался на соседней улице. Очевидно, хозяева пользовались этим лазом для сокращения пути.
У самого дома Демина уже поджидал Рожнов.
— Ну что, все осмотрел? — спросил он. — Везде побывал?
— В доме еще не был.
— Успеешь, вот остынет маленько... Пошли, покажу тебе то, что тебя касается.
За воротами прямо на снегу лежали четыре человека. Вокруг стояли люди, молча смотрели кто с ужасом, кто с состраданием.
— Живы? — спросил Демин.
— Трое живы, — ответил медэксперт, высокий худой парень с сумкой на длинном ремне. — Но плохи. Вызвали «скорую». А этот мертв. Похоже, все крепко выпили.
— Похоже или на самом деле?
— Спросите завтра, Валентин Сергеевич. Впрочем, завтра я отвечу, не ожидая ваших вопросов. А пока можете наклониться, понюхать. Что до меня, то я запах чувствую и не наклоняясь.
— Пожарные говорят, что там бутылок в доме как на приемном пункте, — добавил Рожнов. — Это, конечно, не должно нас вводить в заблуждение. — Он со значением посмотрел на Демина.
— Все понял, Иван Константинович, — остановил его Демин. — Где их нашли?
— Женщина лежала в коридоре, у самого выхода. От огня почти не пострадала. Правда, эта странная рана на голове...
— Пожар, паника, дом наполнился дымом, женщина потеряла самообладание, бросилась искать выход, ударилась обо что-то головой, потеряла сознание... Завтра разберемся, — пообещал эксперт, отходя к подъехавшей машине «скорой помощи».
— Ее нашли у самого выхода, — повторил Рожнов. — Она все время дышала свежим воздухом — его засасывало снаружи в щель под дверью. Но обо что можно удариться в коридоре, который хорошо знаешь... Ума не приложу.
— А выйти не смогла?
— Дверь была заперта снаружи, — без выражения проговорил Рожнов. — Но здесь вообще два выхода, два крыльца. Хозяевам не было надобности держать обе двери раскрытыми, хватало одной.
— В такой обстановке можно ошибиться в чем угодно. Когда за спиной огонь гудит, забудешь, кто ты есть.
— Ладно, — сказал Рожнов. — Действуй. Мне здесь делать больше нечего. Но учти — завтра... — Рожнов посмотрел на часы. — Нет, уже сегодня утром мне велено доложить суть происшедшего. Ты уж того, не подведи. Народу собралось много, будет с кем потолковать, с кем ночку скоротать.
Демин невольно посторонился, когда мимо него проносили к машине пострадавших. Да, будь у них хоть немного самообладания... Ведь можно было вышибить окна, двери. Неужели все оказались настолько пьяны? Обычно кто-то остается трезвее, крепче держится на ногах, лучше соображает... А эти... Судя по их виду, предстоит еще опознание, придется устанавливать, кто есть кто...
Подошли два оперативника — Гольцов и Пичугин. Перемазанные в саже, они были в эту минуту похожи друг на друга. Молча постояли, глядя, как задвигают носилки в машину «скорой помощи».
— Что будем делать, Валентин Сергеевич? — спросил Пичугин.
— Все, как обычно, ребята. На улице полно народу, постарайтесь узнать все, что можно. Чей дом, кто пострадал, как понимать пожар, какие слухи ходят... Я буду здесь, если что узнаете срочное — сразу ко мне. Договорились?
— Все ясно, — сказал Гольцов.
— Что говорят пожарные?
— Электрику они исключают полностью. Да и соседи утверждают, что, когда начался пожар, свет еще горел в доме.
— Что же тогда? Керосин, керогаз, примус?
— Все это слишком сложные приборы, чтобы ими можно было пользоваться в пьяном состоянии, — заметил Пичугин.
— Может, потому и пожар?
— В доме нет даже остатков этих сооружений, — сказал Гольцов.
— Значит, курево?
— Не исключено, — неуверенно ответил Пичугин. — Если у них и было курево, то оно сгорело.
— Хорошо. Поговорите с соседями, а я пока осмотрю дом.
Демин не без опаски прошел в черный проем. От него еще исходил жар. Под ногами плескалась вода. Черный комод украшала прокопченная балеринка на одной ножке — она продолжала свой танец. Смазанная полуулыбка, руки, протянутые к чему-то радостному, вскинутая нога... Вот только край пачки оплавился, и с нее стекала застывшая капля пластмассы.
Дом был построен на двух хозяев, причем обе половины сделаны вполне самостоятельными, в каждой сени, кладовки, кухни. Но в то же время между половинами дома предусмотрен свободный проход. Дверь, правда, выгорела начисто, только металлическая щеколда болталась на раме.
— Мы свою работу заканчиваем, вы только начинаете, — улыбнулся пожарный, показав белые зубы. — Но не думаю, что и вы здесь задержитесь.
— Все настолько очевидно? — спросил Демин.
— Как пареная репа. Пожар возник вон в той комнате. Окна целые, никто даже не пытался вырваться наружу. Когда мы приехали, в сенях еще лампочка горела. Так что замыкание исключено.
— Что же тогда?
— Сказать трудно, но если вас интересуют мои соображения... Вот остатки рубанка, вот какая-то непристроенная доска... Возможно, ее подгоняли для чего-то, скамью, например, выстругивали, полку, мало ли... Значит, на полу были стружки, щепки... Дальше все понятно. Вполне достаточно спички, папироски, искры...
— Когда вы приехали, дом уже вовсю горел?
— Гудел! — воскликнул пожарный. — Перегородки деревянные, сухие, возможно, чердак был набит сеном, видимо, для скотины приготовлено... Опоздай мы на десять минут... От коровы одно жаркое осталось бы, да, боюсь, сильно подгорелое.
— Никаких несуразностей не заметили?
— Это уже по вашей части, — усмехнулся пожарный. — Вам виднее.
Демин еще раз окинул взглядом обожженные стены, потолок, прогоревшие перегородки. Сквозь черные проемы окон уже начал просачиваться серый свет утра. Зябко передернув плечами, Демин вышел во двор.
— По какому случаю был праздник? — спросил он У женщины, стоявшей у ворот.
— Ну как же... Собрались люди... Выпили. Может, для того и собрались. — Женщина несмело улыбнулась, понимая, что улыбаться в такой обстановке не совсем удобно.
— Вы знаете этих... пострадавших?
— Старика знаю, хозяина. Кто еще... Мог быть кто угодно, у него всегда дым коромыслом.
— Кто еще в доме жил?
— Половину дома квартирантам сдавал. Дергачевым. Муж и жена. Развеселая пара, не зря старику приглянулись. А я здесь, через дорогу, живу. Все боялась, что огонь перекинется, но обошлось. — Женщина еще раз придирчиво осмотрела пожарище.
И только тогда Демин обратил внимание на ворота. Их так и хотелось назвать купеческими. Сделанные из толстых, плотно подогнанных досок, укрепленные на громадных кованых петлях, они не позволяли с улицы заглянуть во двор, увидеть жизнь обитателей дома. Над воротами был сооружен двускатный козырек. Врезанная калитка тоже сработана из тех же плотных досок. Выкованные мастером петли, щеколды, ручки — все было рассчитано на годы, во всем чувствовалась добротность, которую ныне увидишь нечасто. Все как-то временно делаем, впопыхах, мысленно ворчал Демин, словно завтра же предстояло все переделывать. И действительно, переделываем, хотя и без того есть чем заняться. Освежаем себе жизнь новыми заботами, нас будто охватила боязнь собственной недолговечности перед добротно сделанными вещами.
А дом все еще тлел, шипели в снегу головешки, поднимался розовый в лучах солнца дымок, и весенний ветер раскачивал обгоревшие ветви яблонь.
2
Наутро Демин чувствовал себя разбитым, и не было у него никакого желания заниматься чем бы то ни было. Правда, холодный душ и чашка кофе немного поправили его настроение, но не настолько, чтобы ощутить себя готовым к каким-то действиям. К электричке он шел медленно, запрокинув голову и прижав затылок к плечам. Но голова оставалась тяжелой, и все события прошедшей ночи вспоминались как невнятный сон. В вагоне он сел к окну, тут же заснул, и только сочувствие женщины, разбудившей его, на конечной станции, спасло его, иначе пришлось бы по шпалам добираться из железнодорожного тупика.
Подходя к управлению, Демин попытался как-то разобраться в своих ночных впечатлениях, составить о них четкое мнение, но они представлялись неясно, словно подернутые дымком, впрочем, каким дымком, самым настоящим дымом. Было ощущение, что он видел сгоревший дом, пострадавших людей на подтаявшем мартовском снегу не этой ночью, а, по крайней мере, год назад.
— Что скажешь? — спросил его Рожнов.
— У пострадавших, видимо, был большой праздник. Они собрались, выпили, посидели, расслабились... Может быть, вспомнили молодость, времена далекие и невозвратные, когда все было прекрасно... Да, Иван Константинович, от праздников ждут чего-то большего, нежели от будней, и людям так не хочется, чтобы эти их ожидания оказались пустыми... Поэтому, когда ничего в праздники не происходит, они силком стараются наполнить их если не радостью, то хотя бы радостными криками.
— Продолжай, Демин, я внимательно тебя слушаю, — проговорил Рожнов. — Вижу, ты отдохнул, мыслишь свежо и проницательно, уверен, что ты выведешь нас на верную дорогу.
Рожнов положил на холодное настольное стекло плотные тяжелые ладони, остудил их, потом прижал к вискам. Заметив пристальный взгляд Демина, смутился.
— Понимаешь, — сказал Рожнов, — я могу сутками не есть, неделями куда-то мчаться, годами не ходить в отпуск, но я не могу не спать, не могу, что делать... Ты что-то говорил о выпивке?
— Я хотел только сказать, что выпивка и уважение ближних часто взаимосвязаны. Выпивка сделалась формой общения, вам не кажется, Иван Константинович?
Рожнов шумно вздохнул, перевернул листок календаря, посмотрел на часы.
— Мне нравится твоя вдумчивость, Демин, — сказал он серьезно. — Это хорошее качество. Надеюсь, оно окажется полезным. Кстати, хозяин дома, этот Жигунов, когда-то был известным человеком в городе. Последнее время старик запил, хотя особых причин вроде и нет...
Подходя к своему кабинету, Демин услышал за дверью телефонные звонки. «Что-то последнее время события поторапливают меня, — подумал озадаченно. — Дома звонят, здесь кому-то невтерпеж...»
— Да! — крикнул он в трубку. — Слушаю!
— Демин? Доброе утро, Валентин Сергеевич, — прозвучал неторопливый, даже слегка замедленный голос, и Демин сразу догадался — медэксперт.
— Здравствуйте, Степан Александрович. С вашей стороны очень любезно...
— Я же сказал вчера, что позвоню.
— Спасибо, Степа. Ты настоящий друг.
— Скажи, Валя, только откровенно, что ты думаешь о ночном пожаре?
— Версия напрашивается сама по себе... Собралась компания... Крепко выпили, некоторые отключились... Кто-то захотел покурить... И так далее. Может быть, в деталях что-то путаю, но пожарные склоняются именно к такой мысли.
— Пожарные? — эксперт усмехнулся. — Так ведь это... Как бы тебе сказать понятнее... Труп в наличии.
— Да, я знаю. А как остальные?
— Держатся пока... Но состояние тяжелое.
— Понимаю, ожоги...
— При чем здесь ожоги? — спросил эксперт с таким наивным удивлением, что у Демина екнуло сердце.
— Ладно, — сказал Демин. — Я приготовился. Бей.
— Я не бью, Валя, я протягиваю тебе руку помощи. Ухватился? Смерть наступила от сильного удара по голове твердым тупым предметом. Поскольку ночью было много копоти, дыма, потом еще пожарные все залили... Не разглядел я, да и ты тоже... А на свету все стало на свои места. Не зря говорится — утро вечера мудренее.
— Так... — протянул Демин, усаживаясь поплотнее. — Что еще?
— Был этот гражданин слегка пьян. Слышишь? Слегка. Остальные, конечно, пострадали от огня, но у них тоже просматриваются удары все тем же предметом. Если бы ты позволил мне сделать предположение...
— Позволяю!
— Это был молоток. Молоток с квадратным сечением. Если будешь на месте происшествия, поищи в пепле. Ручка скорее всего сгорела вместе с отпечатками пальцев, ты их не найдешь, а вот молоток может пригодиться. Такие дела, Валя. Сейчас я сяду за долгое описание всех моих находок и догадок, но тебе вот позвонил на случай, если что пригодится.
— Спасибо, Степа. Спасибо! — Демин положил трубку и тут же снова поднял ее, набрал номер пожарного управления. — Что у вас, ребята?
— Единственное, что можно утверждать с полной уверенностью, — пожар начался в комнате, где были люди. Виной тому не электропроводка, нет оснований предполагать, что вспыхнул бензин, керосин, поскольку никакой посуды для этого в комнате не было. Много, правда, бумажного пепла.
— Это все?
— Все. Заключение получите завтра.
«А теперь, дорогие товарищи, давайте пораскинем умишком, — проговорил Демин, откидываясь на спинку стула. — У нас в наличии четверо пострадавших. Один погиб. Трое в тяжелом состоянии. Все началось с застолья. Выдвинем предположение — перепились, передрались, одного даже насмерть зашибли. Может такое быть? Может. Правда, возникает сомнение — пострадали все четверо. Обычно в драке кто-то побеждает, кто-то оказывается сильнее...»
Демин набрал номер эксперта.
— Внимательно вас слушаю, Валентин Сергеевич.
— В доме нашли четверых, все четверо пострадали. Вопрос: могли ли они сами нанести друг другу...
— Исключено. Одинаковый характер ранений режет, Валя, твою версию на корню. Кроме того, погибший — самый крупный среди них мужчина, смею предположить — самый сильный. Ему больше всего и досталось.
— Ты укажешь об этом в заключении?
— Обязательно. Видишь ли, Валя, человек, получивший такой удар, сам уже не сможет сделать что-то подобное. Он выбывает из игры. Следовательно, должен быть некто оставшийся целым. Такова моя скромная догадка.
«Так, продолжим наши размышления. — Демин положил трубку. — Через десять минут идти к Рожнову, а дело усложняется. Просчитаем дом... Две половины на два хозяина. Один выход заперт изнутри, другой — снаружи. Веселье происходило в той половине, которая заперта снаружи. Следовательно, при возникновении пожара все могли выйти через вторую половину дома. Что же им помешало? Плохое самочувствие? Или был человек, который пил вместе с ними, а потом по каким-то причинам решил от всех одним махом избавиться? Человек, который укладывает всех своих собутыльников, а потом поджигает дом, не похож на легкомысленного. Очевидно, у него много других несовершенств, но упрекнуть его в легкомыслии нет оснований. Что может толкнуть человека на подобное? Ненависть или опасность. Итак, он поджигает дом и уходит. Но это имеет смысл, если люди погибнут. А они не погибли. Живы. Кроме одного. Значит, преступник обречен? Если они выживут и заговорят...»
Демин тут же позвонил в больницу.
— Главврача, пожалуйста. Я подожду, — сказал он нетерпеливо, поняв, что кто-то решает, как ему быть, не обидится ли главврач, если он его к телефону позовет. — Николай Иванович? Здравствуйте, Демин беспокоит. Помните такого? Спасибо, жив-здоров... Трудимся в меру сил и умения. Николай Иванович, к вам этой ночью доставили трех пострадавших во время пожара.
— Да, есть такие.
— Их состояние?
— Крайне тяжелое.
— Надежда есть?
— Надежда есть, но не больше. Никакой уверенности.
— Кто-нибудь приходил, делал попытку встретиться или хотя бы узнать их состояние, вообще — интересовались?
— Были звонки.
— Кто звонил?
— Ну, Валентин Сергеевич, вы слишком многого от меня хотите.
— Николай Иванович, настоятельная просьба — никого к ним не пускать.
— Не понимаю? — уверенный бас главврача выразил искреннее недоумение.
— Видите ли, Николай Иванович, есть основания полагать, что найдется человек, который захочет встретиться с ними во что бы то ни стало.
— Зачем?
— Ему очень не понравилось, что их удалось спасти.
— Вон оно что... Был сегодня утром звонок... Как мне показалось, звонил весьма молодой человек... Его настойчивость я отнес за счет волнений о родственниках.
— Он спросил о ком-то конкретно? Назвал чье-то имя?
— Одну минутку, Валентин Сергеевич... Дайте подумать. Трубку подняла сестра, подошел я... Он сказал, что является родственником доставленных ночью людей и потому волнуется...
— На каком они этаже? — спросил Демин.
— На третьем. Это имеет значение?
— Можно проникнуть в палату через окно?
— Совершенно голая стена.
— Ну, хорошо. Извините. Только просьба — неплохо бы дверь палаты держать под присмотром.
— Рядом столик дежурной. Это вас устраивает?
— Вполне. Я все-таки подъеду, возможно, придется оставить у вас нашего товарища.
— Не возражаю.
«Ну, товарищ Рожнов, держитесь!» — подумал Демин, направляясь в кабинет начальника. Рожнов, не прекращая телефонного разговора, глянул на Демина, махнул тяжелой ладонью в сторону стула, садись, дескать.
— Пока ничего сказать не могу, — ответил он кому-то в трубку и вопросительно вскинул брови, как бы спрашивая у Демина. — Позвоню через полчаса, — сказал Рожнов и осторожно положил трубку. — Прокурор города. Интересуется. Поговаривают, что у нас четыре трупа, представляешь?
— Пока в наличии только один, — сказал Демин. — Кстати, ученые люди утверждают, что смерть наступила от удара по голове твердым тупым предметом. Не исключается молоток.
— Дальше, — бросил Рожнов, нависнув над столом.
— У остальных пострадавших такие же травмы.
— Все?
— Сегодня утром в больницу позвонил неизвестный, назвался родственником пострадавших.
— Что ему было нужно?
— Весьма настойчиво интересовался их самочувствием.
— Понимаю, — кивнул Рожнов. — Он правильно рассудил — или они будут жить, или он... Они в состоянии разговаривать?
— Они ничего не в состоянии делать. Как я понимаю, туда нужно направить нашего человека?
— Обязательно. Что ты намерен делать дальше?
— Подробный допрос всех, кто имеет какое бы то ни было отношение к потерпевшим. Соседи, родственники, сослуживцы, друзья и подруги.
— А сейчас?
— Повторный выезд на место происшествия для более тщательного осмотра.
— Тяжело тебе придется... После пожара искать следы...
— Потребуется оперативная группа в полном составе.
— Кроме собаки, — усмехнулся Рожнов. — Там вчера столько следов оставили, что всей нашей псарни будет маловато.
— Да, и дежурного в больницу, — напомнил Демин.
— Уже записал, — ответил Рожнов. — Два оперативника, с которыми ты вчера работал, остаются за тобой. Если еще понадобятся, будем подключать походу дела.
3
День был солнечный, ночной ледок на дорогах подтаял, и ручьи неслись деловито и радостно, посверкивая солнечными бликами, бесстрашно ныряя в канализационные решетки, уверенные, что все равно вынырнут на солнечный день, снова увидят солнце, но уже за пределами суматошного города, среди полей и лесов, где нет бензиновых разводов, и отражаться в них будут не каменные громады, а синее небо и заждавшиеся тепла деревья.
— Вы заметили, Владимир Григорьевич, что толпа на улице с каждым годом становится все более разноцветной? — спросил Демин у водителя, когда машина очередной раз замерла на оживленном перекрестке.
— А как же! Раньше, если увидишь красный цвет, — это светофор. Все ясно. А теперь красное пятно может оказаться и курткой, и сапогом, и...
— И просто радостной физиономией! — подхватил криминалист Савченков — молодой парень, обвешанный аппаратурой. Он уже успел надеть темные очки, на шее его болтался какой-то особо чувствительный экспонометр, и, справедливости ради, надо сказать, что болтался не зря, снимки Савченков делал отличные. Снимал он только на широкую пленку, и его снимки можно было рассматривать через лупу. Там всегда находилось такое количество деталей, что некоторые утверждали, будто по снимкам Савченкова можно проводить вполне качественный осмотр места происшествия.
— Замечать на улицах радостные физиономии — это чисто возрастное, это пройдет, — проворчал водитель.
— Ничего! — воскликнул Савченков. — Когда я перестану их замечать, моя машинка будет исправлять этот возрастной недостаток, на снимках они будут такими же радостными, как и на улицах!
— Дай бог, — ответил водитель. — Чем вызван повторный выезд, а, Валя?
— Изменился характер происшествия, так это называется. Раньше думали, что это просто пожар, а теперь выяснилось, что пожар здесь не самое главное.
— Пожар — это маскировка? — спросил Савченков.
— Похоже на то. Так что имей в виду... Потребуется общий вид и улицы, и двора, и внутри дома, хотя там черным-черно. Но на твоих снимках, думаю, мы сможем рассмотреть все необходимое.
— И даже больше! — воскликнул Савченков.
— Значит, так, ребята, — обернулся Демин к оперативникам. — Учитывая, что в самом доме все сгорело, основное внимание во дворе, в саду, на улице... При пожаре почти весь снег сошел, двор даже просохнуть успел. Мелочей там нет... Вот и приехали.
Демин подошел к воротам, толкнул их — они оказались запертыми изнутри. Калитка тоже была на запоре. После того как он ушел отсюда на рассвете, здесь уже явно кто-то побывал. Соседи? Демин оглянулся и увидел, что из некоторых калиток выглядывают люди. Не раздумывая, он направился к ближайшему дому.
— Здравствуйте, — сказал он женщине, которая вышла с ведром, видимо, за водой к колонке. — Не скажете, сюда кто-нибудь приходил сегодня? А то ворота, смотрю, заперты...
— Это сын Жигунова, Мишка. Походил, посмотрел... Много работы, говорит, батя мне оставил.
— Почему оставил? Он решил, что старик мертв?
— Кто ж его знает, что он решил... С дружком он был здесь. Потом заперли ворота и были таковы. Полчаса как ушли.
— Не знаете, он не звонил в больницу, не узнавал об отце?
— Вряд ли. — Женщина скорбно покачала головой, — Не те у них отношения, чтоб волноваться да по больницам звонить... Да и Мишка был, похоже, не в таком состоянии, чтоб связное что-то спросить, номер правильно набрать...
— А живет где?
— Где-то живет. — Женщина повернулась к ведрам. — Знаю, что автобусом приезжает, а откуда добирается... Вроде в общежитии.
— У отца дом из двух половин, а сын в общежитии? — удивился Демин.
— Говорю же, в ссоре они. А чего не поделили, бог их знает. Когда есть чего делить, — женщина кивнула в сторону дома, — найдется причина, чтоб поссориться.
Подойдя к обгорелым стенам, Демин влез в окно. И сразу после ясного мартовского дня его окружила черная копоть, обожженные стены.
Демин обратил внимание на странный предмет, висевший на раме. Дверь, видимо, закрывалась на обычную щеколду, в которую можно повесить замок, воткнуть щепку, но сейчас в петле торчал треугольный напильник.
— Тебе знаком такой запор? — спросил Демин подошедшего Савченкова.
— Вполне. Все садовые калитки, двери, за которыми нет ничего ценного, запираются на такие вот запоры. Кстати, появились в нашем хозяйственном магазине — восемнадцать копеек петля и накладная планка.
— До чего все-таки приятно поговорить со знающим человеком! — восхитился Демин. — А как ты думаешь, удобно в петлю втыкать напильник?
— Напильник? — удивился Савченков. — Ты хочешь, чтобы я его сфотографировал? Сей момент!
— Это само собой... Не кажется ли тебе, что напильник для этого дела не подходит?
— Более того, я уверен, что он не подходит. Напильник вгрызается в металл, и стоит его десяток раз воткнуть в эту петлю, изготовленную, между прочим, не из самого лучшего металла, как она вся окажется в зазубринах.
— Совершенно с тобой согласен, — заметил Демин. — Кроме того, напильник просто неудобен, его трудно воткнуть, трудно вытащить из петли. Он оказался здесь за несколько минут до пожара. Посмотри, на планке нет ни одной царапины.
— Одна есть, — заметил Савченков. — Та самая, в которую он сейчас впился. Стоит его вынуть, и под ним окажется свежий срез металла.
— Но сначала ты его сфотографируешь.
— Важная улика?
— Очень. Если он весь в копоти, значит, к нему после пожара никто не притрагивался. Кстати, понятые где? Гольцов! — крикнул Демин в глубину дома. — Понятые есть?
— Идут, — откликнулся оперативник.
— Здравствуйте... — В выгоревшем проеме стояли две женщины. С одной из них Демин разговаривал у калитки. Женщины опасались посмотреть по сторонам, словно могли увидеть кого-то из погибших.
— Вы бывали в этом доме? — спросил их Демин.
— Бывали, а как же, — ответила молодая женщина.
— Эта дверь между половинами дома запиралась?
— Вроде нет... Зайдешь, бывало, — на одном крыльце замок висит, идешь к другому... Всегда можно было войти, не в одни сени, так в другие.
— Но петелька, как видите, привинчена... Зачем она, если двери не запирались?
— А как же без петельки? — удивилась женщина. — Сквозняк какой или еще что... И вообще... Для порядку! Положено.
— Видите напильник? — показал Демин женщинам свою находку. — Дверь выгорела, а напильник в петле остался.
— О! — женщина прикрыла ладонью рот. — Это что же, выходит, они запертые были?
Демин со значением посмотрел на Савченкова — вот, дескать, как надо детали понимать. Суть-то в том, что люди во время пожара оказались попросту запертыми.
Женщины стояли у входа, Савченков снимал часть выжженной двери, обгоревшую металлическую планку, прокопченный напильник.
— Ну вот, — удовлетворенно проговорил Демин, присев на корточки в углу. — Все, что осталось от ящика с инструментом. — Он поднял клещи, ножовку, отвертку. — В этом ящике лежал и напильник. А когда преступнику потребовалось срочно запереть дверь...
— Почему срочно? — спросил Савченков.
— А потому, что в комнате, где он оставил людей, пылал огонь и у него не было ни секунды на раздумья. Напильник в дверь — это уже на грани паники. Увидев ящик с инструментом, он бросился к нему, схватил первый попавшийся предмет, не думая о том, насколько он уместен. Если я найду и молоток...
— Уж не этот ли? — спросила женщина, показывая на неприметный комок в куче пепла. С того места, где она стояла, в прямоугольнике света на полу хорошо был виден предмет с четким квадратным сечением. Женщина хотела было поднять его, но Демин остановил ее.
— Постойте! — сказал он. — Гена, сними, пожалуйста, эту находку. Наверно, и на нем может кое-что остаться, как ты думаешь?
— Наверняка! — уверенно заявил Савченков. — Смотри, а ручка-то почти целая... На нее при пожаре что-то упало... то ли тряпье какое-то, то ли...
— На молоток и человек мог упасть, — заметил Демин.
— Эх, многовато вчера здесь народу перебывало! — вздохнул Савченков.
— Сын Жигунова был вчера здесь? — спросил Демин у женщин.
— Мишка-то? Был, а как же... Давно его не было, а вчера, надо же, заглянул.
— А жена старика? Жива?
— Жива, — кивнула женщина. — Но тоже с ним не живет. К сестре перебралась. Давно, уж лет восемь, а то и все десять, как ушла.
— В таком возрасте люди обычно не уходят, поздновато уходить-то?
— Запивать начал старик, тут уж хочешь не хочешь, а сбежишь. Потом какие-то у него начались завихрения насчет дома. Чуть что — выгоню, кричит, хотя все понимали, что выгнать он не может, нет таких законов... Но и радости от такой жизни тоже немного. Помаялась Федоровна, да и перебралась к сестре.
— Она заходит к старику?
— Нет, никогда не видела, — ответила женщина.
— У нас бывает, если праздник какой случится, еще чего, — добавила вторая. — Зайдет, чайку попьет, всегда спросит о старике, а проведать — нет. Нарочно, бывало, выглянешь — постоит, на окна посмотрит, видно, хочется зайти, не один десяток лет здесь прожила, но нет, мимо идет. Даже не оглядывается, будто боится, что слабинку допустит, не совладает с собой, да и постучится к мужу-то...
— Кто еще жил в доме? — спросил Демин.
— Дергачевы, квартиранты. Муж и жена.
— У него все время жили квартиранты?
— Жили, но не задерживались. Капризный был старик, вмешивался во все. Дверь между половинами дома ни за что не хотел заколачивать, хотя любому удобнее с отдельным входом. Но старик был против.
— А эти, Дергачевы, давно у него жили?
— С осени, а, Мария? — повернулась пожилая женщина к соседке. — Въехали, тепло еще было.
— Понятно. — Демин вышел на яркое солнце и невольно вздохнул, стараясь освободить легкие от тяжелого, пропитанного гарью воздуха.
— Вчера, кроме сына, были еще гости?
— Вроде приходили, а, Мария? — пожилая женщина вновь за советом обратилась к молодой. — Были, а вот кто... Какие-то все они на одно лицо. Весь день туда-сюда шастали. То один придет, то сразу двое, то кого-то уводят...
— Почему уводят?
— Не могут сами уйти, вот и уводят... Зинку вчера опять чуть не волоком тащили. Борисихина ее фамилия. Муж за ней приходил. Как Зинки дома нет, он первым делом к Жигунову... Никто ее здесь не ругает, знай, подливают да тосты за здоровье произносят.
— Значит, сын приходил, Зинка, ее муж... Кто еще?
— И еще были... Но тех не знаю. Да и присматриваться мне незачем. У них каждый день что-то празднуют.
— Понятно. Спасибо. Положение проясняется. Что-то наших оперативников не видно...
— А вон они, в саду, — подсказала Мария. — Возле забора ползают.
Присмотревшись, Демин сквозь голые ветви яблоневых деревьев увидел Гольцова и Пичугина. Один исследовал доски забора, а второй рассматривал что-то на плотном мартовском снегу. Подойдя, Демин некоторое время стоял молча, стараясь понять, чем они занимаются.
— Что-то интересное?
— Смотри, несколько длинных ворсинок... Видишь? Яркого зеленого цвета. Такое впечатление, что совсем недавно кто-то очень торопился протиснуться в эту щель. Причем человеку было нелегко, тесновата ему была эта щель.
— Ты уверен, что это произошло совсем недавно? — Усомнился Демин.
— Два дня назад шел мокрый снег, помнишь? На этих досках есть и другие ворсинки, они все прижаты к доске, замусолены, а эти свеженькие, прямо играют на солнце, видишь?
— Значит, не все вчера в ворота уходили... Кому-то щель показалась надежнее.
Тяжеловатый Пичугин, кряхтя, вертелся вокруг впадины — кто-то впопыхах сошел с тропинки и провалился в плотный снег. Сверху образовалась ледяная корка, а внизу снег был рыхлый, сыпучий, как это и бывает к весне.
— Плохой след, — сказал Пичугин. — Никаких деталей... Ни каблука, ни набоек...
— Думаешь, след вчерашний?
— Посмотри, на дне провала обломки ледяной корки. А будь след старым, его донышко покрывал бы свежий снег, который выпал два дня назад. Он вчера подтаял, но был бы чистым, нетронутым. Единственно, что отпечаталось достаточно ясно, — это каблук и носок. Они вдавились в нижний слой снега, видишь? Это все, чем можно похвастать.
— А рост у этого гражданина под сто девяносто, — задумчиво проговорил Демин.
— Наверно, не меньше, — согласился Пичугин. — Во всяком случае, размер этого ботиночка... Если на глазок, то сорок четвертый.
— Надо изготовить слепок, — сказал Демин. — Авось сгодится. Обрати внимание, на каком расстоянии он от тропинки... Около метра. А второго следа нет. Только правый. Оступившись на целый метр в сторону, он сумел левую ногу сразу поставить на тропинку.
— Рост под сто девяносто, сам же сказал.
— Он бежал, — сказал Демин. — Он бежал. Вчера вечером. Народ толпился вокруг дома, и никому не было надобности уходить в глубину сада. Кроме того, во время пожара здесь было светло, трудно сойти с дорожки. А вот в полной темноте, в спешке, в страхе — все объясняется очень просто!
Присев на скамейке у сарая, Демин составил протокол осмотра, зачитал его понятым.
— Может, еще чего добавите? — с надеждой спросил Демин.
— Добавим, а чего нужно? — наивно спросила Мария.
— Нет, я не могу вам подсказывать... А собаки у него не было? — вдруг спросил Демин. — Уж коли он такие ворота себе отстроил, то и собаку должен был завести, а?
— Не было собаки, — сказала Мария. — Давно уж нету. У него народ разный последнее время стал бывать... Выпить зайдут, посидеть, а то и переночевать останутся... Собака у него была, хорошая собака, очень уж нервничала... В общем, собака стала ему мешать. А однажды кого-то покусала, не любила она пьяных. И куда-то он ее дел. Не то продал, не то завез...
На обратном пути в машине молчали. Слишком уж гнетущее впечатление осталось от полусгоревшего дома.
Когда машина остановилась, Демин обернулся к оперативникам.
— Значит, так, ребята... На повестке дня — Жигунов-младший. Было бы здорово, если бы вам удалось доставить его прямо сегодня. Может, поднатужитесь, а?
— С технической точки зрения задача несложная, — заметил Пичугин. — Пригласим.
— Потом соседки упомянули какую-то Борисихину... Если и ее удастся прихватить по ходу, возражать не буду.
— Против чего еще ты не возражаешь? — усмехнулся Гольцов.
— Например, я оставлю безнаказанной вашу инициативу по установлению всех пострадавших. Некоторые уже известны — хозяин дома Жигунов, его квартиранты Дергачевы, вот кто четвертый? Если возникнут затруднения — приезжайте. Обсудим. Ладно? А я к Рожнову.
4
Через два часа в кабинет Демина доставили Михаила Жигунова. Невысокий человек с редкими прямыми полосами, о котором единственно, что можно было сказать с полной уверенностью, — выпивающий человек. В кабинет он вошел настороженно, по всему было видно, что чувствовал он себя неважно. На графин посмотрел так жалостливо, что Демин налил ему в стакан воды. Жигунов выпил жадно, в три-четыре глотка, облегченно перевел дыхание. Похмельная испарина покрывала его лоб. Штаны были смяты, видно, он в них и спал, туфли после вчерашних похождений еще не успели просохнуть. Шарф, свитер, пальто... Нет, ничего зеленого. Но с окончательными выводами Демин решил не торопиться, тем более что в квартире Михаила Жигунова предстоял обыск.
— Михаил Александрович, вы знаете, что произошло в доме вашего отца?
— Да уж знаю... Рассказали люди добрые.
— Какие у вас были отношения с отцом?
— Нормальные. Хорошие отношения, — неуверенно добавил Жигунов, решив, видимо, что о родителях можно говорить или хорошо, или ничего. — Были хорошие.
— Вы не жили вместе? Отец сдавал полдома чужим людям, а вы, родной сын, живете на стороне... Почему?
— Так уж получилось. К родителям лучше ходить в гости... А жить вместе... Слишком много точек соприкосновения.
— Значит, не любили вы отца?
— Я этого не говорил. Отец — он и есть отец.
— Вы — прямой наследник, следовательно, дом теперь ваш?
— Что осталось от дома — мое.
— Были ссоры с отцом из-за дома?
— Как вам сказать... Не то чтобы ссоры... Мне, в общем-то, есть где жить... Но разговоры о доме были. Он сам затевал. Оно понятно — один остался, мать тоже ушла, жила отдельно. Вот он и заговаривал время от времени об этом доме. Как я понимаю, пытался нас привлечь к себе. Дескать, помру — вам останется... Собутыльников у него всегда хватало, а близких людей не осталось.
— Вы были вчера у отца?
— Заходил.
— По какой надобности? Родственной привязанности нет, говорить не о чем, праздники кончились, день рабочий, а вы у отца. Зачем приходили?
— А что, нельзя? — усмехнулся Жигунов.
— Почему же нельзя, можно. Даже нужно посещать отца. Но я спрашиваю о вчерашнем дне, когда произошло несчастье, когда почти сгорел дом... Тот самый, который отец вам не отдавал, да и не собирался делать это до смерти. Так?
— Это, по-вашему, что же получается? — прищурился Жигунов. — Хотите сказать, будто я в отместку?
Про себя Демин отметил, что Михаил вряд ли в полной мере понимает вопросы. Он улавливал только их поверхностный смысл, а когда ему чудился какой-то намек, истолковывал его по-своему, впадал в похмельную обидчивость, которая, впрочем, тут же проходила. Давно известна закономерность — убийства надежнее раскрываются по свежим следам, в первые два-три дня, когда преступник не успел успокоиться, не уничтожил следы, когда свидетели еще помнят время, погоду, выражения лиц. Если же они начинают сомневаться, думать над тем, видели человека на прошлой неделе или позапрошлой, до обеда или поздним вечером, тут уж найти истину куда труднее. Впрочем, в похмельном состоянии Жигунова было, возможно, и какое-то подспорье — он не мог хитрить, изворачиваться, поскольку даже самые простые ответы давались ему с трудом.
— Послушайте, — сказал Демин. — Вчера вечером вас видели у дома отца. Через некоторое время там начался пожар. Когда его погасили, внутри оказались пострадавшие. В том числе ваш отец.
— Вон как вы повернули. — Михаил покачался из стороны в сторону, словно раздумывая, о чем лучше промолчать, где большие неприятности его подстерегают, и наконец решился. — Пришел он ко мне вчера на работу. С бутылкой. Выпили.
— Вдвоем?
— Нет, Свирин
подоспел, нюх у него прямо собачий! Потом отца отвели домой. Так я и оказался в доме-то. Побыл я с ними до вечера и ушел.
— Кто оставался?
— Отец... Свирин тоже остался. Еще эти, Дергачевы, квартиранты. Да, чуть не забыл — Зинка Борисихина. Но за ней пришел муж со своим отцом, и они увели ее. Больно захмелела баба.
— Что же вы все там делали?
— Ну, как... Выпивали.
— Разговоры интересные были?
— Да какие разговоры! — Жигунов махнул рукой с таким возмущением, будто его заподозрили в чем-то постыдном. — Батя не мог до конца сидеть, завалился, Борисихина тоже рухнула... Дергачевы держались, они ребята крепкие... Кто еще... Свирин — тот молчал.
— А Борисихина — кто это?
— Местная красотка. — Жигунов усмехнулся, ему, видимо, приятно было, что о ком-то он может говорить с пренебрежением. — Пришел ее муж... Спрашивает, не здесь ли Зинка. Отвечаем, что нет... Нельзя выдавать, ведь вместе пили... Но он не поверил, прошел в дом и нашел Зинку.
— Кто еще был?
— Еще? И еще был... — Жигунов замер, уставившись в стену, словно пытаясь собрать, восстановить в сознании чей-то расплывающийся образ. — Точно. Вспомнил. Парень один... Высокий такой, молодой... Вот он тоже оставался, когда я уходил, — добавил Жигунов несколько растерянно.
— Вы его видели первый раз?
— Да, никогда раньше не встречал.
— К кому он приходил?
— Пил со всеми, а к кому...
— По поведению человека даже в такой удалой компании можно определить, к кому пришел этот человек, с кем собирается уйти... Он пришел к вашему отцу?
— К отцу? — Жигунов задумался, покачался на стуле из стороны в сторону. — Нет. Это точно. К Дергачевым он пришел. Даже не к обоим, а именно к Анатолию. — Михаил даже обрадовался, что смог ответить на вопрос следователя.
«А чему, собственно, он радуется? — подумал Демин. — Тому ли, что смог ответить на вопрос, который казался ему ловушкой, или тому, что отец остается в стороне? Какой он ни есть, а отец». Демина все сильнее охватывало чувство, что такой человек, как Михаил, вряд ли пойдет на преступление, уж больно все у него просто — ни сильных желаний, ни тщеславия, даже злости какой-то настоящей нет.
— Ладно, Жигунов. Вас только что возили в больницу. Вы всех опознали?
— Всех... Только Дергачев-то не в больнице... Он в... морге. А в больнице его жена, отец и Свирин, о котором я вам говорил, он в ремонтно-строительном управлении работает, тихий мужичок такой... Жена ушла, девочка тоже того... Без должного уважения к нему относятся.
— Итак, уточняем... Ваш отец — Жигунов Александр Петрович. Его квартиранты — Дергачевы, Елена Андреевна и Анатолий Игоревич. Работник РСУ — Свирин Владимир Николаевич. Всех назвал правильно?
— Вроде всех...
— Что вы думаете о пожаре?
— А чего о нем думать... Беда стряслась. Выпили лишку, огонек уронили... Бывает, что ж теперь руками разводить. Я так понимаю.
Жигунов был насторожен, видно, опасался, не задаст ли следователь каверзный вопрос, не уличит ли в чем, заранее злился оттого, что не верят ему, перепроверяют. А Демин думал над другим — неужели Жигунов не знает, что Дергачев убит, что его отцу, да и другим не столько от огня досталось, сколько... Во всяком случае, большой печали в его глазах незаметно.
— Вы женаты? — спросил Демин.
— Женат.
— В общежитии живете?
— Ну? — Демин почувствовал, как Жигунов напрягся, где-то рядом была его болевая точка, он ждал какого-то вопроса и опасался его. — Когда поженились, дома какое-то время кантовались. А потом комнату дали.
— Почему же от отца ушли?
— Не сошлись они, жена моя и отец. И хватит об этом. Чего копаться? Никакого отношения все это ко вчерашнему делу не имеет. Замнем для ясности. Не желаю я на эту тему говорить. Вот с кем пил вчера, что пил, сколько и чем закусывал — спрашивайте. А бабу мою не трожьте.
— Как хотите... — Демин полистал уже заполненные бланки протоколов, искоса наблюдая за Жигуновым, он видел, что тот, словно окаменев, сидел без движения, словно бы сжавшись. — Видите ли, Михаил, дело в том, что мне, очевидно, придется все-таки поговорить с вашей женой...
— На кой?! Спрашивайте у меня, чего ее по вашим коридорам таскать?!
— Я вижу, вы что-то скрываете... Давайте сразу договоримся, о чем я не должен у нее спрашивать, что я не должен ей говорить, чтоб вас не подвести, а?
Жигунов подозрительно посмотрел на Демина, прикидывая, видимо, можно ли ему довериться.
— Ну, хорошо... Одна просьба будет... Не говорите ей, что я вчера был у отца, пил с ним... Общался... Не надо. Вот и все.
— Она запретила вам ходить к отцу?
— Да нет же, нет! Сложнее все, неприятнее... Нелады у них. Всерьез нелады, хуже не бывает. И если она узнает... Ну, получается, что вроде я ходы к нему ищу, на поклон пошел... А она против. Вот так примерно.
— Хорошо. Договорились. Если же она об этом узнает от кого-то другого — моей вины тут не будет. А о том, что вы были у отца, о пожаре известно многим людям, вся улица знает, соседи.
— Вообще-то да, — уныло согласился Жигунов. — Я как-то не подумал... Заклинило маленько... Перебрал, явно перебрал вчера. Все думал, потолкую, объяснимся... В общем, объяснились. Лучше не бывает.
Ушел Жигунов. По коридору простучали его частые шаги. Демин услышал, как хлопнула входная дверь, а он сидел над плотно исписанными бланками протокола и видел и не видел их. Он чувствовал, как его втягивает в чужие судьбы, в напряженные отношения людей, в водоворот их жизни. Была ли она ему интересна, или же только должностные обязанности заставляли его искать ложь и правду? Задавая себе этот вопрос, Демин не мог не признать, что люди, с которыми он только знакомился, уже начали тревожить его. С ними могло ничего не случиться, и до сих пор светились бы в доме окна, и стремились бы туда знакомые и незнакомые люди, но многое изменилось бы от этого? Будь он не следователем, а волшебником и верни вчерашний день, убереги он всех от огня, от молотка, от злости и беспощадности, стала бы их жизнь лучше?
Демин набрал номер ремонтно-строительного управления, где работал Свирин, — необходимо было узнать, что это за человек и как получилось, что всю пятницу он смог провести в доме старика Жигунова.
— Да! — раздался в трубке весьма самоуверенный голос. — Слушаю.
— Начальник РСУ? Простите, пожалуйста, я не знаю вашего имени-отчества...
— Если не знаете, значит, оно вам и не нужно. В чем дело?
— Говорит следователь Демин. У вас работает Свирин?
— Простите... Я не мог даже предположить...
— О ваших предположениях мы поговорим позже. А сейчас меня интересует другое — работает ли у вас Свирин?
— Да, работает.
— Вчера Свирин был на работе?
— Да, был... А в чем, собственно, дело?
— До которого часа был вчера на работе Свирин? Это можно узнать?
— Как обычно... Впрочем, я сейчас... — В трубке наступила пауза, и Демин мог поклясться, что ничего начальник не уточняет, просто зажав ладонью трубку, пытается предугадать дальнейший ход разговора. — Да, все в порядке! Он работал весь день.
— Кем он у вас числится?
— Бригадир в деревообрабатывающем цеху,
— Он сегодня на работе?
— Разумеется! Я видел его совсем недавно.
— Вы не ошиблись, вы в самом деле видели сегодня Свирина на работе?
— Конечно! — воскликнул начальник, решив, что опасность миновала и все налаживается.
— В таком случае, я прошу пригласить его к телефону. Я позвоню через десять минут.
— Видите ли... Деревообрабатывающий цех не рядом... И за десять минут мне не удастся...
— Часа вам хватит?
— Вполне!
Заглянув в дверь и увидев, что Демин один, Гольцов и Пичугин вошли в кабинет, уселись у стены и смиренно уставились на следователя, ожидая вопросов. Едва только взглянув на них, Демин понял, что им есть что рассказать.
— Ну ладно, показывайте свой улов, — сказал Демин.
— Докладываю. По предварительным данным, вчера у Жигунова веселье продолжалось почти весь день. Чуть ли не с утра в доме был некий Свирин, работник РСУ. После обеда дом посетил кавказский гражданин с белокурой красоткой, которая, по слухам, работает в какой-то парикмахерской. Найдем. И кавказца, и его даму.
— Долго они были у старика?
— Около часа.
— Отпадает, — вздохнул Демин. — Пожар начался ночью.
— Нет, еще не отпадает, — невозмутимо вмешался Пичугин. — Кавказец через некоторое время снова вернулся в дом. Но без дамы. Когда ушел — не установлено.
— Установим, — заверил Гольцов.
— Договорились, — кивнул Демин, как бы застолбив обещание оперативника. — Дальше?
Пичугин вынул из кармана лист бумаги, развернул его, долго вчитывался в записи.
— Сын старика, молодой Жигунов... Был весь день в доме, выходил в магазин, снова возвращался. Когда ушел — не установлено.
— Что они все так расходились! — проворчал Демин.
— Все проще простого. Они ходили туда-сюда, выбегали в магазин, снова возвращались... Некоторые выходы можно назвать точно, но когда кто ушел в последний раз, когда ушел и не вернулся — темнота.
— Что еще?
— Есть тут одна по фамилии Борисихина. Да, именно так, — сказал Пичугин, сверившись с записью. — Какие у нее дела в этом доме, сказать трудно. Однако она там бывает. Изредка. Вчера она пришла часа в три, ушла около семи. На этот раз с помощью мужа и еще одного неустановленного гражданина.
— Знаю, это был отец мужа. Они вдвоем и пришли за ней, — заметил Демин.
— Валя, ты думай, конечно, как хочешь, но у этого мужа есть веские основания наказать всю компанию. Девку с толку сбивают. А если он ходит за ней по пятам, значит, ему не все равно, с кем она проводит свободное время. Тебе не кажется?
— Выясню, доложу, — заверил Демин. — Все?
— Это вот, — Гольцов положил на стол Демину лист бумаги, — описания сегодняшней ночи Борисихиной.
— Кстати, — скромно добавил Пичугин, — она сидит в коридоре. Ждет, пока ее примет товарищ следователь.
— Неужели доставили? — обрадовался Демин.
— Ты пока побеседуй с девушкой, с ней приятно беседовать, — сказал Гольцов, поднимаясь. — Если нам повезет, ты сегодня и с ее мужем потолкуешь. Не против? — ухмыльнулся тощий, с резкими движениями Гольцов и, подмигнув Демину, вышел из кабинета. Вслед за ним вышел и Пичугин.
Демин внимательно прочитал рапорт о ночных похождениях Борисихиной и, подколов его в дело, выглянул в коридор. Прямо у его двери сидела красивая молодая женщина со светлыми волосами и твердым взглядом, сидела, закинув ногу за ногу и перебросив через плечо сумку на длинном ремне.
— Заставляете ждать, товарищ начальник, — сказала она. — Нехорошо. Журнальчик бы какой дали из следственной практики... И время бы скоротала, и образование свое повысила, подковалась бы перед допросом.
— Виноват, — Демин развел руками. — Буду исправляться.
— Да? Что-то больно охотно вы свою вину признали... Настораживает столь быстрое раскаяние. — Она улыбнулась.
«Действительно, красивая девушка, и улыбка красивая, — подумал Демин. — Может, напутали ребята? Нет, не должны...» Пропустив Борисихину в кабинет, он плотно закрыл дверь.
— У нас тут жарко, раздевайтесь. Меня интересует ваш вчерашний день.
— Это, наверно, в связи с пожаром? Должна вас огорчить... Ничего не помню. О событиях в доме Жигунова особенно. Жестокая публика там собирается, скажу я вам... Как поднесли мне стаканчик, причем проследили, чтоб я не сачканула... Так я и с копыт. Говорят, Дергачев сгорел, это верно?
— Да, Дергачев погиб.
— Последний раз, значит, выпивал... Жаль, что я ничего не помню. Хоть посмотреть, какая бывает последняя пьянка у человека...
— Ничего особенного, — сказал Демин. — Можете мне поверить.
— Да, наверно, вы правы... Но и вы поверьте — я в самом деле ничего не помню.
— Не будем торопиться. Скажите, вы были вчера в доме Жигунова? Зачем вы туда ходили?
— Вас интересуют мои личные дела? Выпивали мы там с ребятами. Похоже, перебрали маленько. Ошибка вышла.
— Ну, с ребятами — это, наверно, слишком смело сказано... Некоторым из этих ребят под семьдесят.
— Вы имеете в виду старого Жигунова? Возможно, ему под семьдесят. Но, знаете, как относиться к ребятам, чего от них хотеть... Старый Жигунов вполне годился для хорошего застолья.
— Кто был, кроме вас?
— Постараюсь восстановить... Сам Жигунов — это раз. Его сынок. Это два. Я была. Потом эти... Дергачевы. Квартиранты... Вот и все.
— Подумайте, Борисихина, подумайте.
— Да! Чуть не забыла, его и немудрено забыть — был какой-то хмырь с голубенькими глазками. Точно. Он сидел у печи, то ли промерз, то ли простуженный... А может, от скромности. Такое тоже бывает. Но когда стакан подносили, не отказывался. Даже в магазин, помню, мотанулся. Справился, все принес. Путем.
— Кто еще?
— Вроде все. Не знаю, на кого вы намекаете.
— Я не намекаю. Я прошу вас еще раз подумать, не забыли ли вы кого-нибудь из участников застолья.
— Давайте вместе проверим... Жигуновы, Дергачевы... Уже четверо. Хмырь голубоглазый из РСУ...
— Свирин, — подсказал Демин.
— Да, кажется, так его фамилия... Потом этот длинный...
— Какой длинный?
— А черт его знает! Первый раз видела... Хотя нет. — Борисихина обхватила ладонью рот и задумалась, но, видно, все-таки она восстановилась не полностью — уронила беспомощно руки на колени, развела их в стороны. — Не помню. Вроде видела где-то, а где именно, с кем, в какой компашке... Красивый парень, молодой... Но у меня с ним ничего не было, не думайте.
— За вами пришел муж?
— Пришел, — скривилась Борисихина. — На кой — ума не приложу. Но пришел, батю своего привел...
— Он увел вас из дома Жигунова. Знаете, похоже, что он вас тем самым от смерти спас.
— А кто его просил? — неожиданно резко спросила Борисихина. — Он все спасать меня стремится, а зачем это ему понадобилось, ума не приложу. Спасает от дурной жизни, от дурной компании... А зачем меня спасать? Ради чего? Для какой такой надобности я нужна кому-то трезвая, правильная, завитая да напомаженная? Таких и без меня хватает, а по мне, так даже многовато. Для хорошей жизни он меня спасает? Неужели он такой дурак, что не может понять — это невозможно? Не стремлюсь я к хорошей жизни, если уж на то пошло, я даже не знаю, что это такое. Она идет по какому-то другому расписанию... Что делать, не увлекают меня ни производственные дела, ни общественная деятельность. Наверно, это плохо. Вы уже простите... Видно, конченый я человек...
— Может быть, он вас любит?
— Муж? С него станется... Но это у него быстро пройдет. Меня нельзя любить слишком долго. Вредно для здоровья, — Борисихина невесело улыбнулась.
— Как вы думаете, ваш муж мог вернуться в дом Жигунова и отомстить за то, что вас напоили. Уж коли он вас любит, то, наверно, из ревности...
— Я же сказала, что с тем парнем у меня ничего не было. Так что для ревности у мужа не было оснований.
— Опишите того парня, — попросил Демин.
— Длинный, молодой, ничего так парнишка... Ничего. — Борисихина усмехнулась, видимо, восстановив в памяти еще одного гостя Жигунова.
— Рыжий? — решил помочь ей Демин.
— Да какой он рыжий?! Черный.
— Толстый?
— Опять вы его с кем-то путаете. Тощий, узкоплечий, молодой, лет двадцать ему или около того... Веселенький такой мальчик, все улыбается, подшучивает... С деньгами.
— Откуда вы знаете, что он с деньгами?
— Голубоглазого он все посылал за выпивкой. И деньги давал.
— Где ваш муж провел ночь?
— Дома, наверно... Где же ему еще ночевать?
— Разве вас не было дома этой ночью?
— Не было.
— Расскажите тогда, как вы провели ночь.
— Плохо провела. Можно бы и получше.
— А подробнее?
— Не надо. Совестно. — Борисихина посмотрела Демину в глаза. — Ничего нового...
Ее времяпровождение в эту озаренную пожаром ночь Демин уже знал из рапорта Гольцова. Около двадцати часов за ней в дом Жигунова пришел муж. Вначале его заверили, что Борисихиной здесь нет, но он не поверил, прошел в дом и обнаружил жену спящей. Свекор жил рядом, поэтому решили доставить ее к нему, чтобы не тащить через весь город. Борисихина к тому времени пришла в себя и пообещала, что, побыв часок у отца, сама приедет домой.
Ни через час, три, пять часов Борисихина домой не явилась. Около девяти вечера Борисихину видели в обществе хромого мужичонки. Их отношения позволяли предположить, что познакомились они недавно, возможно, в этот же вечер. Они толкались у гастронома, у бакалейного отдела торгового центра, у ресторана, то есть в местах, где можно было рассчитывать на выпивку. В девять вечера на улицах уже темно и пустынно, разговор Борисихиной с хромым слышен был за квартал. Похоже, она не заметила ни хромоты своего попутчика, ни его усталости, заметила, осознала, что были у него деньги и что не прочь он опрокинуть стаканчик-другой.
«Да, и хромого нашли, — прочитал Демин в конце рапорта. — Оказался тихим, смирным человеком. Действительно, решил выпить с устатку. Магазины закрыты, а тут как дар божий — Борисихина. Простой и бесхитростный, он подтвердил алиби Борисихиной примерно до двух ночи. Что было дальше, установить не удалось». Спасибо на том, подумал Демин и спросил:
— Чем вы занимались после двух ночи?
— Прогуливалась, — несколько высокомерно ответила Борисихина. — А что, была прекрасная погода! Вы даже не представляете, каков наш город весенней ночью!
— Красивый?
— Обалденно! — заверила Борисихина. — А кроме того... я не могла идти домой. Муж начнет скандалить, ругаться, а что самое страшное — начнет правильные слова произносить... Испортил бы мне все настроение.
— Не любите правильных слов?
— Терпеть не могу. Правильные слова все мы можем произнести в необходимых количествах. А тот, кто их произносит, по глупости или по какой еще причине почему-то считает, что только ему они и доступны. Это невыносимо.
— А почему вы решили, что ваш муж был дома?
— Где же ему быть? Он у меня порядочный, спит дома, пьет дома... Хотя нет, вру, он не пьет. Как только сил хватает у человека — ума не приложу.
— Значит, вы не видели его дома?
— Странные вопросы вы задаете. Не то ловите меня на слове, не то не можете понять простой вещи... Как я могла его видеть, если в дом не входила, а окна темные? Что я, по-вашему, кошка?
— Как знать, — усмехнулся Демин, — Мне трудно судить. Хочу задать вам самый простой вопрос. Зачем вы вчера пришли к Жигунову?
Борисихина рванулась было ответить, даже улыбнулась своим еще не произнесенным словам, но вдруг осеклась. Посидела, глядя в окно, передернула плечами, будто отгоняла от себя какие-то раздражающие мысли.
— А вы знаете, — сказала она, — я когда-то поступала в художественное училище — провалилась. На следующий год провалилась в музыкальное. В двадцать лет поступила в педагогический институт и ушла со второго курса. Два года отсидела за кассовым аппаратом в гастрономе. Знаете, что было самым страшным? Когда приходили бывшие одноклассницы. Учителя приходили, и знаете, что мне говорили, пока я им чеки выбивала? Они говорили, что любая работа почетна, и прятали при этом глаза... Однажды, когда моя любимая учительница, как говорится, сказала, что я работаю очень хорошо и быстро и, главное — вежливо, я обложила ее матом. И не жалею об этом до сих пор. Она перестала ходить в наш гастроном.
— А вам каково там жилось? — спросил Демин.
— Очень дружный коллектив оказался в магазине. Именины, дни рождения, обмывания всего на свете — от младенцев до квартир... Потом пошли маленькие хитрости, ведь застолья надо как-то отрабатывать. Вы не думайте, особых обманов не было. Получаем, к примеру, на обертки рулон бумаги, а в нем, скажем, тонна. И мы эту тонну бумаги продаем вместе с колбасой, маслом, сыром, по цене этих продуктов. И, никого не обвешивая, получаем честные три-четыре тысячи рублей. Этого нам вполне хватало.
— Обидно, — обронил Демин.
— Знаете, уже не очень. Пошла другая жизнь. А та, примерная, так далеко...
— Вы не ответили...
— Помню, — перебила Борисихина с грустной улыбкой. — Помню, товарищ следователь, и не собираюсь уходить от ответа. Пошла к Жигунову, чтобы выпить, побыть среди людей, которым ты совершенно безразлична и которые тебе безразличны... Водка, конечно, зло, но, когда хорошо выпьешь, все в тебе ослабевает — и боль, и ненависть, и слезы уже никакие не слезы, а так, жидкость из глаз... Мужа тоже будете допрашивать?
— Положено.
— Он хороший парень, вы его не обижайте... Вся его сила воли, все способности и устремления свелись к тому, чтобы удержаться от выпивки, от всех нехороших соблазнов, от дурного влияния, от плохих друзей... Удержался. Ну и что? Люди сильны не тем, от чего отказались, а тем, чего добились. Ему нечем похвастать... Жена и та...
— Он может убить человека?
Борисихина быстро взглянула на Демина, и он увидел в ее глазах не растерянность — сожаление. Она словно разочаровалась в нем, в Демине, и не считала нужным это скрывать.
— Простите, но ваш вопрос кажется мне... глупым.
— Что делать, служба.
— Если у вас на глазах кто-то попытается, скажем, обесчестить вашу жену, вы что же, статьи будете цитировать? Или булыжник из-под ног возьмете?
— Подпишите, пожалуйста, протокол, — вздохнул Демин.
5
Когда Борисихина ушла, Демин позвонил в ремонтно-строительное управление. Начальник оказался на месте. Голос его явно изменился в лучшую сторону, чувствовалось, что на том конце провода сидит живой человек, а не канцелярский автоответчик.
— Так что, Свирин нашелся?
— Ищем. Дело в том, что...
— Вы действительно видели Свирина два часа назад? — впрямую спросил Демин.
— А что?
— Вот тебе и на! Вы сказали, что видели Свирина около часа назад. Прошел еще час. И я снова спрашиваю — вы его видели?
— Разумеется. Не будете же вы утверждать, что дисциплина у нас на производстве такова...
— Именно это я и буду утверждать в частном определении. Послушайте меня внимательно. В городской больнице без сознания лежит человек, который, по некоторым предположениям, и есть Свирин.
— Не может быть! Какое горе!
— Перестаньте кривляться. Ни мне, ни ему ваше сочувствие не требуется. Нам нужен человек, который бы хорошо знал Свирина. Необходимо провести опознание. Присылайте такого человека. Дайте ему машину, и пусть он по дороге захватит кого-нибудь из родственников Свирина. Если, конечно, вы его не видели два часа назад...
— Возможно, я ошибся и это был вовсе не Свирин... Дело в том, что мне показалось...
— Мы договорились?
— Да, да, я сам выезжаю! Такая беда, такая беда... Он живет недалеко, со своей теткой, мы приедем вместе.
— Жду вас с нетерпением! — сказал Демин и положил трубку.
Начальник строительного управления прибыл ровно через сорок минут. На заднем сиденье машины сидела пожилая женщина с распухшим от слез лицом. Когда из подъезда вышел Демин, посмотрела на него со смешанным выражением надежды и опаски, словно от следователя сейчас что-то зависело. Сам начальник сидел за рулем. Это был плотный, краснолицый человек. Место рядом с ним было свободно.
— Здравствуйте. — Демин сел и захлопнул дверцу. — Давайте знакомиться... Валентин Сергеевич.
— Борис Иванович. А это тетя Свирина...
— Ваша фамилия Свирина? — Демин обернулся.
— Нет, я — Чолобова, а Свирин — племянник мой, вместе мы живем...
— Эту ночь он был дома?
— И не появлялся... Как ушел на работу вчера, так и нет до сих пор.
— Вот так, Борис Иванович, — заметил Демин.
— Наверно, я поступил легкомысленно, сразу заверив вас в том, что видел Свирина... Искренне сожалею о недоразумении.
— Так это было недоразумение? А мне почему-то показалось, что это называется полным развалом дисциплины на предприятии.
Начальник выехал со двора на улицу, пристроился в лоток движения и, лишь остановившись перед светофором, нарушил молчание.
— Может быть, говорить о полном развале дисциплины и нет оснований, а вот о частичном... — Он усмехнулся невесело, увидев зеленый свет, тронул машину. — Ремонтно-строительное управление, должен вам заметить, не самое престижное предприятие города. Сказать, что народ прямо ломится к нам в погоне за большой зарплатой, хорошей специальностью, уважаемой профессией... Нет, этого сказать нельзя. И пьяниц мы встречаем если и не с распростертыми объятиями, то довольно радушно. Если он в неделю прогуливает один день, мы считаем, что это неплохой работник. Если он прогуливает два дня, мы его журим, беседуем с ним, можем даже премии лишить. Если же он прогуливает три дня в неделю — это недопустимо, мы стараемся избавиться от такого работника.
— К какой же категории относится Свирин?
— К первой. Он был хорошим работником...
— Был?! — вскрикнула женщина на заднем сиденье.
— Но ведь он в больнице, хворает... Следовательно, можно сказать, что был... — сокрушенно проговорил начальник.
Женщина ничего не ответила. Вжавшись в угол машины, она поднесла мокрый комочек платка ко рту и невидяще уставилась в окно.
Так и не проронив больше ни слова, они приехали в больницу.
— Женщина умерла, — сказал главврач, отведя Демина в сторону.
— Есть какие-то предположения?
— Зачем вам предположения, Валентин Сергеевич. Завтра после вскрытия дадим обоснованные выводы, на которые можно опереться в вашей сложной и небезопасной работе.
Чолобова медленно вошла в палату, остановилась. Она увидела совсем не то, что ожидала, — на кроватях лежали перебинтованные люди, и не видно было ни их лиц, ни рук. Решившись, подошла к одной кровати, к другой, беспомощно оглянулась на Демина и главврача, остановившихся в дверях.
— Как же быть... Я не могу сказать наверняка... Может быть, одежда осталась?
— Это мысль, — сказал Демин.
Подойдя в кладовке к вороху обожженной, окровавленной одежды, женщина перевернула одну вещь, вторую. Только по дрожащим рукам можно было догадаться о ее состоянии.
— Вот, — сказала она, выдернув из кучи прокопченную тряпицу. — Это его носок. Володин.
— Вы уверены?
— Я сама его вязала. Мои нитки, узор... А вот я же и штопала носок, нитки оказались плохими, быстро протерлись...
— Значит, у вас нет никаких сомнений? — спросил Демин.
— Это Володина одежда.
— А что за человек племянник? — спросил Демин у женщины, когда они расположились в углу на скамейке, под развесистым фикусом.
— Человек как человек... Не хулиганил, не скандалил... Мать его померла давно, ему и десяти не было, с тех пор вместе живем. Женился, было дело, хорошая вроде женщина, ребеночек у них родился. А потом...
— Что же было потом? — спросил Демин.
— Ну, что... Ушла она от него. Познакомилась с офицером... Капитан... Ну что, китель, погоны, усы... А у Володи телогрейка, плотницкие обязанности, рост... Ростом от тоже не вышел. Ушла Галина и ребеночка увезла. Сейчас где-то на Кольском полуострове живет, пишет... Да, пишет Володе, про девочку рассказывает, он тоже ей отвечает...
— Может, вернуться хочет?
— Нет. — Женщина махнула рукой. — Володя надеялся, но она прямо сказала... Да у нее уже с этим капитаном сын родился, сыну три года, какое возвращение?
— И что же Володя, запил?
— С чего это вы взяли? — оскорбилась женщина. — Ничуть. Он и раньше не пил, и сейчас в рот не берет.
— Простите, это очень важно... Он действительно не пьет, или же вам хочется, чтобы он не пил?
— Он в самом деле не пьет. И никогда не пил.
— А что же директор говорит... Прогуливал Свирин, дескать...
— У них если не прогуливаешь, то тебя и уважать не будут. А так ценят, боятся, чтоб еще больше не прогуливал, ублажают всячески. То путевку, то машину Дадут дрова подвезти, сено. Я корову держу, так что в хозяйстве у нас с Володей всегда работы хватает. У меня он не прогуливает, — через силу улыбнулась женщина. — К Жигунову захаживает иногда... Они пьют, а он сидит, смотрит... Наливает, за бутылкой сходит. Им-то уже могут и не дать, а он трезвый, ему не откажут. В долг и то дают, дружки этим пользуются...
— Так, — протянул Демин. — Кое-что меняется.
— Я уж сходила к нему на работу, поговорила с ребятами... К ним вчера утром заявился старый Жигунов. У него в пятницу был день рождения. Сам он уйти не мог, вот Володя с его сынком-то и повели домой. У Жигуновых разлад, а на день рождения заявился старик к сыну... Душа потребовала, видно. Вначале, когда Миша только женился, вместе жили, а потом в один день разъехались, и до сих пор сын к старику ни ногой. А тут вдруг он к нему на работу, да еще пьяный... Ну и повели они старика домой.
— А почему вдвоем? Почему сын один не отвел его?
— Старик-то толстый, большой... Да еще и в другом, наверно, было дело... Не хотел сын со стариком один оставаться, вот и позвал Володю.
— А что могло произойти между Жигуновыми?
— Не знаю, — замкнулась женщина так быстро и наглухо, что Демин понял, — знает, но говорить не хочет.
— Простите, я вам еще нужен? — спросил подошедший начальник РСУ.
— Нет, Борис Иванович. Спасибо, что согласились помочь, больше я не могу вас задерживать.
— Может, подбросить куда? Смотрите. — Начальник явно хотел загладить свою промашку.
— Если нетрудно, подождите минут пять.
Когда Демин остался один, на скамейку опустился плотный широкоплечий человек в больничном халате.
— Привет, Валя, — сказал он.
— Не скучаешь?
— Ничего, для перебивки можно и поскучать... В окно вот смотрю, по коридору прохаживаюсь, палату стерегу.
— Плохо стережешь, померла Дергачева. Никто не пытался к ним войти?
— Знаешь, бывало. Заглядывали. То ли по любопытству, не исключено, что заблудился кто... Но стремления забраться в палату не было. Окно тоже хорошее, заперто надежно. Знаешь, как бывает — вместе с рамами покрасили и шпингалеты и крючки, так что открыть окно можно только с помощью хорошего слесаря, да и то изнутри. А там как, положение не меняется?
— Нет, что касается твоего задания, все остается в силе. Могу заверить — ни единого лишнего часа ты здесь торчать не будешь... Смотри!
Вжавшись в скамейку, сдвинувшись, чтобы хоть немного спрятаться за листьями фикуса, они увидели, как человек в белом халате явно с чужого плеча приблизился к двери, за которой лежали старый Жигунов и Свирин, быстро заглянул в нее и нарочито медленно пошел дальше. Пройдя несколько шагов и увидев, что коридор пуст, он резко повернулся и снова направился к двери. Едва открыв ее, оглянулся и увидел рванувшегося к нему оперативника. Не медля ни секунды, человек побежал по коридору. За углом он нырнул в первую же дверь. Но когда оперативник подбежал, дверь оказалась запертой. Он дернул ее изо всей силы, так что, будь она заперта на замок, щеколду, дверь открылась бы, но с другой стороны в ручки была вставлена толстая палка швабры. Когда вдвоем с Деминым им все-таки удалось открыть дверь, на лестнице уже никого не было. Сбежав на первый этаж, они увидели в углу скомканный белый халат и шапочку, в каких обычно ходят врачи и санитары. Тут же был разлит строительный раствор, валялось опрокинутое ведро. Во дворе на весеннем солнце прогуливались больные, тут же были посетители, никто не бежал, все казались спокойными.
— Кто-нибудь выбегал из этой двери? — спросил Демин пожилого мужчину, у которого из-под пальто были видны полосатые больничные брюки.
— Никто не пробегал... Здесь, знаете, собрались люди, которым бегать трудно. — Он улыбнулся. — Тут все ходоки, да и те неважные. — Он неотрывно держал руку на боку, и уже по этому можно было догадаться, что у него там рана.
— Значит, никто вам в глаза не бросился?
— Чем?
— Быстрой походкой, резкими движениями, торопливостью?
— Нет... Я здесь прохаживаюсь уже минут пятнадцать... Если раньше...
— Нет, в последние две-три минуты?
Больной задумался. Оперативник, не ожидая его ответа, бросился к воротам. Но и там не заметил ничего подозрительного. Выглянув на улицу, он увидел отъезжающий трамвай, такси, сворачивающее за угол.
Демин вернулся в больничный корпус, поднял халат и шапочку, внимательно их осмотрел. Карманы были пусты, на шапочке тоже не осталось никаких следов. Правда, присмотревшись, он увидел длинный, слегка вьющийся волос.
— Значит, кое-что он все-таки оставил? — спросил подошедший оперативник.
— Самое интересное то, что на этом халате нет больничного штампа, — заметил Демин. — Я подозреваю, что он здесь и переоделся.
— Но как он узнал, где они лежат?
— О, нет ничего проще! Об этом вся больница знает. Подойди к любому и спроси. — Демин кивнул в сторону прогуливающихся больных.
— И подойду! — оперативник решительно направился к группе мужчин, остановившихся на солнце. Демин увидел, как больные начали наперебой что-то говорить, показывая на окна. Оперативник вернулся озадаченный. — Ты прав, — сказал он. — Они все знают. Знают, что женщина умерла, что в палате осталось двое. Думаешь, мне еще стоит здесь оставаться?
— Даже не знаю... Он, конечно, понял, что ты не просто клиент после тяжелой операции. — Демин усмехнулся. — Этот тип так торопился, что в панике бросил свой халатик и шапочку. Он не должен был этого делать. А шапочку он вообще сорвал с головы. И тут же медленно, о, как тяжело далась ему эта медлительность, он вышел из двери и направился в сторону трамвайной остановки. Представляю, как он рванул там, за воротами! Но, знаешь, все-таки оставайся. Вдруг решится... Правда, для этого надо быть немного дураком, немного психом, но, может быть, он такой и есть... Оставайся, Илюша. Пострадай. Он в отчаянном положении. Как только они заговорят, ему крышка. — Демин аккуратно свернул халат, засунул в глубь свертка шапочку с длинным волосом. — Все-таки вещдок. Авось эксперты что-нибудь дельное скажут.
Прежде чем отправиться домой, Демин решил позвонить Рожнову.
— Я только что был в больнице. Провели опознание. Теперь нет никаких сомнений. Четвертый — Свирин. У него были начальник ремонтно-строительного управления и родная тетка.
— Все?
— Похоже на то, что была попытка проникнуть в эту палату... Прямо при мне.
— Задержали, надеюсь?
— Нет. Ему удалось скрыться.
— Что сейчас намерен делать?
— Вечер, Иван Константинович... Я не возражал бы против того, чтобы вы отправили меня домой отсыпаться.
— Не получится, Валя. Дуй сюда. Ребята нашли парикмахершу, которая вчера была у Жигунова со своим ухажером. И ухажера нашли. Очень шумный товарищ.
— Он давно у вас? — спросил Демин, вспомнив удравшего посетителя больницы.
— Да уж с полчаса. А что?
— Я подумал, не он ли в больнице был... Ладно, Иван Константинович, выезжаю.
Демин сразу обратил внимание на невысокого широкоплечего человека с большими усами. Он нервно ходил по коридору от окна до окна и каждый раз, проходя мимо сидящей у стены женщины, что-то говорил ей недовольно, похоже, отчитывал. А женщина при приближении низкорослого человека сжималась и прикрывала глаза.
Едва Демин вошел в свой кабинет, следом вбежал Гольцов.
— Видел их? — спросил он радостно. — Доставили в целости и сохранности.
— Как же нашли?
— Очень просто. Посадили в машину сына Жигунова и поехали по парикмахерским. Одну отработали, вторую цирюльню, пятую, десятую, наконец, Жигунов говорит — вроде эта. Я к ней с этаким кандибобером подкатываюсь и спрашиваю... Простите, пожалуйста, говорю, не были ли вы вчера в доме Жигунова?
— Она ответила, что не помнит, — подсказал Демин.
— Точно. Запамятовала, говорит. Такой был день напряженный, что уж и не упомню, где была, а где только собиралась быть. Тогда я делаю знак Жигунову, дескать, вступай в дело. Он подошел, остановился в сторонке, а едва она на него взглянула — поздоровался. И что, ты думаешь, делает эта белокурая дамочка? Кивает головкой. Ну вот, говорю, значит, вспомнили... Это, говорю, сын Жигунова. Она тут же пальчики ко лбу приложила, ах, говорит, как же это я могла забыть... Ну и так далее.
— А усатый? Его ты как нашел?
— Дамочка помогла, — невинно сказал Гольцов и довольно хмыкнул, вспомнив, видимо, детали этой помощи.
— Так сразу и согласилась?
— Что ты, Валя! Он у нее какой-то засекреченный... Ни за что не хотела... Почему — не пойму. Похоже, рыло в пуху. Иначе — чего таиться?
— Чем же ты ее убедил?
— Знаешь, странная история получилась... Во время нашей беседы я обронил словечко, что, дескать, надо все выяснить, поскольку в доме пожар случился, сгорел жигуновский дом. Тут она и дрогнула.
— Получается, о пожаре она не знала?
— Или не знала, или надеялась отделаться беседой. А когда поняла, что дело всерьез закручивается, опять пальчики ко лбу. Да, говорит, вспомнила, я ведь была с одним человеком... «Где же он работает?» — это она у себя спрашивает. И сама же себе отвечает, опять же вопросом: «Уж не на рынке ли?» Оказалось, действительно на рынке. Каким-то заместителем директора по очень важным вопросам. Страшно темпераментный человек. Прямо огонь.
— Тогда понятно, почему дом сгорел, — улыбнулся Демин.
— Это точно! — засмеялся оперативник. — Ну что, пригласить?
— Зови. Сначала женщину, а потом, когда она выйдет, тут же и темпераментного товарища.
Женщина вошла, с любопытством огляделась по сторонам, приблизилась к столу. В ее спокойных глазах чувствовалось какое-то снисходительное отношение к происходящему. Простенькая прическа, короткие, чуть вьющиеся волосы делали ее моложе.
— Садитесь, — сказал Демин. — Будем знакомиться. Меня зовут Валентин Сергеевич. А вы? Кто будете вы?
— Мухина, Галина Михайловна. Парикмахер. Тридцать лет. Незамужняя. Если это имеет значение.
— Галина Михайловна, вы, очевидно, уже знаете, что этой ночью сгорел дом Жигунова. Сам он в больнице, его квартирант погиб во время пожара... Вы вчера были у Жигунова?
— Мм... Была.
— Вы приходили одна?
— Нет, с Мамедовым. Он в коридоре сидит. Очень переживает. — Она усмехнулась.
— Почему?
— А он всегда переживает. По любому поводу. У Жорика были какие-то дела с хозяином, вот мы и забежали на минуту.
— В чем эти дела заключались?
— Спросите у него сами, — сказала Мухина.
— Долго были у Жигунова?
— Рассчитывали пробыть минут пять-десять, но у старика оказался день рождения, гости, застолье. В общем, задержались на час, если не больше.
— Мамедов решил свои дела с Жигуновым?
— По-моему, им не удалось поговорить.
— Как вам показалась обстановка за столом? Все были довольны друг другом? Все старались сделать друг другу приятное? Или же назревала ссора, скандал? Стучали кулаками по столу? Ругались?
— Мне показалось, что не все было прекрасно... Они прервали какой-то важный для них разговор. Мамедов пить не любит, только иногда, если хорошее вино... Поэтому он сразу заторопился, и мы ушли.
— Кто оставался?
— Трудно сказать наверняка... Могу ошибиться... Оставался, конечно, Жигунов, его сын, товарищ сына... Да и квартиранты Жигунова, муж и жена.
— Все? — спросил Демин.
— Когда мы уходили, еще кто-то пришел... Да-да, мы столкнулись в дверях. Мамедов что-то хотел сказать Жигунову уже в сенях, а тут появился новый гость, и нам пришлось попрощаться.
— Каков собой этот новый гость, которого вы встретили в сенях?
— Высокий, красивый, молодой. Одет... Хорошо одет. Длинные вьющиеся волосы. Он хорошо подстрижен, это я заметила. Знаете, нынче длинноволосые часто кажутся неряшливыми, а у этого волосы в порядке. Они со стариком перебросились несколькими словами, довольно суховато... Я заметила, что он вроде пришел не к старику... Да, что-то было сказано о квартирантах... Не то он спросил, дома ли они, не то еще что-то...
— Раньше вы не встречали его у Жигунова?
— Нет, но я вообще была в этом доме первый раз.
— Что было дальше? Как вы провели оставшийся вечер?
— Мы тут же разошлись по домам. Вернее, Мамедов пошел на переговорный пункт, ему нужно было созвониться с родными, а я направилась домой. Дочка, мать... Забот хватает.
— Как вы думаете, Мамедов мог без вас вернуться к Жигунову?
— Вряд ли... Хотя... Почему бы и нет? Но я не думаю, мне кажется, я убедила его, что возвращаться бесполезно.
— Все. Спасибо, Галина Михайловна. Позовите, пожалуйста, Мамедова, а то он там заскучал, наверно.
— Он не скучает, — засмеялась Мухина. — Он бегает по коридору.
— Вы действительно не знаете, какие у него дела с Жигуновым?
— Конечно, знаю, — сказала Мухина уже от двери. — Но это его дела, пусть он сам о них и расскажет.
— Разумно, — пожал Демин плечами. — Ничего не скажешь.
Мамедов вошел в кабинет быстро, порывисто, будто там, в коридоре, его долго сдерживали, но вот он вырвался и смог проскочить в дверь до того, как его снова схватили. Он уперся в стол смуглыми кулаками и сказал резко:
— Слушаю вас!
— Садитесь. — Демин показал на стул. — Поговорим.
— Прежде всего мне хотелось бы знать...
— О! Мне хочется знать не меньше вашего.
Мамедов нахмурился, пошевелил большими усами, словно услышал нечто озадачивающее. Придвинул стул поближе к столу, сел, сцепил пальцы рук.
— Послушайте, товарищ... Я слышал, что дом Жигунова сгорел? Это верно?
— Сгорел, — кивнул Демин. — Не совсем, правда, кое-что осталось, но пожар был серьезный. А почему вас интересует дом, а не сам Жигунов?
— Потому что дом хороший, а хозяин этого дома, Жигунов — плохой. Бесчестный, жадный... Очень нехороший человек. Он говорит — покупай дом. Хорошо, покупаю. Он говорит — многие хотят купить, давай задаток, а дом получишь через год. Сказал, что хочет перебраться к жене, поэтому дом продает. Я дал ему тысячу рублей. А потом дал еще тысячу рублей. Всего — две тысячи. Он эти деньги пропил. Водку купил на мои деньги! И говорит — вот помру, дом будет твой. А когда он помрет?
— Я не могу ответить на этот вопрос. Не знаю, когда он помрет, — ответил Демин, с трудом сдерживая улыбку.
— Нет-нет! Я не хочу, чтобы он умирал, пусть живет на радость своим детям. Но меня обманул. Говорит, что жена не хочет его к себе брать. И правильно. Такого человека нельзя в дом брать. Я спрашиваю: а деньги? Он говорит: как только у него будут две тысячи, он мне их отдаст. И смеется. Вы знаете, почему он смеется? Потому что у него никогда не будет две тысячи. И одна тысяча не будет. Зачем он так сделал? Зачем обманул? Зачем смеется? — Глаза Мамедова сверкали гневом и обидой.
— Жигунов сейчас в больнице, — сказал Демин как можно мягче. — Он в тяжелом состоянии.
— Мне его жалко, но все равно он плохой человек.
— У вас остались его расписки?
— Расписки остались, а денег нет, дома нет! Он думает, что если я — Мамедов, то у меня мешок денег. У меня нет мешка денег и никогда не было.
— Значит, вы утверждаете, что Жигунов, пообещав продать вам свой дом и взяв задаток две тысячи рублей, эти деньги не возвращает и дом продавать отказывается? Правильно?
— Вот хороший человек! — с восторгом воскликнул Мамедов. — Сразу все понял.
— Послушайте теперь меня, — сказал Демин. — В жилищном законодательстве я разбираюсь плохо. У меня другая специальность. Но мне кажется, что ваши дела плохи. У Жигунова есть сын, есть жена, и они являются прямыми наследниками. Выживет ли старик — трудно сказать. Признает ли суд действительными расписки, которые он вам дал, тоже вопрос сложный. И говорить сейчас об этом не будем. Поговорим о другом. Вы вчера были у Жигунова?
— Был. И на прошлой неделе был, и месяц назад был...
— Вы пришли к Жигунову, чтобы потребовать свои
деньги?
— А что же я пришел, с праздником его поздравлять? Подарки ему я должен принести?!
— Что он ответил?
— Ничего не ответил. Он сделал вот так, — Мамедов поднялся и развел руками. — Надо понимать, что денег у него нет. А водку пить, гостей собирать деньги есть?!
— Да, Жигунов поступил нехорошо. Поговорить вам не удалось?
— Какой разговор, — поморщился Мамедов. — Эти гости то поют, то ругаются, Жигунов пьяный... Мы были у него с женщиной, это очень хорошая женщина. Я ей говорю. — давай поженимся, а она отвечает — надо подумать. Зачем думать? О чем думать? Твой ребенок — мой ребенок, твоя мать — моя мать.
— Она прекрасно к вам относится, — сказал Демин доверительно. — Очень хорошие слова о вас говорила.
— Правда?! — Мамедов вскочил и уже хотел было выбежать, из кабинета, но Демин остановил его. — Когда вы уходили, в сенях столкнулись еще с одним гостем...
— Ах, этот красивый молодой человек!
— Во что он был одет, как выглядел?
— Он выше меня на голову, — улыбнулся Мамедов. — Я не очень высокий человек, и мне всегда кажется, что высокие на меня поглядывают без должного уважения. — Он расхохотался. — И этот человек тоже...
— Он с усами?
— Нет, я не помню. Судя по его возрасту, они, возможно, у него еще и не растут.
— Даже так? — удивился Демин.
— Если ему и есть двадцать лет, то не больше.
6
Выходя из кабинета, Демин заметил в коридоре человека, который смотрел на него явно заинтересованно.
— Вы ко мне?
— Да, хотелось бы поговорить... Дело в том, что вы сегодня допрашивали мою жену... Борисихину.
— Это она вам велела подойти?
— Нет, она только рассказала о допросе... И мне показалось, что будет лучше, если прийти, не ожидая вызова.
Евгений Борисихин вошел в кабинет и остановился у двери, ожидая дальнейших указаний. Среднего роста, чуть сутуловатый, он казался сдержанным, если не угрюмым. Его состояние можно было понять, как и положение — муж спивающейся жены.
— Садитесь. — Демин показал на стул.
— Спасибо. — Борисихин сел и отвернулся, словно все вопросы он уже знал наперечет и все они уже порядком ему надоели.
— Вчера вы были в доме Жигунова. Что вас привело?
— Что привело? — Борисихин хмыкнул. — Жену искал. Мы вдвоем с отцом пришли. Он подтвердит, если что... И нашли Зинку в доме.
— Почему вы говорите, что нашли? Вам пришлось ее искать? Она пряталась от вас? Вам позволили искать в чужом доме?
— Хм. — Борисихин, видимо, не знал, на какой вопрос отвечать, и, тяжело вздохнув, посмотрел на свои руки. — Вначале Дергачев сказал, что ее нет в доме. Я ему не поверил, потому что она частенько бывала у Жигунова, компашка там у них подобралась... Один другого стоит. А этот парень засмеялся и говорит... Он, наверно, не знал, что я ее муж...
— Что же он сказал?
— Говорит, поздновато я пришел. И смеется. Я понял, что он вроде шутит, не стал заводиться. Слегка к нему приложился, чтоб на дороге не стоял... Ткнул его, он и сел в снег. Тогда я прошел в дом, ну и во второй половине нашел Зинку... — Борисихин сощурился, будто где-то там, за двойными рамами, видел вчерашнюю картину.
— Теперь об этом парне. Кто он такой?
— Не знаю. Первый раз видел.
— Ваша жена сказала, что она его где-то раньше встречала.
— Возможно.
— Каков он из себя?
— Высокий, выше меня. Черная куртка, кожаная или под кожу... Джинсы. На ногах — полусапожки... Это я обратил внимание, когда он упал в снег. Возраст... Двадцать с небольшим, так примерно.
— Он в доме свой человек?
— Да, наверно, можно так сказать... С Дергачевым был заодно, перешучивались насчет моей жены. Что-то их связывало... Или давно знакомы, или дела у них, или затевали что-то... Знаете, когда люди выпьют, это хорошо чувствуется. Им кажется, что они очень хитрые, а трезвому все это сразу в глаза бросается.
Демин невольно прикидывал, насколько можно верить Борисихину. Говорит вроде искренне, не пытается выгораживать себя, хотя знает, что под подозрением. Но к этому отнесся спокойно. Правда, удивился, передернул плечами. Мол, подозреваете, и ладно, ваше дело.
— Когда уводили жену, вас не пытались остановить?
— Нет, посмеялись только. Им тогда все смешным казалось... Прямо сдержаться не могут... И потом, мы все-таки с отцом были, а они затевали в магазин сходить...
— Скажите, Евгений... Какие у вас отношения с женой?
— Хорошие! — с вызовом ответил Борисихин. — Да, вполне хорошие. Меня многое в ней устраивает. Она тоже относится ко мне вполне терпимо.
— Терпимо? Другими словами... Вы терпите друг друга?
— Мы живем вместе.
— Вы сказали, что вас многое устраивает в жене... Значит, кое-что и не устраивает?
— Это, товарищ следователь, чисто личное. Если я вам окажу, что меня не устраивает ее прическа или манера красить губы, это ведь ничего в нашем разговоре не прояснит, верно?
— Вы напрасно обижаетесь. У меня нет желания выискивать трещины в ваших отношениях. Я хочу узнать, что произошло вчера в доме Жигунова. Ваша жена была там довольно долго, правда, мало что помнит. Хотя показалась мне искренней. Она красивая женщина...
— И большая любительница выпить, — неожиданно прервал Борисихин.
— Да? — Демин пристально посмотрел на Борисихина, помолчал. — Вы ее любите?
— Разумеется.
— И могли бы пойти на многое ради нее?
— Я и так пошел на многое.
— Например?
— Не надо... Если начну перечислять, получится, что жалею об этом.
— Почему вы решили искать жену у Жигунова?
— Потому что в других местах уже искал.
— Вам часто приходится этим заниматься?
— Приходится.
— У нее есть и другие компании?
— Как же я их всех ненавижу! — вдруг прошептал Борисихин, не сдержавшись. — Ничего нет за душой, чужие самим себе, друг другу, чужие в этом городе... И вот собираются, судачат, выворачивают карманы, собирают мелочь на бутылку. Начинается разговор — где пили в прошлый раз, с кем, чем кончилось, как кто опохмелился... И годы идут, годы! Если эти разговоры записать на пленку и дать им прослушать, они не смогут определить, вчера ли об этом говорили, или в прошлом году. Они бывают счастливы, когда к ним еще кто-то присоединяется, это убеждает их в какой-то своей правоте, в том, что живут они правильно.
— Вывод? — спокойно спросил Демин.
— Уничтожать их надо! — убежденно выкрикнул Борисихин и ударил по колену сухим, побелевшим от напряжения кулаком. — Уничтожать! Всеми доступными способами.
— И жену?
— С ней можно повременить.
— Как и с каждым из них, наверно, а?
— Не знаю, не знаю. — Борисихин, пережив вспышку ненависти, сник, стал вроде даже меньше, слабее.
Видно, бывают у него такие вспышки, подумал Демин.
— Вот вы говорите, что она показалась вам искренней... Может быть, в этом и кроется ее слабость... Ныне откровенность многие считают слабостью. Знаете, она собиралась идти в художники... Учителя поддерживали ее в этом, нахваливали, и постепенно у нее сложилось мнение, что она может быть только художником и никем другим. А когда поехала поступать и провалилась, это был не просто срыв на первых в жизни экзаменах, это было крушение всего на свете. Катастрофа. Ну что ж, другие могут спокойно жить дальше, даже с чувством освобожденности, потому что мечта тоже закабаляет, могут с легкостью необыкновенной идти в комбинат общественного питания, в бытовые услуги... Могут. А Зина не смогла. Что делать — сломалась. Бывает. Но я твердо знаю — не будь этих алкашей, счастливых заразить кого-то своей болезнью... Не будь их, у Зины все было бы иначе. А так они вроде даже выход ей предложили, утешение... Напейся с нами, и полегчает. Как же, полегчает. Только и того, что забудешь обо всем на свете.
Значит, и этот не прочь кое-кого уничтожить, озадаченно подумал Демин. Надо же, что получается — такая, казалось бы, невинная пирушка по случаю дня рождения, а сколько вокруг обид, ненависти, желания свести счеты... Да и вряд ли это все, многое осталось невысказанным. Не все сказал сын Жигунова, что-то у него с женой... Да и Борисихин сказал не все, а вот в желании уничтожать признался.
— Скажите, Борисихин, вы не могли бы рассказать, как у вас прошел сегодняшний день?
— Это имеет значение? Проснулся, позавтракал...
— Где проснулись?
— Дома. Потом работа. Конструкторское бюро завода металлоконструкций. И вот у вас уже около часа. Все. Кстати, и биография моя тоже умещается в десять строк.
Демин поднялся, прошелся по кабинету, окинул Борисихина взглядом и увидел белый налет на каблуках у Борисихина. Посмотрев на собственные каблуки, Демин отметил, что и у него туфли точно с таким же налетом.
— Где вы запачкали туфли?
— Туфли? — Борисихин пожал плечами. — Не понимаю, о чем вы говорите... Может быть, это плохо, но у меня всегда такие... На заводе, знаете... Розы не везде растут.
Демин остановился рядом с Борисихиным, так, чтобы их туфли оказались рядом. Борисихин, не поняв, в чем дело, поднял голову.
— Вы не на меня смотрите, вы вниз взгляните. Я, например, свои туфли запачкал совсем недавно, в больнице...
— А я на заводе, — повторил Борисихин, и Демин понял, что он врет. Если каждый день слушаешь людей, которые говорят или же откровенно, или же нагло лгут, постепенно такие вещи начинаешь чувствовать очень остро.
— Прекрасно! — весело воскликнул Демин. — Чтобы не оставалось между нами неясностей, чтобы мы и дальше могли верить друг другу, отдадим решение этого вопроса в третьи руки, сделаем соскобы грязи с наших туфель, пригласим экспертов, пусть решают.
— Что же они могут решить? — криво усмехнулся Борисихин. — Грязь, она и есть грязь. А если мы оба попали в строительный раствор?
— О! — рассмеялся Демин. — Нет в мире двух одинаковых строительных растворов, как нет одинаковых отпечатков пальцев. Так что, пригласим экспертов?
— Как хотите! — Борисихин отвернулся. — Ваша задача — ловить, ловите.
— Видите, Борисихин, как вы бережете свое самолюбие... Чуть сомнение, и вы уже готовы напомнить мне об обязанностях, о которых, кстати, имеете, весьма смутное представление. Моя задача в другом — найти убийцу.
— Убийцу? — Борисихин диковато глянул на Демина, и тот не мог не заметить, как бледность залила его лицо, кровь словно схлынула куда-то, и обескровленное лицо потеряло не только цвет, но и выражение. Ничего на нем не осталось — ни удивления, ни страха, ни раскаяния.
— Вам плохо? — спросил Демин.
— Нет, ничего... Я сейчас... Вы сказали — убийцу? Разве пожар...
— Пожар уничтожил не все. Но об этом после.
Демин вышел в коридор и, увидев Гольцова, попросил привести понятых. И за все время, пока они ставили на отдельные листы газеты туфли Демина и Борисихина, сковыривали с них прилипшие кусочки сероватого раствора, ссыпали их в пакеты, заверяли подписями, Борисихин не проронил ни слова. И только когда пакеты унесли в лабораторию, спросил:
— Вам не кажется все это несерьезным?
— Да, я с вами согласен, — кивнул Демин, — некоторые наши действия выглядят комично. Представляете, прячется человек за мусорные ящики, потеряв всякое уважение к своему возрасту, бежит по грязи, стреляет, в него стреляют... Как в плохом кино, ей-богу! Полностью с вами согласен. А иногда мы вообще доходим до глупости — подбираем окурки, суем их в пакеты, будто это ценность какая... Ужас.
— А если выяснится, что я был в больнице?
— Начнется другой разговор.
— О чем же?
— Все о том же, но в других тонах.
— Кулаком по столу?
— Опять вы хотите меня обидеть, Борисихин. Неужели жизнь не дает вам достаточно оснований для самоуважения? Если вы уж здесь пытаетесь набрать какие-то очки... Ну, ладно, пока наши ребята рассматривают столь смешные для вас песчинки, поедем к вам домой.
— Что же будете искать?
— Понятия не имею... — Демин развел руками. — Возможно, удастся найти какие-нибудь следы вчерашних событий в доме Жигунова.
— Ну что ж, ваша воля.
— Опять, Борисихин, язвите. Не воля моя, а моя обязанность. Не самая приятная. Дело в том, Борисихин, что сегодня кто-то пытался проникнуть в палату к пострадавшим на пожаре. Есть предположение, что это была попытка убить этих людей, поскольку они видели, как погиб Дергачев, видели, от чьей руки.
— Зачем же мне было его убивать? Вы об этом подумали, уважаемый товарищ следователь?
— Подумал, — невозмутимо кивнул Демин. — Вам не нравилось, что жена проводила время в столь недостойной компании. Тот вид, в котором вы ее нашли, позволял думать все, что угодно. От горячей любви и не менее горячей ненависти вы могли потерять самообладание, схватить что попадется под руку...
— Воля ваша, — сказал Борисихин, замыкаясь. — Найти вы ничего не найдете... Разве что свидетельства убогости нашего существования.
— А это я знаю и без свидетельств, — жестко ответил Демин. — На слово поверил вам и вашей жене.
Борисихины жили в небольшом частном домике, поэтому обыск занял немного времени. Евгений молча сидел на стуле посредине комнаты, его красавица жена, успев уже опохмелиться, весело и оскорбленно распахивала шкаф, вывалила из чемодана тряпки и, кажется, искала, чтобы еще вытряхнуть, что бы еще показать следователю.
— Вы напрасно взялись нам помогать, — сказал ей Демин. — Дело в том, что вываленное барахло меня нисколько не трогает. Успокойтесь. У нас ордер на обыск, подписанный прокурором. У вашего мужа есть еще какой-нибудь костюм, кроме того, который на нем?
— С пьющей женой было бы странно иметь несколько костюмов, — усмехнулся Борисихин.
— Полностью с вами согласен, — ответил Демин. — Ну что, — спросил он, подойдя к Пичугину. — Что-нибудь есть?
— Ничего, Валя. Даже странно.
— Хозяин предупреждал, что мы ничего не найдем. Значит, правду говорил. Самое важное, это одежда со следами вчерашних событий — пепел, кровь, следы драки и так далее. Но раз нет, тем лучше.
— Вы его подозреваете? — спросила Борисихина. — Напрасно, он не способен ни на что... — Борисихина замялась, но все-таки сжалилась над мужем, — ни на что плохое.
— Я тоже на это надеюсь, — сказал Демин. — Приходите к нам завтра утром, после одиннадцати. К тому времени многое прояснится.
— Смотри, Зина, как бы ты у них не задержалась, — сказал Борисихин.
Жигуновы жили в общежитии, занимали темноватую комнатку в конце коридора. Демин даже обрадовался, застав дома только жену. С ней-то ему и хотелось поговорить. Что произошло между отцом и сыном, почему они не жили в большом добротном доме, почему сын не хотел, чтобы жена знала о его посещении отца, — все это впрямую относилось к расследованию.
— Моя фамилия Демин. Я работаю следователем. Вот, пожалуйста, ознакомьтесь, ордер на обыск.
— А что случилось? — На Демина смотрели испуганные глаза молодой женщины.
— Вчера был пожар в доме отца вашего мужа... Кем он вам приходится... Свекор? Значит, в доме свекра. Муж вам рассказывал?
— Я заметила, что он взволнован, места себе не находит, вот опять побежал куда-то... Но о пожаре ничего не говорил. А в связи с чем обыск?
— Положено, — ответил Демин неопределенно. — Положено, потому и обыск.
— Знаете, это будет, наверно, ваш самый легкий обыск. Вот все наши владения, — женщина развела руками. — Правда, на общей кухне еще две кастрюли.
— Нас интересует одежда вашего мужа.
— Вот, — женщина распахнула шкаф. — Это все. Да, и за дверью рабочая спецовка.
Пока Гольцов осматривал одежду, пытаясь найти пятна крови, следы огня или хотя бы остатки строительного раствора, Демин, легонько взяв женщину за локоток, подвел ее к окну.
— Вас зовут Валя, правильно? А меня — Валентин Сергеевич. Так что мы с вами тезки.
— Очень приятно. Вы что-то хотите мне объяснить?
— Видите ли, ваш муж знает не меньше меня, а может, и больше. Он расскажет все подробности, которые покажутся вам интересными... Скажите, Валя, как объяснить — у старика хороший дом, из двух половин, с отдельными входами... А вы в общежитии?
— К работе ближе, привыкла. — Валя смотрела куда-то в сторону.
— У вас нет детей?
— А куда их девать? — открыто улыбнулась женщина и, тут же спохватившись, покраснела.
— Интересно получается... В доме вы не живете, потому что ехать далеко, а детей нет, потому что в доме не живете... Поймите, Валя, я спрашиваю не из любопытства или потому что время тяну, пока наши ребята работают тут у вас... Это очень важно. Вчера старший Жигунов отмечал день рождения. Потом пожар случился. Когда потушили, один человек оказался мертвым. Это квартирант. Его жена умерла в больнице. Хозяин и один из его гостей в тяжелом состоянии. Выживут ли — неизвестно. Ведется следствие, охвачен большой круг людей... Какое-то время вы жили в доме, верно?
— Да, в самом начале... Недолго.
— Потом переехали сюда. Почему?
— Одним словом не скажешь... Отец Миши оказался... нехорошим человеком.
— Но вы жили в разных частях дома...
— Он не любил, чтобы мы закрывали дверь между половинами... Входил, когда ему хотелось...
— И это все?
— Может быть, я не должна этого говорить... Видите ли, он нехорошо повел себя по отношению ко мне... Как вам сказать... Миша часто ездил в командировки, на неделю, на две... И его отец... В общем, как-то полез ко мне. Я вначале не поняла, в чем дело, думала, он спьяну перепутал комнаты... Оказалось, ничего он не перепутал. Конечно, я рассказала все Мише. У них был разговор, по-моему, он даже ударил отца... И в тот же день мы уехали.
— Так. — Демин прошелся по комнате, снова вернулся к Вале. — Так... С тех пор вы не общаетесь?
— Нет. Уже около года.
— Михаил не ходит к отцу? Вы ему запретили?
— Как я могла ему запретить... — проговорила Валя, не поднимая головы. — Это дело его совести... Мне было бы неприятно, он это знает и сам сказал, что больше к отцу не пойдет. Здесь, конечно, нам нелегко, общежитие молодежное, шумное, с получением квартиры тоже дело тяжелое, долгое, ведь Михаил прописан в том большом доме... Не будешь каждой жилищной комиссии рассказывать... Верно?
— Да, положение не из приятных... А как вообще Михаил относился к отцу после всего случившегося?
— Знаете... Жестко. Он был взбешен.
— У него не было желания помириться, выяснить отношения?
— Он до сих пор цепенеет, как только зайдет об этом разговор, как только ненароком всплывет тот случай. Может быть, это плохо, но я думаю... стоит ли поведение отца такого осуждения со стороны сына?
— То есть вы на старика в меньшей обиде, нежели сын?
— Во мне он вызывает жалость, ну, скажем, омерзение, неприятие... Это все чувства пассивные, они не влекут никакого продолжения. А вот ненависть, которая прорывается иногда в Мише, это уже серьезнее.
— За ней может быть и продолжение?
Валя быстро взглянула на Демина, и он почувствовал, как в ней что-то захлопнулось, она поняла, что сказала лишнее.
Подошел Пичугин и подчеркнуто скромно остановился, ожидая, пока Демин обратит на него внимание.
— Ну что у тебя? — повернулся к нему следователь, воспользовавшись паузой в разговоре.
— Находочка странная, Валя... Посмотри вот... Зелененький такой шарфик, под ванной валялся.
Демин взял шарф, повертел его, задержался взглядом на буроватых подсохших пятнах, вопросительно посмотрел на Валю. Как, дескать, понимать?
— Не знаю, откуда он у нас, — растерянно проговорила Валя. — Смотрю, висит на вешалке... Грязный... Я и сунула его под ванну... Мы все грязное белье туда складываем... Миша ведь не ночевал прошлую ночь дома. Он пришел в таком виде, что я его выставила... Так плохо все получилось, так плохо... Он уже разделся, хотел идти в ванную... А на меня будто нашло что-то...
— И вы его вытолкали в ночь?
— Так уж получилось... Думаете, Миша как-то замешан в этом пожаре?
— Вот видите, Валя, — усмехнулся Демин, — мы с вами одного и того же опасаемся и оба про себя думаем, что это вовсе не исключено, верно?
Валя ничего не ответила. Смотрела на шарф широко раскрытыми глазами, и Демин вовсе не был уверен, что она услышала его вопрос.
Судя по изумленному виду Мамедова, он явно не ожидал гостей. В квартире оказалась и красавица парикмахерша. Она сидела в комнате, а Мамедов, подпоясавшись передником, орудовал на кухне.
— Хороший гость — всегда радость! — воскликнул Мамедов несколько деланно. — Неужели наши запахи дошли и до вашей организации?
— Запахи еще идут, а вот слухи уже дошли, — ответил Демин.
— Слухи? О хорошем человеке могут расходиться только хорошие слухи! — Мамедов не желал отказаться от шутливого тона. — Прошу к столу, гости дорогие!
— Обыск, Мамедов, — вздохнул Демин непритворно, поскольку совсем не прочь был присесть к столу. — Вот ордер, вот наши товарищи, сейчас придут соседи, они будут понятыми...
— Соседи?! — ужаснулся Мамедов. — Как нехорошо! Кто угодно, но только не соседи... Может быть, из другого дома, а, Валентин Сергеевич?
Демин посмотрел в полные ужаса глаза Мамедова и сжалился.
— Юра, — обернулся он на площадку к Гольцову. — Отбой. Не надо этих. Пригласи из другого дома. Уж очень хозяин просит.
— Спасибо, дорогой! — Мамедов прижал руки к груди.
— Может быть, я уйду? — спросила парикмахерша. — Здесь намечается что-то очень серьезное...
— Оставайтесь, — сказал Демин. — Вы нам не помешаете. Вот мы, правда, уже помешали, но постараемся уйти побыстрее. Шашлык не успеет остыть, это я вам обещаю.
Пришли понятые — двое мужчин, которых Гольцов поднял из-за домино в дальнем конце двора. Пришли, судя по всему, с удовольствием. Охотно сели на предложенные стулья, переглянулись, словно в ожидании представления, поудобнее сложили руки. Мамедов жаловался на качество баранины, на то, что настоящий шашлык из нее не получится, но зато сухое белое вино попалось удачное, и, если Демин пожелает, он и ему может достать или уж, по крайней мере, скажет, где такое вино бывает. Все эти слова создавали легкую атмосферу, весьма далекую от опасных преступлений. Даже понятые, насмотревшись на улыбки хозяина, расслабились и успокоились.
— Так, с формальностями покончили, — сказал Демин. — Теперь к делу. Меня интересует ваша одежда.
Мамедов направился было на кухню, чтобы еще раз взглянуть на шипящие в духовке шашлыки, но вдруг как-то осекся в движении. И когда он обернулся, его лицо было не столь беззаботным, как минуту назад. — Прошу вас, вот шкаф...
— Шкаф потом, — сказал Демин. — Ребята, обратился он к Гольцову и Пичугину, — вешалка, прихожая, ванная. А я пока сяду за протокол.
Однако протокол пришлось отложить. Из прихожей вышел Пичугин и осторожно положил на спинку стула брюки. Демин быстро взглянул на них, обернулся к Мамедову. Тот стоял в дверях из кухни и держал в руках великолепные шашлыки на шампурах. Демин заметил отборные кусочки мяса, прожаренную корочку, прослойки из кружочков лука.
— Простите, Мамедов, но вынужден оторвать взгляд от ваших шашлыков, хотя, признаюсь, это нелегко...
— Вы можете воздать им должное независимо от того, что найдете в этом доме, чего не найдете... Что покажется вам подозрительным, что не покажется... Шашлыки стынут, Валентин Сергеевич, а все остальное может подождать.
— Это ваши брюки?
— Да. Здесь живет один мужчина, — с достоинством ответил Мамедов.
— Скажите, Мамедов, — начал Демин, — чем вы объясните происхождение этих буроватых пятен на ваших брюках, а также вот эти выжженные места... Ведь вы не будете отрицать, что вот это место выжжено огнем?
— Как я понимаю, вы задали вопрос не для того, чтобы я на него ответил, вы задали вопрос, чтобы объяснить уважаемым гражданам понятым, за что задерживаете меня. Правильно?
— Совершенно верно.
— Хорошо. Эти пятна, как вы, очевидно, догадались, возникли вчера. В доме Жигунова.
— Жора! — парикмахерша отшатнулась от него. — Значит, ты...
— Я сказал только то, что сказал, — с достоинством произнес Мамедов. — И ни слова больше.
— Вы поедете с нами, Мамедов, — сказал Демин. — Эта женщина прописана здесь?
— Нет, она моя гостья. Моя любимая уважаемая гостья, которая, как я надеюсь, станет здесь хозяйкой. Я должен сделать заявление, и вы запишите мои слова в протокол.
— Внимательно вас слушаю.
— Я не имею никакого отношения к пожару, убийству и вообще ко всему, что вчера случилось в доме Жигунова.
— Откуда вам известно, что в доме произошло убийство?
— Еще не придумал, — усмехнулся Мамедов.
— Хорошо, так и запишем.
Демин зачитал протокол, понятые поставили свои подписи. После этого оставалось лишь опечатать квартиру. Мамедов сел на заднее сиденье между оперативниками и словно окаменел. Он даже не оглянулся на сиротливо стоявшую у подъезда парикмахершу.
7
Демин спал плохо, утром чувствовал себя невыспавшимся, разбитым. Подобное случалось с ним, когда дело разрасталось, теряло очертания, когда с каждым допросом возникали все новые участники событий, единственно верного пути не было, а все достигнутое, собранное было второстепенным.
С детства запомнилась ему сказка, даже не сказка, а один ее мотив. Было совершено преступление — убила злая мачеха девушку и зарыла в темном лесу. Вырос на этом месте куст бузины. Как-то пришел в лее мальчик, срезал ветку, сделал из нее свирель. И запела свирель человеческим голосом, и узнали люди о злодействе...
Каждый раз, принимаясь за очередное дело, Демин ловил себя на том, что многие предметы как бы говорят ему что-то, но невнятно, намеками. Иногда ему удавалось сразу понять их, но чаще приходилось долго гадать, что же хотела сказать свирель, что значило то или иное слово.
И сейчас, листая тощую папку уголовного дела, Демин видел и молчаливую ухмылку молотка, слышал и хриплый хохот пламени, тонкий писк зеленых ворсинок на ветру, но ничего внятного они не говорили, и это убеждало его, что работы предстоит много, что до развязки еще далеко, что будут неожиданности и загадки, поскольку события не связывались, не объяснялись просто и ясно. А все должно объясниться просто и ясно...
Захлопнув дело, Демин позвонил в криминалистическую лабораторию.
— Евграшкин? — узнал он заведующего. — Демин беспокоится... Что слышно со строительным раствором?
— Значит, так, запоминай... В обоих пакетах совершенно одинаковый раствор. Словно насыпан из одного совка. Структура песка, марка цемента, процентное содержание и того и другого... В общем, судя по обстоятельствам дела, туфли побывали в одной луже.
— Ясно. А что ты скажешь о портках гражданина Мамедова?
— Штанишки пострадали совсем недавно. На них кровь еще не просохла.
— Все-таки кровь, — обронил Демин.
— Более того, кровь принадлежит не одному человеку, а, по крайней мере, двоим. По группам совпадает с кровью Свирина и Дергачева. Кроме того, слегка обгорели штанишки. Прямое соприкосновение с огнем. Я тебя порадовал?
— Скорее озадачил.
— Стараемся! — рассмеялся Евграшкин.
Демин положил трубку и тут же позвонил медэксперту.
— А, Демин! Я уж звонил тебе спозаранку, но телефон молчал.
— Знаешь, твой бодрый голос внушает мне большие опасения.
— Чего же ты опасаешься?
— Даже не знаю, но в этом деле меня все время подстерегают неожиданности.
— Считай, что ты с ними еще не сталкивался. Ты как там, сидишь, стоишь? Если стоишь — усаживайся попрочнее, ухватись за батарею парового отопления и держись. При вскрытии Дергачевой... найдено золото.
— Не понял?
— Внутри у нее оказалось золото. Она проглотила знак зодиака. Между прочим, Водолей. Хороший такой золотой кулон, без цепочки, правда.
— От чего наступила смерть?
— Удар по голове твердым тупым предметом. Небось уже ищешь, кулончик-то?
— Впервые слышу, — признался Демин. — До сих пор в деле золото не возникало. А оно, оказывается, вона где...
— У тебя такой растерянный голос, что я, пожалуй, не буду больше ни о чем спрашивать. Но через денек-второй обязательно позвоню. Интересно, куда ты этот кулончик сумеешь пристроить. Будь здоров.
Демин положил трубку, да так и остался сидеть, не выпуская ее из руки. Дело приобретало новый оборот. До сих пор все его мысли вертелись вокруг Жигунова, Мамедова и Борисихина. Теперь явно наметился поворот...
Мог ли совершить преступление Жигунов? Отец поступил очень некрасиво по отношению к его молодой жене. Это мы установили. Сын дал старику по физиономии и покинул его дом. Год назад. Следовательно, страсти позади, чувства пришли в некое спокойствие. Отец пьяный приходит к нему на работу. Сын вынужден отвести его домой. На работу не вернулся. И Свирин, который его сопровождал, тоже не вернулся. Остались в доме старика. Зачем? На что надеялся молодой Жигунов? Помириться? Вряд ли. Решил, что хватит обижаться на отца? Может быть. Во всяком случае, жене он об этом не говорил. Можем ли мы, не нарушая закономерностей бытия, допустить, что именно Жигунов совершил преступление? Можем. Если предположить, что отец припомнил прошлое, посмеялся над сыном или над его женой, тот мог потерять самообладание. В таком случае как объяснить количество пострадавших? Убирал свидетелей? Для этого нужно слишком уж озвереть, Жигунов не похож на человека, который может пойти на подобное. Не отвергая такой возможности, сомневаясь в ней, почти в нее не веря, тем не менее отбрасывать ее не будем...
Теперь, гражданин Мамедов, давайте поговорим с вами. Здесь все сложнее. Старик задолжал вам две тысячи рублей. Он пообещал продать дом и не продал, обманул. Деньги спустил, вел себя оскорбительно. Могли ли вы, гражданин Мамедов, потерять самообладание? Могли. У вас серьезные основания ненавидеть старика. И если на вашем пути оказались его пьяные гости, которые, возможно, вели себя без должного уважения, вы вполне могли совершить то, чему все мы являемся печальными свидетелями. Правда, ваша подруга, белокурая красавица, утверждает, что вы посидели за столом и ушли. Поверим. Идем дальше. Вы расстались с ней вскоре после того, как ушли из дома. А не вернулись ли вы в дом Жигунова? Простите, гражданин Мамедов, за подозрительность, но как вы объясните появление столь ужасных следов на брюках? Разговор у нас об этом впереди, но что бы вы ни сказали, какие бы доводы ни привели и каких бы свидетелей ни поставили передо мной, перешибить столь красноречивые свидетельства вам будет трудно. Мужайтесь, Мамедов.
А что движет вами, уважаемый товарищ Борисихин? Что заставляет поступать так или этак? Жена? Вы ее любите? Да, похоже на то. А она вас? Возможно. Итак, вы ищете свою жену. Обошли несколько мест, не нашли, и вот вы у Жигунова. Вам говорят, что здесь ее нет. Вы не верите, вламываетесь в чужой дом, бегаете по комнатам. Из этого можно заключить, что состояние ваше было весьма далеко от спокойного. В одной половине вы видите стол, пьяных людей, во второй половине находите свою жену. Это повод для безрассудных действий или не повод? Это повод, Борисихин. Тут уж самый тихий человек схватится за молоток. А теперь давайте обсудим ваше несколько странное поведение после пожара. Вы были в больнице и скрываете это. Иначе как объяснить, что строительный раствор на ваших туфлях полностью совпадает с раствором, оставшимся на моих туфлях? Если у вас такое объяснение найдется, с удовольствием его выслушаю. Что вам понадобилось в больнице? Почему вы крались к палате, в которой лежат пострадавшие? Хотели убить? Мне не верится, но тогда как все понимать?
Демин не успел ответить на свой же вопрос — раздался звонок. Это был Гольцов.
— Валя! Мы тут кое-что узнали о Дергачеве. Если тебе интересно, могу... А?
— Давай, Юра!
— Значит, так... Этот тип когда-то закончил коммунальный техникум. Последние несколько лет работал слесарем при домоуправлении. Имел обыкновение просить взаймы — двадцать копеек, полтинник, не больше. Но и не отдавал. Год назад женился. Жена примерно того же пошиба. Работала в ресторане официанткой. Как , сам понимаешь, небезукоризненно. Не всегда сил хватало смену до конца выстоять... Но жили мирно. Передо мной сидит человек, который утверждает, что Дергачев продавал золото.
— Не понял?
— Я так и знал, что ты с первого раза не поймешь. Повторяю. На своем участке, в доме, который он обслуживает, Дергачев продавал золото.
— Кольцо?
— Кольца, — поправил Гольцов. — Кулоны. Цепочки.
— Ты говоришь о том самом Дергачеве, который клянчил у жильцов двугривенные? — несколько ошарашенно спросил Демин.
— И гривенники тоже.
— Кто же сидит перед тобой?
— Слесарь из того же домоуправления. Очень хороший человек, разговорчивый, знающий, мы с ним подружились, верно, Коля? Он подтверждает мои слова.
— Откуда у Дергачева золото?
— Этого Коля не знает. Он говорит, что сказал бы, но не знает.
— Я вижу, у тебя хорошее настроение?
— И у Коли тоже! — рассмеялся Гольцов.
— Приезжайте. Жду.
— Коля не может, он на дежурстве. Вот освободится, тогда с удовольствием.
— Не надо, я выезжаю.
— Отлично! Мы в двенадцатом домоуправлении. Это рядом со сквером, знаешь?
Слесарный участок располагался в подвале пятиэтажного дома. Спустившись по ступенькам, Демин и Гольцов оказались в сумрачном помещении, огражденном массивными бетонными блоками. Тут же тянулись трубы отопления, в темноте светились глаза бродячих кошек. Человек, который возился с какой-то трубой, зажатой в тиски, и был, очевидно, слесарем Колей.
— Давайте знакомиться, — начал Демин. — Валентин.
— Николай. — Слесарь протянул сильную сухую руку, улыбнулся смущенно.
— Что-то отмечали? — спросил Демин.
— Отмечали... За упокой души Тольки Дергачева выпили.
— А-а... Тоже надо. Говорят, разбогател ваш Дергачев перед смертью?
— Черт его знает! — воскликнул Николай. — Сами диву даемся. Вечно в скверах бутылки подбирал, здесь отмывал, потом сдавать носил... А вчера смотрю — золото в руках. Откуда, спрашиваю. Да так, говорит, по наследству досталось.
— Раньше не видели у него золота?
— У Дергачева, что ли? Да я никогда не видел у него десятки одной бумажкой. Позавчера собрались по случаю женского праздника... И Дергачеву кто-то по шее дал — не внес трешку за общий стол. Не было у него трешки. Правильно. — Николай медленно водил в воздухе указательным пальцем, высчитывая, когда же разбогател Дергачев. — А вчера, значит... Да, вчера он был при деньгах. И золотом хвастанул, не удержался, слабак. Как я понимаю, такими вещами хвастать не стоит. По-честному они достались или еще как, все равно не стоит показывать всякой шелупони вроде меня.
— Ну! — запротестовал Демин. — Это вы напрасно.
— Не надо, — раздельно произнес Николай и выставил вперед ладонь, словно не подпуская слова, которые еще мог произнести Демин. — Кто я есть — известно! Меня любят, когда вода потечет, когда кран прорвет... И так далее. А если у человека все в порядке, он знает мне цену. И я тоже ее знаю. Невысокая цена.
— К Дергачеву в тот день приходил кто-нибудь? — спросил Гольцов.
— Да, был один тип... Говорит, Дергачева ищу, не здесь ли работает... Отошли они в сторонку, пошептались, пошушукались... На мой взгляд, он и принес золото.
— Как вы думаете, зачем?
— И думать нечего — для продажи. Не носить же. — Николай рассмеялся. — Представляю себе Дергачева в золоте!
— Почему вы решили, что для продажи? Может быть, он хотел передать кому-то?
— Так ведь Толька тут же мотанулся по нашим жильцам! Мы бываем во всех квартирах, знаем, где можно золото предложить, где ничего предлагать не надо...
— Ему удалось что-то продать?
— А как же! Он сам мне сказал! В общем, такие у него дела — зашел в пять квартир, в трех купили. Чем не психолог! Обойдите сейчас двадцать квартир и не сможете продать ни одной золотинки.
— Не пойду, — сказал Демин, смеясь. — На слово поверю. Вы не знаете, кому именно продал?
— Если так, чтоб меня к этому делу не припутывать, то могу поделиться соображениями...
— Договорились.
— Зайдите в двадцать третью квартиру, в восемьдесят седьмую, в девяносто пятую загляните... Авось вам и повезет.
— Вы видели золото, можете описать эти вещички?
— Издалека, и то в его руках... Обычные вещицы.
— Вы бы не назвали их старинными?
— Кто их знает, нет у меня ни старого золота, ни нынешнего.
— Много было золота у Дергачева?
— Если говорить о том, что я видел... В ладошке все вмещалось. Вещиц семь-восемь... Попросил я у него, продай, дескать, знак зодиака, дочке хотел подарить... Бери, говорит, три десятки с казенной цены ради большого уважения к тебе, это ко мне, значит, сброшу... Но там и без трех десяток для меня многовато оказалось.
— Не взяли? — уточнил Демин.
— Нет, не взял. В двадцать третьей квартире остался зодиак.
— Это вам Дергачев сказал?
— Нет, сам догадался. Он пришел от них, из двадцать третьей, а я и говорю, что, мол, дай кулончик, дома жене покажу, может, и возьмем. А он мне в ответ, что, дескать, был кулончик, да весь вышел. Вот я и догадался, что загнал его Толька. А золото вона как обернулось — погиб парень. А не должен был погибнуть, не должен, — задумчиво проговорил Николай, — Рановато ему...
Демин прошел по мастерской, потрогал тиски, молотки, взвесил на руке разводной ключ, поковырялся в ящике с инструментом.
— Ладно. Теперь о том посетителе, который пришел вчера к Дергачеву.
— А я его не знаю. Первый раз видел.
— Очень хорошо. Значит, запомнили.
— Запомнил. Высокий, молодой. Волосы до плеч, чистое лицо, бровастый...
— Одежда?
— Ну... По нынешним временам неплохо одет... Кожаная куртка черная, шапка мохнатая...
— Мех не запомнили?
— А черт его знает, какой у нее мех! Вроде рыжая... Хотя нет, черная. Да, и джинсы — все как положено.
— Рост?.
— Вот тут не ошибусь — длинный парень, под сто девяносто — это точно.
— Возраст?
— Лет двадцать, может, на год-два больше.
— Дергачев честный человек? — повернул разговор Демин.
Николай с удивлением посмотрел на следователя, видно, не смог быстро переключиться на новую тему, помолчал и уже этим погасил неожиданность вопроса.
— Трудно сказать, — проговорил Николай с какой-то скорбной улыбкой. — Каждый в это слово вкладывает свое. К примеру, скажу вам одно, вы поймете другое, по-своему... Среди отчаянных воров есть честные люди, по-своему, конечно, честные. Дергачев... Так и остался должен мне пятнадцать рублей, хотя отдать обещал еще полгода назад. Но у меня нет обиды, все правильно, я сам не торопил. Вот он золото бросился по квартирам предлагать, как я понимаю, нечестное было золото... Но Дергачева считаю честным человеком. Он не подлый. Пообещает — сделает, попросишь — не откажет. Он мог догадываться, что это золото краденое, но я не могу себе представить, чтобы при расчете Толька попытался бы обмануть, зажулить десятку... Нет. Как-то я в халатике своем четвертную забыл, в кармане. А потом приболел, не было меня здесь недели две. Прихожу — халатик на месте, а четвертной нет. И спросить не с кого — народу здесь бывает до чертиков — пацаны забегают, жильцы, иногда ребята из других домов в домино собираются поиграть, местные умельцы приходят постругать, привинтить... В общем, не у кого спросить. Я и не спрашивал. Дергачев сам признался. Халат, говорит, как-то надел, а в нем деньги, пришлось выпить за твое здоровье, поскольку болел ты и остро нуждался в дружеской поддержке. Отдал, все деньги отдал.
— Другими словами, честность внутри узкого круга?
— Да, — простодушно подтвердил Николай. — Да. А много ли стоит честность другая, за пределами узкого круга?
— Но есть честность и по большому счету, — заметил Гольцов.
— Самый большой счет — это честность перед самим собой, — резковато ответил Николай. — Главное, чтобы ты сам себя в бессонную ночь не упрекал в подлости. Вот это самый страшный счет. Чтобы люди, с которыми ты каждый день встречаешься, не проклинали тебя, не плевали вслед. Вы знаете более высокий счет?
— Сдавайся, Юра, — сказал Демин, чтобы разрядить обстановку. Он увидел, что Николай уж больно всерьез произнес последние слова. — Сдавайся, Юра. Нет более высокого счета, чем честность перед самим собой. Потому что здесь никакие отговорки тебя не спасут, никакие оправдания не помогут.
— Вот именно! — обрадовался Николай пониманию.
8
Положив крупные ладони на холодное стекло стола, Рожнов, не перебивая, слушал Демина. Время от времени он отрывал ладони от стола и внимательно рассматривал их, словно по линиям пытаясь узнать судьбу людей, о которых шла речь.
Когда Демин замолчал, Рожнов поднялся, подошел к окну и сильным ударом ладони распахнул форточку. Сразу потянуло свежим весенним воздухом. С утра подморозило, сверкало солнце, и кабинет был залит светом.
— Итак, подозреваются трое, — сказал Рожнов.
— Да. Борисихин был в больнице и скрывает это. Брюки Мамедова несут на себе следы преступления. А у Жигунова найден зеленый шарф... тоже в крови.
— Чем они это объясняют?
— Ничем. Собираются с мыслями. А я собираюсь поговорить с ними на эту тему. Все детали выяснились только вчера вечером. Во всяком случае, есть основания подозревать каждого из них.
— Согласен. Не исключаю, что кто-то из них действительно преступник. Мамедов ограблен полупьяным опустившимся стариком. Две тысячи рублей — это серьезные деньги даже для Мамедова, и он может пойти на нечто рисковое, чтобы попытаться их вернуть... Я правильно понял положение?
— В общих чертах... Правильно.
— Вот видишь, — заметил Рожнов. — Борисихин тоже имеет основания поступить жестко по отношению к этой компании. На кону — жена. Он ее любит, у нее уйма достоинств, правда, есть и небольшой изъян — выпивоха.
— Теперь Жигунов...
— Ну что ж, отец его поступил безнравственно. Жена погорячилась, рассказав обо всем мужу. Ее можно понять, девчонка, широко раскрытые восторженные глаза... И вдруг — притязания пьяного старика... Ужас. Умом можно тронуться. Но прошел год... За такое время страсти обычно утихают, и на их месте остается в душе выжженное пятно.
— Появилось золото, — напомнил Демин.
— И пока ни один из твоих «преступников» никак на золото не выходит. Все их отношения золота не касаются. Да и кулоны просто так, от хорошего или плохого настроения, не глотают. Это можно сделать только в критическом положении, когда нет времени, чтобы бросить кулон в щель пола, заткнуть за надорванные обои, вдавить в хлеб или в колбасу. Отсюда вывод: нам неизвестны главные события, происшедшие в тот день. Мы знаем события второстепенные, о которых можно говорить даже следователю, если он слушает, если ему это интересно.
— Намек понял, — усмехнулся Демин.
— Никаких намеков, — Рожнов показал Демину раскрытые ладони, — установленные события объясняют поведение всех действующих лиц, соответствуют их характерам, их судьбам, их прошлому. Все они неплохо вписываются в события, которые тебе известны. Но золото, Демин! Оно никуда не лезет, ни к кому не прикладывается, оно стоит особняком и освещает все события зловещим желтым светом, если позволишь мне выразиться так красиво. — Ты отдавал кулончик на экспертизу? — неожиданно спросил Рожнов.
— А как же... Ребята подтвердили, что это золото, проба, говорят, невысокая, пятьсот с чем-то... Цена около двухсот рублей.
— Это цена нового кулона? — уточнил Рожнов.
— Дело в том, что он как раз новый, Иван
Константинович.
— В каком смысле?
— Неношеный. Если он и принадлежал кому-то, то хозяин берег этот кулон, держал его в шкатулке, в сафьяне, в ватке. Но в последние дни кулону досталось больше, чем за всю предыдущую жизнь, — он побывал в небрежных, чужих, грубых руках.
— Это все можно узнать по его внешнему виду? — усомнился Рожнов.
— Ничего сложного, Иван Константинович. Кулон неношеный, потому что на нем нет потертостей, смазанных линий, мелких царапин, которые возникают даже при самом бережном отношении. Достаточно положить его на стеклянную полку, опустить в шкатулку, где есть брошки, кольца, цепочки, и на кулоне возникают мельчайшие царапины. Здесь же их нет. Зато есть глубокие, свежезазубренные царапины. Такое впечатление, что этот кулон какое-то время болтался в кармане вместе с мелочью, ключами... Понимаете? Вот его увеличенная фотография, на ней все видно. — Демин вынул из папки большой снимок, сделанный Савченковым. В сильном боковом свете кулон выглядел очень выпукло. Фигурка Водолея пересекалась глубокой царапиной, которую можно было сделать разве что гвоздем или лезвием. Зато остальная поверхность кулона оказалась совершенно чистой, а если и просматривались какие-то вмятины, то они были явно фабричного происхождения. Кулон сказал еще не все, но он уже не молчал.
— Какие мысли вызывает у тебя этот кулон? О чем ты думаешь, глядя на него? — с улыбкой спросил Рожнов.
— Прежде всего Дергачевы — это не те люди, которые запросто могут иметь золото, хранить его, носить. А если учесть, что Дергачев продавал его по цене ниже государственной, вывод напрашивается простой — золото краденое. Помня о том, что оно неношеное, что у Дергачева видели чуть ли не дюжину подобных вещиц, украли это золото не у частного владельца. Где-то витринку ребята пообчистили.
— Не слыхал. — Рожнов озадаченно вскинул брови, полистал папку с ориентировками. — У нас давно такого не было. Надо будет спросить у соседей. Вокруг пять областей, первые запросы к ним.
— Уже разосланы, — сказал Демин.
— Молодец. Догадайся ты еще и позвонить, тебе вообще цены бы не было. Да, почти все твои приятели называют высокого человека, молодого и красивого, который тоже принял посильное участие в торжествах по случаю дня рождения старика...
— Называют, — подтвердил Демин. — Кроме того, у забора возле лаза на соседнюю улицу найден след в снегу, наши знатоки утверждают, что след оставил человек высокого роста, где-то под сто девяносто. Сорок четвертый размер.
— Может быть, я заблуждаюсь, — медленно проговорил Рожнов, — но по невежеству сдается мне, что люди молодые и красивые, а если высокие, то вообще... Сдается мне, что у них вырабатывается повышенное требование к жизни, к окружающим... Заметь, я говорю не вообще о человечестве, а о наших с тобой клиентах. Если заморыш может спокойно пребывать в тени и не чувствовать себя при этом уязвленным, то человек высокий стремится занять в своей группе положение, соответствующее его росту, его заметности... Это идет еще с мальчишеского возраста — самый высокий, значит, самый сильный, значит, самый умный, а тут и до храбрости недалеко... Хотя все это и правильно, и условно, и растяжимо, — продолжал Рожнов, снова укладывая ладони на стекло и тем как бы прекращая свободное течение беседы. — Как бы там ни было, меня тревожит этот долговязый. Сам он не появляется, не находит нужным, может быть, у него есть основания опасаться нас с тобой, а?
— Будем искать, Иван Константинович. Его никто не знает в этой компании. Не исключено, что он приезжий. И вполне возможно, сейчас уже где-нибудь на южных берегах или на лыжных курортах...
— Ты слишком хорошо думаешь о нем или же выдаешь собственные заветные желания, — усмехнулся Рожнов.
— Это все, что мне остается, Иван Константинович.
— Подобная публика не стремится на лыжные курорты, они даже не знают, где находится Бакуриани и как туда добираются. Их образ красивой жизни иной. Все проще, Демин, все куда проще.
— Бывают исключения.
— Они подтверждают правило. Нужен словесный портрет. Займись. Нужен хороший, добротный, подробный портрет. Причем в популярном исполнении, чтобы его можно было зачитать дружинникам, участковым, соседям. И еще... Не может быть, чтобы никто из подозреваемых ничего бы о золоте не знал. Поспрошай настойчивей, боюсь, что все эти события золотишком заверчены...
Демин прошел в свой кабинет, положил перед собой чистый лист бумаги и написал на нем два слова: «словесный портрет».
Надо же, каждый день пользуемся словесным портретом, даже не сознавая того. Описываем друзей, знакомых, продавцов, с которыми поругались, девушек, с которыми познакомились, описываем обидчиков и благодетелей, самих себя описываем, договариваясь о встрече по телефону. И настолько поднаторели в этом, что по двум-трем словам безошибочно узнаем человека в тысячной толпе. Достаточно бывает сравнить кого-либо с птицей, предметом домашнего обихода, и мы уверенно находим его в чужих коридорах, приемных, кабинетах.
Итак, кого ищем? Ищем молодого человека высокого роста, весьма уверенного в себе, учитывая, что в незнакомой компании он вел себя, можно сказать, нагловато. За этим выстраивается не только внешность, но и некие представления о его духовном мире, вкусах и привязанностях. Он пришел в дом, где у него нет друзей, нет ровесников. Дергачев старше его лет на пятнадцать, их могут связывать только деловые интересы. Ни Борисихины, ни молодой Жигунов его не знают. В тот день, когда они встретились, Дергачев продавал золото, и, кроме того, с ним тогда же произошло печальное событие — он погиб. А его жена проглотила золотую вещицу. Значит, играли, играли золотые страсти...
Телефонный звонок прервал его раздумья. Звонил дежурный.
— Валентин Сергеевич, здесь женщина... Хочет пройти. Ее фамилия Борисихина.
— Пусть идет.
Войдя в кабинет, Борисихина улыбнулась Демину как хорошему знакомому. Глядя на ее оживленное лицо, трудно было представить, в каком состоянии она была совсем недавно.
— Разрешите?
— Всегда вам рад! — искренне ответил Демин.
— Надо же... Никогда не знаешь, куда тебе нужно стремиться, где тебе рады, а где только терпят!
— Садитесь. Внимательно вас слушаю.
— О, Валентин Сергеевич, если бы вы знали, какие жестокие слова произносите! Внимательно вас слушаю... Дежурное начало, правда?
— Не совсем, — смутился Демин. — Я сказал это от всей души.
— Так привыкаешь к этим... «Привет, старуха! Стакан хильнешь? Ну, ты и жрать здорова...» Так привыкаешь, что, когда слышишь нормальную человеческую речь, охватывает оторопь, не верите? Плакать хочется. Начинаешь понимать, что мимо проходит что-то важное, даже не то чтобы важное... Настоящее.
— Но муж к вам хорошо относится, — осторожно заметил Демин.
— Муж? — Борисихина сморщила нос. — Знаете, с ним странное происходит... Может быть, он и любит меня... Хотя нет, скорее любил. Думаю, кончилось, но он не хочет себе в этом признаться. Нет, это не любовь. Может быть, забота, привычка, сострадание, ответственность... Валентин Сергеевич, вам не кажется, что все эти слова рядом со словом «любовь»... как бы это... не тянут? Они слабее, даже вместе взятые. И потом, в них ощущается какая-то снисходительность. Сами по себе и сострадание и забота прекрасны. Но когда заменяют любовь — они ужасны. Хотя грубость и любовь совместимы, да?
— Знаете, мне трудно сразу так вот переключаться.
— Даже нетерпимость, подозрительность можно принять как вполне приличные спутники любви... Если она настоящая, конечно.
— Если она настоящая, ей ни к чему и подозрительность, и грубость... Вы сказали, что с вашим мужем происходит что-то странное? — напомнил Демин.
— Ишь как у вас — одна неосторожная фраза, и ты уже на крючке. — Борисихина склонила голову, как бы напоминая себе, что здесь надо держать ухо востро. — Я имела в виду наши отношения... Он так уверен в моем падении, в то, что оно окончательное... Он заранее простил мне будущие грехи. И даже те, которых мне никогда не совершить. Эта уверенность в том, что я всегда буду нуждаться в его прощении... Она все испортила. Даже когда я возвращаюсь домой совершенно чистая перед ним во всех смыслах слова, он смотрит на меня со скорбью обманутого и осмеянного мужа. Это тяжело, Валентин Сергеевич. Так и хочется дать ему основания для этой скорби.
— Наверно, это не самое лучшее в семейной жизни, но у меня такое впечатление, что вы еще что-то хотите сказать.
— А! Я и забыла... Мне кажется, — сказала Борисихина раздумчиво, — что я уже видела его раньше, этого долговязого. Во всяком случае, он показался мне знакомым. В центре я его видела, недалеко от рынка.
— Он был один или с приятелями?
— Не хочу сбивать вас с толку — не помню. Возможно, я тогда была не совсем трезва, за мной это иногда водится, — доверчиво улыбнулась Борисихина. — Но если вам интересны мои зыбкие и расплывчатые воспоминания, смазанные временем...
— Для меня сейчас нет ничего важнее! — заверил ее Демин.
— Если так, — Борисихина забросила ногу за ногу, сощурилась, словно каким-то колдовским манером вызывая в себе исчезнувшие образы. — Он был не один... С ним были такие же, как и он... Шалопуты.
— Чем они занимались?
— Шатались. Знаете, есть люди, у которых образ жизни шатающийся. Или, скажем, пошатнувшийся. Себя могу привести в качестве примера.
— Значит, он местный?
Борисихина вскинула бровь, осмысливая вопрос, задумалась. По ее лицу как бы пронеслась тень колебания, неуверенности. Если парень окажется местным, то возникают соображения солидарности. Нехорошо, дескать, своих выдавать. Но, видимо, здравый смысл взял верх.
— Да, похоже, что местный, — сказала Борисихина. — То ли они искали развлечений, то ли уже нашли их... Что-то в этом роде. Знаете, есть сопляки, уверенные в какой-то своей значительности, в каком-то превосходстве... Может, папа с мамой вбивают им в головы эту чушь, а может, им иначе жить неинтересно.
— Знаю, — коротко сказал Демин. — Он показался вам сопляком?
— Он и был сопляком. Не исключено, что я видела его даже не в этом году... Поэтому...
— Вы не помните имя? Ведь вчера у Жигунова его как-то называли?
— Ха! Вы не видели меня вчера? Вам повезло, Валентин Сергеевич.
— Вам тоже немного повезло, — заметил Демин. — Иначе мы не сидели бы с вами в этом кабинете.
— Да, — кивнула Борисихина. — Я запросто могла лежать в холодном помещении под простынкой.
— Ну уж коли у нас получился такой разговор, рискну задать один вопрос...
— Все, что касается меня, пожалуйста! — с готовностью ответила Борисихина.
— Это касается не только вас. Если не сможете по каким-то причинам ответить — ваше дело. Но буду признателен, если ответите. Суть заключается в расхождении некоторых данных... Ваш муж утверждает, что весь день после пожара он добросовестно отработал на заводе металлоконструкций.
— Значит, так оно и было! — несколько поспешно воскликнула Борисихина. — Его завод — это не контора какая-нибудь, человек на виду... Он ведь работает в конструкторском бюро, и так просто уйти, прийти...
— Я был на этом заводе, немного знаком с работой конструкторов. Они имеют право, может быть, это их обязанность — бывать в цехах, где изготавливаются металлоконструкции. Короче — он может уйти, и никто на заводе не поручится, что в данный момент он в цеху, а не между цехами, идет в контору, а не к себе домой. Еще короче — у нас есть доказательства, что ваш муж около часа дня был в больнице.
Борисихина передернула плечами, исподлобья посмотрела на Демина.
— Простите, но это... Очень важно? В этом таится какое-то зловещее значение? Объясните, я никак не соображу.
— Все очень просто. В больнице лежат люди, пострадавшие на пожаре. Старик Жигунов, Свирин, там же была и Дергачева, но на следующий день как раз, когда там вертелся ваш муж, она умерла.
— Он что-то ей сделал?
— Не похоже. Но он там был. Зачем ему понадобилось приходить в больницу тайком, через служебный ход, в рабочее время?
— А вы можете ответить на этот вопрос? — с улыбкой спросила Борисихина.
— Могу. Но боюсь, что ни вам, ни вашему мужу мой ответ не понравится.
— Рискните.
— Хорошо. Ваш муж вчера, взбудораженный тем видом, в котором он вас застал, нанес опасные для жизни травмы нескольким людям. Чтобы замести следы преступления, он поджег дом. Но Жигунова и Свирина удалось спасти. Говорить они не могут, но, когда заговорят, назовут преступника. Ваш муж пробирается в больницу, чтобы убить оставшихся в живых участников печального застолья. Но ему это не удается, поскольку мы предвидели такую попытку. Вспугнутый нашим сотрудником, он скрывается.
— Боже, в каком ужасном мире вы живете! — воскликнула Борисихина. — Скажите, Валентин Сергеевич, а вы сами верите во все это?
— Полностью принять эту версию мне не позволяют некоторые другие факты. Но и отказываться от нее я не имею права, да и не хочется, она многое объясняет.
— Слушая вас, я не могла поверить, что речь идет о моем муже, мне все время приходилось делать над собой усилие, чтобы помнить, что рассказываете вы не о преступнике международного класса, а о Борисихине... Нет-нет, так он вести себя не мог.
— Вы плохо знаете своего мужа, — заметил Демин. — Мы вообще плохо знаем людей, которые живут рядом.
— Как бы там ни было, все, что вы рассказали, заставляет меня иначе взглянуть на своего благоверного. Я, кажется, начинаю его уважать. Глядишь, и до любви дело дойдет, — добавила Борисихина невесело. — Неужели это бывает, чтобы столь злодейские поступки могли вызвать уважение и даже любовь к человеку?
— Дело не в злодействах. Просто вы убедились, что муж способен на сильные страсти, на отчаянные действия, что он решителен, когда дело касается вашего достоинства... Правда, форму он выбрал не самую лучшую, но это уже от слабости.
— Как знать, — улыбнулась на прощание Борисихина. — Да, а что говорит обо всем этом мой муж?
— Молчит. Не был, говорит, в больнице, и все тут. Я спрашиваю, может быть, кто-то сходил туда в ваших туфлях... И это отрицает. Не могли, говорит, с моих ног похитить туфли так, чтобы я этого не заметил. Я, говорит, не то что некоторые, с которыми подобное может случиться.
— Так он еще и шутит?! — восхитилась Борисихина. — Никогда бы не подумала.
Привели Мамедова. Он был бледен, густая щетина с невероятной скоростью покрыла почти все его лицо, придав ему скорбный и запущенный вид.
— Положение таково, — начал Демин. — Экспертиза утверждает совершенно уверенно, что на ваших брюках следы огня и кровь, которая по группам принадлежит двум пострадавшим людям — Жигунову и Свирину. Вам не хочется уличить экспертов в невежестве?
— Нет, не хочется. Ваши эксперты очень грамотные люди, и я искренне уважаю их за мастерство и добросовестность.
— Спасибо. Я обязательно передам им ваши слова. Но в таком случае как вы объясняете появление на ваших брюках столь зловещих следов?
— А! — Мамедов безнадежно махнул рукой. — Так ли уж важно, что я скажу, как объясню... Не поверите. И правильно сделаете. Такие следы, такие следы... Я даже не знаю, чем их можно обесценить.
— Вы поджигали дом?
— Что вы, Валентин Сергеевич! Как можно поджечь дом, в котором живут люди! И потом... Тогда я еще не терял надежды этот дом назвать своим.
— Что же произошло, Мамедов?
— Произошло то, что Мамедов оказался в опасности. По собственной глупости. Следы — это одно, но против меня говорит и долг старика. Две тысячи я ему отдал, а он мне отвечает, что вернет, когда у него будут деньги... Ха! Будто я не знаю, что, когда у него будут деньги, он их тут же пропьет. И правильно сделает, что еще остается старику... Но мне-то, мне обидно! А если мне обидно, думаете вы, Валентин Сергеевич, значит, у Мамедова есть основания для опасного преступления. Две тысячи рублей! Подумаешь! Если вы мне понравитесь, если вы у меня попросите, я подарю их вам не задумываясь!
— Вы это серьезно? — жестко спросил Демин.
— Вполне! А... — Мамедов осекся, склонил голову к плечу, словно пытаясь понять перемену, происшедшую в Демине, и наконец улыбнулся. — Простите... Получилось так, что я предлагаю вам деньги. Нет-нет, я только говорю о своем отношении к деньгам. Послушайте, как все произошло, Валентин Сергеевич. Вы не поверите, но я к этому готов. Приходим мы вдвоем с моей женщиной к Жигунову. У того гости. Говорить невозможно. Я ему о долге, о доме, о его обещании, а он мне в ответ — садись, дорогой, гостем будешь, семьдесят мне исполнилось. Что делать? Надо садиться. Сели. Я тост сказал, хороший тост, всем понравилось, все выпили. Еще тост, еще выпили. Пора уходить. Ушли. Я проводил женщину домой, потом сел на такси и поехал к Жигунову. Подумал, что гостей уже нет и мы можем поговорить...
— Итак, вы приехали к дому, — напомнил Демин.
— Совершенно верно. Приехал. Расплатился с таксистом, подхожу к дверям и вижу — в окнах огонь. Бросаюсь в дом, затаптываю...
— Что горело?
— Газеты на полу. Большая куча бумаги, тряпок... Такое впечатление, что кто-то стащил в кучу... Потом вижу — лежат люди, в крови. Я оттащил в сторону старика, Свирина, а потом испугался... Зайдет человек — что подумает? Подумает — Мамедов преступник. И я поступил не как мужчина... Убежал. И вот мне наказание.
— В котором часу это было?
— Стемнело уже, март, рано темнеет.
— Вы загасили огонь полностью? Он не мог снова разгореться?
— Разгореться? — Мамедов потер щетину, — Нет. Не мог.
— Вы ушли в калитку?
— Конечно. Куда же еще?
— Вас кто-нибудь видел?
— Думаю, что нет. Когда выходил, подождал, пока пройдут люди, сразу свернул в переулок. Старался, чтобы меня не видели. Ну что, верите, Валентин Сергеевич?
Демин вздохнул, прошелся по кабинету, снова сел. Ему хотелось верить Мамедову. В его голосе было что-то такое, что вызывало доверие, даже в выражении лица. Мамедова чувствовалась горькая искренность. Возможно, за ней стояло сожаление в содеянном, но логика поступков, логика характера сбивала с толку, и он не стал торопиться с выводами.
— Неважно, верю ли я вам сейчас, Мамедов. Ну, верю, ну, не верю... Следствие идет, улики против вас, и потому отпустить не могу! Терпите. Мужайтесь. Будем работать. Помогайте по мере сил. Я с радостью отпущу вас, но мне нужны основания. Скажите, когда вы второй раз вернулись в дом, там никого не было в полном здравии?
— Нет, — подумав, ответил Мамедов. — Я обошел весь дом, да что там обошел, я его обежал не один раз... Когда я увидел этих людей, среди них и женщина... Они так веселились за столом, и вдруг... Я растерялся...
— Значит, только эти четверо?
— Да, хозяин, Дергачевы и этот маленький мужичок, его фамилия Свирин.
— А когда вы приходили к Жигунову в первый раз, кто был за столом?
— Я уже рассказывал... Рассказывал правду, поэтому смогу только повторить. Если бы я врал, то кто знает, сейчас бы сказал что-то другое...
— Вы помните за столом высокого молодого парня с длинными волосами?
— Помню.
— Вы его знаете?
— Первый раз видел.
— Опишите его.
— Вы сами, Валентин Сергеевич, описали его... Высокий, молодой, длинные волосы, усики...
— Стоп. Подробнее об усиках, слышу об этом впервые. Раньше вы говорили, что он безусый.
— Усики неважные, жидковатые. Темные, концы вниз, по нынешней моде, слегка запущенные, их не мешало бы подровнять сверху, чуть укоротить снизу... Хорошо подстриженные усы встретишь нечасто... Вот и свои я уже не могу назвать хорошими. — Мамедов горестно потрогал пышные усы.
— Что еще можете сказать о том человеке?
— Он был с деньгами, — с неожиданной уверенностью сказал Мамедов. — Да. В тот день я вообще все, что касалось денег, замечал в первую очередь. Хотя сам о деньгах говорить не люблю, что-то в этом нехорошее, это все равно что обсуждать женщин. Настоящий мужчина этого делать не будет, хотя может любить и то и другое.
— И что же молодой человек? — Демин слегка подправил направление мыслей Мамедова.
— За столом возник разговор, что неплохо бы еще выпить... И тогда этот парень вынул из кармана двадцать пять рублей... Надо было видеть, как он это сделал... Последнюю четвертную так не отдают. Этаким легким движением, как бы отбрасывая руку в сторону, протянул деньги Свирину. Не глядя, заранее уверенный, что деньги возьмут и что надо сделают.
Демин представил эту маленькую сценку. Молодой парень посылает за выпивкой сорокалетнего мужчину, причем не просит его, ссылаясь на незнание города, почти швыряет деньги, уверенный, что их обязательно кто-то подхватит и тут же побежит исполнять поручение. И это при том, что он новичок в доме.
— Свирин сбегал за водкой?
— Это получилось как-то само собой, словно заранее все знали, что бежать ему. Хотя и парень, и Дергачев, и Михаил Жигунов были моложе, — произнес Мамедов с осуждением.
— За столом как-то отметили щедрость парня?
— Старик сказал, что, мол, заходи почаще, жаль, не знали тебя раньше. Парень ответил, что, дескать, не огорчайтесь, еще узнаете.
— Это была угроза или похвальба?
— Скорее похвальба.
— Не возникло никакой напряженности, взаимного недовольства?
— Нет, все смеялись над молодой женщиной, она быстро опьянела, ее увели в другую комнату, потом за ней пришел муж, ругался, ему предлагали выпить.
Позвонил Пичугин и пожаловался, что ему не удалось найти никого, кто купил золото у Дергачева. Он обошел все квартиры, многие утверждали, что слышали, будто Дергачев якобы продавал кому-то золото, но кому — неизвестно.
— Костя, покупателей нет вообще или они не признаются?
— Таятся, Валя. Поняли, что золото нечистое, что придется вернуть. Милые такие тетушки, заботливые, чаем угощают, ужасаются, когда я им про пожар рассказываю, но, как только заходит разговор о золоте, смыкаются уста, Валя! И ни звука. Глазами моргают и молчат.
— Сработала система отбора. Дергачев ведь не всем подряд предлагал, не каждый купит ворованное. Он был неплохим психологом. А то, что оно ворованное, догадаться нетрудно — по дешевке сбывал. У этих людей одна слабость — они трусоваты. Вышлем официальные повестки.
— Думаешь, поможет?
— Попробуем. Составь списки наиболее вероятных покупателей, слесарь назвал несколько квартир, сам пораскинь умом. Повестки оформим по всей строгости, с печатями, подписями, предупреждениями и так далее. Пусть распишутся в получении. Прямо сегодня и провернем. Еще одно... Дергачев квартировал у старика Жигунова что-то меньше года, так? Нужно срочно узнать, где он жил до этого. Понимаешь? Точный адрес. Договорились?
— Вас понял, — сказал Пичугин и повесил трубку.
9
Рожнов вошел в кабинет Демина и, не проронив ни слова, положил перед ним бланк с печатным текстом. Это был ответ из соседней области. «На ваш запрос, — прочитал Демин, — сообщаем, что второго марта сего года ограблен универмаг Новоорловского района. Похищено большое количество часов наручных, сувенирные товары, ювелирные изделия. Преступники скрылись, ведется расследование».
— Ровно десять дней назад, — сказал Рожнов. — И больше нигде ничего. Из других областей пришло не то два, не то три ответа — пусто.
— Надо ехать, Иван Константинович. Ювелирные изделия... Понятие растяжимое. У них должны остаться документы, накладные... А у нас есть кулончик... Вдруг совпадет?
— Ну что ж, поезжай. Дорога недальняя, обернешься быстро. Тебе ни о чем не говорит список похищенного? Смотри — ювелирные изделия, сувенирные товары, это совсем из другого отдела, часы наручные...
— Да что тут думать, Иван Константинович! Новички работали. Дорвались до витрин и давай сгребать все, что под руку попадется. Ошалели они там в универмаге, что ли? Что такое сувениры? Кувшинчики, платочки, карты игральные, свистульки, рюмки... Выбор, слава богу, так беден, что все по пальцам можно перечислить.
— А как ты все-таки понимаешь эту зловещую находку при вскрытии? — Рожнов уселся на стул, положив руки на спинку.
— Как понимаю... Глотают золото нечасто и каждый раз делают это, чтобы вещь спрятать, когда нет возможности спрятать иначе. Не исключено, что Дергачева попросту сперла этот кулончик или, взяв, не нашла в себе сил отдать.
Рожнов встал, поставил стул к стене, направился к двери. Остановившись у самого выхода, обернулся.
— Видишь ли, Демин, нам с тобой приходится иметь дело с самыми заурядными представителями рода человеческого. И если уж они чем-то отличаются от прочих, то своей нетерпеливостью в получении благ. Прыгнуть выше головы — это тяжелая работа, не каждому по плечу. Да не все и стремятся к подобным прыжкам. Большинству вполне достаточно выглядеть, а не быть. Но все дело в том, — Рожнов поднял указательный палец, стараясь придать значение своим словам, — что б ы т ь проще, нежели к а з а т ь с я. Понимаешь?
— Откровенно говоря — смутно.
— Если человек что-то собой представляет, если он художник, мастер, спортсмен из ряда вон, он уже е с т ь. Он может обойтись и без золота, без джинсов, без машины. У него все тут! — Рожнов постучал громадным кулаком по необъятной своей груди. — Если ничего собой не являешь, ты вынужден к а з а т ь с я. А это очень накладно, Демин, — к а з а т ь с я. Ты уже не можешь позволить себе ходить как все люди, ты вынужден гоняться за кольцами и кулонами со знаками зодиака, а если совсем дурак, вынужден ходить по улицам с включенным магнитофоном, водить на поводке диковинную собаку... Вынужден. И человек теряет самообладание, его охватывает нетерпение. И так хочется одним махом достичь всего, на что другие кладут годы. Одним махом. И все, ты на белом коне. И пусть другие догоняют. Вспомни, с кем мы имеем дело чаще всего — это люди, потерявшие самообладание. Им кажется, что только от решительности зависит их будущее, только от их дерзости зависит, как скоро прискачет белый конь, на котором можно разъезжать по жизни.
Не ожидая ответа, Рожнов вышел, хлопнув за собой дверью.
И тут же дверь снова распахнулась.
— Тут к тебе посетители, — сказал Рожнов, пропуская в кабинет пожилую женщину. — Завтра с утра можешь выезжать. Пока.
Женщина подошла и осторожно положила на край стола листок бумаги. Демин издали узнал повестку, которую вчера разнесли по квартирам.
— Вот пришла по вашей бумажке...
— Очень хорошо. Мы ждали вас.
— Меня?
— И вас лично, и ваших соседей.
— Уже кто-то приходил? — не удержалась женщина от вопроса.
— А как же! Мы со многими говорили. Надеюсь, что и вы кое-что интересное расскажете, а? Простите, как вас зовут?
— Лина Тихоновна Скворцова. — Женщина полезла в сумочку, вынула бумажный пакетик, развернула его и рядом с повесткой положила золотое кольцо.
«Почин есть! — обрадовался Демин. — Завтра будет с чем ехать. Трудно было сказать наверняка, но и эта вещица казалась новенькой. Ничего, эксперты разберутся».
— Откуда оно у вас?
— Купила, — просто ответила Скворцова. — Пришел человек, предложил... Я и купила.
— Кто предложил?
— Не знаю, стоит ли называть... Будет ли это с моей стороны порядочно...
— Дергачев?
— Он, — кивнула женщина. — Уж коли вы сами знаете... Надеюсь, я не совершила ничего предосудительного, купив у него это кольцо? Дело в том, что у меня внучка... День рождения... Хотелось порадовать...
— Сколько вы за него отдали?
— Право же, не знаю, что вам и ответить... — Видимо, вопрос показался Скворцовой грубоватым. — Я как-то не привыкла давать отчет о собственных расходах, мне кажется, это личное дело каждого человека и спрашивать об этом...
— Спрашивать об этом неприлично?
— Если уж вы так выразились, то... Мне остается только согласиться.
— Лина Тихоновна, когда вы покупали золотое кольцо у Дергачева, как себе это объясняли? Учитывая вашу порядочность, воспитанность... Ведь он запросил цену меньше государственной. Как вы себе объяснили предложение Дергачева продать кольцо?
— Он сказал, что ему очень нужны деньги... Именно в тот день... И я подумала, почему бы не выручить человека...
— Значит, стремление выручить? А почему бы вам не предложить ему деньги взаймы? Почему желание выручить связывать с наживой?
— Ну, знаете! — Скворцова подобрала губы и распрямилась. — Я сюда пришла не за тем, чтобы выслушивать оскорбления!
— И я здесь сижу не для того, чтобы оскорблять людей, которые приходят помочь, — жестко ответил Демин. — Может быть, я не прав, но хоть иногда надо называть вещи своими именами. Хотите выручить человека? Прекрасно! Но за вещь вы даете гораздо меньше денег, нежели она стоит. Я спросил, сколько вы отдали за это кольцо, вовсе не для того, чтобы считать ваши деньги. Это важно для дела. Кольцо краденое, и вы это знаете...
— Откуда?!
— Почему же Дергачев продал кольцо гораздо дешевле, нежели оно стоит в магазине. Стоит оно примерно двести двадцать, вы за него отдали вряд ли больше двухсот, а?
— Сто восемьдесят, — сказала Скворцова и отвернулась, словно ее вынудили сделать недостойный поступок.
— Вот видите... Дергачев продал кольцо не только вам в тот вечер. Произошло слишком быстрое превращение выпивохи в состоятельного человека. В тот же вечер Дергачев был убит.
— А мне говорили — пожар... Боже-боже! — Скворцова уставилась на кольцо почти с ужасом. — И эту вещь я хотела подарить своей внучке.
— Да, подарок не очень...
— Он уверял, что нашел его! — с отчаянием воскликнула женщина.
— Не признаваться же, что украл, — усмехнулся Демин. — Составим протокол. Кольцо придется пока изъять. Его судьбу решит суд. На этот случай я дам вам расписку. Скажите, Лина Тихоновна, вы уверены, что Дергачев продал вам это кольцо?
— Не понимаю...
— Возможно, у вас есть другие кольца, и когда вы собрались к нам, то случайно перепутали... Такое могло быть?
— Нет. Я купила именно это кольцо. Неужели Дергачев... Всегда такой вежливый... И поздоровается, и спросит о здоровье... До чего обманчиво внешнее... Как же ему удалось?
— Что удалось?
— Как я понимаю, он совершил кражу...
— Лина Тихоновна, пока мне ничего об этом не известно. Мы сейчас работаем, надеемся узнать. Скажите, у него еще были какие-то золотые вещи?
— Как вам сказать... Право же, затрудняюсь...
— Лина Тихоновна, давайте говорить откровенно. Если я спрашиваю, то не из любопытства или желания в чем-то уличить вас. Это нужно для дела, поймите.
— Ну что ж, скажу... Были у него кулоны, несколько кулонов...
— Знаки зодиака?
— Вот видите, вы все знаете и без меня! — обрадовалась Скворцова. — Были перстни с янтарем, с розовыми камнями, с опалом...
— Вы их узнаете?
Скворцова задумалась. И эта маленькая заминка многое сказала Демину. Сомневаться можно, если рассматривала камешки и колечки, если перебирала их и колебалась, на чем остановить выбор, что купить? Значит, торг с Дергачевым был достаточно продолжительным.
— Право же, затрудняюсь сказать твердо и...
— Прекрасно вас понимаю! — воскликнул Демин. — Речь идет не о том, чтобы среди десятка колец с янтарем узнать именно то, которое предлагал вам Дергачев. Достаточно будет, если среди разных колец, украшенных зелеными, синими, красными камнями, большими и малыми, вы укажете примерно такое же, какое предлагал Дергачев. Если вы скажете, что у того колечка тоже была ажурная решеточка, на ней был укреплен вот такой же глупый камень...
— Какой? — вскинула брови Скворцова.
— Простите, — смутился Демин, — это чисто личное. Мне розовый цвет почему-то кажется глуповатым.
— Знаете, это так и есть. Он всеядный, — доверчиво улыбнулась Скворцова. — Синий цвет пойдет не каждому, нужно определенное мужество, чтобы решиться надеть кольцо с синим камнем... Белый многим кажется простоватым, дешевым... А розовый годится всем, его охотно носят и пожилые и девушки, его можно подарить, ничем не рискуя.
— Значит, кольца и кулоны, которые показывал Дергачев, вы узнаете?
— Разумеется. — Скворцова уверенно повела плечом.
— Они все новые?
— Да. Это был основной их недостаток.
— Почему недостаток?
— В них нет культуры изготовления. И основная ценность этих вещей заключалась в сырье. А как произведения ювелирного искусства все они ничего собой не являли. Загляните в любую витрину, и вы увидите точно такие. Штамповка для массового потребителя.
— И тем не менее одну вещицу вы купили, — напомнил Демин.
— Цена подошла, — простодушно улыбнулась Скворцова.
10
На следующее утро Демин выехал в соседнюю область. Рожнов выделил на три дня машину, и он собирался в поездку как в небольшое путешествие.
Водитель был хмур и неразговорчив, он, видимо, к этой поездке относился иначе, во всяком случае, радости в его глазах Демин не увидел. Ну и ладно, подумал, на второй сотне километров разговоримся. Но все-таки не удержался, спросил:
— Что хмур-невесел? Что буйну голову повесил?
— А! — крякнул водитель и махнул рукой. — Скажи, Валя, почему так получается... Встречаешься с десятками людей, с кем-то ругаешься, с кем-то ссоришься, а самые обидные и злые слова всегда слышишь от близких людей, почему?
— Вы ошибаетесь, Владимир Григорьевич... Просто слова близких мы не можем пропускать мимо ушей, они цепляют нас не потому, что самые злые, а потому, что их произносят близкие люди.
— Нет, Валя, нет! Близкие знают твои болевые точки и, когда подворачивается случай, бьют не беспорядочно, как в очереди, бьют, хорошо зная, где тебе будет больнее всего, чем они смогут тебя унизить, зная, что тебе напомнить, во что тебя, дурака, мордой ткнуть. Ладно. Поехали.
И водитель действительно замолчал километров на сто. Глядя на заснеженные поля, на такие вымерзшие и несчастные деревья, глядя на дорогу, Демин попытался было еще раз продумать сложившееся положение, но вскоре оставил это занятие — не было новых данных.
— Что, Валя, вздыхаешь? — спросил водитель. — Завяз?
— Не то чтобы завяз... Но и выхода не видать.
— Может, слишком торопишься?
— А как же иначе, Владимир Григорьевич... Надо торопиться. Пока преступник в панике, пока он не очень соображает, пока везде видит опасность, везде вздрагивает...
— Думаешь, дрожит?
— Уверен. Видно, многое нарушилось в его планах, если он вынужден был уходить с таким скандалом, оставляя за собой гору людей... А упустишь время, он успокоится, следы растворятся, сотрутся временем...
— Чего для него проще — садись на самолет и дуй в теплые края... В Ялте весна, в Сочи уже загорают... Деньги, как я понимаю, у него есть... Надоест в одном месте, переезжай в другое, третье, а там, глядишь, и лето не за горами... «О, море в Гаграх, о, пальмы в Гаграх, — пропел водитель с улыбкой. — Кто побывал, тот не забудет никогда-а...»
— Если он поступит так, это будет большая ошибка с его стороны. Бегством он себя выдаст. Если он внезапно покинет свое место, он обратит на себя внимание, и ему придется всегда быть в бегах. Нет, его задача в другом — остаться и отвести от себя подозрение. Ему нельзя даже к родственникам в гости съездить... Что значит взять да и поехать? А работа? А прописка? А мнение соседей? А семейные отношения? А обоснования, объяснения, отпуск? Ведь у него, кроме всего прочего, должно быть законное основание тратить деньги. Вы даже не представляете, сколькими нитями человек привязан к своему месту, к людям, к обстоятельствам, а если уж говорить по-ученому — ко времени и к пространству. И обрывать эти связи нельзя. Если же у него сдадут нервы и он это сделает, он себя выдаст.
— А если он вообще беглый? — спросил водитель. — Приехал, сделал свое черное дело и отбыл восвояси, не обрывая никаких связей. И сидит себе где-то, приходит в себя, попивает коньячок, телевизор смотрит и придумывает всякие ответы на твои вопросы, если ты, конечно, на него выйдешь.
— Вот этого я боюсь больше всего, — признался Демин. — Ну, ничего, будем работать.
В городском управлении Демина уже поджидали. Тощий, с прямыми жесткими волосами начальник даже не улыбнулся при встрече. Вышел из-за стола, крепко пожал руку и снова вернулся па свое место.
— Что привело вас, Валентин Сергеевич, в наши края?
— Слышал, у вас интересные события происходят, — сказал Демин. — Универмаги грабят, золото уносят...
— Случается, — наконец улыбнулся начальник. — Но вы тоже не скучаете?
— Все недосуг, Александр Николаевич. — Рассказав о следствии, Демин положил на стол две золотые вещицы в целлофановых пакетиках. — Вот этот кулон найден при вскрытии, думаю, проглочен он при весьма драматичных обстоятельствах.
— Ого! — крякнул начальник. — Весело живете!
— А вот это колечко попало к нам в более спокойной обстановке. Принесла женщина, которая купила его у одного человека.
— А как оно попало к этому человеку? Он что-нибудь говорит, как-то объясняет?
— Нет, он ничего уже не скажет. Убит. Вечером того же дня, когда продал это кольцо. Есть основания полагать, что он продал еще с полдюжины таких же колечек... Их найти не удалось.
— Что вы хотите узнать?
— Не из вашего ли универмага эти колечки? Кто их там взял? И куда дел? И кто ему помог? И чем все это кончилось?
— Скромное желание, — рассмеялся начальник. — Значит, так вот, Георгий Петрович Шестаков, — он показал на низкорослого человека, который все это время скромно сидел в сторонке, — занимается универмагом. У него уже есть кое-какие успехи. Если не шутит, конечно. Верно, Жора?
— Сегодня берем, Александр Николаевич! — энергично воскликнул Шестаков. — Мгновенно!
— Желаю успеха, — с сомнением проговорил начальник. — Введите Демина в курс дела, познакомьте с обстоятельствами. Сверьте по вашему списку, не эти ли вещицы мы ищем. Пока все.
Универмаг представлял собой двухэтажное кирпичное здание со стеклянными дверями, окантованными металлом. Двор был огорожен деревянным забором.
— Все очень просто! — Шестаков шагал широко, несмотря на малый рост, жесты его были размашистыми и уверенными. Он старался идти чуть впереди, оглядываясь и давая пояснения. — Все очень просто! Универмаг они взяли с тыла. Смотри — над дверью небольшая узкая решетка. Что делают воры? Сковыривают решетку, она держалась на двух гвоздях, даже не на шурупах, а на гвоздях, представляешь? И проникают в подсобные помещения. Внутри висячие замочки величиной со спичечный коробок. Их назначение неизвестно. Пройдем?
— Вы в самом деле собираетесь сегодня задерживать кого-то по этому делу?
— Что значит кого-то?! — возмутился Шестаков. — Воров. Одного из двух.
— Их было двое?
— Условно считаем, что двое. А там, кто их знает... Один работал в перчатках, второй — без. Смысл этого новшества от меня ускользает. Что один работает в перчатках, а второй без, что оба без перчаток, значения не имеет. Следы оставлены. По этим следам мы его и установили. Сейчас он гостит, отдыхает, — Шестаков посмотрел на часы, — а примерно через час будет у себя. Тогда мы к нему и наведаемся. В порту он работает. Присоединяешься?
— Можно.
— Вот эта решетка. — Шестаков показал на решетку, прислоненную к стене универмага. — А дыра уже заделана. По этому коридору они прошли внутрь и оказались в торговом зале. Вот этот зал. — Шестаков распахнул дверь. — Вон там в углу расположен ювелирный отдел.
— Их интересовал именно этот отдел?
— Ха! — расхохотался Шестаков. — Их интересовали все отделы, понимаешь? Все. Среди похищенного — полторы сотни наручных часов, игральные карты, морской бинокль. Даже воротник от женского пальто пытались оторвать, да испортили, разорвали пополам. До чего дошли — футбол по телевизору здесь смотрели.
— Кто играл?
— Вот этого не знаю! — опять рассмеялся Шестаков. — Это мне ни к чему.
— Напрасно, — заметил Демин.
— Почему напрасно?
— Если в таком положении включают телевизор, чтобы взглянуть на матч... Это может оказаться интересным. А как ты узнал, что они смотрели телевизор?
— Очень просто! Утром приходят продавцы на работу, а на экране программа «Время». Смотри — не хочу. Телевизор они так и не выключили.
— Не играл ли в это время «Днепр»? — озадаченно проговорил Демин.
— А если играл?
— Тогда один из грабителей — наш.
— Ох, ты! — с восхищением покрутил головой Шестаков. — А мне и в голову не пришло. Ну, ничего, зато я в другом силен, на задержание иду. Оставил Бузыкин свои пальчики, оставил. Не иначе как пьян был! А ведь всего год назад оттуда вернулся. Неужели там ничему не научился — ума не приложу. Ведь за три года можно образование поправить?!
— Еще подучится, — заметил Демин. — Много золотишка взяли?
— Около пятидесяти предметов. По-моему, завысили. Соблазн больно велик. Одним махом на воров спихнуть десяток колец — как удержаться? Продавцы первыми пришли в магазин, увидели, что кто-то уж до них побывал...
— А разве не положено золото на ночь в сейф прятать?
— О! — Шестаков схватился руками за голову. — Если бы все мы делали что положено... Не спрятали. Объяснений нет. — Он подошел к самой витрине и продолжал так, чтобы слышала девушка за прилавком. — Лень им, видите ли, в сейф золото прятать. Это ведь надо все в коробочку сложить, отнести вон в тот угол, открыть сейф, закрыть... А там ухажер уже об витринное стекло свою физиономию расплющил. Верно, Люба? — спросил он у продавца.
— Вам виднее, — холодно ответила девушка.
— Люба, — подошел Демин, — вас можно на минуточку отвлечь? Посмотрите сюда. — Он положил на стекло кольцо и кулон. — Среди пропавших изделий не было таких?
Девушка склонилась, осторожно потрогала длинным ноготком изделия.
— Знаете, кажется, были...
— А может быть, это они и есть?
— Трудно сказать... Они все одинаковые... Хотя... — Она задумалась, замолчала.
— Хотя? — напомнил ей Демин.
— От пропавших вещей остались документы... И там указан точный вес кольца, кулона, перстня... Если это колечко взвесить и сопоставить, то, возможно, найдется именно этот вес, цена... Ну и так далее.
— Люба, вы знаете, что вам цены нету?
— Конечно, знаю, — улыбнулась девушка. — Только мне редко напоминают об этом... Так редко, что иногда и забываешь.
— Ох, Люба! Я готов напоминать вам об этом каждый день! — воскликнул Демин.
— Не возражаю, — сказала девушка, твердо глядя Демину в глаза. И только тогда он понял, что далековато зашел в обмене шуточками, что пора возвращаться на грешную землю.
— Ох, Люба! — непритворно вздохнул Демин.
— Вот то-то и оно! Осторожней со словами, товарищи следователи.
— А ты, дорогуша, с золотишком поосторожней! — пошутил Шестаков. — Бойкая девица! — сказал он, выходя из универмага.
— Да, — согласился Демин. — Хорошая девушка.
Шестаков внимательно посмотрел на Демина, хотел что-то еще сказать, но промолчал. И всю дорогу, пока они ехали в управление, он рассказывал лишь о проведенной работе.
— Представляешь, что отмочили эти воры! Свалились в решетку и оказались на складе обуви, у них там в коридоре стоят ящики с туфлями, ботинками и так далее. Начали с того, что переобулись. И наша собака опростоволосилась — ушли в новых туфлях.
— Переобулись? А куда они дели старую свою обувку?
— Прямо в универмаге и бросили.
— Вы приобщили эту обувь к
делу?
— А как же? Конечно! Мгновенно!
— Какой размер обуви? — спросил Демин и почувствовал, что волнуется.
— А черт ее знает!
— Ну, приблизительно... Тридцать пять, сорок, сорок пять...
— Одна пара около того будет, это точно. Если и не сорок пять, то сорок три наверняка.
— Длинного ищу, Жора. Ищу длинного, волосатого, красивого...
— У вас и портрет разработан?
— Ищем молодого человека с изящными усиками, волосы по плечам, пользуется успехом у девушек, может говорить с ними весьма прямо, причем ему нужно от них совсем немного...
— Другими словами — все? — уточнил Шестаков.
— Да, можно сказать и так.
— Одет?
— Как в лучших домах! Джинсы, черная куртка. Улыбчивый. Но это качество не от душевного здоровья, а от сознания собственного превосходства. А как вышли на Бузыкина?
— О! Все очень просто! Отпечатки. Он наследил как... Как я не знаю кто. Снимаем отпечатки, отсылаем куда надо, запрашиваем, нет ли такого товарища на учете. Отвечают: как же нету, есть — Бузыкин Степан Васильевич. Мы в свои архивы — есть Бузыкин. Более того, прописан, все честь по чести. Работает на барже мотористом. Мы в порт. Есть такая баржа? Есть. Где она? Вон она, говорят нам, на ремонте. Профилактический ремонт перед летней навигацией. А Бузыкин на ней работает? А как же, говорят нам, лучше всех работает. Весь в краске. Как бы нам его повидать? — это я спрашиваю. Нет ничего проще, отвечают. Вечером придет из отгула — видайтесь с ним сколько хотите.
— А живет он где? — спросил Демин.
— На барже и живет. В кубрике. Койка у него там, ключ, все как у порядочных.
— Обыск делали?
— Не стали. Хотелось, ох, хотелось, но не стали. Боялись вспугнуть. Вдруг он сидит где-нибудь на берегу да в бинокль, который в универмаге спер, наблюдает за баржей. Чего не бывает! Прикинули — строений вокруг до черта, есть где спрятаться, понаблюдать.
— Как же он про отпечатки не подумал?
— Знаешь, Валя, этот Степа Бузыкин вообще думать не любит, да это у него, откровенно говоря, не очень и получается.
Машина въехала во двор управления, и Демин с Шестаковым сразу же направились в лабораторию. Тщательно взвесив кольцо и кулон, они прошли в кабинет. Достав из сейфа увесистый том уголовного дела, Шестаков быстро, едва ли не одним движением руки, открыл его в нужном месте. К отдельному листу бумаги был приклеен конверт с описью пропавших золотых вещей. Оба принялись сличать указанные веса с только что полученными результатами взвешивания.
— Есть! — закричал Шестаков. — Смотри! До десятой доли грамма!
— А вот еще одно совпадение, — проговорил Демин. — До последней цифры. О чем это говорит?
— О том, что ваше золотишко сперли в нашем универмаге! — расхохотался Шестаков. — Придется вернуть, а, Валентин Сергеевич?
— Вернем. Мы у вас за это золото Бузыкина выкупим. Да, если не возражаешь, я бы хотел с начальством связаться... А?
— Ради бога! — воскликнул Шестаков, придвигая телефон.
Демин не мог не улыбнуться умению Шестакова все свои чувства выражать возгласами. В конце каждого его замечания, слова, ответа можно было смело ставить восклицательный знак. При этом маленькие черные глазки Шестакова оставались серьезными и даже печальными. Это впечатление усиливал крупноватый, сдвинутый набок нос. Шестаков носил жилетку, правда, от другого костюма, яркий галстук завязывал таким громадным узлом, что он подпирал подбородок. Туфли у него были на высоких каблуках, шаги он делал неестественно большими, видно, из желания казаться внушительным. Да и говорил Шестаков не совсем своим голосом, старался сделать его солиднее, громче. Свои проблемы, подумал Демин, набирая номер телефона Рожнова, свои проблемы.
— Иван Константинович? Демин беспокоит. Как вы там без меня?
— Тяжело, Валя, но перебиваемся. Даже кое-какие достижения имеем. Борисихин вот покаяние написал.
— Борисихин?! — не смог сдержать возгласа Демин. — И в больнице он был?
— Был. Признался. И Жигунова он ахнул по темечку.
— Так... А кто остальных? Тоже он?
— Нет. Берет на себя только старика.
— А старик-то жив?
— Более того, пошел на поправку. Говорить не может, но глазками моргает.
— Охрану не сняли?
— Обижаешь, Валя, — укоризненно протянул Рожнов. — Как можно! А что у тебя?
— Золото здешнее, Иван Константинович. Конечно, возможны огорчительные неожиданности, но нашли подходы и к колечку Скворцовой, и к кулончику Дергачевой... А что Мамедов?
— Настаивает на первоначальных показаниях.
— Жигунов не вспомнил, где ночку провел?
— Вспомнил. Но не скажу, говорит. Мне, говорит, выгоднее промолчать. Такой вот странный товарищ.
— Ладно, приеду, разберемся. Запишите... Бузыкин Степан Васильевич... Не появлялся ли он в наших краях? Предположительно — один из участников кражи в универмаге. Пока все. Завтра позвоню. — Демин положил трубку.
— Хорошие новости? — спросил Шестаков.
— А бог их знает, какие они... Жизнь покажет.
Надо же, подумал Демин, каждый день совершаем десятки поступков, встречаемся с людьми, высказываем догадки, возмущение, восторги, и все это проходит и проходит мимо. Но стоит произойти чрезвычайному событию, и в любом из наших поступков можно увидеть нечто необъяснимое, загадочное, в каждом слове нетрудно уловить второй смысл, наши отношения с близкими для постороннего человека уже не кажутся простыми и ясными, в них обнаруживается недоговоренность, ощущается стремление что-то скрыть, утаить, а то и предстать в ином свете. И делаем мы это без злого умысла, без корыстных намерений, потому что попросту невозможно всем и всегда говорить правду — это настолько усложнило бы, обострило наши отношения, что мы попросту перестали бы понимать друг друга. А когда не происходит ничего из ряда вон, самые странные поступки и слова кажутся естественными и жизнь течет своим чередом. Что же получается — преступление переоценивает человека, его личность, характер? А допустимо ли пересматривать суть человека на основе чего-то случайного? Нет, конечно, но, с другой стороны, именно чрезвычайное и срывает обыденные маски, к которым все настолько привыкают, что саму маску считают истинным лицом человека...
Зазвонил телефон, и Шестаков быстро поднял трубку, хотя дотянуться до нее ему было куда труднее, нежели Демину.
— Да! Шестаков! Слушаю! Понял! Выезжаем! Пока! Бузыкин на барже! — повернулся он к Демину. — Едем?
— Куда деваться — надо.
Машина с оперативной группой была уже наготове, и через несколько минут Демин смотрел сквозь ветровое стекло на синие весенние сумерки, на вечерние огни города, на прохожих. К вечеру опять подморозило, время от времени под колесами слышался звонкий хруст тонкого ледка. Постепенно улицы становились темнее, фонарей поубавилось, и вот уже впереди над крышами на фоне закатного неба показались черные прочерки портовых кранов. Они были неподвижны, и только слабая лампочка на каждой стреле словно предупреждала, что остановка временная, что скоро опять начнется летняя страда, опять здесь будут толпиться баржи, катера, теплоходы.
Из машины вышли у ворот порта.
— Баржа у четвертого причала, — предупредил Шестаков. — С берега проложена доска с перекладинами. Наш человек уже там, в случае чего подскажет.
Доска оказалась на месте, никто с нее не свалился в холодную мартовскую воду, и через несколько минут на барже было уже человек пять. Шестаков дал знак следовать за ним и уверенно пошел вдоль борта. Приблизившись к одному из иллюминаторов, он приложил палец к губам, заговорщицки подмигнул — здесь, мол. Демин осторожно заглянул в каюту. Но ничего не увидел, видимо, хозяин сидел у стены. Только слабый свет электрической лампочки, закрытой стеклянным колпаком, просачивался сквозь иллюминатор. Увидев, что все, в сборе, Шестаков решительно толкнул дверь. Но она оказалась запертой. Тогда он громко постучал.
— Кто? — раздался голос из-за металлической двери.
— Свои, Степа, открывай! — Шестаков подмигнул Демину: «Вот какие мы тут находчивые!»
В каюте, чувствовалось, помедлили, видимо, человек не знал, как ему быть. Наконец дверь открылась. Несколько оперативников тут же вбежали в каюту, оттеснили невысокого плотного парня к стенке, убедившись, что оружия при нем нет, усадили на лавку. Единственное, что Демин смог прочитать на его лице, было любопытство. Как ей вглядывался в пухловатое лицо, не нашел он даже признаков беспокойства, возмущения, испуга. Или он действительно слегка туповат, подумал Демин, или же его самообладание не в пример нашему...
Оперативники тем временем далеко под лежаком нашли объемистый портфель. Когда Шестаков начал открывать его, по лицу Бузыкина пробежала не то виноватая, не то шалая улыбка. Ну, дескать, держитесь, сейчас вы такое увидите...
Шестаков, торопясь, пощелкал замками, откинул ремни, раскрыл портфель. И словно окаменел. Он без выражения смотрел то на Бузыкина, то внутрь портфеля. Подойдя, Демин заглянул и не смог сдержать возгласа удивления — портфель до половины был наполнен часами. Разных форм, расцветок и систем, они были ссыпаны в портфель и сверкали в слабом свете лампочки, создавая ощущение нереальности происходящего.
— Твой портфель? — сурово обернулся Шестаков к Бузыкину.
— Даже не знаю, что и сказать. — Бузыкин, кажется, всерьез задумался, что бы ответить низкорослому следователю на высоких каблуках. — Если скажу, что впервые вижу этот портфель, — начал он рассуждать вслух, — вы мне не поверите. Это ясно... Еще и смеяться начнете... С другой стороны, вроде и грех без единого слова отказываться от портфеля, от его содержимого... Второго такого не будет.
— Значит, ты знаешь, что там лежит! — радостно воскликнул Шестаков.
— Этого я не сказал, — улыбнулся Бузыкин. — Я только сказал, что жаль отказываться от портфеля, не зная даже, что там лежит.
— Кто еще живет в этой каюте? — круто повернулся Шестаков к капитану.
— Бузыкин живет... Больше никто.
— Вот этот вопрос уже ничего, получше первого, — заметил Бузыкин. — Но что касается портфеля, я еще не решил.
— Ну, тогда можешь подумать до утра! — жестко сказал Шестаков, не простивший Бузыкину иронии.
Увидев на стене футляр от бинокля, Демин взял его, раскрыл. Заглянул внутрь. В кармашках для светофильтров лежали два золотых колечка. Демин положил колечки на стол. Бузыкин взглянул на них довольно равнодушно.
— Хороший бинокль, — сказал он, глядя на внушительное черное сооружение с фиолетово поблескивающими просветленными линзами. — Мечта детства, можно сказать, — вздохнул Бузыкин с таким надрывом, что трудно было усомниться в его искренности. — Многие годы мечтал плыть на корабле, — он обвел взглядом каюту, — смотреть в бинокль на берега, махать рукой девушкам, которые стоят на берегу и провожают тебя грустными взглядами. А ты уже смотришь на колхозное стадо, на кирпичный заводик, на рыбаков... Обвалилась мечта, обрушилась. И только пыль на том месте, где стояло сверкающее голубое здание...
— Между прочим, бинокль числится среди похищенных вещей, — заметил Шестаков. — Как ты это объясняешь?
— Если числится, — рассудительно заметил Бузыкин, — значит, пропал. А скоро навигация... Эта старушка, — он похлопал по стенке каюты, — тихо заскользит по вечерней реке, и дорожка от красного солнца будет сверкать за кормой, и никто не остановится у перил с биноклем в руке, и девушки на берегу не помашут. Не будут они радостно смущаться под взглядом этих больших фиолетовых глаз. — Бузыкин смотрел в иллюминатор, и казалось, его совершенно не интересуют набившиеся в каюту люди, казалось, он сидит и горестно разговаривает сам с собой.
— Откуда эти кольца? — спросил Шестаков.
— Кольца? — удивился Бузыкин. — Вон что вас волнует... Возьмите их себе. Подумаешь, кольца... Бинокля жалко! А можно было смотреть вперед и видеть далеко-далеко. И первый бакен, и второй... И встречную баржу я бы узнал задолго до того, как поравнялись бы бортами... Стоишь на носу, ветер треплет волосы, на тебе замызганные штаны, а плечи, грудь голые, залиты солнцем, зной струится по всему телу, и в руках у тебя эта глазастая штуковина, и ты видишь вперед на тыщи километров...
Демин подошел к Бузыкину, сел рядом, подождал, пока тот замолчит.
— Невеселая история, — заметил он сочувствующе. — Но как знать, кое-что может вернуться...
— Да? — Бузыкин с интересом посмотрел Демину в глаза. — Нет, все опять становится мечтой, как и двадцать лет назад. Вот что обидно.
— Скажите, Бузыкин, а как получилось, что вы так наследили в универмаге? Отпечатки ваших пальцев, ну, на каждом шагу...
— Оплошал, — сказал Бузыкин. — Оплошал. Он говорит мне: какой смысл надевать перчатки, если весь универмаг залапан покупателями. Я и поверил.
— А сам-то он работал в перчатках, — заметил Демин.
— Да, я уж потом увидел. Спрашиваю: чего перчатки не снимаешь, если уж здесь все так залапано... А он говорит, что стекло, дескать, порезаться можно... И опять я ему поверил. Простоват. — Бузыкин виновато развел руками. — Сейчас все понимаю, а когда на деле — волнуюсь. В душе ведь я честный человек, может быть, вам смешно покажется, но я очень хороший работник... Скажи, Михалыч, хороший я работник?
— Неплохой, — кивнул капитан.
— А ботиночки неплохие. — Демин показал взглядом на ноги Бузыкина. — Сколько отдали?
— Не помню, на руках брал... — Бузыкин спрятал ноги под лежак, но тут же опять выставил ботинки на свет.
— Похоже, финские? — спросил Демин.
— Кто их знает... Носились бы хорошо, а там пусть хоть мандриковские.
— В универмаге точно такие пропали, — сказал Шестаков.
— Ну что это доказывает, опровергает, кого в чем уличает?
— Остановитесь, Бузыкин. — Демин похлопал парня по массивной коленке. — Эти ботиночки продавцы припрятали. Не пустили в продажу. Нарушили закон. А накладные и прочая документация остались. Понимаете?
— Что, и здесь влип? — обиженно спросил Бузыкин.
— Похоже на то, парень, — кивнул Демин. — Похоже на то.
— Вот непруха пошла! — искренне воскликнул Бузыкин. — Даже на чужих преступлениях летишь! Надо же, а я гвоздь в стену вбил, хороший гвоздь выбрал, все по каюте ходил, место подыскивал, где бы это, думаю, бинокль повесить? И почему, вы полагаете, я повесил его именно здесь? О, расчет правильный... Плывешь мимо зеленых берегов, мимо золотых пляжей, на которых девушки загорают и руками машут, а ты, к примеру, у борта стоишь, и возникло в тебе желание с девушкой познакомиться... Протягиваешь руку в иллюминатор, снимаешь бинокль с гвоздя, а он новенький, кожей от футляра пахнет, на солнце синими искрами играет...
— А ведь в самом деле неплохо! — воскликнул Демин. — Самому захотелось на этой посудине в плаванье пойти!
— Точно? — обрадовался Бузыкин. — Берите бинокль! Не жалко.
— Я бы взял, да вот товарищ не позволит. — Демин кивнул на Шестакова. — Для него этот бинокль — важное вещественное доказательство.
— Так осквернить вещь? — горько воскликнул Бузыкин. — Бинокль обозвать таким словом! Вещдок! Ужас!
— Скажите, Бузыкин, а как зовут приятеля, о котором вы рассказывали?
— Какого приятеля?
— Ну, который уговорил вас без перчаток работать.
— А-а... Мне приятно, конечно, что вы прониклись моей мечтой заветной, но назвать его не могу. Он со мной поступил нехорошо, но это наше дело, наши расчеты. А вот так запросто взять да выложить.., Нет. Совесть не позволяет.
— А в универмаг лезть тебе позволяет совесть?! — гневно воскликнул Шестаков, нависнув над Бузыкиным небольшим своим телом.
— Позволяет, — кивнул Бузыкин. — Очень даже позволяет.
— Жаль, — сказал Демин. — Приятель ваш человека убил. И не одного. Так что вторая статья появляется... Укрывательство. И мечта ваша голубая отодвигается на неопределенное время. Такие дела, старик.
— Точно ухлопал? — спросил Бузыкин серьезно.
— Потому я и здесь. Ведь я из соседней области... Приятель оттуда?
— Да, он нездешний, — осторожно сказал Бузыкин. — Я подумаю, ладно?
— Подумайте, конечно, — сказал Демин. — Только недолго. Пока он еще кого-нибудь на тот свет не отправил. Нервный он какой-то, ваш приятель, сдержаться не может... Вас вот продал, видно, знал, что согласитесь за него отсиживать.
— Да не надо меня уговаривать! — махнул рукой Бузыкин. — Я должен сам все обдумать, принять решение в спокойной обстановке, чтобы не ссылаться потом на горячность, поспешность... Да и вам важнее, чтобы решение мое было искренним, а не случайным. Правильно?
— А ну-ка встань! — подошел к нему Шестаков. — Обыск мы закончили, но за малым исключением. — Шестаков извлек из карманов Бузыкина пачку денег, папиросы, авторучку, замусоленный блокнотик и большой перочинный нож.
Наибольший интерес представляла, конечно, записная книжечка, но разобраться в наползающих друг на друга записях, в фамилиях, поверх которых были написаны телефоны, было непросто, и Демин решил отложить это до более удобного случая.
— Ну, скажу, кто он, этот мой сообщник, — снова начал рассуждать вслух Бузыкин. Шестаков хотел было прервать и уже на цыпочки встал, чтобы сказать что-то резкое и значительное, но Демин успел его остановить. — Скажу, заработаю себе пару очков, однако судья все равно даст мне сколько положено, и единственное, что я заработаю, так это ее материнскую улыбку, когда она будет отправлять меня в те самые места. Одобрение общественности тоже на моей стороне, но суть... Суть останется прежней. Ну, заложу я Серегу, — Демин и Шестаков быстро переглянулись, — заложу, расплачусь с ним, и что же — уподоблюсь ему? Не хочется. Совесть не позволяет. Назови я его, а они потом очную ставку... А как мне Сереге в глаза посмотреть?
— От очной ставки можете отказаться, — быстро вставил Демин.
Все дальнейшее произошло в две-три секунды. Усыпив настороженность оперативников неторопливыми словами, расслабленной позой, ленивыми, замедленными движениями, Бузыкин вдруг резко прыгнул к двери, оттолкнув понятых, выскочил на палубу, захлопнул дверь и чем-то подпер ее снаружи. Все оказались запертыми. Было слышно, как он пробежал по гулкой металлической палубе к перекидной доске, как спрыгнул на берег, но тут же шаги снова зачастили по доске.
— Он думал, на дураков напал, — удовлетворенно проговорил Шестаков. — Я же оставил двух ребят на берегу. Куда ему деваться... В мартовскую воду не прыгнешь — без подготовки больше минуты не продержаться.
Капитан подошел к иллюминатору, покрутил какие-то винтики и распахнул его. Но выбраться на палубу никто не успел. В иллюминаторе показалась улыбающаяся физиономия Бузыкина. Он некоторое время молча рассматривал оставшихся в каюте, и улыбка его становилась все шире и радостней.
— Ну что, курепчики? Попались? Бдительность у вас хромает, товарищи следователи, вынужден буду доложить начальству. — Встретившись взглядом с Деминым, он вежливо поманил его пальцем.
— Еще пришибет чем-нибудь! — предупредил Шестаков.
Но Демин все-таки подошел. Бузыкин дал знак, чтобы тот наклонил голову, и прошептал на ухо:
— Нефедов. Только я ничего не говорил. — И уже громко добавил: — Пойду выпущу вас. А то еще попытку к бегству пришьете.
У двери послышался грохот отодвигаемого ящика, и дверь открылась. Бузыкин вошел, стараясь держаться на расстоянии от оперативников, от Шестакова, только мимо Демина прошел без опаски, оставив его за спиной. Снова сел на лежак.
— А то смотрю, уже кое-кто засыпать начал... Дай, думаю, распотешу.
В дверь заглянул запыхавшийся оперативник, оставленный Шестаковым на берегу.
— А-а, — протянул он, увидев Бузыкина. — Вернулся... Ну и слава богу. Я пойду? — спросил он у Шестакова.
— Да, все остается по-прежнему. А то он еще вплавь решится к берегу добираться... Парнишка с юмором, как видишь.
Демин присел к столику и начал перелистывать рассыпающуюся записную книжку Бузыкина. Найдя страницу, помеченную буквой «н», он увидел адрес, а ниже два слова: «Нефедов Сергей». Посмотрел на Бузыкина. Тот еле заметно кивнул, дескать, все правильно, это он и есть.
— Ну что, подъем? — спросил Шестаков.
— Да, ночевать вам здесь тесновато будет, — ответил Бузыкин, поднимаясь.
11
Почти всю ночь Демин провел в машине. Дневная оттепель, мокрый снег сменились привычным ночным заморозком, дорога покрылась коркой льда, и водитель ехал не быстрее сорока километров в час, останавливался, чертыхался, стараясь не разбудить подремывающего пассажира.
Перед самым городом Демин проснулся. В свете встречного света дорога сверкала льдистым покрытием, в ней отражались фары машин, огни далекого города. Почувствовав, что Демин на заднем сиденье уже не спит, шофер вздохнул с облегчением — видно, тягостно было в одиночку вести машину.
— Что, Валя, отдохнул?
— Скорее в себя пришел.
— Ничего, образуется. Лишь бы домой добраться. Как раз к началу рабочего дня поспеваем... Если не перевернемся, конечно. Куда поедем?
— К Рожнову. Надеюсь, стерпит он мою суточную щетину. Опять же усталый вид подчиненного заставляет таять сердце начальника, верно, Владимир Григорьевич?
— Судя по обстоятельствам дела, — усмехнулся водитель.
Когда въехали в город, было уже светло, и первые прохожие осторожно шли по обледенелым тротуарам, кое-где дворники посыпали дорожки песком. Весенний туман пропитывал улицы, наполнял ветви деревьев, обещал оттепель.
— А все-таки остановите, — тронул Демин плечо водителя, когда они проезжали мимо парикмахерской.
— Во! — злорадно протянул водитель. — Побаиваешься начальства.
— Не о нем думаю, о себе!
Когда Демин минут через двадцать вернулся, водитель крепко спал, склонив голову на руль. Но едва хлопнула дверца, он поднял голову и легонько тронул машину с места. Глянув на Демина в зеркало, удовлетворенно кивнул.
Рожнов слушал не перебивая, откинувшись на спинку стула и прикрыв глаза.
— Одно меня настораживает, — сказал Демин, — не пытается ли Бузыкин пустить нас по ложному следу?
— Нет, он сказал правду. На Нефедова мы вышли и без тебя. По твоим наводкам, но без тебя. Ты давал задание навести справки о прежнем месте жительства Дергачева?
— Да, я хотел узнать, где он жил до того, как поселился у Жигунова. Там могли остаться хорошие следы.
— На, прочти. Это рапорт Пичугина.
Демин взял несколько листков, исписанных мелким корявым почерком. Из рапорта следовало, что, когда оперативник пришел на квартиру, где раньше снимал комнату Дергачев, хозяин рассказал, что несколько дней назад к нему зашел высокий молодой человек — хотел видеть Дергачева. Узнав, что тот переселился, молодой человек в «чрезвычайном огорчении», как выразился Пичугин, ушел.
— Кто этот хозяин, который сдавал комнату Дергачеву?
— Некий Мисюк. Он вызван сегодня к десяти, и ты сможешь поговорить с ним подробнее. Мы навели справки. Вполне добропорядочный, несколько, правда, унылый человек. Но унылость уголовно ненаказуема.
— Если учесть, что Дергачев прожил у Жигунова около полугода, — медленно проговорил Демин, — следовательно, долговязый все это время не видел Дергачева, не получал от него писем и поздравлений и сам ему не писал, значит, был в отъезде или же он чужак.
— Он наш, — невозмутимо сказал Рожнов. — Мисюк его знает. Он раньше частенько захаживал к Дергачеву.
— Значит, ищем Нефедова?
— Да. Ищем Нефедова. Могу сообщить — он уехал из города почти год назад. С выпиской и прочими формальностями. Выехал якобы в Архангельск. Но там такового не числится.
— Ого! Вы тут поработали! — Это было несложно.
— У Бузыкина в записной книжке указана улица Пржевальского...
— Правильно. Там сейчас живет его мать, отец, брат... Вчера вечером провели обыск. Пусто. Сегодня на одиннадцать вызвана мать Нефедова. Отец в командировке. Будет дней через десять. Проверили — он действительно в командировке.
— Значит, Нефедова ищем, — повторил Демин медленно. — Высокого, молодого, красивого Нефедова. Портреты есть?
— Сколько угодно! — Рожнов бросил через стол конверт.
Демин вынул несколько снимков. На него смотрел молодой парень, которого красивым можно было назвать лишь с большой натяжкой. Сдвинутые к переносице темные густые брови придавали лицу несколько угрюмое выражение. На другом снимке Нефедов улыбался — у него были ровные белые зубы, но улыбка опять же была не радостная, он словно смеялся над кем-то, видел чью-то оплошность. Еще снимок — Нефедов, судя по всему, с друзьями, выше всех чуть ли не на голову.
— Его приятелей мать знает, дала адреса, — заметил Рожнов. — Поколебалась, правда, но дала. Этакая... женщина с прошлым.
— В каком смысле, Иван Константинович?
— В том смысле, что этот ее образ жизни — не первый, не единственный. В прошлом что-то у нее было... Может быть, семья другая, муж другой, увлечения, слабости, достоинства другие... Сам посмотришь. Да, работает она в домоуправлении, занимается пропиской, выпиской и так далее.
— А Нефедов прописан где-то?
— Об этом ты мне расскажешь, когда потолкуешь с его мамой. И еще одно — в инспекции по делам несовершеннолетних работает инспектор Потапов. Ты поговори с ним, он хорошо знает Нефедова, не один год занимался им...
— Вы говорили, Борисихин повинился?
— Там что-то странное... Он берет на себя старика. Так и говорит — старик на моей совести. Остальных не трогал. А в больницу ходил, чтобы узнать о старике, о его здоровье. Отложи пока Борисихина. Подождет, никуда не денется. Отработай Нефедову.
— Значит, все еще трое подозреваются?
— Трое, — кивнул Рожнов. — Не думаю, что все виновны, но пока у них есть свои маленькие секреты. Этот Нефедов, оказывается, заработал пятнадцать суток... Потапов тебе расскажет. У Мамедова, прости меня, штанишки в крови, Жигунов никак не вспомнит, где ночь провел, а Борисихин вообще решил малой кровью отделаться — старика, дескать, маленько зашиб...
Сначала Демин созвонился с Потаповым. Тот пришел через пятнадцать минут. «Совсем парнишка, — подумал Демин. — Весь еще в возвышенных представлениях о работе в милиции, наверно, сами слова эти — «уголовный розыск», «следствие» — будоражат его и любое задание кажется решающим.
— Садись, Толя, рассказывай! — начал Демин. — Говорят, ты большой специалист по Нефедову.
— Неужели он на пожаре отметился? А, Валентин Сергеевич?
— Похоже на то, что он и золотишко взял в универмаге у соседей. Я только сегодня оттуда.
— Надо же, какой рост, какой рост!
— Да, говорят, он высокий парень.
— Нет, я не о том... Я занимался с ним несколько лет, когда он еще был шаловливым мальчиком, шутником, знаете... Есть этакие отчаянные озорники, которые уверены в каких-то своих правах на особую жизнь, на особое к себе отношение. Больше им, видите ли, положено, больше позволено. И отстаивают они эти свои права всеми силами. А какие у них силы? — Потапов пожал плечами, изобразив на лице полнейшее недоумение. — Хамство, вот и все. Но уж если он почувствует себя уязвленным... О! Гневу нет предела. Особенно если есть рядом люди, способные оценить его силу, отвагу, мужество... Большой любитель работать на публику.
Нефедовым я занимался, пока он не достиг совершеннолетия. Он, конечно, не дурак. Все возвышенные понятия, которыми его пытались пронять учителя, он мог излагать куда складнее их. Он смеялся над ними. И надо мной смеялся. Поначалу. Потом возненавидел. Люто! И не скрывал. На каждом углу кричал. По-моему, он даже гордился тем, что так меня ненавидел.
— Чем же ты заслужил?
— Заслужил, — кивнул Потапов. — Секрет прост. Я его понял. Раскусил. Я доказал ему, что, кроме показухи, за душой у него ничего нет. Пусто. Кто же такое простит?
— А в чем заключались его шалости?
— О! — воскликнул Потапов. — Выбор очень разнообразный, хотя с таким же успехом я могу сказать, что он на удивление ограничен. Они жили на окраине города. Это многое определяло. Сорванные замки на чужих дачах, загнанные лошади соседнего колхоза, украденный мотоцикл... Покатался и бросил. Причем не просто оставил на дороге, нет, в речку столкнул... И попадался. Все время попадался.
Я понимал, что на моем участке Нефедов — главный возмутитель спокойствия, и офлажковал его. Можно сказать иначе — окружил заботой и вниманием. Но настолько плотно окружил, что он шагу ступить не мог, чтоб я об этом не знал. Приглашал его к себе и докладывал ему о его же проделках. Доказывал, что никакой он не... В общем, доказывал, что он есть самый обыкновенный хулиган, к тому же незадачливый. Он ни на минуту не забывал, какой он красавец. Впрочем, и девушки не давали ему об этом забыть. Знаете, в определенном возрасте красота воспринимается как ум, значительность, она заменяет все. Да что там красота! Штаны могут все заменить. Синие штаны с этикеткой. Достаточно их надеть, чтобы сразу стать и красивым и умным!
— Вы давно с ним расстались?
— Года два-три... По возрасту он вышел. А с год назад уехал срочно после одной истории. Перед самым Новым годом в вытрезвитель попал приятель Нефедова. Что тут делать? Можно было бы выпить за скорейшее освобождение друга или в знак солидарности самому набраться и прийти в вытрезвитель собственным ходом. Во всяком случае, цель будет достигнута — Новый год встретишь с лучшим другом. Но не из тех был Нефедов. Собрал он несколько девиц, ахнули они по стакану для поддержания ратного духа и двинулись на городской вытрезвитель.
И вот долговязый Нефедов, повизгивающие девицы, принимая угрожающие позы, в свете уличных фонарей, под мирно падающим снегом приближаются к заветной двери. Но с каждым шагом уверенности у них все меньше, и те дикие пляски, которыми они пытались подбодрить себя, тоже поутихли...
— Чем же кончилось?
— А кончилось тем, что даже рассказывать совестно. Вытрезвитель располагался в маленьком деревянном домике с крылечком и почти без перестроек был приспособлен к новым надобностям. Так вот, отчаянные освободители в полнейшем восторге от собственной отваги разбили стекла, подперли входную дверь подвернувшейся палкой и растворились в ночной темноте.
Сдвинув брови, Нефедов смотрел с портрета требовательно и презрительно.
«Ну что скажешь, Нефедов? — мысленно спросил Демин, вглядываясь в фотографию. — Пора тебе заговорить, молодой человек, пора».
«А что бы вы хотели от меня услышать?»
«Я бы хотел узнать, как кончился для тебя развеселый вечер у Жигунова».
«А вы уверены, что я там был?»
«Разумный вопрос... Спасибо».
Мамедов, Бориоихин и Жигунов поочередно среди полдюжины фотографий уверенно опознали Нефедова, как человека, который приходил к Дергачеву.
«Ну вот, Нефедов, — удовлетворенно проговорил Демин. — А ты спрашиваешь, уверен ли я, не уверен ли я... Уверен. Протоколы опознаний — это уже юридические доказательства».
«А вы уверены, что я был в универмаге?»
«Разберемся с универмагом. Шестаков поможет. Он товарищ цепкий, сумеет разговорить Бузыкина, сумеет найти с ним общий язык. А пока я поговорю с Мисюком».
— Прошу вас, товарищ Мисюк! — громко сказал Демин, распахнув дверь в коридор.
В кабинет вошел толстый коротковатый человек, одетый во все тесноватое, из чего Демин заключил, что поправился Мисюк совсем недавно, не успел еще сменить одежду. Отчего можно потолстеть так быстро? Болезнь? Нет, глаза возбужденно блестят, ему интересно участвовать в следствии, поскольку вины за собой никакой не чувствует. Изменение семейных обстоятельств? Нет, обычно и свадьба, и развод на какое-то время заставляют человека худеть. Скорее продвижение по службе...
— Давно поменяли работу? — спросил Демин.
— Да не то чтобы поменял... Перевели...
— Повышение?
— Да, можно и так сказать... Уже больше года.
— Спокойней стало?
— Не сравнить! — засмеялся Мисюк. — Ни тебе нервотрепки, ни беготни...
— Понятно. Подойдите к столу. Вот несколько портретов. Посмотрите, нет ли здесь человека, которого вы знаете, видели, встречали?
— Как же нету, вот он! — короткий палец Мисюка твердо уперся прямо в переносицу Нефедова.
— Где вы его видели? — задал Демин вопрос для протокола.
— Приходит, главное, около недели назад, ведет себя по-хамски, спрашивает...
— Это как — по-хамски?
— Слушай, говорит... И... нехорошее слово сказал. Кочерыжкой обозвал. — Мисюк склонил голову набок и пристально посмотрел Демину в глаза — осознал ли тот оскорбительность этого слова. — Дергачев, говорит, нужен. А тот уж год как съехал. Вернее, я его съехал. Он несколько раз возвращался за вещами, потолковали, то-се, так узнал его новый адрес. На частный дом, говорит, съехал, к старику одному. И фамилию сказал — Жигунов. Я все это длинному выложил. Не стал таить, чтобы... Чтобы не связываться.
Произнести такое количество слов для Мисюка было нелегким делом — он вынул большой свежий платок, видимо, специально прихваченный для напряженной беседы со следователем, вытер лоб и преданно посмотрел на Демина. Давайте, мол, я готов, что вас еще интересует?
— В котором часу он приходил?
— Утром. Часов в десять, я так думаю. Когда мне его описали подробно, я сразу решил — он. Не зря он мне так не понравился. Ох, чреватый человек. Все глазками поигрывает, поигрывает, чтоб, значит, понял я, какой он опасный. А мне чего — я дома. У меня кочерга в углу. Вот она, под рукой. Ткнись. Нет, ты попробуй ткнись! — Мисюк, кажется, до сих пор отвечал Нефедову на оскорбление. — Как он был одет?
— Куртка, синие штаны, шарф...
— Шарф?
— А как же! Пижонский такой, длинный, вокруг шеи завернутый... Не подступись!
— Цвет?!
— Это... зеленый. Да, зеленый.
«Ну, вот, уважаемый, — мысленно обратился Демин к Нефедову. — Дела, как видишь, не стоят на месте. Оказывается, шарфик-то у тебя зелененький. Это, конечно, еще ни о чем не говорит, у Жигунова вот тоже нашелся зеленый шарф... Посмотрим, что скажут эксперты, чей шарф в родственных отношениях с теми двумя ворсинками на заборе...»
— Каким он вам показался? — спросил Демин у замершего в ожидании следующих вопросов Мисюка.
— Хам он и есть хам. Наглец.
— Это ваше личное к нему отношение. А теперь постарайтесь забыть об этом. На время! — Демин успокаивающе поднял руку, почувствовав, что Мисюк сейчас начнет заверять, что оскорблений он никогда не забудет. — Каким он вам показался? Голодным? Злым? Нетерпеливым? Постарайтесь припомнить.
— Скорее усталым, я так думаю. Он очень огорчился, что не нашел Дергачева. Даже растерялся, начал расспрашивать, где можно того найти...
— Как вы думаете, зачем он искал Дергачева?
— А черт его знает!
— Нет-нет, подождите. Я не спрашиваю, как было на самом деле, этого вы не знаете. Я спрашиваю о другом — как вам показалось? Он хотел за что-то его наказать или мечтал броситься в объятия Дергачеву, соскучился, например... Или от кого-то привет привез? Как показалось?
— Показалось? — охотно подхватил Мисюк. — Сейчас скажу, одну минутку... Значит, так, подходит, стучит, кочерыжкой обзывает, а потом спрашивает... — Мисюк остановившимся взглядом уставился в стенку, пытаясь восстановить образ обидчика. — Это... Я думаю, он без зла спрашивал о Дергачеве. Спросил будто о приятеле, так примерно...
Взглянув на Нефедову, на ее широкий, какой-то мужской, хозяйский шаг, Демин отметил про себя и ее манеру смотреть на собеседника как бы чуть со стороны, сверху, вскинув бровь. Из пяти пальцев руки Нефедова, кажется, пользовалась только тремя, изысканно отбросив мизинец и безымянный в сторону, словно боясь запачкаться. И еще золото. На пальцах, в ушах, на шее. Хотя знала, куда ехала, знала, что не вечерний спектакль ее ожидает. Может быть, она рассчитывала дать утренний спектакль?
— Где ваш сын, Лидия Геннадиевна?
— Сын? Один остался дома. Спит. Вы его имеете в виду?
— Нет, я говорю о вашем старшем сыне, Сергее.
— Могу ли я знать, чем вызван ваш интерес к нему?
— Вы, очевидно, слышали о пожаре?
— Да! Это кошмарная история! Какой ужас! Знаете, в городе такие страшные слухи, что я не решаюсь им верить. Вы наверняка знаете больше. Скажите же мне — что там произошло на самом деле? Говорят, погибли люди?
— Есть основания полагать, что ваш сын имеет к происшедшему какое-то отношение.
— Вы хотите сказать, что он знал погибших?
— Его видели в этом доме.
Нефедова снисходительно посмотрела на следователя, щелчком алого ногтя сбила с рукава пылинку, вздохнула, как бы жалея себя.
— Этого не может быть, — с легкой усталостью проговорила Лидия Геннадиевна. — Больше года его нет в городе. Скажу по секрету, — она наклонилась к следователю, — я сама его выписала.
В кабинет вошел Рожнов, присел к столу.
— Дело в том, Лидия Геннадиевна, — сказал он, — что Сергея видели в городе, в доме Жигунова, накануне происшествия. Судя по вашим словам, сына нет дома?
— Н... нет, — с заминкой произнесла Нефедова, несколько сбитая с толку.
— И вы не знали, что он в городе?
— Нет, хотя... — Нефедова пошевелила ухоженными пальцами, давая понять, что не стоит так уж категорически воспринимать ее «нет». — Знаете, вот сейчас я припоминаю... Какой-то парень бросил мне на улице в том роде... Понимаете, я сделала ему замечание. Он дружил когда-то с Сергеем, бывал у нас... Я полагаю, имела право сделать ему замечание. — Нефедова обращалась к Рожнову, видимо, разговор с ним не так уязвлял ее самолюбие. — А он мне в ответ — смотрите, дескать, за своим сыном. Тогда я подумала, что он сказал это вообще, а теперь...
— Фамилия этого парня?
— Не помню... Не то Савельев, не то Завьялов...
— Постарайтесь вспомнить. Это важно.
— Он живет в доме напротив нашего. Его там все знают... А фамилия... Скорее Савельев.
— Куда уехал ваш сын?
— В документах указано. Я не верю, что вы пригласили меня, не заглянув в документы. — Она усмехнулась.
— Заглянули, — кивнул Рожнов. — И в данный момент, — он посмотрел на часы, — два оперативных работника находятся в воздухе по пути в Архангельск.
— Уже? — искренне удивилась Нефедова, и сразу что-то неуловимо изменилось в ее облике — она стала скромнее. Чуть опустила подбородок, ладошки положила на колени. — Видите ли... Вполне возможно, что там его не найдут.
— Наверняка не найдут, — усмехнулся Рожнов. — Уже коли его видели здесь...
— Зачем же их послали в такую даль? — простодушно спросила Нефедова.
— Необходимо установить, где он жил, как жил, с кем общался, чем увлекался... И так далее. Вряд ли нужно перечислять все детали нашей работы.
— Да-да, конечно... Вы правы... — Стало заметно, что Лидии Геннадиевне гораздо больше лет, нежели это казалось. Косметика, манеры, золото словно бы в один миг потеряли свою силу. — Видите ли, вовсе не исключено, что он там и не жил. — Нефедова исподлобья посмотрела на Рожнова, пытаясь определить, как он отнесется к ее словам.
— Но как же тогда понимать запись в выписной карточке? Там вашей рукой записано, что Сергей отбыл на постоянное местожительство в Архангельск.
— Как бы вам объяснить... Сергей действительно собирался в Архангельск... Одно время. Да, собирался. Как-то в поезде он встретил мужчину, и тот обмолвился, что сам из Архангельска или направляется в Архангельск, во всяком случае, у них в разговоре что-то промелькнуло об этом городе. И мы с мужем подумали, что неплохо бы Сергею туда поехать...
— Это после истории с вытрезвителем?
— Дался вам этот вытрезвитель! Все мы были молоды, всем нам хотелось чего-то необычного... Вы согласны со мной?
— Я не очень четко уловил вашу мысль, — сказал Демин. — Скажите, когда уехал ваш сын?
— Не помню точно, где-то в январе.
— В документах указан один город, а поехал он совсем в другой, — заметил Рожнов.
— Сергей передумал, — холодно пояснила Лидия Геннадиевна. — Он не поехал в Архангельск. Он уехал в соседнюю область, если для вас это так важно.
— Куда именно? — спросил Рожнов.
— В Новоорловск. К тетке. Сестре моего мужа. Я сама отвезла его на вокзал и проследила, чтобы он сел на поезд.
— Вы ему не доверяли?
— Я — мать! — с ноткой оскорбленности произнесла Нефедова.
— Зачем вы внесли в документы о выписке заведомую ложь? — бесстрастно спросил Рожнов. — Зачем вы указали Архангельск, если сами отправили его в другой город?
— Как легко и бездушно вы раскладываете по полочкам святые материнские чувства! — горько воскликнула Нефедова.
Демин не стал говорить ей о том, что бездушие проявила она сама. Зная о том, какой славой пользуется ее сын, Нефедова отправила его к старой беспомощной женщине, у которой своих забот полон рот.
— Ну что ж, Лидия Геннадиевна, будем считать, что положение прояснилось. Осталось проверить ваши показания.
— Как?! Вы мне не верите?! — Она повернулась к Рожнову.
— Видите ли, Лидия Геннадиевна, сейчас не имеет значения, верим мы вам или нет. Совершено преступление. В нем замешан ваш сын...
— Нет, вы что-то путаете! Сережа мог запустить снежок в окно вытрезвителя. Мог. Не отрицаю. Мог без разрешения проехаться на колхозной кляче... Но преступление... Нет.
— Разберемся, — пообещал Рожнов.
— Надеюсь, — сказала Нефедова, поднимаясь. — Если бы вы знали, каким успехом он пользуется у девочек! Не будете же вы отрицать, что он, кроме всего прочего, просто красивый молодой человек! — выдержка изменила Нефедовой, и она заговорила плачущим голосом. — Имея в жизни все это, спутаться с какими-то алкоголиками, которым для счастья не нужно ничего, кроме стакана выпивки?! Зачем это ему?! Зачем! Должны же вы хоть немного понимать людей! Сережа рожден для хорошей, достойной, красивой жизни! А вы пытаетесь втолкнуть его в эту кошмарную историю только потому, что он совершил несколько шалостей? Вспомните свою юность!.. Неужели...
Не договорив, Нефедова покинула кабинет.
Вечером Демин созвонился с Шестаковым. Он хорошо представил его себе — пиджак на спинке стула, сам в белой рубашке и жилетке, похаживает от окна к двери.
— Шестаков слушает! — воскликнул он с подъемом, будто заранее знал, что сейчас ему сообщат что-то радостное.
— Здравствуй, Георгий Петрович! Демин беспокоит.
— О! Сколько лет, сколько зим! Зря уехал! У нас такие события, такие события!
— Что же произошло за последние восемь часов?
— Тебя интересует, что думает тетка о своем племяннике Нефедове?
— Да, я знаю, маманя послала его на перевоспитание. Вряд ли тетка добилась больших успехов в этом благородном деле.
— Она его выгнала! — с восторгом закричал в трубку Шестаков. — Представляешь?! Старая женщина выталкивает в шею родного племянника! Она не открывает ему дверь! Не хочет говорить с ним по телефону! Ее гнев настолько велик, что она даже со мной не хочет о нем говорить! Во дает бабка! Ты не поверишь — она его била.
— Чем? — улыбнулся Демин.
— Узнал! Предметами первой необходимости!
— Похоже, тетка ускорила ограбление универмага.
— Вообще-то да, — озадаченно проговорил Шестаков. — Не исключено.
— Ты не спросил, есть у них еще родня, кроме той, которая проживает в нашем городе?
— А ты знаешь, это мысль! — с подъемом воскликнул Шестаков. — Если есть родня, то не исключено, что Нефедов... О! Как я сразу не
догадался!
— Ничего, все в порядке. Я позвоню завтра перед обедом, и к тому времени ты уже все будешь знать. — Демин улыбнулся своей хитрости — он давал Шестакову задание в форме утешения, и тот благодарно молчал. — Около двенадцати позвоню. У нас ему появляться нельзя, у вас тоже. Он будет искать место, где можно отсидеться.
— Это я беру на себя!
Демин почти увидел, как Шестаков, положив трубку, надел пиджак, одернул жилет и большими шагами направился к начальству советоваться.
12
Утром Демин ехал в полупустой электричке, а она неслась сквозь струи весеннего дождя, и стояли на переездах машины с включенными фарами, за ветровыми стеклами тлели сигареты невидимых водителей.
Демин думал о предстоящих делах. Необходимо вызвать на допрос всех трех подозреваемых. Потом позвонить Шестакову. У того должны быть новости. Потом всех вытеснил пристальный и тяжелый взгляд Нефедова с фотографии в уголовном деле.
«Нефедов... Кажется, я начинаю тебя понимать, дорогой друг. Это говорит о том, что мы скоро должны встретиться».
«С нетерпением жду этого момента», — почти услышал Демин.
«Все ерепенишься. А между тем дела твои далеко не блестящи. При том положении, в котором ты оказался, деньги уйдут очень быстро. Сколько тебе мог передать Дергачев? Тысячу, ну, полторы — это самое большее. Правда, у тебя еще оставалось золотишко. Но ты ведь его тоже спустишь по дешевке. С чего видно, что кольцо золотое? Придется, Нефедов, побегать, поунижаться... Для тебя это, как я понимаю, тяжело. Куда тебе деваться? Друг, с которым служил в армии... Позабытый всей родней дядя? Кто еще? Девушка, с которой когда-то обменялся адресами? Гостиницы? Побоишься гостиниц. Ты трусоват, Нефедов. Боюсь, что и дел натворил ты из-за трусости. А может быть, ты чист? Но в универмаге был. Ботиночки свои оставил, сюда с золотишком приехал... Главное, начать, Нефедов, дальше пойдет легче, ты просто не сможешь остановиться. Пойдешь на все, чтобы скрыть содеянное, да ты уже пошел на многое. Такие дела, Нефедов, такие дела...»
Мамедов вошел в кабинет стремительно, будто за ним гнались, будто у него всего несколько секунд, чтобы спастись.
— Валентин Сергеевич! За что меня здесь держат? Вы спите дома, вы кушаете где хотите и что хотите, вы дышите воздухом...
— На вашей одежде следы преступления, — терпеливо произнес Демин. — Как вы посоветуете мне поступить?
— Посмотрите мне в глаза! Посмотрите! Неужели вы не видите, что это глаза честного человека? Отвечайте, Валентин Сергеевич, неужели такие глаза могут быть у убийцы?! — Мамедов перегнулся через стол, чтобы следователю было видно, какие у него глаза.
— Посмотрел, — сказал Демин. — Очень красивые глаза.
— Знаю, что красивые, мне об этом все женщины говорят!
— Я не специалист по глазам, Мамедов. Точно такие же глаза могут быть у человека, потерявшего три рубля, у человека, которого машина обдала грязью, от которого ушла девушка... Разве нет?
— Вы правы, — Мамедов устало опустился на стул, — вы правы.
— Прекрасно вас понимаю. Мне не удалось получить ничего, что бы сняло с вас подозрения, Мамедов. Ищем еще одного участника веселого застолья в доме Жигунова. Пока не нашли.
— И не можете найти? — спросил Мамедов как-то замедленно, словно думая о чем-то другом. — Не можете найти... Когда я уходил, он оставался... Когда я пришел второй раз, его уже не было... Но лежали окровавленные люди... А его не было. Я понял! — торжественно заявил Мамедов и встал. — Это он. Он все это совершил. Он преступник.
— Может быть, — бесцветно сказал Демин. — А следы крови на вас.
— А знаете, что я скажу... — Мамедов некоторое время смотрел на Демина как-то невидяще, словно припоминая что-то полузабытое. — Я сейчас такое скажу... Вы сразу меня отпустите.
— Внимательно слушаю.
— Вы не искали этого молодого человека на Кавказе?
— До Кавказа еще не добрались.
— Напрасно. С Кавказа надо было начать! — свистящим шепотом произнес Мамедов. — Я дал ему адрес моей мамы. Сидим за столом, говорим хорошие слова, почему не пригласить человека в гости? Пригласил. И он записал адрес.
— Уж коли ему вы дали адрес, может, и мне не откажете? — усмехнулся Демин.
— Тоже хотите отдохнуть в Закаталах?
— И немедленно. С завтрашнего утра.
— О! — Мамедов хлопнул себя ладонью по лбу. — И как я сразу не подумал! Знаете, это нетронутый уголок первозданной природы! Заповедник, рядом грузинский заповедник Лагодехи! О! Как я хочу домой!
Борисихин выглядел расслабленным и каким-то безразличным. Молча кивнул, сел на предложенный стул. Зажал коленями ладони да так и остался сидеть.
— Пока меня не было, вы, говорят, признались в преступлении? — спросил Демин.
— Признался, — кивнул Борисихин.
— Расскажете, как все случилось?
— Я все написал... Но, кажется, здесь любят без конца повторять одно и то же.
— Открою профессиональный секрет, — сказал Демин. — Повторяться не любим. Но вынуждены, поскольку человек лгущий не может удержаться от того, чтобы каждый повтор дополнять все новыми и новыми подробностями. А человек, который говорит правду, не может ее изменить, и его показания не отличаются от предыдущих.
— Они напоили мою жену... Сначала они сказали, что ее нет, потом говорили, пусть, дескать, проспится у нас... В общем, я к тому времени был... был в возбужденном состоянии.
— Представляю.
— А когда уходили, старик... Придется, говорит, и мне сегодня одному ночку коротать... И смеется. Беззубый, лысый, толстый, небритый... Ну, я ему и врезал. В общем, перестал он смеяться.
— Он упал?
— Старик был в таком состоянии, что на него достаточно было дунуть, чтобы он рухнул в снег.
— Значит, упал?
— Вероятнее всего. Я уже не смотрел. Ударил его и тут же к жене.
— В больницу зачем приходили?
— Чтобы узнать о старике... Вдруг, думаю, нечаянно убийцей стал.
— Почему же не узнали открыто? Зачем понадобилось пробираться черным ходом?
— Ну, как... Начну узнавать, сразу догадаются... Решил потихоньку... Надо же знать, как вести себя.
— Вы ударили его молотком?
— Нет, какой молоток в снегу... Кулаком.
— Старику лучше, — сказал Демин.
— Да? — приподнялся на стуле Борисихин и тут же снова сел. — Даже не знаю, радоваться этому или нет... Сволочь он. Не надо бы ему жить.
Что-то все сегодня с сюрпризами, подумал Демин. Неужели преступления так действуют на людей, что они начинают ценить правду?
— Входите, — сказал он, увидев в дверях Жигунова. Михаил, закрыв за собой дверь, оказался лицом к лицу со следователем.
— Вы в самом деле подозреваете меня? — Жигунов был напряжен, глаза его лихорадочно блестели, по всему было видно, что он держится из последних сил.
— А как сами думаете? — Демин показал на стул. — Садитесь, в ногах правды нет.
— А в чем она? В стуле, который вы предлагаете? В тюрьме, куда собираетесь меня посадить?
— Вы задаете столько вопросов, что я не знаю, на какой отвечать. Судите сами... Произошло опасное преступление. Есть жертвы. У вас с отцом отношения плохие. Вы почти год не общались. И тем не менее весь день провели у него. Могу я допустить, что неосторожное слово, намек, взгляд заставят вас потерять самообладание? Могу я сделать такое допущение?
— Но ведь этого не было... — без прежней уверенности добавил Жигунов.
— Не очень убедительно, согласитесь. Что происходит дальше? В доме пожар, убит человек, через сутки умирает еще один... Я спрашиваю — где вы были? Где провели ночь? Вы не помните. У вас дома при обыске находят шарф.
— Это не мой шарф!
— Подождите, Жигунов. Находят шарф. Эксперты утверждают — ворсинки от этого шарфа остались на заборе. То есть вы ушли из дома тайком, чтобы не видели соседи. Как прикажете понимать? Причем шарф находят не на вешалке, а спрятанным. И на нем кровь, которая по группе совпадает с кровью вашего отца.
— Шарф не мой.
— Как он оказался в общежитии? Как на нем появилась кровь вашего отца?
— Не знаю.
— Давайте думать вместе. Вы много выпили в тот день?
— Получилось нечто странное... Этот кавказец со своими тостами, длинный парень с деньгами... Все это как-то подействовало, даже не могу объяснить, почему так много пил в тот день.
— Другими словами, ничего не помните?
— Нет, почему же... Кое-что помню...
— Вы ушли в калитку или через щель в заборе?
— Не могу сказать... Об этой щели я знал, ведь в доме прожил много лет... Мог уйти и через нее.
— Что было дальше?
— Домой пошел, в общежитие. Жена меня, конечно, выперла. И правильно сделала. Одобряю. Говорит, приведи себя в порядок, потом приходи. Одобряю, — повторил Жигунов, словно уговаривал себя.
— Это вы сейчас так говорите, а тогда? Как поступили тогда?
— Обиделся.
— За обидой следуют действия. Ваши действия?
— Молчал я об этом, но, видно, придется сказать... Пошел к одной девушке, к которой всегда можно прийти... Приютит.
— И на этот раз она вас приютила?
— Да, уложила спать. У нас с ней раньше были отношения, до того, как я женился... Видно, что-то осталось. А жена считает ее до сих пор не то соперницей, не то разлучницей... Их не поймешь.
— Почему же молчали до сих пор?
— Если скажу, придется на суде повторить. Если жена узнает, где я ночевал... Пиши пропало. Опять же не хотелось Вальку в историю втягивать. Все одно к одному. А теперь, смотрю, всем придется выяснять отношения по большому счету.
— Эта Валентина... Как ее фамилия? — спросил Демин.
— Фамилия... Ромашкина ее фамилия.
— Где живет?
— Ой-ей-ей! — застонал Жигунов, раскачиваясь на стуле из стороны в сторону.
— Адрес Ромашкиной, — напомнил Демин.
— На нашем заводе она работает, недалеко от завода и живет, на Озерной. Дом двадцатый.
— Она подтвердит ваши слова?
— Кто ж ее знает... Хотя чего это я... Конечно, подтвердит.
— Переночевали, а дальше?
— Пошел утром на работу, потом пластался перед женой, прощения вымаливал.
— Простила?
— На следующий день словечко обронила, через день еще два. Дело пошло, но тут уж вы вмешались.
— Понятно. Остался сущий пустяк — как в вашей комнате оказался зеленый шарф?
— Боюсь, что мне на этот вопрос не ответить. — Жигунов беспомощно развел руками. — Только это... не обижайте Ромашкину, ладно? И жене о ней не говорите. Прошу. Да, — остановился Жигунов уже у двери и повернул к Демину свое исхудавшее, обострившееся лицо, — а что говорит о шарфе жена? Вы спрашивали у нее?
— Спрашивал. Она говорит, что вы пришли с этим шарфом.
— Что значит пришел?
— Это значит, что его не подбрасывали, что дома он оказался неслучайно, что вещь эта вам не такая уж чужая, как вы это пытаетесь изобразить.
Обернувшись от двери, Жигунов некоторое время с яростью смотрел на Демина, потом как-то обмяк, усмехнулся.
— Скажите пожалуйста, пытаюсь изобразить... в моем положении еще что-то пытаться. Тут бы живу остаться.
— Вы многое вспомнили со времени нашей последней встречи. Каждый раз, когда мы с вами встречаемся, вы словно бы маленький подарочек мне готовите. Сегодня вот Ромашкину подарили.
— Не дарил я вам Ромашкину! — зло выкрикнул Жигунов.
— Конечно, конечно... Я в переносном смысле. Не возьму я Ромашкину, не бойтесь. Чует мое сердце, она вам самому еще пригодится.
— Может, и пригодится, — угрюмо кивнул Жигунов.
— И все-таки не пойму, что вас держало в доме целый день! — воскликнул Демин. — Не пойму.
Жигунов отошел от двери, приблизился к самому столу.
— Отец, понимаете? Отец! — заговорил он с тихой яростью. — Какой-никакой, а батя. Ведь я его и другим помню — молодым, сильным, трезвым. Я не снимаю с него вины, но и казнить его до самой смерти тоже не буду. Каждую минуту за это проклинать?! Нет. Пришел он ко мне на работу, сам пришел, первым. Пьяным пришел, потому что трезвым не решился. Для храбрости выпил. Что мне было делать?. Гнать его? Нет. Не стал. Отвел домой. Ведь это и мой родной дом, вырос я в нем. Дай, думаю, посмотрю, как батя живет. Семьдесят ему, а живет один... Вот и пошел. Еще была мысль, и в ней признаюсь... Может, думаю, наладится все, может, вернемся с женой в дом... В общежитии — какая жизнь? Крики почти всю ночь, смена уходит, смена приходит... А потом, я же говорил — сам выпил, контроль потерял. Над временем, над собой, над положением за столом...
— Пьян был, ничего не помню, — как бы про себя проговорил Демин.
— Да! — закричал Жигунов. — Да! Не помню! Что же мне, вешаться?!
— Думаю, не стоит, — спокойно ответил Демин. — Будем работать, Жигунов. А у вас есть время подумать, глядишь, и вспомните чего-нибудь новенькое, а?
— С Закаталами разговаривал, — сказал Рожнов на следующее утро. — Там тебя ждут. Добираться лучше всего через Тбилиси. Самолетом, а дальше автобусом. К вечеру того же дня будешь на месте.
— И там действительно живет родня нашего Мамедова?
— Живет, — кивнул Рожнов. — За домом установлено наблюдение.
— Не верится, чтобы Нефедов там появился...
— Уже появился, — невозмутимо сказал Рожнов. — Местные товарищи заглянули в гостиницу, она там единственная. В этой гостинице одну ночь провел некий гражданин по фамилии Нефедов.
— Наш Нефедов?
— Трудно сказать, — усмехнулся Рожнов. — Когда-то я был в Закаталах, — мечтательно проговорил Рожнов. — Какой там базар! Обязательно посети. С гостиницей, местным уголовным розыском, родней Мамедова — решай сам, можешь всем этим и пренебречь, а вот базар надо посетить. Какие там орехи! Мешками стоят... И что самое удивительное — покупают мешками!
— Мешок не обещаю, но пару килограммов привезу, — пообещал Демин, поднимаясь.
— Думаешь, это очень много — два килограмма? — невинно спросил Рожнов. — Там самые дешевые орехи. Не разоришься и на трех килограммах.
— Даже сейчас, в марте?
— Особенно в марте. Они за зиму просохли, стали легкие, ломкие, шершавые, их на килограмм идет столько... О! Возьмешь в кулак, — Рожнов посмотрел на свою ладонь так, словно на ней уже лежал крупный грецкий орех, — возьмешь вот так, сдавишь, и он хрустит, кожура лопается, раскалывается, а внутри мерцает желтовато-золотистый плод.
13
Подобные командировки были нечастыми, и Демин откровенно наслаждался перелетом в Тбилиси, с волнением смотрел на проплывающие внизу вершины Кавказского хребта, кто-то из знающих пассажиров показал на одну из вершин, и по самолету прошелестело слово «Казбек». Демин тоже не удержался от того, чтобы с почтением произнести это слово, но тут помимо его воли вершину заслонили печальные глаза Мамедова и уже не покидали его, когда он пересекал всю Грузию с запада на восток, когда проезжал последний грузинский городок с непривычным названием Лагодехи, когда преодолевал последние сорок километров до Закатал.
На автовокзале, едва Демин вышел из автобуса, к нему подошел маленький смуглый человек в громадной фуражке с неизменными усами. Протянув сухонькую крепкую ладошку, он спросил:
— Товарищ Демин?
— Точно. Здравствуйте.
— Очень рады, что вы приехали. Мы вас ждем. Моя фамилия Джафаров. Будем работать вместе. В гостинице заказан номер.
— В той самой, где останавливался Нефедов?
— У нас одна гостиница. Вот машина, прошу вас. — Джафаров предупредительно раскрыл дверцу.
— Что-нибудь удалось установить? — спросил Демин уже в машине.
— Я думаю, — Джафаров помялся, прикидывая, как вежливее ответить, — может быть, мы будем сначала кушать, а потом работать?
— А если одновременно?
— О! — рассмеялся Джафаров. — Наш начальник в таких случаях рассказывает об одном плакате, который он видел в Америке. Висит у дороги плакат такого примерно содержания: «Водитель, если ты одной рукой обнимаешь девушку, а другой ведешь машину, знай, что и то и другое ты делаешь плохо».
— Очень правильный плакат, — ответил Демин. — Убедительный.
— Мы немного подготовились к вашему приезду, — как бы мимоходом заметил Джафаров. — И... будет хорошо, если мы сначала немного познакомимся... Это всегда хорошо.
— Ну что ж, мне остается только подчиниться местным обычаям.
— Это не местные обычаи, — с осуждением сказал Джафаров. — Это всеобщий закон. А чтобы очистить вашу совесть, могу сказать, что горничная в гостинице вспомнила этого Нефедова. Он был очень невежливый и очень высокий.
— Это он, — коротко сказал Демин.
Массивное двухэтажное здание с высоким крыльцом и тяжелыми дверями было окружено зарослями каких-то кустов. Джафаров провел его к лестнице на второй этаж. Номер оказался просторным, может быть, даже излишне просторным. Посреди комнаты стоял круглый стол, уставленный фруктами, виноградом, были здесь и столь любимые Рожновым грецкие орехи. Демин не удержался, взял один — орех оказался непривычно крупным и легким.
— Пробуйте, пробуйте, товарищ Демин, — услышал он голос позади себя — в номер входил плотный человек в форме полковника милиции. Пожимая руку, Демин отметил, что ладонь его почти такая же крупная и сильная, как у Рожнова. — Магомаев, — представился вошедший. Заметив удивление в глазах Демина, он его успокоил: — Нет, нет, я совсем другой Магомаев. Надеюсь, не обидитесь за то, что поселили вас в том самом номере, в котором ночевал Нефедов?
— Он останавливался здесь? — Демин уже со значением осматривал номер.
— Очевидно, у человека были деньги, номер большой, хороший. Может быть, не самый лучший, — тонко улыбнулся полковник, — но просторный, тихий. Нам приятно, что мы сможем сразу ввести вас в работу.
— Пусть так, — согласился Демин. — Товарищ Джафаров сказал, что Нефедов был очень невежливый человек. В чем это выразилось?
— Отвечаю сразу, — сказал полковник. — Он спал вот на этой кровати. Она была ему мала... Видите? В такую кровать, на такое покрывало — вы посмотрите на это покрывало! — он ложился не раздеваясь. Забрасывал ноги на спинку кровати, — вы посмотрите, какая спинка, какая отделка! Наша фабрика изготовила, да! Он упирался ногами в стенку, в эти прекрасные обои, видите, как он их запачкал?
Да, на стене отпечатались подошвы Нефедова. Не очень внятно, четко, но отпечатались, и эксперты всегда могут сказать, не те ли это ботинки, которые он позаимствовал в универмаге. Что-то шумно говорил полковник, молча и сноровисто суетился Джафаров, появился еще один гость. Демин знакомился с ним и что-то ему говорил.
— Валентин Сергеевич, вы должны нас простить — не подумали... Мы попросим гостиничных работников, и они все приведут в порядок.
— Ни в коем случае! — воскликнул Демин. — Более того, я прошу вырезать эту часть обоев. Мы составим протокол о том, где они взяты, когда, в каких обстоятельствах, и я увезу их с собой. Нельзя разбрасываться такими следами!
— Полностью с вами согласен.
Полковник со значением оглянулся на своих товарищей, те в ответ молча развели руками.
Магомаев, с невинным лукавством поблескивая большими навыкате глазами, вроде бы смущаясь, сообщил, что Нефедов точно такие же следы оставил в другом номере, куда его поместили вначале. И вот те следы уже срезаны со стены вместе с обоями и со всеми необходимыми юридическими формальностями хранятся у полковника Магомаева, и он готов в любой момент передать их Демину. А эти следы сберегли специально для гостя, чтобы доставить ему маленькую радость.
— Ну, ребята! — только и сказал Демин.
Полковник доложил всю обстановку. За домом Мамедовых установлено наблюдение. Никто к ним не приезжал. Соседи тоже не видели гостей у Мамедовых.
— Следовательно, можно сделать вывод, — сказал Демин, — что Нефедов переночевал в гостинице один раз и уехал. Возможно, с кем-то из своих сообщников он встретился днем, где-нибудь на скамейке, в чайхане и в тот же день отбыл. Можем мы такое допустить?
— Мы навели справки, — заметил полковник. — Мамедовы — очень хорошие люди. Допустить, чтобы они были связаны с преступником...
— Они могли купить у него золото, даже не зная, что он преступник.
Полковник изобразил на лице недоумение.
— Тогда пришлось бы признать, что тот Мамедов, который проживает в вашем городе... очень плохой человек. Но я с ним знаком... Здесь он всегда вел себя достойно.
— А у нас он весь в крови! — воскликнул Демин. — Брюки, туфли, пиджак!
— Мне говорили, что он полюбил красивую женщину, — растерянно заметил Магомаев. — Он прислал родным ее фотографию, она действительно красивая женщина. Но кровь... Как объяснить кровь? Может быть, его обидели, оскорбили?
— Ну и что? — спросил Демин. — Обидели и оскорбили. Дальше?
— Может быть, обидели и оскорбили его женщину? — предположил Джафаров, словно это все объясняло. Демин видел, что его хозяевам никак не хотелось признать в своем земляке опасного преступника.
— А как вы объясняете появление здесь Нефедова? — спросил Демин.
— Ах да... Нефедов, — все горестно закивали головами. — Нефедов...
— Можно считать доказанным, что Нефедов совершил кражу в универмаге, его карманы набиты золотом, он хочет от него избавиться. Мамедов замешан в убийстве... Нефедов приезжает сюда, на родину Мамедова...
— Ну что ж, будем работать, — сказал полковник. — Это все, что я могу вам пообещать, уважаемый Валентин Сергеевич.
На центральной площади Закатал росли громадные платаны, которым, по утверждению местных жителей, более семисот лет. Стволы, словно какие-то древесные сооружения, уходили вверх, и нельзя было даже сказать, где они заканчивались. Кора этих деревьев напоминала скалы, и, казалось, альпинисты могли бы подниматься по этим стволам. Все приезжающие стремились прежде всего попасть на эту площадь, потрогать руками платаны, пройтись мимо них и как бы приобщиться к вечности. Местные жители прогуливались здесь вечерами, и так уж повелось, что эта небольшая площадь, окруженная двухэтажными домами, стала центром городка, хотя были здесь и другие места, более нарядные и современные.
Командировка Демина заканчивалась безрезультатно. Следов Нефедова обнаружить не удалось. И в последний вечер он прогуливался по городку, постепенно приближаясь к площади. Было тепло, распускались листья, горы вокруг городка светились в солнечных лучах. Спустившись по бесконечным ступенькам от новых кварталов к площади, Демин постоял у платанов, похлопал ладонью по их шершавой коре, словно приласкал какое-то живое существо. Скользнув взглядом вверх, он с радостью убедился, что верхних ветвей не видно, что взгляд его упирается в крону, как в лесную чащу.
Здесь, внизу, уже наступили сумерки, когда душа наполняется волнением и ожиданием чего-то прекрасного. Это чувство усиливалось странным освещением площади — синеватые сумерки внизу, а верхушки деревьев, как и горы вокруг, были освещены розовым закатным светом.
Демин шел вдоль ручья, мимо платанов, поддавая маленький камешек, стараясь, чтобы тот не улетел слишком далеко, не ударил кого-нибудь по ноге.
На скамейке он увидел нескольких ребят, девушек. Им некуда спешить.
Да, ребятам здесь привольно, не нужно бежать на автобусы, троллейбусы, ловить такси и часами пересекать ночной город, проводив девушку домой. Они все живут вокруг этой площади.
Один из парней вытянул ноги и, положив руки вдоль скамейки, что-то негромко говорил девушке на ухо, а та, склонив голову, слушала. Чтобы не споткнуться, Демин перешагнул через ноги и понял, что больше всего ему хочется посмотреть на лицо парня, у которого такие длинные ноги и такие крупные ботинки. Подошва из черной резины. Такие вполне могут оставить следы на гостиничной стене. А брюки не очень свежие, они явно нуждаются в том, чтобы их привели в порядок. Скользнув взглядом по лицу парня, Демин опять посмотрел на девушку и прошел мимо. Черная куртка, очень хорошо. Вязаный воротник. Тоже хорошо. Длинные волосы. Взгляд насмешливый, удовлетворенный, еще бы, такая девушка! И усики. Реденькие тонкие усики. А рост явно за сто восемьдесят. Он нездешний, четко понял Демин. Не из этого города. В его глазах вопрос, который у приезжих не пропадает в один день. Вопрос, в котором незнание города, обычаев, опаска поступить не так, как принято, и в то же время решимость сделать как хочется. Вызов приезжего наглеца, который еще не получил отпора.
Осторожно оглянувшись, Демин увидел Джафарова, тут же нырнувшего за платан.
— Здравствуйте, товарищ Джафаров, — зашел Демин с другой стороны дерева. — От кого это вы прячетесь?
— Как вам сказать, — смутился тот. — Человек вы новый, задание у вас опасное, сложное... Мы подумали с полковником, что легкая страховка не помешает.
— Вы здесь всех знаете?
— Многих, — улыбнулся Джафаров.
— Посмотрите на скамейку за моей спиной. Там в центре сидит парень в черной куртке, видите? У него длинные волосы, маленькие усики, он вытянул перед собой ноги, обутые в ботинки примерно сорок четвертого размера, — все это Демин проговорил с улыбкой. Глядя на них со стороны, можно было подумать, что встретились два приятеля и не торопясь обмениваются скудными новостями. Демин оперся плечом о платан, сунул руки в карманы брюк и смотрел на лицо Джафарова как в зеркало, видя и того длинного парня, и то, как Джафаров к нему отнесся.
— Это не наш. Я его вижу впервые. — Джафаров тоже улыбался благодушно и расслабленно.
— Мне кажется, что он и не собирался сюда приезжать, — заметил Демин.
— Почему?
— Он взял бы с собой что-нибудь полегче этой куртки. В ней жарко, душно. Вечер такой теплый...
— Да, вы правы, Валентин Сергеевич.
— И ботинки эти слишком тяжелы для такой погоды, вам не кажется?
— Кажется! — заверил Джафаров. — Очень кажется.
— Будем брать?
— Зачем? Он с друзьями, кто знает, на что они способны. Сыграем на его мужском самолюбии. Я позову девушку, она местная, и сверну с ней вон в тот переулок, где стоит милиционер возле колонки. Парень пойдет следом, чтобы узнать, где девушка. Там мы его и возьмем. Нас будет трое. Справимся, а, Валентин Сергеевич?
— Не годится.
— Почему? Все получится, вот увидите!
— Он где-то живет, у него вещи, улики... Надо узнать, где он остановился.
— Думаете, не скажет, если задержим?
— Я бы не сказал, — улыбнулся Демин.
— Понял. Буду здесь через пять минут. Тут все рядом.
И Джафаров все с той же улыбкой неторопливо удалился в переулок. А Демин, оттолкнувшись плечом от платана, продолжал свой путь по площади, не забывая время от времени поглядывать в сторону скамейки. Через пять минут он опять оказался у того же платана, но подошел к нему с другой стороны, чтобы снова не перешагивать через бесцеремонно вытянутые ноги парня. Джафаров шел с двумя приятелями явно выше его и сильнее. Чуть поодаль шли еще двое. Вот они остановились на перекрестке, и Джафаров, повернувшись спиной к скамейке, видимо, рассказал, за кем надо присматривать. Через минуту все разбрелись по площади, взяв скамейку в невидимое кольцо.
— На случай, если он вздумает поймать такси или уехать куда-нибудь на автобусе, — сказал подошедший Джафаров, — вон под теми деревьями стоит наша машина. Светлые «Жигули».
— Остается выяснить самую малость, — сказал Демин. — Действительно ли это Нефедов, или же мы стали жертвой нашего воображения.
— У вас нет его портретов? — удивился Джафаров.
— Портреты есть... Но на некоторых он еще школьник с короткой стрижкой и, конечно, без усиков, на некоторых в таком ракурсе, что только эксперты могут сказать наверняка... И все-таки, все-таки... Это он. Значит, у Мамедовых остановиться не решился. Смотрите, поднимается... И ребята вместе с ним. Выходит, это одна компания. А девушка остается.
— Они пошли выпить вина, — безошибочно определил Джафаров.
— Вы знаете эту девушку? — спросил Демин.
— Не знать такую девушку... Преступно.
— Может, подойти к ней?
— Попробую. — Джафаров легкой вечерней походкой приблизился к скамейке, радостно воскликнул что-то и присел. На лице его светилась неподдельная улыбка, он болтал без умолку, и Демин с нетерпением ждал, когда же он наконец даст возможность девушке сказать несколько слов. Но вот заговорила и она. Джафаров осуждающе качал головой, дескать, нехорошо с заезжими чужаками разгуливать в такой хороший вечер, девушка что-то отвечала, смущалась, видимо, обещала в дальнейшем все свои симпатии отдавать только местным.
Показался Нефедов. Теперь Демин уже не сомневался — это действительно был он. В его походке, во взгляде проступала настороженность. Не так ведут себя люди, чувствующие полную безопасность. Джафаров тоже его заметил, но остался сидеть. Нефедов хмуро посмотрел на него, сел с другой стороны от девушки, неохотно протянул руку Джафарову. Знакомство, похоже, состоялось. Контакт налажен. Демин уже хотел было направиться еще на один круг по площади, но вдруг услышал радостный крик Джафарова:
— Валя! Валентин! Иди сюда!
Ничего не оставалось, как подойти. Приближаясь к скамейке, Демин чувствовал, что волнуется.
— Знакомься, Валя... Это Мария, или, как у вас говорят, Маша. А это Сергей.
— Валентин. — Демин пожал руку Маше, на секунду ощутив ее узкую ладошку, потом Нефедову. У того рука была крупная, сильная, сухая.
— Сергей, — сказал Нефедов, пытливо глянув Демину в глаза.
А через два часа, исколесив весь центр Закатал,они подошли к дому Маши, где и остановился Нефедов. Дом был двухэтажный, сложенный из громадных горных булыжников, скрепленных цементным раствором. Глухой забор продолжал стену дома. В темноте тихо журчал невидимый ручей, пахло южными цветами, и небо над Закаталами казалось нарядным от обилия звезд. Пора было прощаться. Осторожно оглянувшись, Демин увидел, что на углу покуривают двое ребят, по переулку медленно идут еще двое.
— Ну что, ребята, завтра увидимся. Нам с Машей пора, верно, Маша?
Открылась калитка, показалось недовольное женское лицо. Пока Нефедов оправдывался, Джафаров дал знак, и в калитку вслед за Деминым вошло еще четверо. Небольшая лампочка, подвешенная к углу дома, после такой темной улицы казалась яркой и сильной.
— Не переживайте, мамаша! — куражился Нефедов, не замечая, что окружен. — Доставили вам дочку в целости и сохранности, такую дочку беречь, мамаша, надо...
И вдруг осекся, заметив, что в небольшом дворе людей гораздо больше, чем он ожидал увидеть. Джафаров легонько отодвинул Машу в сторону, она оказалась за пределом круга, в центре которого стоял Нефедов. Девушка, не понимая, что происходит, хотела было снова войти в круг, но на этот раз ее развернул и подтолкнул в спину один из оперативников.
— Иди к маме, девочка, — сказал он с таким чувством правоты, что Маша, слегка опешив, все-таки шагнула к матери.
— В чем дело, ребята? Что происходит? — Нефедов попытался шагнуть назад, к калитке. — Что вам нужно?! — закричал он. — Вы что, из-за Марии?
— Спокойно. — Демин тронул его за локоть. — Не надо шуметь. Поздно уже, люди спят.
— В чем дело?! — взвизгнул Нефедов, и уже поэтому крику можно было догадаться, в каком взвинченном состоянии он находился все время.
— Ваша фамилия? — спросил Демин.
— Ты что, ошалел? — спросил тот. — На фига тебе моя фамилия?!
— На всякий случай. Чтобы не было недоразумений.
— Нефедов моя фамилия. Ну?!
— Тогда все правильно. Недоразумений не будет. Вы арестованы, Нефедов.
— За что?!
— Вы подозреваетесь в убийстве и поджоге. Да, чуть не забыл — и в краже.
В ту же секунду Нефедов рванулся в сторону, оттолкнув оперативника, в отчаянном прыжке преодолел несколько метров, но в последний момент Демин успел подставить ему ногу, и тот с размаху упал на камни мощеного двора. Оперативники тут же свели ему руки за спину и защелкнули наручники.
— Ах, какой нервный человек! — осуждающе произнес Джафаров, подойдя к Маше, в ужасе приникшей к матери. — Кричит, бегает, прыгает... Как нехорошо!
— А теперь обыск, — сказал Демин. — Покажите, пожалуйста, где он у вас жил.
14
— Орехи привез? — спросил Рожнов.
— А как же! Из личного сада полковника Магомаева. Велел кланяться. Будет несказанно рад, если напишете, как понравились орехи.
— А на базаре был?
— Что вы, Иван Константинович! На базаре я проводил большую часть своего времени.
— И что же тебе там понравилось?
— На такой вопрос обычно принято отвечать — люди. Но я отвечу иначе — цены. Три рубля за килограмм великолепных орехов платил. На свои командировочные я мог даже барана купить, но нас могли не пустить в самолет.
— Ничего, — сказал Рожнов. — Одного барана привез, и за то спасибо. С меня причитается. Если не грамота, то благодарность обязательно. Что Нефедов?
— Думаю, сегодня заговорит. До сих пор говорил я, выкладывал свои козыри и предлагал ему подумать. Он все внимательно выслушивал, кивал и молчал. Это еще там, в Закаталах. А теперь ему предстоят очные ставки, куда деваться? Тут уж в молчанку не поиграешь.
— Ну ни пуха. — Рожнов поднялся. — Похоже, нам с тобой придется завтра к генералу съездить.
— Требует?
— Интересуется, скажем так. У него уже куча жалоб на тебя скопилась. Допрашиваешь уйму людей, все невинные, всех посадить вроде хочешь... Такие дела.
За несколько дней, прошедших после задержания, Нефедов сильно изменился. Похудел, исчезла вызывающая нагловатость, он стал сдержаннее. Но Демин понимал, что и это его настроение вряд ли продержится долго. Нефедов был еще в состоянии бега, когда ему удавалось уехать, улететь, скрыться, удавались знакомства с людьми. И даже собственное молчание пока ему нравилось, он видел в нем свидетельство силы.
— Здравствуйте, Нефедов, — приветствовал его Демин. — Прошу садиться. Как самочувствие?
— Нормально. Но сказать мне нечего.
— Сомневаюсь. Хочу познакомить вас с некоторыми материалами следствия.
— Дело ваше.
Нефедов забросил ногу за ногу, скрестил руки на груди и уставился в зарешеченное окно. Сквозь открытую форточку доносились суматошные крики воробьев, голоса улицы, шум машин — звуки свободы.
— В соседней области задержан ваш приятель Бузыкин, — сказал Демин, листая уголовное дело. — Моторист. В его каюте под кроватью найден портфель, а в нем полторы сотни наручных часов.
— Вот дурак-то, господи! — не выдержав, произнес Нефедов.
— Не надо так о приятеле... Вы вели себя ничуть не лучше. Не умнее, во всяком случае. Бузыкин дал показания. Опознал вас на фотографии. Есть люди, которые видели, как вы вручали золото Дергачеву. Есть веские основания предъявить вам обвинение в убийстве.
— Ну-ну! — поощряюще улыбнулся Нефедов. — Что же это за основания?
— Все расскажу. Уж коли вы не хотите со мной разговаривать, придется поговорить мне. Скажите, пожалуйста, куда делся ваш пушистый зеленый шарф?
— Не помню такого.
— Вас видел в зеленом шарфе человек, который живет в бывшей квартире Дергачева. Мисюк его фамилия. Вы к нему заходили, искали Дергачева. В тот день на вас был зеленый шарф. Где он?
Нефедов молчал. Передернул плечами, ничего не ответил. Не понимая смысла вопроса, он остерегался говорить что-либо.
— Дело в том, что в вязаном воротнике вашей куртки найдены ворсинки этого шарфа. Вы носили его достаточно долго. Допускаю, что всю эту зиму вы проходили в зеленом шарфе. Тяжелый случай, Нефедов. Ваша мать сказала, что она сама связала этот шарф. И в деле есть остатки шерсти, она передала их следствию. Скажу больше — судьба шарфа мне известна. Мне нужно ваше объяснение. Не хотите ничего сказать? Ладно... Но только учтите, что следы этого шарфа найдены на месте преступления, в доме Жигунова, где совершено убийство.
— Не знаю никакого дома Жигунова.
— Ну, это вы совершенно напрасно! — рассмеялся Демин. — Вас там видели многие.
— Вы тут без меня могли все, что угодно, подтянуть, подделать, состыковать! — сказал Нефедов напряженным голосом, и Демин явственно услышал не столько его отрицание, сколько растерянность и вопрос — действительно ли все это доказано, и кто его видел, кто остался жив.
— Что вы, Нефедов! Такое серьезное преступление нельзя оформить вот так, походя. Событие из ряда вон, я должен представить суду надежные доказательства. Вот завтра-послезавтра начнем очные ставки, вы в этом кабинете увидите многих участников того развеселого застолья. Все они с нетерпением ждут встречи с вами. Потому что вы для них — спасение. Они уверяют меня в полной своей невиновности, а я, конечно, сомневаюсь, поскольку есть у меня и против них некоторые... соображения. Но теперь, когда появились вы, у них засверкали глаза, забрезжила надежда.
— Все на меня валят?
— А как же! Естественно. А вы будете валить на них. Куда вам деваться... Вот Бузыкин приедет, с ним потолкуете. А там, глядишь, понадобится следственный эксперимент, и мы снова вас всех рассадим за столом, как вы сидели у Жигунова... Вместо погибших сядут наши товарищи.
— Стращаете? — усмехнулся Нефедов.
— Упаси боже! Объясняю положение, в котором вы оказались. Должен сказать, что у меня нет большого желания встречаться с вами каждый день и смотреть, как вы комедию ломаете. В ближайшую неделю я буду беседовать с людьми, которые жаждут поговорить со мной, которым не терпится дать показания. А у вас будет возможность посидеть, подумать, сопоставить. Кстати, не хотите взглянуть на снимки? У нас прекрасный фотограф... Вот дом во время пожара, вот после пожара... Вот пострадавшие... Здесь невозможно разобрать, кто жив, кто мертв и вообще кто есть кто...
Демин видел, как вздрагивали снимки в длинных пальцах Нефедова, как солнечные блики, упав на отглянцованные поверхности, мелькали на его лице. А тот смотрел и смотрел на фотографии, словно забыв, что их надо вернуть. Демин не торопил его, понимая, что именно сейчас Нефедов, возможно, принимает самые серьезные решения. Наконец, словно спохватившись, Нефедов положил снимки на стол. Ну что ж, подумал Демин, эти снимки он не сможет забыть, они все время будут у него перед глазами, и это тоже хорошо, потому что до сих пор преступление, похоже, виделось ему в неких соблазнительных поворотах — выпивка, ссора, в которой он, конечно же, оказался сильнее других, красивее, и даже пожар за спиной казался просто внушительным зрелищем...
— Могу сказать, хотя вы мне и не поверите... Понимаете, Нефедов, все-таки жизнью движет порядочность, доброта, великодушие, если хотите. Как бы вы ко всему этому ни относились, но это так. И здесь вы оказались, потому что эти законы нарушили. Могло случиться так, что вы из универмага ушли бы безнаказанным и из горящего дома тоже могли уйти более удачно. Чего не бывает на белом свете... Но от стула, на котором вы сейчас сидите, вам было не уйти. Да, ведь я не сказал — во время пожара погибли двое, Дергачев и его жена. Как утверждают эксперты, смерть наступила от удара твердым предметом по голове. Старик Жигунов и Свирин...
— Какой Свирин? — встрепенулся Нефедов. — А! Так его фамилия Свирин...
— Так вот, эти живы, поправляются. Не думаю, что они расскажут что-нибудь новое... Их показания нужны скорее суду, нежели мне. Слова очевидцев — это серьезное доказательство, тем более слова потерпевших.
— Живы, значит, — проговорил Нефедов, и трудно было понять, произнес он это с облегчением или сожалением.
— Не сегодня-завтра можно будет поговорить с ними, — заверил Демин. — Вот вы все молчите, а я говорю, говорю... Наверно, неправильно веду допрос, но не молчать же нам обоим, верно? Конечно, молчание — это не самое худшее поведение для вас, но я бы и не назвал его наилучшим. Надо защищаться, Нефедов, а вы ведете себя безвольно. Вам надо сделать все возможное, чтобы хоть на год уменьшить наказание, на два...
— Этого я постараюсь добиться хорошим поведением там! — с вымученной удалью воскликнул Нефедов.
— Да? — удивился Демин. — Тут вы просчитались. Есть статьи Уголовного кодекса... Осужденные по этим статьям, ничего не заслуживают хорошим поведением. Может быть, вы надеетесь отделаться универмагом? Не получится. Хочу рассказать вам еще одну следственную тайну... При вскрытии Дергачевой в ней был обнаружен золотой кулон со знаком зодиака. А в универмаге следы этого кулона. Видите, как все перепуталось! Без вашей помощи мне не разобраться во всем этом...
— Так она его проглотила?! — Нефедов вскочил со стула и, шагнув к столу, уперся в него длинными руками. — Она его проглотила?!
— Проглотила, — кивнул Демин, не понимая, что же так потрясло Нефедова.
— О! — Нефедов обхватил лицо ладонями и, шатаясь, пошел по комнате. — Значит, Дергачев был прав... И она молчала... Проглотила и молчала, когда все это заварилось... — И тут с Нефедовым произошло еще одно превращение — согнувшись пополам, он хохотал, не в силах разогнуться, по лицу, искаженному судорожным смехом, катились слезы. Обессилев, Нефедов присел на стул, слезы, выдавленные смехом, теперь уже катились по его плачущему лицу. — Подлая баба, подлая баба, — повторял он. Залитые слезами глаза Нефедова, казалось, видели все, что произошло тогда в доме Жигунова, но только теперь он понял смысл всего происшедшего — так показалось Демину. Не зря он время от времени выкладывал Нефедову детали расследования, пытаясь расшевелить того, заинтересовать, включить в работу. Но Нефедов оставался безразличным или проявлял лишь вялый интерес, пока Демин не заговорил о вскрытии Дергачевой. Здесь и произошел срыв. Где-то рядом была разгадка всего происшедшего. Но в этот день Нефедов не произнес больше ничего связного. Заговорил он только на следующее утро.
Заглянув в кабинет начальника, Демин поразился — Рожнов сидел в темном костюме и белой сорочке, смущенный парадным своим нарядом.
— Что происходит, Иван Константинович? Куда это вы? Никак, к ордену приготовились?
— К генералу приготовился. Неплохо бы и тебе привести себя в порядок.
— Думаете, будет орден?
— Даст он тебе орден. Чтоб знал, как людей подозревать.
— Я это делал только с вашего позволения, Иван Константинович.
— Ладно, ладно... Ввел начальство в заблуждение, осрамил, можно сказать, а теперь бумажками прикрываешься... Нехорошо. Подумай лучше, как оправдываться будешь.
— Ничего, Иван Константинович, авось. Картина преступления ясна, подтверждена показаниями, документами, экспертизами. Выдержим генеральный натиск.
— Говоришь, ясна картина? — Рожнов откинулся на спинку стула. — Хорошо, давай прокрутим еще раз, чтобы уж быть уверенными. Итак, что произошло?
— Преступление совершил Нефедов. Кто такой Нефедов? Городской красавец, который решил однажды, что успех у девочек и в своей компании дает ему право на вольную жизнь. Драки, пьянки, озорство на грани хулиганства и так далее. Мать, не в силах справиться с ним, отправляет на перевоспитание к тетке. Заметьте — к старой женщине отправляется детина на третьем десятке лет. Там он знакомится с Бузыкиным. Вместе забираются в универмаг. Берут всякую дребедень, но помимо этого — золото. Нефедов решает, что для него началась новая жизнь. Он приезжает сюда, пытается продать золото. Подключает к этому Дергачева. Вечером в доме Жигунова они встречаются, чтобы рассчитаться. Необходимо учесть обстановку в доме — весь день приходят и уходят гости, чужие люди.
— Короче, — бросил Рожнов. — Из-за чего драка?
— Дергачев не может
полностью рассчитаться с Нефедовым. Клянется, что отдал все, роется в карманах своей фуфайки и не может найти золотого кулона. Нефедов ему не верит. Дергачев действительно не виноват, он не знал, что его подруга жизни, хлебнув лишнего, забралась к нему в фуфайку и, найдя золотой кулон, проглотила его, зная, что вещицу будут искать. Дальше вообще все просто — ссора, оскорбления, драка, и Нефедов в беспамятстве или еще там как-то хватает подвернувшийся молоток и бьет Дергачева по голове. К нему бросается жена Дергачева, ей тоже достается. Старик спит пьяный, Свирин — единственный свидетель. Нефедов, решив, что семь бед — один ответ, укладывает и его. Стаскивает в кучу тряпье, бумагу, поджигает и уходит. Через некоторое время, увидев, что дом не загорелся, возвращается. На этот раз все вспыхнуло отлично. Дальнейшие события вы знаете. На пожар приезжает следователь Демин и все ставит на свои места.
— Прекрасно, — кивнул Рожнов. — А в чем вина Борисихина?
— А разве он сам не написал покаяние?
— Написать-то написал, но теперь кое-кто не прочь это покаяние истолковать не в твою пользу — дескать, угрозами и принуждением заставил человека оговорить самого себя.
— Он написал это покаяние, когда я был в командировке, — улыбнулся Демин.
— Кое-кто готов поверить объяснению, что написано оно было раньше, а дата поставлена тем днем, когда тебя в городе не было.
— Так, — усмехнулся Демин, — теперь, значит, мне предстоит защищаться и доказывать, что я не верблюд.
— Может быть, ты и в самом деле не верблюд, но это нужно доказать.
— Нет, — Демин покачал головой. — Нет, Иван Константинович, доказывать это не надо. У нас, слава богу, презумпция невиновности, и по оной презумпции я невиновен. А если кто-то хочет доказать, что я верблюд, — прошу. Я готов выслушать его доказательства.
— Ошибаешься. Презумпция невиновности защищает Нефедова, Борисихина и прочих. Но не тебя.
— Я что — рыжий?
— Слегка.
— Доказывать невиновность мне не придется по той простой причине, что Борисихин в своем покаянном письме написал правду. И эта правда вписывается в общую картину преступления. Когда он выволакивал из дома свою жену, старик мелко и пакостно похихикал над ним. И Борисихин, не сдержавшись, ударил его кулаком. Об этом он и написал. А на следующий день побежал тайком в больницу, чтобы узнать, жив ли старик, не убил ли он его. Он пробрался со двора черным ходом, влез в раствор и, естественно, дал мне повод заподозрить его. Притом, заметьте, никто не мог подтвердить, что в эту ночь он был дома.
— А молодой Жигунов?
— С Жигуновым все сложнее. При обыске в комнате найден зеленый шарф, а ворсинки от этого шарфа — на заборе. Значит, Жигунов был на месте преступления. Кроме того, на шарфе пятна крови. По группе — кровь отца.
— Как ты это объясняешь? Откуда у Жигунова кровь на одежде?
— Когда Борисихин уложил старика в снег, Жигунов вместе с Нефедовым втащили его в дом и, конечно, перемазались. Вот и все.
— Знаешь, меня смущает зеленый шарфик... Ведь его видели на Нефедове, а нашли у Жигунова!
— Все просто, Иван Константинович. Шарф принадлежал Нефедову. И он был на Нефедове, когда тот приходил к Мисюку. Он был на Нефедове, когда он с Жигуновым втаскивал старика в дом. В этот момент и запачкал шарф. В доме Нефедов разделся и шарф, естественно, снял. Жигунов уходил изрядно выпивший. По ошибке прихватил шарф с собой и принес в общежитие. Но жена, увидев, в каком он состоянии, выгнала его. Жигунов ушел, как говорится, в ночь. Вытолкнув его из дома, жена выбросила вслед за ним пальто и шапку, а шарф оставила на вешалке. А Жигунов, проведя ночь у знакомой женщины, боялся сказать об этом. Не столько меня, сколько жены опасался. И таким образом, дал мне основания заподозрить его.
— А Мамедов? — спросил Рожнов.
— Что Мамедов? Старик выманил у него две тысячи и отказался их вернуть. Горячая кавказская натура могла возмутиться? Могла.
— А как вымазался в кровь Мамедов? Откуда пепел на его обуви?
— В деле об этом сказано подробно. Мамедов, увидев, что дом полон гостей, решил зайти позже. И пришел как раз в тот момент, когда Нефедов поджег ворох тряпок и бумаг. Мамедов увидел окровавленных людей, пылающую кучу тряпья и...
— Оцепенел? — подсказал Рожнов.
— Совершенно верно. Оцепенел. Но быстро пришел в себя. Затоптал огонь, оттащил от тлеющих тряпок людей и сбежал, справедливо рассудив, что если его застанут здесь, то, конечно, решат, что все это натворил он. Сбежал в калитку. Он не знал о существовании выхода через сад. Об этом выходе знал сын старика, Михаил, он и оставил на заборе ворсинки. Нефедов, отойдя от дома, заметил, что пламя погасло. Тогда он вернулся, поджег снова и, убедившись, что огонь набрал силу, ушел.
— Это он сам тебе рассказал?
— Не надо, Иван Константинович, все понимаю. Вы хотите сказать, что, возможно, и Мамедов, и Борисихин, и Жигунов все-таки как-то причастны... Проверил. Сопоставил. Все сходится. Поработал один Нефедов. Он сам рассказал, и все его слова подтверждены. И потом заметьте — поведение всех подозреваемых вписывается в общую картину. Мы могли им верить или не верить, могли искать ложь в их словах, но они говорили правду. Не всю, но правду. Каждый что-то скрывал, у каждого были основания говорить не все. Но теперь, когда мы знаем мотивы их поведения...
— Да, а большой след у калитки? Кто его оставил?
— Понятия не имею, — улыбнулся Демин. — Может, пожарные, может, милиция...
— Почему Нефедов поехал в Закаталы?
— Ему некуда было ехать. Он понимал, что все его родственники отпадают, их тут же возьмут под присмотр. А уехать он хотел надолго. Кроме того, он собирался продать остальное золото. Во время пьяного застолья Нефедов выудил у Мамедова сведения о родне, так что тот почти и не заметил этого! Но, приехав в Закаталы, сообразил, что появляться у родни Мамедова не следует. Этот вариант Нефедов просто держал в запасе. В Закаталы он приехал, поскольку не мог знать, что мы задержали Мамедова.
— А что золото? Мы можем похвастать, что все вернули государству?
— Похвастать можем, Но вернули не все. Чуть больше половины. По дороге на Кавказ Нефедов сумел сбыть еще несколько вещиц. Ну а остальное нашли при обыске в том доме, где он остановился. И где спрятал — в собачьей будке. Там собака — с вас ростом, Иван Константинович.
— Ладно, — хмуро сказал Рожнов, недовольный сравнением с собакой. — Пошли. Генерал ждать не любит.
ТАЙФУН
Повесть

Глава первая
За какой-то час тайфун накрыл остров плотными, тяжелыми тучами. Вечер наступил раньше обычного, это было заметно сразу. Сумерки сгустились уже к трем часам, а низкое сахалинское небо, казалось, совсем легло на крыши домов. Было что-то гнетущее в надсадном вое ветра, в снегопаде, в размытых контурах человеческих фигур.
И даже когда совсем стемнело, на фоне окон и витрин в свете уцелевших фонарей было видно, как валит снег. Лохматые, взъерошенные снежинки шли сплошной массой. Сугробы набухали, затопляли улицы, подбираясь к подоконникам нижних этажей. То, что мягкой тяжестью валилось сверху, вряд ли можно было назвать снегом — словом, за которым с детства видится что-то праздничное. Шел совсем не тот снег, который так украшает новогодние улицы, ресницы и так красиво ложится на провода, крыши, заборы. Это была уже стихия.
Завязшие в снегу автобусы, такси, грузовики оставались на улицах, напоминая вздувшиеся сугробы. По городу разъезжали лишь вездеходы и тягачи местного гарнизона. Их почти не было видно в снегопаде, и люди шарахались в стороны, издали заслышав грохот сильных моторов, скрежет гусениц. Тягачами пытались если не расчистить, то хотя бы наметить место, где раньше была дорога, чтобы потом, когда все утихнет, не срезать бульдозерами вместе с сугробами кустарник, клумбы, деревья. После каждого бурана улицы превращались в глубокие траншеи, и очередной снегопад заносил их быстро, намертво. За зиму дороги поднимались на несколько метров, и никого не удивляло, когда к весне машины ходили на уровне второго этажа.
В магазинах расхватывали хлеб, консервы, рыбу. К вечеру очереди стояли уже за детской мукой, за пряниками, печеньем. В промтоварные магазины заходили лишь для того, чтобы отогреться, распрямить затекшие спины, снять с лиц снежные корки.
Среди прохожих попадалось все больше лыжников. Домохозяйки на лыжах обходили ближайшие магазины, на лыжи вставали врачи «Скорой помощи», доставщики телеграмм, милиционеры, электромонтеры — в горсеть беспрерывно поступали сигналы о поваленных столбах, оборванных проводах, перегоревших предохранителях.
Чтобы можно было смотреть перед собой, лица приходилось закрывать целлулоидными пленками, фанерными дощечками, картонками с прорезями для глаз. Некоторые на головы под шапки натягивали целлофановые мешки. Встречались прохожие и в карнавальных масках, пугая встречных звериным обличьем или застывшей, неживой ухмылкой.
На почту уже несколько дней не поступали ни газеты, ни письма. Только у окошка приема телеграмм с утра стояла терпеливая очередь. Остров успокаивал, остров просил не волноваться. Школы засветло распустили учеников, закрылись кинотеатры. На заводах рабочие, оставив цехи, расчищали заносы у складов и подъездных путей. Ударные бригады пробивали дороги к хлебокомбинату, угольным складам, электростанции. На тягачах и вездеходах доставляли молоко в детские кухни и больницы, хлеб — в магазины. Жители одноэтажных домов спешно запасались водой, дровами, впускали кошек, собак, коз — вполне возможно, что после бурана из-под снега не будет видно и печной трубы.
Самый большой город острова словно готовился к длительной и тяжелой осаде. А маленькие поселки, деревни затаились в ожидании. Они могли противопоставить снегу только спокойствие и выдержку.
Спешили в порты катера, пароходы, рыболовные суда. Не жалея моторов, таранили сугробы шоферы, торопясь добраться хотя бы до придорожной заброшенной избы. Разворачивались в воздухе и уходили на материк самолеты.
К тайфунам можно относиться по-разному — одни их проклинают, как помеху в делах, другие переносят молча, угрюмо, словно обиды, на которые нельзя ответить, а многие откровенно восхищаются тайфунами, радуются им, как неожиданным праздникам. Тайфун взбадривает. Он нарушает равномерное течение будней и приносит с собой события, происшествия. Они, правда, не всегда бывают веселыми, эти происшествия, но ведь и в ясную погоду случается всякое. Тайфун врывается словно из каких-то очень далеких, прошлых времен, словно он долго был скован чем-то и вот вырвался, пронесся над островом и принес погоду, которая была здесь обычной тысячи лет назад.
И как бы там ни было, тайфун не забывается. Он навсегда остается с вами как воспоминание о чем-то значительном, не до конца понятом, и навсегда остается желание пережить его снова. Тайфун будит что-то в нас — то ли способность восхищаться погодой, какой бы она ни была, то ли утерянные возможности, а может, порывы, возвышенные и дерзкие. А когда все утихает и солнце затопляет остров, бывает, что вспоминаются не вой ветра, не тяжесть снега, а душевное волнение, которое почему-то пришло к вам, когда над головой буйствовал тайфун.
Управление располагалось в старом добротном здании. Вход был сделан с угла, а из просторного низкого вестибюля на второй этаж вели две лестницы. Одна — широкая, парадная, с толстыми деревянными перилами, покрытыми черным лаком, а вторая — винтовая, украшенная чугунным литьем. В некоторых кабинетах еще остались старые сейфы — громадные, чуть ли не до потолка, часы-шкафы. Держали их больше для колорита — часам не верили, а в сейфы помещали не очень важные бумаги.
Левашов подошел к дежурному, возбужденному непогодой парню, глянул на него исподлобья, сквозь нависший мех заснеженной шапки, подождал, пока он кончит говорить по телефону...
— Пермяков здесь?
— Сейчас подойдет. Ты уже в курсе? Надо же такое, а! — возмутился дежурный. — Было-было, но такое... Это же ни в какие ворота! Сколько их было, трое? — Дежурный догадывался, что Левашов знает больше, чем он, но тот молчал. — А вот и Пермяков!
Левашов обернулся и на площадке широкой лестницы увидел Пермякова — маленького, стройного и озадаченного. В одной руке он держал шапку, намотав шнурок на палец, а в другой — кобуру с пистолетом. Подойдя к Левашову, он сунул шапку под мышку и протянул освободившуюся руку.
— Чует мое сердце, что у кого-то будут семейные неприятности. — Дежурный, сморщив нос, подмигнул Левашову двумя глазами сразу.
— С твоим чутким сердцем не здесь надо работать! — оборвал его Пермяков. — Вон в бюро добрых услуг нянек никак не наберут. Между прочим, там неплохо платят... Трешка за ребенко-час... Отойдем, Сережа, — сказал он Левашову.
Они прошли в другой конец вестибюля и сели на деревянную скамью, высокая спинка которой была украшена резными буквами — МПС. Видно, не один год простояла она в залах ожидания островных вокзалов.
— Даже не знаю, куда мозги направить, — сказал Пермяков.
— Наше дело — поезд. Остальные версии ребята берут на себя. Они отработают их без нас.
— И много этих остальных?
— Да есть... Все-таки те не удержались, наследили. Наши уже нашли отпечатки пальцев, надо их проверить по картотеке. Продавцы всех грабителей видели в лицо, правда, те были закутаны в шарфы, но надежда есть.
— Надежда всегда есть, — вздохнул Пермяков. — А вот есть ли уверенность...
— Знаешь, Гена, если бы у нас всегда была уверенность в том, что мы задержим преступников, то, наверно, скучно было бы работать. И потом, тебе никто не мешает самую зыбкую надежду превратить в самую железную уверенность. Работай, шевели мозгами, и воришки будут у тебя в кармане.
— Хороши воришки — пятьдесят тысяч хапнуть! А что мы будем делать в поезде?
— Превращать надежду в уверенность.
— Интересно — как?
— Ну откуда я знаю, Гена! Придумаем что-нибудь под стук колес. Надо что-то придумать. Бесполезно ходить по вагонам и спрашивать, не везет ли кто случайно в своем чемодане пятьдесят тысяч рублей. Ты жену предупредил?
— Да.
— Ну что она? Обошлось?
— Спроси о чем-нибудь полегче. Трубку бросила — вот что. Она хороший человек, я хороший человек, а поговорить не можем. Дичь какая-то.
— Ладно, Гена, оставим эту тему. Для начала договоримся так: едем в разных вагонах, друг друга не знаем. «Познакомимся» там, учитывая ситуацию.
— Добро, все понял.
— И еще — осторожней. Вот тебе вторая обойма. На всякий случай.
— Добро. Все будет в порядке. Слушай, Серега, ты позвони моей, а? Скажи, что, мол, чрезвычайной важности дело и поручить никому нельзя, кроме как мне, а? Только не от дежурного, а то ему до конца смены потеха будет. Не понимаю, за что она уважает тебя. — Пермяков недоуменно вскинул светлые брови. — Красивым тебя даже я не могу назвать. Мешки под глазами, толком ни одного анекдота рассказать не можешь, вот только рост...
— Мужчина начинается со ста восьмидесяти, — улыбнулся Левашов.
Они поднялись на второй этаж, вошли в пустую приемную, включили свет. Пермяков, торопясь, набрал номер.
— Алло, — сказал Левашов, — это Катя? Добрый вечер... Левашов беспокоит... Катя, у нас тут с Геной небольшое мероприятие... Так ты того... Не огорчайся, ладно? Ну добро. Пока.
— И все?! Что она сказала?
— Желает удачи... Ладно, Гена, нам пора.
Когда Левашов вышел на улицу, в лицо ему словно кто-то запустил снежок — ураганный ветер, насыщенный снегом, бил сильно и резко. И Левашов улыбнулся. Он любил такую погоду.
Пермяков уже суетился у вездехода, то возникая в свете фар, то снова исчезая. Едва они забрались в кабину и захлопнули дверцу, вездеход круто развернулся на месте, осветив фарами промерзшие стены полузанесенного здания, верхушки елей, торчавшие из сугробов, и резко рванул с места.
Откинувшись на сиденье, Левашов закрыл глаза. Итак, опять задание, опять он несется куда-то, и время для него отсчитывается иначе, чем для остальных людей. Они с Пермяковым оказались в том промежутке времени, когда час, сутки, день, ночь не имели почти никакого значения, потому что все было подчинено одной цели — найти и задержать человека, у которого в чемодане лежат пятьдесят тысяч рублей. Или же наверняка убедиться в том, что задержать они его не смогут.
Если бы Левашов попытался определить свое состояние, то вряд ли он смог бы сделать это легко и уверенно. Была, конечно, озабоченность, потому что в работе, которой он занимался, любое задание — это испытание. Каждый раз проверялось его умение поступать единственно правильно, независимо от того, даются ли на размышление доли секунды или нет даже этого времени. Конечно, было нетерпение, хотелось побыстрее оказаться на вокзале, в поезде. Было напряжение и, как это ни покажется странным, ощущение счастья — наступали именно те часы, ради которых он и выбрал именно эту работу. Потом будет составление отчетов, хождение по кабинетам, обсуждения, но это будет потом. А сейчас поиск, и ты опять куда-то едешь, и раскачивается на сугробах вездеход, и ревет над головой тайфун.
Левашов наклонился вперед и долго всматривался в ветровое стекло, в снег, бешено проносящийся в свете фар.
— Послушай, парень, — обратился он к водителю, — а ты не боишься задавить кого-нибудь? Видимость-то, как я понимаю, почти нулевая...
— Откровенно говоря, это единственное, чего я сейчас боюсь. — Водитель улыбнулся.
— А случалось? — спросил Пермяков.
— Со мной нет, — опять улыбнулся водитель. — А, черт! Опять «дворники» заклинило. — Остановив вездеход, он просунул руку наружу и начал очищать ветровое стекло. И за какую-то минуту, пока была приоткрыта дверца, всех в кабине запорошило снегом. Не отряхивая, его, Левашов опять откинулся на сиденье.
Левашов приехал в эти края несколько лет назад, но до сих пор не пропало в нем чувство новизны. Странное волнение охватывало его при виде снежных заносов, летних дождей и туманов, при виде влажных сопок или прозрачных горных ручьев. Он полюбил остров еще там, на материке. Его форма напоминала Левашову магнитную стрелку гигантского компаса, а иногда — корабль или глубинную рыбу с костистой пастью. Он подолгу рассматривал карты острова, бормоча про себя незнакомые названия городов и поселков, а в людях, которые приезжали оттуда, невольно искал что-то необычное.
Левашов хорошо помнил день, когда он сел в самолет. Это было тихой сырой осенью. Шел мелкий дождь, и взлетная полоса блестела как большой проспект, с которого вдруг исчезли дома, деревья, памятники. Осталась только прямая мокрая дорога, в которой отражались серые громады самолетов. По их клепаным бокам, будто покрытым гусиной кожей, рывками стекали капли дождя. Здесь, на земле, самолеты казались чужими и неуклюжими. Они угрюмо ждали, пока маленькие, суетливые люди закончат возню вокруг них, и можно будет освобожденно и восторженно оттолкнуться и уйти к себе — в тяжелое сырое небо.
Потом, когда наступили сумерки, объявили посадку, Левашов медленно прошел через летное поле, ступая по бетонным плитам, по мелкими морщинистым лужам, по листьям, занесенным с деревьев, окружавших аэровокзал. Листья казались выцветшими, они лежали на бетоне, бледные и размокшие. Левашова обогнал электрокар, и оранжевая куртка водителя тоже казалась какой-то бесцветной.
В свете прожекторов тускло поблескивало брюхо самолета. Провисшие крылья скрывались где-то в тумане. И конца очереди у трапа тоже не было видно. Вереница людей, казалось, шла через поле, выходила на шоссе и тянулась, тянулась до самого города, будто к трапу выстроилось все его население, будто объявление о посадке прозвучало не только в аэропорту, но и в домах, на заводах, улицах.
Но вот по телу самолета пробежала нетерпеливая дрожь, он дернулся, пронесся по полосе, оттолкнулся и, будто успокоившись, ушел в туманное небо. Где-то внизу, под маскировочной сеткой дождя, текла широкая река, теплились огоньки бакенов, катеров, барж. Через несколько минут показались звезды. Самолет продолжал набирать высоту.
В Москве стоял мороз, и прозрачная поземка мела по белесым плиткам аэродрома. В ночном воздухе самолеты уже не выглядели угрюмыми существами из другого мира. Они сверкали разноцветными огнями, будто приглашая к празднику, тревожному и неожиданному. В душу невольно закрадывалась робость, боязнь оплошать, не оправдать собственных надежд на самого себя.
В темном промерзшем автобусе Левашов переехал с Внукова на Домодедово. Там на него сразу дохнуло просторами, которые измерялись тысячами километров, сутками перелетов, часовыми поясами.
И опять самолет рванулся в небо, раскалывая и дробя мерзлый воздух. Москва, будто плоская галактика, качнулась и ушла в сторону, уменьшаясь и теряясь среди звезд. Ночь кончилась неожиданно быстро, а утром где-то внизу медленно проплыли заснеженные горы Урала, замерзшие болота Западной Сибири, днем он видел горы Восточной Сибири, похожие на розовую скомканную бумагу. Потом приблизился Дальний Восток — сумрачный и туманный. Неожиданно кончились облака, будто отшатнулись назад, к материку, а под самолетом оказалась пустота, от одного вида которой сжималось сердце и метался по груди испуганный холодок. На дне провала колыхалось море. Это был Татарский пролив. Едва достигнув его середины, самолет начал снижаться, и вскоре у самого горизонта показался клубящийся туманом остров.
О том, что вездеход добрался до вокзала, знал только водитель. Выглянув из кабины, можно было подумать, что вездеход просто проехал по кругу. Все так же валил снег, и так же, как возле управления, ничего не было видно, кроме снежного месива и света фар.
Первым из кабины выпрыгнул Пермяков и, махнув рукой, исчез в снегу. Потом, опершись о гусеницу, спрыгнул Левашов. Где-то впереди виднелось слабое свечение — там был вокзал. Рядом с протоптанной дорожкой из сугроба торчала жестяная вывеска киоска. А сам киоск, как стеклянный погреб с банками, мерзлыми, звонкими пирожками, с растрескавшимися бутылками, из которых торчал розовый напиток «Горный воздух», был где-то внизу. Электричество в киоске не выключили, и он слабо светился под снегом. Невдалеке время от времени вспыхивал красный фонарь светофора. Желтый и зеленый были занесены. Со стороны клуба железнодорожников, который словно нависал над привокзальной площадью, доносился скрежет — надорванные листы кровельного железа бились как мерзлое белье на веревке. Оторвавшись, они черными птицами летели над вокзалом, над перроном и бесшумно падали в сугробы где-то среди маленьких корейских домиков.
Вспарывая унтами снег, Левашов прошел вдоль деревянного вокзала. У фонаря над входом ветром переломило провод, и лампочка, мигала, мигала, будто морзянкой настойчиво и безнадежно звала на помощь.
По железной лестнице, прилепившейся к стене вокзала, Левашов поднялся на второй этаж и вошел в кабинет начальника. Усатый, седой и энергичный, он быстро кивнул Левашову и снова повернулся к собеседнику. Левашов улыбнулся про себя, заметив, как у начальника сразу изменился тон — он стал игривым и снисходительным.
— Ну что ты паникуешь, Денисов? Отличная погода! Бодрит! Молодит! Посмотри на меня — разве нет? — Начальник приосанился и быстро взглянул на Левашова.
— Да уж молодит, — хмуро ответил Денисов. — Не знаешь, куда девать бодрость-то... Я вот подумал...
— Рейс отменить? Чего ради?! Ну снежок выпал, ну ветерок подул! А ты испугался? Ну?! Послушай-ка, Денисов... Дорога в порядке. Полчаса назад пришел состав из Макарова. И потом, снег идет только на юге. Доберешься до Долинска, а там тебе зеленая улица! Подумай о наших показателях, Денисов! Один отмененный рейс — и прости-прощай все премии, вся слава и почет! — Начальник улыбнулся, его короткие усы вытянулись, стали тоньше, а упавшая на лоб негустая седая прядь придала ему выражение молодое и отчаянное.
— О славе да почете и без меня есть кому подумать. — Денисов посмотрел на лужу, которая растеклась от его валенок, смущенно переставил ноги в сторону, потом, не выдержав, поднялся и пересел на соседний стул.
— И еще, — продолжал начальник, — завтра я доложу в управление, что в чрезвычайно сложных погодных условиях безукоризненно провел состав по длиннейшей трассе острова опытный машинист Денисов. Ты слышишь? Безукоризненно! — Начальник поднял указательный палец, словно бы сам удивляясь той славе, которая свалится завтра на плечи опытного машиниста Денисова.
— Да будет тебе языком-то молоть, — непочтительно сказал машинист и махнул рукой. Его, видно, нисколько не смущало присутствие постороннего. — Зарядил — в управление доложу, в управление доложу... Докладывай, если тебе больше нечего доложить...
— Ну хорошо, — сказал начальник. — Уж и пошутить с тобой нельзя. Больно ты серьезным стал, Денисов. — Заметив, как поморщился машинист, начальник тоже стал серьезным. — Скажи, пожалуйста, кого мне послать в этот рейс? Ну, говори, кого? Чтобы и дорогу знал, и опыт был бы у него в такую погоду поезда водить... Ну? Предлагай кого-нибудь...
— Господи! — воскликнул Денисов и посмотрел на начальника чуть ли не с сожалением. — Да не за тем я пришел! Не надо меня уговаривать, не девчонка я... Мне сказано, я сделал. Чего ты меня уговариваешь, чего обижаешь?
— Я тебя обижаю?! — ужаснулся начальник.
— Конечно. Если ты меня уговариваешь, значит, ты считаешь, что я могу поступить и так, и этак, могу поехать, могу отказаться, могу подумать и снова согласиться. Ты это брось, — строго сказал Денисов. — Я вот чего пришел...
— Ну?! Я слушаю.
— Где я живу, ты знаешь...
— Знаю. Что дальше?
— А то дальше, что жена у меня дома остается. Отрыть бы надо жену-то... когда занесет. Такая вот просьба. — Денисов поднял голову и в упор посмотрел на начальника. — Так как?
— Ну и паникер ты, Денисов! Ну, паникер! Посмотри в окно — снег-то кончается! Луна в окно смотрит! Звезды ясные!
— Не знаю, может, и луна в окно смотрит, а может, кто фонарь за луну принял. Не о том я... Я вот что... Если засыплет мою-то... отрыть надо. Потому как сама не сможет. С крышей нас всегда заносит. С трубой. Ты небось уж и забыл, как это бывает, потому запиши себе на бумажке-то... На всякий случай. Я понимаю, у вас тут без меня хлопот будет, но ты все же запиши.
— Хорошо, Денисов. Не беспокойся. Управление в снегу оставим, а жену твою вызволим.
Денисов молча поднялся, как-то раздумчиво подошел к двери, потоптался, будто хотел еще что-то сказать, но, так и не сказав ничего, вышел. На секунду в комнату из темноты ворвалось холодное облако снежинок, но дверь захлопнулась, и снежинки осели, растаяли.
— Я вас слушаю, товарищ Левашов. — Начальник энергично вышел из-за стола и протянул руку.
— Вы, оказывается, помните меня...
— Что вы! — Начальник всплеснул ладошками. — Ведь мы на острове. Людей не так уж много, а тех, кто постоянно пользуется услугами железнодорожного транспорта, я знаю наперечет.
— Из вашего разговора я понял, что рейс на Тымовское не отменяется? — Левашов пристроился у теплой батареи.
— И не отменится.
— Поезд выходит точно по расписанию?
— Да. Выходит. А вот будет ли он идти по расписанию, сказать трудно. Заносы.
— Сколько будет пассажиров?
— Около двухсот.
— Купированных вагонов в составе много?
— Не то два, не то три. Я могу уточнить...
— Не надо. Все билеты, конечно, проданы?
— Есть билеты.
— И общие, и плацкартные, и купейные?
— Да. Знаете, товарищ Левашов, мне хочется спросить вас, зачем все эти... чисто наши сведения?
— В поезде едет один... один нехороший человек. Мне нужно его найти. Вот я и хочу знать, среди скольких пассажиров придется искать. Оказывается, из двухсот. Я хочу знать, трудно ли ему будет уехать этим поездом, если он билета заранее не купил. Оказывается, уехать легко. Он подходит к кассе и берет билет. Допустим, вот вы, человек, хорошо знающий порядки на железной дороге, решили скрыться от правосудия... В каком вагоне вы поедете?
— Я?! Хм... Я бы не поехал поездом... Я бы.., ушел в подполье. Да, думаю, что это было бы лучше всего.
— А если бы вам все-таки нужно было уехать? Причем именно поездом, поскольку ни на чем другом уехать вы не сможете?
— Если я правильно понимаю психологию... нехорошего человека, как вы выражаетесь, — начальник в задумчивости подергал себя за усы, почесал подбородок, поудобней уселся в кресле, — думаю, что он будет стремиться произвести хорошее впечатление и в то же время постарается, чтобы его видели поменьше... Если он не ограничен в средствах...
— Он не ограничен в средствах. — Левашов начал терять терпение.
— Тогда, разумеется, он, то есть я, поехал бы в купейном вагоне.
— Я тоже, — сказал Левашов, поднимаясь,
— Ну что ж... Счастливого пути. Надеюсь, вас не затруднит позвонить мне как-нибудь и сказать... и сказать, правильно ли я понимаю психологию нехорошего человека.
— Вы знаете бригадира поезда?
— Дроздова-то? Разумеется! В свое время мы с ним...
— На него можно положиться?
— Как на меня! — заверил начальник.
Выйдя, Левашов остановился на лестничной площадке. Состава, стоящего внизу, он не увидел. Только размытые контуры вагонов шевелились при слабом свете задыхающихся в снегу лампочек. А дальше — взбудораженная темнота, наполненная снегом и воем урагана. Где-то совсем рядом, загнанно и сипло кричали невидимые паровозы, из занесенных динамиков изредка доносились отдельные невнятные слова — диспетчер пытался отдавать какие-то распоряжения.
Где-то совсем рядом, вокруг вокзала, жил большой город, и две сотни его жителей собирались этим вечером в дорогу. Левашов не мог не подумать о них, стоя на железной площадке, нависшей над перроном, не мог не подумать о человеке, которого ему предстояло найти.
Глава вторая
Виталий решил выпить кофе. Не потому, что ему так уж хотелось этого кофе, вовсе нет. Просто ему понравилась сама мысль — а не выпить ли мне чашечку-другую крепкого кофе, черт возьми! И он, закрыв глаза от ударов снежинок, не торопясь поднялся по ступенькам ресторана. Ему страшно хотелось вбежать, захлопнуть за собой дверь и побыстрее сбросить промерзшее нейлоновое пальто, жесткое и гремящее, как жесть. Но поступить так значило уронить себя в глазах тех невольных свидетелей, которые, возможно, наблюдали за ним.
В вестибюле Виталий отряхнул снег, сдал пальто гардеробщику, заодно купил у него пачку сигарет. Правда, в кармане у Виталия лежала едва начатая пачка, но купить у старика за полтинник сигареты, которые стоят тридцать копеек, — это кое о чем говорило.
Остановившись у зеркала, Виталий скучающе скользнул взглядом по женским коленям, а потом, так и не посмотрев на самих женщин, на их лица, поднялся на второй этаж.
Черные глаза, длинные бархатные ресницы — в этом было что-то девичье. Но молодые морщины на лбу все ставили на свое место. Они придавали его лицу выражение скорбное и оценивающее.
Единственно, с чем Виталию не повезло, так это со ртом. У него был маленький бескровный рот. Похожий на щель, он постоянно менял форму, размер, выражение. Верхние и нижние края этой щели жили как-то самостоятельно, и каждая кривилась как хотела. Но зато зубы у Виталия были в порядке, и он смеялся охотно и громко. Его шумный смех тоже кое о чем говорил... Вы только посмотрите, как легко и беззаботно я смеюсь! Я даже не очень-то забочусь о том, чтобы мой смех был благозвучным. Согласитесь, человек, который может смеяться так искренне и откровенно, так радостно к беззаботно, — хороший человек.
Кофе Виталий мог выпить и внизу, в гастрономе. Отличный свежий кофе, но выпить его в гастрономе, стоя, одетым... Нет. И Виталий с наслаждением прихлебывал из граненого стакана серую холодную бурду, наблюдал за приготовлениями оркестра и за девушкой у окна. Девушка должна была почувствовать, что парень, с которым она пришла сюда... Она достойна гораздо большего. И, кто знает, не сложись все так вот грустно и неудачно, она сидела бы с Виталием, и как им было бы хорошо!
Виталий безнадежно улыбнулся девушке и, уловив момент, когда она повернулась в его сторону, взглянул на часы, и поискал глазами официанта. Но едва только заиграл оркестр, он подошел к их столику, извинился перед парнем и пригласил ее. Девушка покраснела, растерялась и... поднялась.
Некоторое время они танцевали молча, одни во всем зале. Потом Виталий задал вопрос, ответ на который он уже знал.
— Это, — он показал глазами куда-то в зал, — ваш муж?
— Нет, что вы! — быстро ответила девушка.
— Нет?! — изумился Виталий. — И вам... интересно с ним?
— Да как вам сказать... В общем-то...
— Все ясно. Вы его терпеть не можете.
— Ну что вы... Это, пожалуй, слишком.
Виталий почувствовал вдохновение. Разговор шел так, как ему хотелось, позиции определились.
— Вы часто бываете здесь? — спросил он, закончив поворот, во время которого как-то уж очень нечаянно коснулся ее.
— Нет, что вы! Первый раз. Он пригласил и...
— И вы пошли?
— Так уж получилось.
Девушка оправдывалась, а большего Виталию и не нужно было. Теперь он мог спокойно уходить, тем более что времени у него оставалось в обрез.
— А где вы бываете часто? — спросил он, улыбаясь смутно и неопределенно, словно смотрел в витрине на вещи, которых ему никогда не купить.
— В пирожковой... Возле Дворца спорта, знаете?..
— Ну вот и все... Наше с вами время кончилось. Благодарю вас. Мне пора.
— Вы уходите?
— Я уезжаю, — сказал он горько. — На полюс холода — в Тымовскую долину. Дела. Серьезные, неотложные... небезопасные. Ну да ладно, — и, словно бы отбрасывая печальные и неуместные мысли, добавил: — Я не спрашиваю, как вас зовут... Вы мне скажете, когда мы встретимся. Возле Дворца спорта. Хорошо? Мы встретимся с вами совершенно случайно, хорошо?
Девушка кивнула, когда они уже шли к столику. На парня Виталий больше не взглянул. Он положил на блюдце монетку за кофе и, кивнув девушке, направился к выходу. Через весь зал, по узкой ковровой дорожке, высокий, таинственный, провожаемый взглядами...
— Эй, кореш! — неожиданно громко окликнул его парень. — Подойди сюда на минутку.
Виталий еще издали улыбнулся девушке и подошел, внезапно ощутив, как часто застучало сердце. Он почувствовал опасность.
— Скажи мне вот что, — парень смотрел на него раздумчиво, будто решая для себя нечто важное, — тебе никогда не били морду в ресторане?
— Да нет, как-то обходилось...
— Странно, — медленно проговорил парень, вертя в пальцах пустую рюмку. — Очень странно. Ну, ладно, иди. Иди-иди, я больше тебя не задерживаю.
Виталий пожал плечами, недоуменно посмотрел на девушку, повернулся и пошел, невольно убыстряя шаги и чувствуя, как вдруг вспотела ладонь, сжимающая ручку саквояжа. Ему страшно хотелось обернуться, чтобы узнать, не идет ли парень за ним, но он сдержался. Уже выходя из зала, аккуратно закрывая за собой дверь, он все-таки оглянулся. И перевел дух — парень остался сидеть. А окончательно он пришел в себя на улице, когда огни ресторана исчезли в снегопаде.
В тот самый момент, когда Виталий танцевал с незнакомой девушкой, очень пожилой человек по фамилии Арнаутов стоял, упершись тяжелым морщинистым лбом в холодное оконное стекло. Он долго смотрел на плавающие в снегу фонари, на размытые пятна окон, на медленно передвигающиеся по улице огни тягача. Стекло приятно охлаждало лоб, и Арнаутов прикрыл глаза. Порывы ветра по ту сторону окна создавали приятное чувство безопасности. Где-то люди пробирались домой, где-то мерзли шоферы в своих машинах, прятались за торосы застигнутые врасплох рыболовы...
Арнаутов на какую-то секунду представил себя, там, за окном, беспомощно барахтающимся в снегу, и зябко поежился. Он плотно задернул шторы, будто отгораживаясь от бурана, снова сел, опустив руки между колен.
— Ну? Ты долго убиваться-то будешь? — спросила жена. Она все это время стояла в дверях и терпеливо ждала, пока он взглянет на нее. Старик вскинул клочковатые брови, и на мгновение под ними сверкнули маленькие синие глазки.
— Ну? — снова сказала она. — Ничего же не случилось! Не случилось ведь!
— Может, случилось, а может, и нет. — Голос у Арнаутова был низкий, со слабой хрипотцой.
— Нельзя же быть такой тряпкой! Нельзя ведь!
— Хх, — усмехнулся Арнаутов. — Когда-то надо ею стать, тряпкой-то... У меня это получилось сегодня.
— Перестань. Это от погоды. Буран, упало давление... у тебя уже было такое.
Арнаутов с усилием поднял голову, вскинул брови, и где-то там, в глубине, она опять увидела его глаза.
— Каждый раз это бывает по-разному... Раньше я бесился, бежал куда-то... А теперь прошло... Все это ни к чему. Бесполезно.
— Может, ты просто устал? — Жена пыталась если не успокоить, то хоть как-то расшевелить его.
— Возможно, — протянул он безразлично. — Мне уже не хочется...
— Чего не хочется?
— Все зависит от того, как повезет, а остальное... — он махнул рукой, — остальное так...
— Брось говорить глупости. Возьми себя в руки.
— Я возьму или меня возьмут... Так ли уж это важно теперь... Главное, что я буду в руках.
— Да можешь ли ты сказать наконец, что произошло?! — Жена подошла к нему и села рядом.
— Мне лучше уехать. Хоть на неделю.
— Куда?! Ты смотри, что делается на дворе!
— Вот и хорошо, — сказал он спокойно.
— Что хорошо? Что же тут хорошего?! Раздевайся и ложись. Никуда я тебя не пущу. Тебе нужно выспаться. А утром поговорим.
— Хх, утром... Нет, — проговорил он тихо., и она сразу поняла, что в этом негромком, протяжном «нет» завязнут все ее доводы и уговоры. Он уже произнес слово «уехать», и теперь его не остановить. — Нет, — повторил он громче и тверже.
Жена сидела растерянная и подавленная. Руки бессильно лежали на подоле. Она опустила голову, и ее лицо как-то сразу постарело. Обвисли губы, щеки. Слезы капали из глаз, не касаясь щек.
Через пять минут Арнаутов стоял одетый, с небольшим чемоданчиком в руке, и от всей его высокой тощей фигуры веяло решимостью.
— Если все будет в порядке, я через неделю вернусь. В крайнем случае — дней через десять.
Он вышел, ничего больше не прибавив.
Жена постояла еще немного, медленно опустилась на ящик с сапожными щетками и, уткнувшись лицом в полы своего пальто, заплакала, уже не сдерживаясь.
Лина могла легко отказаться от этой поездки. Она понимала, что командировка в Тымовское вызвана не столько заботой о пользе дела, сколько будущей отчетностью — в конце первого квартала заведующий методическим отделом Дворца пионеров должен будет доложить о проделанной работе в отдаленных районах острова. И едет она только для того, чтобы Василий Васильевич мог с полным правом произнести фразу: «А кроме того, наш товарищ выезжал в Тымовское...» И все. Она напишет отчет о командировке, будет рассказывать о встречах с вожатыми в школах района, о методических советах, которые она им дала, и так далее. Было что-то в этом нехорошее, нечестное, будто она совершала подлог, все о нем знали, но договорились не замечать его, называть как-то иначе. И все-таки Лина согласилась на поездку, потому что ей порядком надоело сидеть в отделе, возвращаться вечером в пустую квартиру и смотреть по телевидению передачи об уловах рыбаков, добыче шахтеров, нефтяников, лесорубов. И еще она оправдывала для себя поездку тем, что, оставшись в отделе, принесет пользы не больше.
Она подошла к зеркалу и, скрестив руки на груди, оперлась плечом о стену. Рассматривала себя спокойно, почти насмешливо. Из деревянной рамы зеркала на нее смотрела женщина с чуть раскосыми глазами и прямыми темными волосами. Ей шли спортивные брюки, которые они надела в дорогу, толстый красный свитер, и она знала об этом.
— Стареем, девонька, стареем, — проговорила она вслух, глядя прямо себе в глаза. — И никуда нам от этого не деться, и нет этому конца, и продолжаться это будет каждый день, и даже каждую ночь... Одинокая ты, Линка, баба, и все идет к тому, что таковой и останешься.
Проговорив последние слова, она посмотрела на себя чуть ли не со злостью, как на человека, нанесшего обиду, и, вскинув голову, тряхнула волосами, одернула свитер.
— Ты, Линка, у меня смотри! Тоже еще... Раскисла...
Олег был крупным молодым человеком с медленными движениями, каждое из которых было целесообразно и необходимо.
О том, что он поедет в этот вечер, Олег знал заранее, знал он и то, что жена его Женька будет категорически против поездки. И чтобы избежать семейных осложнений, Олег готовил почву для своего сообщения постепенно, не торопясь, твердо зная в то же время, что поедет он в любом случае. Он медленно походил по комнате, подыскивая слова, мягкие, убедительные и простые, а когда неожиданно обернулся, то увидел, что на пороге стояла Женька.
— Снег... Иди полюбуйся, — сказал Олег.
— Прекрасный снег. Никогда не видела ничего подобного. — Она подошла к мужу и положила руки ему на плечи. — В чем дело? — спросила она. — Ты что-то задумал?
— Человек всегда о чем-то думает...
— Я помню несколько случаев, когда ты вел себя вот так же... И знаешь, чем это заканчивалось?
— Знаю. Я увольнялся.
— Больше того — ты уезжал, вернее — мы уезжали. Ты помнишь, как мы уезжали? Спешно, сломя голову, теряя по дороге калоши и самолюбие, теряя достоинство. Впрочем, о достоинстве я зря... Не тот случай. Не тот контингент, верно, Олег?
— Тебе виднее.
— Почему?
— Со стороны всегда виднее.
— Ты считаешь, что я стою в стороне? Ты действительно так считаешь? Разве не я моталась с тобой по материку? Разве не я приехала за тобой на этот вонючий остров?
— Но ты говорила, что он тебе нравится...
— Да, сейчас он мне нравится. Сейчас я его люблю. Настолько, что никуда отсюда не хочу уезжать. Но ехала я на остров, который не знала и знать не хотела. Хорошо, ты ведешь вторую жизнь, да? Более значительную, отчаянную, рисковую, да? Меня это не касается, ты меня бережешь, да? Я ничего не знаю об этой твоей второй жизни, и это лучше для меня же, да? Ты ведь так считаешь?
— А ты?
— Кончай юлить, Олег. Давай говорить серьезно. Ты опять что-то задумал?
Олег помолчал, медленно и тяжело прошелся по комнате, остановился перед женой, покачался с носка на пятки, наклонился к ней.
— Вот видишь, как хорошо мы понимаем друг друга, да, Олег? С полуслова все становится ясным. Нам даже незачем разговаривать, да? Ты постоял у окна, я постояла в дверях, ты подал заявление, я смахнула слезу, да? Олег, ты останешься в тресте?
— А разве я сказал, что ухожу из треста?
— Значит, останешься?
— Видишь ли, Женя, все дело в том...
— Олег, сколько у тебя записей в трудовой книжке?
— Двенадцать.
— А сколько тебе лет?
— Тридцать. Будет.
— Если не считать вынужденных простоев — полгода на место. Я правильно посчитала, Олег?
— Но на последнем месте я уже около двух лет.
— Олег, сколько у нас детей?
— У нас нет детей, Женя.
— Почему, Олег? Не отвечай. Я спрашиваю не потому, что не знаю. Я знаю.
Кем ты работаешь, Олег? Ты каждое утро обзваниваешь весь остров и собираешь цифирьки, чтобы вписать их в клеточки.
— Я составляю отчеты о работе предприятий за прошедший день. Кроме того, на мне лежит обязанность анализировать эти данные...
— Отлично, Олег! Прекрасно, Олег! Восхитительно!
— Вот видишь, тебе даже нравится. — Он сделал безуспешную попытку не заметить издевки.
— Олег, кем работают твои институтские друзья?
— Мои друзья работают министрами, директорами комбинатов, двое защитили кандидатские диссертации, один стал доктором, трое вернулись из заграничных командировок с «Волгами», и один...
— Хватит, Олег. Ты мог бы продолжать, если бы все это была выдумка. Но ведь это не выдумка, ведь все так и есть. Олег, у тебя нет самолюбия.
— Почему? У меня отличное самолюбие. Мы с ним ладим.
— Олег, ты хочешь знать, чем все это кончится? Я уйду от тебя. Я хочу жить нормальной жизнью. Я хочу рожать детей, гордиться своим мужем и время от времени делать обновки. И не только себе, я и тебе хочу делать обновки, Олег, я ведь даже не спрашиваю, куда ты хочешь перейти, на какую работу, кем... Я уверена — ничего дельного тебе не предложат. Никогда.
— Может быть, в данном случае ты и права, но...
— Олег, ведь ты самый обыкновенный, пошлый, примитивный, дешевый, жалкий летун. Ты что-то ищешь в жизни? Нет, ты ничего не ищешь. Ты к чему-то стремишься? Нет. У тебя большая цель? Нет. У тебя маленькая цель? Нет. Ничего у тебя нет. Нет, нет, нет!
— Женя, послушай, у них там отличное место...
— Тринадцатое?
— Знаешь, я решил снова вернуться к практике. Я буду делать бумагу, а не исписывать ее. А какая там охота, рыбалка! А грибы! Поронайская долина славится такими...
— Ты знаешь, как переводится слово «Поронайск»?
— Ну?
— «Гнилое место». Это будет твое гнилое место, Олег, я сказала серьезно. Подумай, Олег.
— Мне надо сегодня уехать, Женя. Понимаешь, надо. Обязательно. Это уже зависит не от меня. Я подведу людей.
— Людей? — резко обернулась Женя. — Я не ослышалась? Ты в самом деле сказал, что подведешь людей? Олег, разве ты не подводишь каждый раз меня? Разве не обманываешь меня в моих планах, в моих надеждах и мечтах?
— Ладно, Женя, не будем. Согласись, этот разговор идет в одни ворота. Я не могу тебе ничего ответить сейчас. Я вернусь через неделю, и мы продолжим.
— Нет, Олег, Мы не продолжим этот разговор. Мы его закончим.
Глава третья
Обойдя почти весь вокзал, Левашов не увидел ничего такого, что могло бы навести его на след преступников.
Действительно, трудно было предположить, что преступники, набив чемодан деньгами, удержались бы от соблазна посидеть пусть в маленьком, тесном, низком, прокуренном, но все-таки ресторане. Левашов уже не один раз замечал магическое действие этого слова на людей, стремящихся произвести впечатление, гульнуть, шикануть. А его начальник говорил о необъяснимом влиянии этого слова на людей, потенциально склонных к правонарушению. И еще начальник добавлял, что кривая правонарушений в районе ресторанов всегда выше, нежели в других общественных местах.
До отправления оставалось минут тридцать. В это время за столиками сидели лишь пассажиры поезда Южно-Сахалинск — Тымовское. Когда объявят посадку, столики опустеют за несколько минут. Поэтому опытные официанты брали плату одновременно с заказом. Гул голосов в низком дымном зале казался уютным, чуть ли не домашним. Все со знанием дела говорили о тайфунах, снежных заносах и невероятно страшных случаях, которых всегда вдоволь при такой погоде.
Чего только не услышишь на вокзалах, в вагонах островной узкоколейки! Здесь можно встретить людей, которые обходили каждый клочок острова, побывали в бухтах Курил, Камчатки, Японии. И о чем бы ни шел разговор, у них всегда находилась история по поводу. О нивхских обычаях, ловле кальмаров, встречах с медведем, о командировке, которая длилась сто один день вместо недели, о том, кто как замерзал, тонул, пропадал и все-таки не замерз, не утонул, не пропал. Потом эти рассказы слушатели раскрашивали подробностями собственных похождений, и постепенно складывалась история, которая годами кочевала с острова на остров, уходила на материк и возвращалась обратно. И никого не интересовало, происходило ли все это на самом деле. Такие рассказы с преувеличениями стали своеобразным обрядом на причалах, в аэропортах, гостиницах, на вокзалах...
Порывы ветра за тонкими стенами вполне заменяли оркестр, и буран был словно еще одним собеседником за каждым столом. Да, сейчас он хозяин на острове, но в протяжном вое слышались боль и обреченность, он будто знал, что его сила не беспредельна, что потом опять будут солнце, синее небо и тишина.
В углу, под обмороженным фикусом, пели про камешки, которые кто-то не переставая бросал с крутого берега прямо в пролив имени Жана-Франсуа Лаперуза, рядом без выражения, будто казнясь, пели про путь, оказавшийся слишком далеким и долгим, причем подвернуть назад не было никакой возможности. Но самой шумной была компания, которая без зазрения совести превозносила чью-то девушку, сравнивая ее со всей флорой и фауной родной земли: губы — с лепестками роз, голос — с соловьиным пением, фигуру — со стволом тополя...
— Садися, парень, чего стоять-то, — вдруг услышал Левашов.
Он обернулся. Рядом, за столиком, расположились трое ребят.
— Садись, садись, — повторил басом самый крупный из них, с тяжелым и добрым лицом. — Лучше места все равно не найдешь.
Левашов сел, ему тут же придвинули тарелку с заливными гребешками, налили в высокий фужер «Горного воздуха», заверили, что к гребешкам никто не притрагивался.
— Ты давай уминай... А то еще неизвестно, успеет ли к тебе официант добраться до отхода поезда, — проговорил второй парень, с длинными вьющимися волосами.
— На острове давно? — спросил третий — маленький, розовощекий и какой-то слишком уж красивый.
— Три года, — сказал Левашов.
— Как раз срок, — сказал большой парень. — Уезжать не думаешь?
— Что вы, ребята! Только осмотрелся!
— И правильно, — солидно и серьезно одобрил парень. — Да, чтоб не забыть... Меня Иваном зовут. А этого кудлатого — Афонька. Ну и Федор — самый красивый и самый...
— На первый раз хватит и того, что я самый красивый. А Иван у нас самый толстый.
— А Афоня? — улыбнулся Левашов.
— А он самый умный, — захохотал Афоня.
Знакомство получалось легким, без молчаливого ковыряния в тарелках и спасительных старых анекдотов. Сам Левашов был не из разговорчивых, но иногда он словно забывал о своем характере и без усилий становился болтливым, агрессивно-деловым или невозмутимым до апатичности.
— Далеко едешь? — спросил Иван уважительно.
— До конца, ребята, до Тымовского.
— Не лесоруб случайно?
— Нет.
— А то давай с нами... Среди лесорубов мы большие люди. Правофланговые производства, можно сказать. Иван, можно сказать, что мы правофланговые производства? — повернулся Афоня к другу.
— Лучше не надо, — скупо улыбнулся Иван. — Ответственность больно велика.
Левашов, не поднимая головы, осторожно, но внимательно осмотрел руки ребят. И успокоился. Тяжелые пальцы, сломанные ногти, красная кожа — все говорило о том, что ребята не врут. А впрочем, чего не бывает, подумал Левашов. И коль уж такая у меня работа, что подозрительность оборачивается добросовестностью... Мысленно извинившись перед ребятами, он задал первый прощупывающий вопрос:
— А в Южном что вы делали?
— Проветривались, — усмехнулся Федор.
— Легкая перемена обстановки, — сказал Афоня. — Встряска, так сказать. Иван, можно так сказать?
— Заткнись.
— Во-во! А знаешь, почему он мне рот затыкает? Бригадиром был до недавнего времени. И вылетел. С треском. Будто это не Иван из бригадиров вылетел, а ель в тайге рухнула. А знаешь, за что? Несчастный случай у него на участке. Не уберег рабочего. Зацепило веткой, а там ветка потолще этой колонны.
— Но рабочий-то жив? — спросил Левашов, отметив про себя, что ребята ушли от ответа.
— Мозги ему отдавило, — сказал Иван. — Ты думаешь, кого — Афоньку и хлестнуло по мозгам.
— А в Южном давно? — чуть иначе повторил вопрос Левашов.
— Какой давно — три дня, — ответил Федор и стал смотреть в зал. — А что, Афоня, женился бы вон на той?
— Один раз уже женился, пока хватит.
— А ты на острове почему оказался? — вдруг спросил Иван Левашова.
— Да как тебе сказать... Не знаю. Засосало, замутило, в месяц рассчитался и вылетел. Не знаю зачем... — Левашов поймал себя на том, что невольно, сам того не желая, заговорил искренне, словно впервые задумался: зачем же он все-таки приехал на остров? — Понимаешь, Ваня, было такое состояние, — он постеснялся сказать слово «чувство», — что... надо, понимаешь? Подальше. И мотнул. А как оно, думаю, люди живут по ту сторону земного шара, на берегу океана, за восемь часовых поясов? И мотанул.
— Во! — восторженно крякнул Иван. — И у нас так же. Было дело — уехали на полгода в отпуск, а сами себе думаем — не вернемся. К черту. Плевать. Поживем и в других краях, лесов, слава богу, у нас хватает, валить не перевалить. Уехали. Месяц в Крыму загорали, две недели по Карпатам гуляли, потом к Афонькиной родне на Кольский махнули, потом в Молдавию, а под конец даже в Бухаре оказались. Вот в Бухаре и задумались: чего делать? Еще полтора месяца отпуска, а мы уже друг на друга смотрим да одно и то же в глазах читаем — вертаться надо. И вернулись. Не-е, — Иван покрутил большой лобастой головой, — засасывает остров, так просто не отпускает. Как-то спрашивает у меня корреспондент из нашей районной газеты: а что, мол, наверно, полюбил ты этот край всей душой? Так я ему чуть по шее не дал. Будто он лапами залез куда я и сам ступить боюсь.
— Отстояли мы корреспондента, — усмехнулся Федор. — Больше о нашей бригаде ничего не пишет.
— Напишет, — протянул Иван. — Никуда не денется. Мораль у нас на уровне, производительность тоже, технику используем. Напишет.
— А вот ты, — вдруг повернулся Афоня к Левашову. — Можешь сосну против ветра положить? А? Вот сосна, к примеру, а вот в двадцати метрах колышек торчит... Повалишь сосну против ветра так, чтобы она своей верхушкой колышек в землю вогнала?
— Нет, — сказал Левашов. — И ты тоже не сможешь.
— Это почему же?
— Нет сосен на острове. И волков нет.
— Ни одного? — невольно воскликнул Афоня.
— Один есть... В музее.
— А как же он... один-то?
— Через пролив зимой перебежал. По льду.
— Как тот бродяга с Сахалина? Звериной тайною тропой?
— Точно.
— Эх, Афоня, Афоня, — вздохнул Иван, — учат тебя люди, учат, и все без толку...
Разговаривая, Левашов осматривал зал. Бородач перед графинчиком с водкой. Не пьет... Словно ждет кого-то... Под столом саквояж. И сидит он так, чтобы коленкой касаться этого саквояжа. Вот и Пермяков здесь... Болтает с кем-то, по-школьному сложив на столе маленькие руки. Девушка в тренировочном костюме. Не то странно, что она в такой одежде пришла в ресторан, а то странно, что она вообще пришла сюда. Рядом с ней, на подоконнике, сумка... Интересно, поместятся в нее пятьдесят тысяч рублей? А вот детина сидит спиной ко всему залу. Странно? Да. Ресторан — это не только место поглощения пищи, это и зрелище. В ресторане всегда садятся так, чтобы видеть большую часть зала. А почему молчат те трое? Незнакомы? Но здесь почти все незнакомы. Трезвые? Нет, не сказал бы. И вещей рядом нет. Не пришли ли они проводить своего? Это было бы ошибкой. Нет, судя по почерку, «работали» далеко не новички.
Вокзал опустел уже через несколько минут после объявления посадки. Не дожидаясь, пока выйдут на перрон последние пассажиры, однорукий киоскер в железнодорожном кителе начал неторопливо собирать с прилавка справочники, путеводители, сборники трудовых законодательств, брошюрки с описанием льгот для работников Севера. Низкорослая кореянка притащила откуда-то мешок опилок, высыпала их посреди зала и стала разбрасывать по полу. Буфетчица за пустыми витринами привычно защелкивала замки на ящиках. Милиционер в полушубке прошел по залу, осмотрел скамейки, не заснул ли кто, и вышел на перрон.
А буран будто приблизился, стал слышнее, опаснее. Снежинки за стеклами проносились неуловимо быстро, можно было заметить только их белесые исчезающие следы. Потом где-то рядом загнанно и протяжно прокричал маневровый паровоз.
Когда Левашов подошел к вагону, посадка заканчивалась и у ступенек стояли только двое — парень и девушка. Левашов поставил чемодан на снег и, отвернувшись от ветра, полез в карман за билетом.
— Слушай, Колька! Поехали со мной, а? — Девушка не обращала на Левашова никакого внимания. — Уж коли ты на вокзал пришел — поехали! До Тымовского и обратно, а? И будет у нас свадебное путешествие!
— До свадьбы?
— А ты много видел, чтобы люди после свадьбы путешествовали? Вернемся — как раз заявление созреет. Ну?
— А билет?
— Да какой билет! Я же проводник! У меня персональное купе, и в нем полсотни матрацев, не считая постельных принадлежностей.
— А занятия, Оля? — Парню, видно, хотелось, чтобы не он, а кто-то другой отмел за него все сомнения и колебания.
— Да какие занятия в буран?! Еще неделю занятий не будет, а ты вернешься через два дня... Бери мою сумку и прыгай в вагон. А я вот гражданином займусь, пока он совсем не замерз.
— Не знал я, что можно так просто в персональном купе проехать, — сказал Левашов. — А то бы я вместо билета конфет купил.
— Заметано. Следующий раз имейте в виду, — засмеялась проводница. — Но конфеты я признаю материковские. Не вздумайте здешних, островных купить. Я их только в зверинец беру.
— Заметано, — улыбнулся Левашов. И подумал: «Не они».
По узкому коридору он протиснулся к своему купе, постучал и, не дожидаясь ответа, отодвинул дверь в сторону. В купе сидели двое — мужчина и женщина. Видно было, что между ними шел какой-то свой, не для посторонних разговор.
— Не помешал?
— Что вы! — сказала женщина. — Располагайтесь.
— А то ведь я и покурить могу пойти...
— Еще накуритесь.
— А вы тоже до конца? — спросил Левашов.
— Нет, мы раньше выходим, — охотно ответила женщина. — В Макарове. Боря, правильно? Ведь в Макарове?
Мужчина молчал.
— Так вы макаровские... — как бы про себя сказал Левашов.
— Два года как макаровские, — улыбнулась женщина. Она как-то тяжело, неловко повернулась, пропуская Левашова мимо себя, и сразу стало заметно, что очень скоро их будет трое. «Не они», — подумал Левашов.
А ровно в двадцать один сорок пять раздался мерзлый перестук вагонов, состав дернулся и медленно поплыл в темноту. Окна все быстрее проносились мимо милиционера. Дежурный подождал, пока исчезнут в снегу огни последнего вагона, и, согнувшись, пошел в задание вокзала.
— Порядок, — сказал милиционер и зашагал за дежурным.
Левашов, не раздеваясь, втиснулся в холодный угол купе, закрыл глаза и попытался еще раз представить себе события, которые произошли этим вечером.
Итак, их было трое. Они вошли в центральный гастроном за пятнадцать минут до закрытия. Вошли и тут же затерялись среди покупателей. Нетрудно себе представить, как эти трое слонялись среди озабоченных людей, как становились в очереди и снова уходили, бродили из отдела в отдел, конечно же, ничего не покупая. Настороженно следили они за каждым выходящим человеком, за работой продавцов и кассиров, не установлена ли в магазине какая-то сигнализация. А тем временем в магазине становилось все просторнее. Центральные двери, выходящие на проспект, были закрыты, и людей выпускали через подсобное помещение.
И вот наконец остаются в магазине эти трое. Левашов, кажется, видел даже их темные фигуры, слышал, как они невпопад отвечают поторапливающим их продавцам, как, уставившись в витрины, косят глазами в стороны, еще и еще раз проверяя, не остались ли в зале покупатели. А потом наступил момент, когда они решились. Уж больно хорошо все складывалось: двери на проспект наглухо закрыты, громадные витринные стекла заметены почти до самого верха, а инкассатор будет минут через двадцать...
Трое подошли сразу к трем кассам магазина — по одному на кассу. Вид пистолета, напряженный взгляд человека, готового на все, неожиданность самого нападения парализовала девчонок. Потом трое прошли в кабинет директора, где дневная выручка готовилась для сдачи инкассатору. Весь небольшой письменный стол был завален деньгами. Большинство продавцов оставались в торговом зале, и преступники предусмотрительно закрыли дверь на ключ, благо он торчал в дверях. Только директор, пожилая худенькая женщина, решилась оказать сопротивление. С улицы выстрела никто не слышал.
Самое, может быть, удивительное было в том, что грабители за все это время не произнесли ни одного слова. Они все делали молча. Молча угрожали, молча сгребали деньги, а когда директор повисла на руке одного из них, тот молча выстрелил. Потом грабители перерезали телефонный провод и вышли. Снаружи они подперли двери пустыми ящиками, и через секунду растворились в снегопаде. Ни следов, ни их самих. Удачное время, ничего не скажешь.
Теперь этот разговор, который слышала продавец кондитерского отдела, когда преступники ожидали закрытия магазина. Чем-то они обратили на себя внимание девушки, и, когда подошли к кассам, она вспомнила, что это те самые, которые стояли несколько минут назад у ее прилавка. И вспомнила те немногие слова, которыми они обменялись. «Смотри, осталось ровно два часа», — сказал один из них, показывая на настенные часы. «Да», — подтвердил второй. «Успеет», — добавил третий.
Часы показывали девятнадцать сорок пять. А поезд на Тымовское отходит в двадцать один сорок пять. Можно ли допустить, что речь шла именно о времени отхода поезда? Куда еще можно было опоздать, если аэропорт закрыт, автомобильные дороги заметены, порт парализован? Нет, остается только вокзал.
И еще... Один из них сказал «успеет». Значит, речь шла о ком-то, кто в ограблении не участвовал, но на помощь которого они рассчитывали. Выходит, сами они скорее всего остались в городе. А в поезде, разумеется, должен ехать человек, не вызывающий никаких подозрений.
Левашов зябко поежился, вздохнул и вышел в коридор. Пора было что-то предпринимать.
Глава четвертая
Поезд выбился из графика с самого начала. Снежные заносы не позволяли набрать скорость, состав шел медленно, и даже в вагонах, казалось, слышался скрип снега под колесами. Через маленькие снежные бугорки легко можно было перешагнуть, но стальные колеса вязли.
Первый час пути у проводников всегда уходил на растопку печей. И они грохотали жестяными ведрами, совками, занимали друг у друга раскаленные угли и перебегали с ними из вагона в вагон, покрикивая на нерасторопных пассажиров. Все радовались скорому теплу, когда можно будет раздеться, вытянуться на полке и уснуть до утра.
Именно в первый час пути, такой неудобный и холодный, завязывались знакомства, исчезала отчужденность, которая еще на вокзале казалась естественной. Возникало ощущение, будто на время, то ли в шутку, то ли всерьез, люди начинали новую жизнь. В силу вступали новые законы — законы дороги. Они обязывали быть добрым и откровенным.
А еще ты немного гордишься тем, что глубокой ночью несешься по самому краю промерзшего острова. Ты смотришь на себя широко раскрытыми глазами родственников и друзей, оставшихся на большом уютном материке, и думаешь о том, что поезд опаздывает, что холодно, черт возьми, и что гостиница будет переполнена и тебя уложат в коридоре на раскладушке, а ночью, проснувшись от скрежета снега за стеной, ты будешь долго лежать без сна и блаженно улыбаться, зная, что утром тебе придется откидывать снег от подъезда, что потом опять где-нибудь занесет дороги, и командировка твоя продлится на неделю-вторую, а вернувшись в Южный, ты будешь в самых неожиданных местах встречать новых друзей, с которыми мерз в кузове грузовика, в вагоне поезда, в кабине вертолета, «голосовал» на причале, в аэропорту, на таежной дороге...
А между тем на острове встречаются люди, которые говорят о ненависти к этому краю, отнявшему у них здоровье, лучшие годы и что-то еще, очень ценное. Они верят, что ненавидят долгую зиму, бесконечные сопки, затянутое дымкой небо, летние туманы, обволакивающие чуть ли не весь белый свет, И наступает момент, когда кто-либо из них устраивает шумное прощание, а услышав рев самолета над головой, доверительно показывает билет на завтрашний рейс. А другие уезжают потихоньку, вроде бы случайно, или попросту не возвращаются из отпуска. Мол, обстоятельства сложились, мол, жена против, мол, здоровье...
Но проходит полгода. И по ночам, когда затихает все вокруг и становится слышен гул бурана да далеком острове, шум прибоя, течение тумана по сырым улочкам поселка, они пишут письма на остров. Неважно, приходил ли ответ, — эти письма отправляются самому себе.
И некоторые возвращаются — растерянные, не понимая, что с ними происходит, зачем они уезжали и почему вернулись. И только пришедшее спокойствие говорит о том, что все получилось как нужно, все правильно. Нельзя прожить здесь год, а потом вычеркнуть его из своей жизни. Даже уехав и оставшись на материке, со временем ты замечаешь, что этот год светится в твоем прошлом. И полузабытые разговоры, обычная поездка в сопки или по мокрому песку вдоль моря при отливе, прощальный взгляд из иллюминатора самолета на таежный поселок — все приобретает значение, а из воспоминаний об этом ты возвращаешься, как из тревожного сна.
Бригадир поезда Дроздов собирался поужинать, когда в дверь купе постучали. На столе были разложены колбаса, нарезанная тонкими кружочками, очищенное яйцо, стояла бутылка с «Горным воздухом». Бригадир посмотрел на вошедшего Левашова хмуро и нетерпеливо.
— Поговорить надо, — сказал Левашов, задвигая за собой дверь.
— Прям счас? Сию минуту?
Левашов показал удостоверение.
— Вон оно что, — протянул Дроздов. — Что-нибудь случилось? — Он настороженно глянул на Левашова.
— Пока нет. Извините, как вас зовут?
— Дроздов. Федор Васильевич Дроздов.
— Вы постоянно на этом рейсе?
— Да... Уж лет восемь... Сначала проводником, теперь вот до бригадира поднялся. — Дроздов улыбнулся. — Если так дальше пойдет, глядишь — и управляющим стану.
— Сегодня все идет нормально?
— Если не считать опоздания... Уже полчаса набежало.
— Но когда что-то случается, ведь вы всегда знаете, верно? Я попрошу вас вот о чем... Если появится... ну, подозрительный человек, произойдет какой-нибудь случай из ряда вон... Вы уж, будьте добры, скажите мне, ладно? Федор Васильевич, и еще вот такой хитрый вопрос... Где обычно выходят пассажиры из купейных вагонов?
— Из купейных? Ну где выходят... В Тымовском. До Тымовского редко кто сойдет. Нет смысла брать купейный билет, чтобы проехать несколько часов. Вы заметили, наверно, что на острове люди получают много, но тратят деньги осторожно. Вот командировочные всегда в купейных едут, им один черт. — Заговорив на близкую тему, почувствовав значительность своих познаний, Дроздов оживился, стал доброжелательнее.
— Выходит, в купейных вагонах пассажиры на всем протяжении рейса не меняются? — спросил Левашов.
— Бывает, конечно, что какой-нибудь крохобор до Тымовского в общем махнет, но это редко. В общие-то, плацкартные вагоны пассажиры на каждой станции садятся, через две-три остановки выходят... Мы здесь на положении троллейбусов или трамвая в городе.
— Нет, я не о том. Я спрашиваю, случается ли, что в купейных вагонах меняются пассажиры?
— Бывает. А чего не бывает? Все бывает... Вы, к примеру, друга встретили, а у вас в купе есть свободное место. Что же мне, запретить другу перебраться к вам? Могу. Но зачем? Или человек впопыхах купил билет в плацкартном вагоне, а потом, умишком пораскинув, решил ехать в купейном. Добро пожаловать!
— Но все эти перемещения происходят с вашего разрешения?
— Такое правило. Но проводники и сами могут, как говорится, по собственной инициативе решить вопрос.
— А вы можете запретить перемещения?
— Еще и как! — усмехнулся Дроздов.
— Тогда я вас вот о чем попрошу... Запрещать категорически не надо, просто накажите проводникам — пусть они всех пассажиров с просьбами такого рода отправляют к вам. А я как-нибудь подойду, и вы мне об этих просьбах расскажете. Чего не бывает, — подмигнул Левашов бригадиру.
Некоторое время Левашов и Пермяков стояли в тамбуре молча и, только убедившись, что никто к ним не идет, что они могут поговорить без помех, вопросительно взглянули друг на друга.
Слишком это было бы просто и легко вот так сразу получить какие-то результаты, найти какие-то следы преступника. Оба работали в уголовном розыске не один год и прекрасно знали, что чаще всего так и бывает — начинать приходится с пустого места.
— Знаешь, Серега, — сказал Пермяков, — я вот, глядючи в окно, попытался прикинуть, что мы вообще можем сделать, предпринять... Оказывается, почти ничего. Повальный обыск? Незаконно. Трудоемко. Бесполезно, в конце концов. Ходить, смотреть, слушать? Уж больно пассивно, мало надежды на успех. Нет, что ни говори, а задачку нам подсунули на славу. Уж лучше бы остаться снег от управления отгребать.
— Снег ты будешь отгребать в любом случае, — усмехнулся Левашов.. — Задержим мы преступника или нет, а от этой работы нас никто не освободит.
— Да ну тебя! Мы, конечно, выполним свой долг и сделаем все от нас зависящее, мы, конечно, живота не пожалеем...
— Хватит причитать, Гена. Все, что ты говоришь сейчас, побереги для объяснительной записки, когда тебя спросят о причинах невыполнения задания. Как по-твоему, в каком вагоне его надо искать?
— Ясно, в купейном! Где же еще... Задвинул дверь — и никаких гвоздей. Ни мелких воришек, ни любопытных глаз, ни нас с тобой... Я бы на его месте вообще закупил все купе.
— И сразу попался бы. Гена, как ты себе его представляешь?
— Очень просто... Высокий, рыжий, на щеке бородавка, на безымянном пальце левой руки кольцо с красным камнем... Примерно так. А ты?
— Я вот думаю — как ведет себя человек, у которого в чемодане пятьдесят тысяч рублей? Причем добытые грабежом всего два часа назад... Он спокоен, уравновешен? Нет. Он только пытается выглядеть спокойным и уравновешенным. Он весел и беззаботен? Нет. Торчит в коридоре, слушая бесконечный треп о буранах и тайфунах? Может быть, шутит с проводницей? Ищет партнера в картишки переброситься? Бродит по поезду в поисках знакомых? Возмущается неудобством места, бедностью буфета, холодом? Нет. Ничего этого он не делает.
— А чем же он занят? — спросил Пермяков.
— Скорее всего сидит в купе. Молчаливый и настороженный. Или спать завалился, чтобы его поменьше видели. Чтобы не отвечать на дурацкие вопросы попутчиков. Чтобы положить чемодан под голову и знать, что никто не приглядывается к нему... Итак, обоснуемся в двух купейных вагонах — шестом и седьмом. Это около сорока человек. Многих можно отбросить сразу. Надо знакомиться с людьми, Гена. От этого не уйти. Ладно, первое совещание заканчиваем. Ты бери на себя шестой вагон, я останусь в седьмом. В порядке бреда... Мы ищем человека, который неохотно выходит из купе, он насторожен, подозрителен. Если лежит, то скорее притворяется спящим, чем спит на самом деле. Вряд ли он заснет в эту ночь. Значит, мы ищем человека, у которого бессонница. И еще — этот человек притворяется. Он может смеяться, рассказывать анекдоты, молчать или спорить, но все это делает фальшивя, потому что единственное его желание — схватить свой чемодан и укрыться подальше от людей. Мы ищем человека, готового на все.
— Мы ищем вооруженного человека, — добавил Пермяков.
За окном протяжно, не переставая выла пурга. Иногда ветер на какую-то секунду утихал, будто собираясь с силами, а потом снова наваливался на вагон. Левашову казалось даже, что он слышит поцарапывание крупных снежинок по стеклу. Сна не было. Поворочавшись на полке, он осторожно спустился вниз, нащупал в темноте дверь...
— Ты куда собрался, кореш? — вдруг раздался голос Бориса.
— Душно что-то... Пойду покурю.
— Пошли вместе.
Они задвинули за собой дверь и направились в тамбур. Здесь пурга сразу стала слышнее.
— Надо было в тот тамбур идти, — сказал Левашов. — Там хоть печка...
— Замерзнем — туда перейдем. — На маленьком мальчишеском лице Бориса застыло выражение озабоченности. — Понимаешь, — заговорил он, — жена... вроде того, что рожать собирается.
— Так это здорово! Зимние дети, говорят, самые крепкие.
— Оно, конечно, так... Но уж больно все это хлопотно... Иногда кажется, что лучше самому все сделать, спокойнее.
— Ну-у, — протянул Левашов. — Это не самый лучший вариант.
— Согласен, — солидно кивнул Борис. — Каждый должен знать свое место и не рыпаться куда не надо.
Послушав Бориса из-за стены, можно было подумать, что говорит пожилой плотный человек с тяжелым лицом и неторопливыми движениями. А на самом деле Борис был щупленьким парнишкой небольшого роста, с прямыми белесыми волосами. И щетина на его подбородке росла светлая и мягкая. «Не он», — опять подумал Левашов. Но тут же что-то заставило его усомниться.
— А в Южном что вы делали? — спросил он, пытаясь продышать глазок в толстой изморози на стекле.
— Да мы на материке были. Ухлопали кучу денег и приехали.
— Но ведь дорога оплачивается и туда и обратно...
— Остались бы эти деньги. Они ведь не киснут, не стареют.
— Видишь ли, беда в том, что мы сами имеем обыкновение стареть.
— А! — Борис досадливо махнул рукой. — Это все то же — стоит ли рыпаться, чтобы доказать кому-то что-то... Знаешь, кореш, я лично, например, никому ничего не хочу доказывать. Никому и ничего! — Борис говорил, все больше волнуясь, и спешил, спешил, будто боялся, что не успеет сказать главное. — Старики зовут нас на материк... Работа, говорят, интересная, театр, стадион, то да се... А спросить — ели они когда-нибудь кетовый балык или икру красную? А мы здесь едим эту икру столовыми ложками, и вовсе не из консервных банок. И стадион мне не нужен. Не жирею. Пробежишь двадцать километров на лыжах да обратно двадцать — о стадионе и думать не захочешь. Работа? Что там я строитель, что здесь строитель.
Левашов зябко поежился. В тамбуре было довольно холодно. Через какие-то щели снег все-таки проникал сюда, и снежная пыль, не оседая, стояла в воздухе.
— Во всем этом деле есть еще один фокус... На материк Таньке хочется. Остров для нее — каторга. Вечером, бывает, сидит-сидит, потом начинает собираться... Туфли надевает белые, платье... «Куда ты?» — спрашиваю. «В театр», — говорит. Ну-ну... Вот соберется, перед зеркалом марафет наведет, а потом подойдет к окну и смотрит на сопки, на туман, на соседский забор... «Мы не опоздаем?» — спрашивает. «Нет, — говорю, — в самый раз поспеем». А у самого мурашки по спине.
— Поживете год на материке, может, ее на остров потянет.
— Хх, — хмыкнул Борис. — И все надбавки полетят.
— А ты не слышал, как один большой оригинал решил много денег заработать? Нет? Напрасно, тебе эту историю надо знать. Но шуточку, когда кто-то бутылки сдал и машину купил, ты, конечно, слышал? Так вот, этот инициативный товарищ решил шуточку воплотить в жизнь.
— И что же из этого вышло? — Борис недоверчиво усмехнулся.
— Ничего хорошего не вышло. Что он делает — как только весной навигация открылась, отправился на Итуруп и весь сезон, до глубокой осени, бутылки собирал. А потом зафрахтовал пароход, тот все равно порожняком в Аниву шел. Погрузил свою стеклотару и отчалил. Ну, порт назначения — Анива. Показалась Анива. Запрашивают — какой груз везете? Капитан отвечает — бутылки. Анива на это говорит, что, мол, не валяйте дурака и отвечайте как положено, когда вас спрашивают. Капитан свое гнет — бутылки везу. И уточняет для порядку даже емкость бутылок и. все остальное.
— Что же делает диспетчер Анивы?
— Звонит начальнику порта и докладывает обстановку. Начальник тоже не знает, что делать, и на всякий случай командует — пароход в порт не пускать.
— И не пустили?
— Ясно! Задержали пароход на рейде. Собрали оперативку: что делать? Никогда такого не было, чтоб с Курил бутылки возили. Ну рыбу, ну консервы, ну крабы! Но бутылки! Пустые! Не было такого. И не будет, сказал начальник. И велел пароход принять на заброшенном причале, а бутылки выгрузить. Там вся команда чуть ли не неделю выгружала их. Будешь в Аниве, спроси — эти бутылки и сейчас там горой лежат.
— А что с инициатором? — спросил Борис.
— Ну, будто сам не знаешь, что бывает за нетрудовые доходы.
— Так ведь не состоялись доходы-то!
— А попытка! А использование государственного транспорта в личных целях! — Левашов рассмеялся, поняв вдруг, что Борис верит каждому его слову. — Ладно, оставим это... У тебя жена-то... когда рожать собирается?
— Недели через две.
— Тогда еще ничего.
— Что ничего?! — насторожился Борис.
— Понимаешь, пока мы с тобой о бутылках калякали, поезд стоял. И сейчас стоит.
— Мать твою за ногу! — пробормотал Борис.
Левашов натянул на ладонь рукав свитера, ухватился за покрытую изморозью ручку и надавил вниз. Ручка не поддавалась. Тогда он несколько раз ударил по ней ногой и дернул дверь на себя. И тут же словно что-то живое, белое, обезумевшее ворвалось в тамбур и забилось в нем, как в западне. Левашов опустился на одну ступеньку и увидел, что сугробы доходят до осей колес. Тогда он спрыгнул в снег и прошел вдоль вагона. Следующее колесо было занесено полностью. И ни одного огонька не пробивалось сквозь несущиеся, вытянутые в полете сугробы. Казалось, поезд стоит на дне мощного снежного потока.
Поднявшись в вагон, Левашов захлопнул за собой дверь и для верности повернул щеколду.
— Ну что? — спросил Борис. — Станция?
— Какая станция... Снег выше колес. Пошли к проводнику.
В служебном купе сидели Оля, парнишка, которого она уговорила ехать с собой, бригадир поезда Дроздов и машинист Денисов.
— Так что получается? Стоим? — спросил Левашов.
— Получается, — ответил Денисов. — Что выходит, то и получается.
— Чего же вы молчите?! — вдруг тонко вскрикнул Борис.
— А что нам, песни петь? Или кричать надо? Не в кабинете, чай... Да и паровоз от крику не пойдет. Не лошадь...
— И долго стоять будем? — спросил Левашов.
— Пока не поедем.
— Надо ведь сообщить как-то... Ну, что мы застряли...
— Кому положено, тот уж подумал об этом, — с достоинством сказал Дроздов. — А если б не догадался, все равно знают о нас. Со станции Взморье мы вышли, на Тихую не пришли... Вот и весь сказ.
— Значит, не удалось пробиться на север...
— Не удалось, — сокрушенно согласился Денисов. — Что мог — сделал, а вот не удалось. Впадина между станциями, понимаешь... Железная дорога прогиб делает... Тридцать километров прогиб... Тут-то снег и скопился, тут-то он нас и подстерег.
— Но к утру поедем?
— Должно. Если роторы пришлют да расчистят.
— А если не пришлют?
— Могут и не прислать. В буран роторы на шахты посылают, на электростанции. В Синегорск, Быково, Долинск... В Корсаков — там порт... До ближайшей станции тридцать километров. А при таких заносах считай, что все триста.
— Отдыхайте, ребята, — посоветовала Оля. — В Тымовском разбужу.
Все смолкли, прислушиваясь. Если раньше порывы ветра были даже приятны, потому что поезд все-таки шел, то теперь и в этом вое, и в подкрадывающемся шелесте снежинок, да и в самой неподвижности состава было что-то жутковатое.
Глава пятая
Утро наступило поздно и как-то уж очень неохотно, темнота будто цеплялась за промерзшие ветви деревьев, за покатые сугробы, за торосы, которыми был утыкан весь берег. Ветер гудел уже не за стенами вагона, а где-то над головой.
Обычно сильные тайфуны быстро выдыхались. На это и надеялись, отправляя состав. Но к утру буран усилился. В серой мгле рассвета с трудом различались верхушки занесенных деревьев, телеграфные столбы тоже стали короткими, а уцелевшие провода висели на уровне человеческого роста.
Где-то рядом начинался океан, замерзший у берега, а дальше — клокочущий, раздраженный, исполосованный бурыми волнами. Насыщенные снегом, они быстро замерзали, попадая на палубы судов, и рыбаки мечтали только об одном — продержаться, не дать льду покрыть палубу и борта. Обмерзшее судно становилось неуправляемым, волны покрывали его все новыми слоями льда, пока оно не скрывалось под водой. Да, рыбакам сейчас было труднее всего. Но зато что может сравниться с их радостью и чувством победы, когда на горизонте спокойного океана они увидят свой остров и побегут по палубе, давя тяжелыми сапогами острые хрустящие льдинки! А пока, пронизывая взбудораженный воздух, неслись их радиоголоса — одни просили помощи, другие ее предлагали.
Последние известия, которые в то утро слушал весь состав, не принесли ничего утешительного...
...Третий день свирепствует пурга над Корсаковом. В городе полностью прекращено движение всех видов транспорта, закрыт порт. На рейде скопилось два десятка судов с продуктами и товарами первой необходимости. Невзирая на ураганный ветер, работники порта взялись разгрузить несколько судов вручную.
...Как и в прошлые метели, самоотверженно работают бульдозеристы Макарова. Этой ночью они пробились на хлебокомбинат и доставили хлеб в несколько магазинов города.
...Не работают Лермонтовский и Новиковский угольные разрезы, шахты «Долинская», «Шебунино». Прекратили работу леспромхозы и бумажные комбинаты. Во всех отраслях народного хозяйства ощущается острая нехватка топлива, электроэнергии, горючего.
...Четвертые сутки не прекращается пурга на Курилах. Занесены поселки, дороги, прервана телефонная связь, оборваны электропровода. Вторую неделю жители Крабозаводска, Южно-Курильска, городов и поселков Шикотана, Итурупа, Кунашира не получают писем и газет.
...Настоящее мужество проявляют в эти дни труженики села. Трактористы совхоза «Чапаево» двое суток пробивали дорогу к занесенным снегом парникам, чтобы дать воздух и свет рассаде. Вчера все жители совхоза вышли на расчистку дороги к животноводческим фермам, куда уже третий день невозможно доставить корм для животных.
...Все пространство Охотского моря в восточной части Тихого океана сотрясается ураганным ветром и разрывами снежных зарядов. В тяжелое положение попала флотилия японских рыбаков, промышлявшая восточнее Средних Курил. Застигнутые штормом, суда вынуждены были зайти в наши территориальные воды — в залив Касатка на Итурупе. Но сюда ветром нагнало огромные ледяные поля. Часть японской флотилии успела выйти на чистую воду, а семь судов затерло льдами. Одно из них, «Итоки-мару-35», затонуло, еще одно судно выброшено на берег. Пять судов получили повреждения и продолжают бороться за свою жизнь. Нашим судам, находящимся вблизи этого района, дано указание немедленно следовать к заливу Касатка для оказания помощи.
— Оля, — крикнул Левашов. — Подождите!
Девушка остановилась.
— Вы хотите спросить, какие конфеты я люблю?
— Про это мы уже договорились. Островными конфетами вы медведей кормите... Что нового, Оля?
— По слухам, к нам идет ротор.
— Значит, сегодня сдвинемся?
— Трудно сказать. По-моему, вряд ли...
— Да... Повезло ведь тем, кто уже успел сойти.
— А раньше никто и не сходил, — сказала Оля.
— И все, кто сел в Южном...
— Конечно. Вагон-то купейный.
— И то верно... Ну а Коля не жалеет, что поехал?
— А что ему жалеть? — Оля передернула плечами. — Сам напросился!
— А мне показалось, что вы его уговорили...
— Это ему хотелось, чтобы я его уговорила. Вроде бы он здесь ни при чем. Этакая невинная хитрость. Ну и пусть думает, что он очень хитрый. Я-то знаю, как все на самом деле...
— И что же он вот так, без вещей, с бухты-барахты пришел на вокзал и поехал?
— Да какие у него вещи? — удивилась Оля. — Портфель задрипанный — вот и все его имущество. Нет, на приданое я не надеюсь. Ну ладно, пойду, а то он уже бесится.
— Чего ж ему беситься?
— Ревнует. Вы что, до свадьбы все такие?
— Почти. Да, Оля, я хотел спросить... У меня в Тымовском друг живет. Вы не могли бы ему иногда от меня маленькие посылочки передавать? Он бы сам и к поезду приходил...
— Вообще-то правила не разрешают... Но зачем тогда правила, если их не нарушать? — засмеялась проводница.
— А в этом рейсе вы тоже нарушили правила? — спросил Левашов, даже не надеясь на ответ.
— В этом? Да вы что? Кто в такую погоду о посылочках думает?
Левашов медленно прошел вдоль вагона. «Может быть, она? — подумал он. — Или Коля со своим задрипанным портфелем?..»
Разойтись двум встречным в коридоре узкого вагона просто так, на ходу, было нелегко. Приходилось останавливаться, прижиматься лопатками к стене, втягивать живот...
Вот в таком коридоре Левашов столкнулся утром со стариком из соседнего купе.
— Извините, молодой человек... Мы с вами до этого нигде не встречались? — спросил тот.
— Не знаю... Может быть,
— А где вы работаете, если не секрет?
— На Курилах. Уруп.
— Нет, не бывал. На Шикотане бывал, на Кунашире, а вот на Урупе не приходилось. Но я ничего не потерял, верно? Там то же, что и везде, — туман, дожди, приливы, отливы. Как говорится, труба пониже, да дым пожиже.
— В общем-то люди на островах живут примерно одинаково. Одни хуже, другие лучше, одни интересно, другие скучно, но примерно одинаково. А что касается трубы и дыма... Наша труба — вулкан Колокол, без малого полторы тысячи метров. На Курилах немного найдется подобных. А если дымом назвать туман, то в других местах таких и не бывает.
— Скажите, если не секрет, кем вы работаете? Судя по вашему ярко выраженному патриотизму, вы...
— Сейсмолог.
— Вот оно что! Прошу прощения... за поверхностность суждений. Вы, сейсмологи, смотрите вглубь.
— Да, на поверхности многие вещи выглядят одинаково.
— Я вижу, вы не только сейсмолог, но и философ... — Старик неожиданно протянул руку: — Давайте знакомиться... Моя фамилия Арнаутов, Иван Никитич. Экономист.
— Левашов, Сергей.
— Очень приятно. А знаете, Сергей, идемте к нам в купе, а? Обсудим проблемы сейсмологии, вы расскажете, что такое цунами и с чем его едят... Если вы, конечно, никуда не спешите...
— Куда спешить...
— Тогда прошу. — Арнаутов широко открыл дверь в свое купе. — Вот, познакомьтесь, мои попутчики... Это Олег. Мне кажется, неплохой инженер и человек неплохой, но летун... Хотя нашему купе не изменяет — уже сутки лежит... Вы, Олег, не обижаетесь? А это Виталий. Человек без определенных занятий, как он сам представился. Виталий, я правильно выразился?
— А мне, батя, один черт, как ты выражаешься.
У Виталия было смуглое лицо, длинные пушистые ресницы и тонкие губы. Он сидел, закинув ногу за ногу и сцепив пальцы на коленях.
— Ох-хо-хо! — простонал Олег, тяжело переворачиваясь на спину. — Интересно, когда этот буран кончится и кончится ли вообще.
— Разве это буран! — воскликнул Арнаутов. — О! Вы не видели бурана в пятьдесят седьмом году! — Он
восторженно причмокнул, будто буран пятьдесят седьмого года был свидетельством его собственной силы и удали в то время. — Приезжаю из командировки — нет дома. Только по скворечне и нашел.
— А у вас часто бывают командировки? — спросил Левашов.
— Да, — ответил Арнаутов.
— Что же делают в командировках экономисты?
— Командировочные экономят! — засмеялся Виталий. — Чем больше буран, тем больше экономия!
— А знаете, молодые люди, — сказал Арнаутов, — я даже доволен, что все так получилось.. Посидим, отдохнем, язычки почешем... Время идет...
— Пенсия идет, — подхватил Виталий.
— К вашему сведению, молодой человек, — сказал старик с достоинством, — у меня уже два года в кармане пенсионная книжка на сто двадцать рублей. Если вы, конечно, что-нибудь понимаете в этих вещах.
— Да уж в ста двадцати разберусь! Но не понимаю, батя, чего же ты сидишь здесь, на острове?
— О-о! — протянул старик многозначительно и обвел всех взглядом, словно призывая в свидетели. — Вы видите, с кем я разговариваю? Я разговариваю с пассажиром, — медленно проговорил Арнаутов, и в его голосе прозвучало презрение.
— От пассажира слышу! — бойко ответил Виталий.
— А вот я как раз не пассажир. К вашему сведению, все островные делятся на экипаж и пассажиров. Да. Остров — это корабль. На нем есть экипаж, который работает постоянно, по нескольку десятилетий без роздыха. — Арнаутов горделиво глянул на Левашова. — Экипаж! И есть пассажиры, которые отлеживаются в теплых каютах и меняются каждый рейс, другими словами — каждый сезон. Больше одной зимы они не выдерживают.
— Не знаю, батя, из какого ты экипажа, но умотаешь с острова раньше меня. Это точно.
Старик кротко взглянул на Виталия и опустил голову. Помолчав, заговорил тихо и как бы неохотно:
— К вашему сведению, молодой человек, мне отсюда уже не уехать. Слишком долго я жил здесь. Все эти Сочи, Гагры, Крымы не для меня. Делать мне там нечего — это одно, да и помру я там.
— А здесь? — спросил Виталий.
— Старикам нельзя менять место жительства, тем более сахалинским старикам. У меня в Ростове дом, машина, сад яблоневый... Не скажу, чтоб все это легко досталось, но досталось...
— Хорошо живешь, батя! — Виталий покрутил головой. — Я бы не отказался... А скажи, батя, откровенно, не для лохматых ушей, неужели на зарплату ты дом себе построил в славном городе Ростове, да машину купил, да сторожа нанял для своего яблоневого сада? Или нашелся какой-то побочный, независимый доход, а?
Левашов уже хотел было остановить Виталия, но вдруг увидел, как смутился старик.
— Вот так-то, батя. — Виталий тоже уловил перемену в Арнаутове. — А то все мы горазды молодежь учить да себя в пример ставить. Вот спросить тебя в честной компании, на какие такие шиши ты дом в Ростове купил?
— Уж спросили кому надо, — ответил старик.
Посмотрев на Олега, Левашов увидел, что тот лежит на полке, закрыв глаза, и чему-то про себя улыбается. Словно знал он что-то про всех, но не считал нужным говорить об этом.
— Это не разговор, — сказал Левашов. — Так и я у тебя могу спросить, на какие деньги едешь, на какие живешь...
— А я отвечу! Отвечу! Геолог я. А зимой геологи не у дел. Не веришь — возьми карту острова, и я тебе сейчас все речушки, все поселки, все горы и прочую дребедень наизусть с севера на юг прочешу. Идет? За каждую ошибку рубль плачу. А если не ошибусь — ты мне десятку! Ну? Вот так-то, братцы-кролики. Вот так-то... А что старик на руку нечист, — сказал Виталий зловещим голосом, — так это факт. Верно, батя?
— Стар я для таких дел...
— Неужто скопить удалось? — дурашливо ужаснулся Виталий.
— Удалось.
— Знаем, как такие вещи удаются. Слыхали, в день отъезда ребята центральный гастроном взяли. Вот им и удалось.
— Я ведь сколько лет думал, — продолжал Арнаутов, — вот в Ростов приеду, тогда уж поживу... Все откладывал, откладывал... А сейчас понял — поздно. Не могу я туда ехать. Видно, с острова мне одна дорога осталась, — сказал Арнаутов и вышел из купе.
Левашов хотел было выйти вслед за ним, но передумал. Он посмотрел на Виталия, мимоходом окинул взглядом чемоданы, узлы, повернулся к Олегу.
— Обиделся старик.
Олег не ответил. Его крупное мясистое лицо было неподвижно и бесстрастно. Только легкое пренебрежение можно было заметить в выражении глаз, в форме больших сочных губ, в изогнутых бровях.
— Ну и дурак, что обиделся, — отозвался Виталий.
— Он не дурак, — проговорил Олег медленно. — Он — старик. Если бы ты со мной так поговорил...
— Так что было бы?
— Уже отливали бы тебя. — Олег спрыгнул с полки и сел рядом с Виталием, положил ему руку на плечо, участливо заглянул в глаза и повторил: — Отливали бы тебя, парень. Если бы, конечно, захотели. Я бы не стал.
— Чего ж ты не заступился, раз такой смелый?
— Успеется, — улыбнулся Олег. — Тымовское еще не скоро. До Тымовского еще много чего случится, верно говорю? — обернулся он к Левашову.
— Должно, — неопределенно ответил Левашов. — Послушай, а чего он тебя летуном назвал?
— Мы тут маленько о профессиях поговорили, вот я и признался в своем грехе. Летун я, перебежчик.
— Рыба ищет, где глубже, — начал было Виталий, но смолк.
— А сейчас кем работаешь? — спросил Левашов.
— Старшим, куда пошлют! — захохотал Виталий.
И Левашов с трудом удержался, чтобы не выбросить его в коридор. Олег ответить не успел, Левашов увидел, как напряглись и побелели его крупные ноздри. Но он только похлопал Виталия по плечу, раздумчиво так, многообещающе.
— Послушай, Сережа, в шестом вагоне едут бичи... Отчаянные ребята и, по-моему, не в ладах с законом.
— Вряд ли те свяжутся с бичами. Публика ненадежная во всех смыслах. Но проверить надо. Сможешь?
— Конечно. Я вроде в друзьях у них.
— Только вот что, Пермяков, ты поосторожней. Гиблая публика.
— А еще у меня на примете один товарищ, который за все время только один раз в туалет сходил. И то на скорую руку...
— Вот это уже серьезно. Кто он?
— Говорит, что профсоюзный активист...
— Кстати, а ты кто? — спросил Левашов.
— Я снабженец. Помнишь, мы в прошлом году со снабженцами возились? Вот я и взял себе эту легальную специальность. А ты?
— Сейсмолог.
— Это после Урупа?
— Вот-вот... Надеюсь, моих сейсмознаний для широкой аудитории вполне достаточно.
— Послушай, Сергей, откровенно говоря, я в панике. Прошло достаточно времени, чтобы мы приехали в Тымовское, а у нас — ничего да еще немного. А если бы не было этой остановки?
— Не случись ее, все мы вели бы себя немного иначе. И преступник тоже. Да и в Тымовском ребята не сидят сложа руки. Если преступника там должен был встречать сообщник, его, возможно, уже засекли. Если нашего попутчика никто не должен встречать, то все сложнее...
— Как ты думаешь, Серега, у нас есть один шанс из ста?
— Есть. Я думаю, у нас есть по шансу на брата. Мы его возьмем, я уверен.
— Ты что, поддерживаешь мой моральный дух? Это ни к чему, я в любом случае сделаю все, что от меня зависит, верю я в успех или нет.
— Если не веришь — не сделаешь. Не сможешь. Не получится, Пермяков. И ты даже знать не будешь о том, что сделал только половину возможного. Каждую свою неудачу, каждый маленький срыв ты будешь воспринимать как нечто совершенно естественное и неизбежное, с каждой неудачей сил у тебя будет все меньше. Сил будет меньше, ты понимаешь? Если же ты уверен в конечном успехе, то каждая неудача будет тебя... бесить, понял? Ты будешь наполняться энергией, как аккумулятор. Ты станешь гением розыска, хочешь ты того или нет.
— Ну, спасибо, Серега, ну, утешил.
— Ты напрасно так, я в самом деле уверен, что мы найдем эти деньги. Во-первых, похитить деньги гораздо легче, нежели потом распорядиться ими. Ведь их еще нужно поделить, а это непростая задача для той публики, которая идет на ограбление. Каждый из них свой собственный риск считает самым отчаянным, свое участке в ограблении — основным и, естественно, за свои страхи денег хочет получить побольше. Хорошо! Мы не возьмем его в поезде. Не узнаем, кто он. Допустим. Но ведь с прибытием поезда в Тымовское поиск не прекращается. Все только начинается, Пермяков. Сейчас у нас первая пристрелка, разведка боем. Главная схватка впереди. Ты всех знаешь, кто едет в твоем вагоне?
— Всех, а как же!
— Их имена, адреса, места работы, семейное положение?
— Откуда, Серега?!
— О чем же ты с ними разговариваешь? Вернее, что берешь из разговоров? Что вносишь в записную книжку, когда остаешься в купе один? Ведь это очень просто — уточнить потом правильность тех сведений, которые каждый сообщает о себе. А преступник неизбежно лжет. Он должен лгать, он вынужден это делать, чтобы замести следы.
— Знаешь, вот я слушаю и думаю — не зря ведь Катя так уважает тебя. Мне казалось, что все дело в твоем росте. Рост, конечно, главное, но не единственное... Надо же...
— Ладно, Пермяков, разбежались. Кажется, кто-то идет... «Познакомимся» позже. Не забудь — как можно больше сведений. Самых разнообразных. В незначительных вещах человек обычно не лжет, у него сил на это не хватает. Он соврет, называя свою фамилию, но имена детей или жены назовет правильно. Он соврет, называя город, где живет, но номер квартиры укажет верный.
Глава шестая
За несколько лет жизни на острове Левашов уже сталкивался с бичами, знал их повадки. Матросы, списанные на берег за всевозможные провинности, рыбаки, ожидающие путины, летуны, люди, которые прибыли сюда в поисках голубой романтики и теперь употреблявшие это слово разве что в качестве ругательства. Среди бичей встречались люди, сбежавшие от жен, долгов, алиментов, от опостылевшей конторской жизни, люди, разочарованные в городах, друзьях, в самих себе. Попадались среди них и убежденные сезонники, которые просто ждали момента, чтобы уйти в море, на промысел, в тайгу.
Тяжелую северную богему выдерживали далеко не все, и состав бичей постоянно обновлялся. Матросы в конце концов находили место на судах, рыбаки уходили на лов кальмаров, сайры, крабов, а разочарованные быстро разочаровывались и здесь и убирались восвояси, притихшие и помудревшие.
Ездили бичи чаще всего без билетов, очень радовались, встречая знакомых, бывших друзей. И не только потому, что у них можно было одолжить десятку-другую. Несмотря ни на что, они тосковали по старым временам, когда спали в своих кроватях, ходили по утрам на работу, получали зарплату. На радостях бичи нередко тут же спускали одолженные деньги и охотно выкладывали истории, которые слышали в бесконечных скитаниях или которые придумывали сами.
Открыв утром дверь, Левашов невольно отшатнулся. Чуть ли не с гиканьем по коридору бежали трое парней. Один — здоровенный детина в куртке, второй — щуплый, в каком-то затертом плаще, третий — толстяк в свитере.
Левашов уже хотел вернуться в купе, но остановился. На него в упор смотрела молодая женщина.
— Извините, — сказала она неожиданно громким и низким голосом. — Куда это они? — Женщина кивнула в сторону удалявшегося топота.
— Буфет скоро должны открыть. Проголодались ребята.
— Так чего бежать?
— Нас замело не на один день. А буфет... Там все разнесут за десять минут.
— А почему вы не идете? — Она не спрашивала, она требовала ответа.
— Извините, не понял.
— Я спросила, почему вы не идете в буфет? — спокойно повторила женщина. Она отбросила назад волосы, но взгляда не отвела.
— К буфету пробиться уже невозможно. Все забито до тамбура. Мне интересно знать, кто же устоял против соблазна раздобыть пару пирожков. В нашем вагоне таких совсем немного. Вот вы, например...
— Послушайте, в поезде едут дети. Если нас занесло, как вы говорите, не на один день, надо что-то предпринять. Нельзя же допустить, чтобы все продукты расхватали те, у кого плечи пошире или нахальства побольше.
— Знаете, так не пойдет. Вас как зовут?
— Лина, — ответила женщина, помолчав. Она будто решала, стоит ли ей называть свое имя. А когда назвала, у нее появилось такое выражение, будто она пожалела об этом.
— Кто вы такая?
— Методист областного Дворца пионеров.
— А куда едете?
— Куда надо. Еще вопросы есть?
— Есть, но они, по-моему, уже надоели вам.
— Пока мы тут болтаем, там, возможно, уже продукты кончаются. Знаете, я попрошу вас...
— Чтобы легче было просить, вы могли бы поинтересоваться, как меня зовут. Сергеем меня зовут.
— Очень приятно. Сережа, помогите, а? Многие пассажиры рассчитывали сойти с поезда еще ночью и, конечно, ничего не прихватили с собой.
Левашов зачем-то взял с полки шапку, надел, потом, спохватившись, бросил ее на место. Подойдя к служебному купе, он резко отодвинул дверь в сторону и тут же снова задвинул. У самого порога проводница, встав на цыпочки, целовалась с парнишкой.
— Извините, — громко сказал Левашов. — Это я виноват.
— Ничего подобного, — возразила Оля, отодвигая дверь. — Это Коля виноват.
— Дверь виновата, — хмуро проговорил Коля. — Щеколда не держит.
— Оля, послушайте, — начал Левашов, — сейчас буфет откроют...
— Да, в соседнем вагоне. Но там ничего нет. Бутерброды, пирожки... Мы с этими пирожками уже третий рейс делаем.
— Оля, вот этот товарищ, — Левашов показал на Лину, — из Дворца пионеров. Она предложила дельную вещь.
— Нас же занесло, — вмешалась Лина. — Сегодня не отроют. Завтра тоже вряд ли. А в поезде дети.
— В нашем вагоне нет детей, — сказала Оля. — Если не считать этого, — она кивнула на Колю, который все еще хмурился и стеснялся.
— А в других, Оля! Знаете, что завтра начнется?!
Оля сняла с вешалки форменную шапку, надела ее, вскинула руку, щелкнула каблуками.
— Ты, Коля, оставайся. Там очередь, помнут еще... Убери посуду, подмети... Мал ты пока по очередям ходить.
Коля польщенно улыбался.
— Ладно, — говорил он, — смейся, смейся... Ладно...
Впереди шла Оля, за ней Лина, а Левашов прикрывал тыл процессии. Они быстро проскочили через тамбур и вошли в следующий вагон. Пробиться к буфету действительно было почти невозможно, но бичи стояли уже у самого прилавка.
Левашов заметил Пермякова и немного поотстал.
— Ты тоже за пирожками? — спросил он. — Посмотри, кто в вагоне остался. Ведь ты бы на его месте остался?
Оля привычно пробивалась сквозь толпу пассажиров.
— Разрешите, посторонитесь... Дяденька, уберите, пожалуйста, свой живот, а то мне не пройти! Спасибо вам и вашему животу!
А Лина никак не могла протиснуться мимо детины в куртке из чертовой кожи. Подняв глаза, она увидела его небритое лицо, желтый налет на зубах. Он был уже немолод, и спутанные волосы начинались у него гораздо выше, чем было предусмотрено природой.
— Куда? — спросил он. — Разве мадам так хочет кушать, что, извините, прется без очереди, без стыда и совести, без должного почтения к людям, которых она оставила позади себя... — Он все теснее прижимался к Лине, зная, что отступить ей некуда. Не выдержав, Лина размахнулась и влепила ему пощечину.
— Вон ты как! — протянул парень. — Ну тогда проходи. Мадам действительно хочет кушать.
Но едва Лина сделала шаг, дорогу ей преградил другой бич.
— Может, и мне румянец наведешь?
Лина и ему влепила пощечину, понимая, что делает совсем не то, что нужно.
— А теперь моя очередь. — Перед ней стоял толстяк в свитере и в фуражке с крабом.
— Пропустите! — Лина зло посмотрела ему в глаза.
— А как же нам быть с пощечиной? Нет, за тобой должок. Пощечина — и проходи. Чем я хуже этих?
— Противно, — сказала она громко.
— Что противно? — не понял толстяк.
— Бить тебя противно. Стоять рядом с тобой противно.
— А целоваться не противно? — И парень обхватил Лину за плечи. Женщина попыталась вырваться и вдруг почувствовала, что свободна. Между нею и толстяком протиснулась чья-то рука, уперлась в мясистый лоб, и через секунду раздался глухой стук затылка о стену вагона.
— Извини, друг, — сказал Левашов. — Жена. Будущая, правда.
— Спасибо, — бросила на ходу Лина и вслед за Олей проскользнула в буфет. Очередь зашумела, заволновалась, но через несколько минут дверь снова открылась, и показался мощный торс буфетчицы.
— Товарищи, не стойте, — внятно и зычно сказала она. — Буфет работать не будет. Тише! Тише, товарищи проголодавшиеся! Проводники составят списки пассажиров с детьми. Да не волнуйтесь вы, по бутерброду всем достанется. А может, и по пирожку! — рассмеялась буфетчица.
В тамбуре Левашова остановили бичи.
— Слушай, длинный, мы ведь не последний раз видимся? — спросил толстяк. — Когда и где состоится наша следующая встреча, я сообщу тебе дополнительно. По дипломатическим каналам. — Он захохотал, оглянувшись на друзей. — А теперь катись.
Левашов шагнул к толстяку, но тот отшатнулся в глубину тамбура.
— Что же ты... Я ведь попрощаться хотел, — сказал Левашов и подумал: «Не они».
Машинист Денисов больше всего ценил в человеке безотказность, способность выполнить свою работу несмотря ни на что. Ты можешь болеть или быть здоровым, можешь радоваться или убиваться — все это не имеет никакого значения, считал Денисов.
Случалось, он выходил в рейс нездоровым, случалось, оставлял больную жену, но никто не припомнит случая, чтобы он отказался от рейса. Выход на смену Денисов воспринимал как наступление вечера или рассвета — ничто не могло помешать ему. Когда приходило время идти на станцию, он ощущал нечто вроде голода, который утолял, становясь к рычагам паровоза.
Когда ночью состав остановился, Денисов в горячке, не задумываясь, схватил лопату и выпрыгнул наружу. Разбросать сугроб не составляло большого труда, да и пассажиры не отказались бы помочь, но в этом уже не было смысла. На расчистку уйдет полчаса, а за это время все пространство под вагонами будет забито снегом.
Сейчас, когда состав стоял уже сутки, Денисов делал последнее, что было в его силах, — время от времени поднимался на крышу вагона и пытался связаться с Южно-Сахалинском по проводам, которые шли вдоль дороги. А замерзнув и ничего не добившись, возвращался в вагон.
Левашов увидел его, когда машинист опять собрался на крышу.
— Так это вы нас ночью в сугробы затащили? — спросил Левашов.
— А ты, конечно, объехал бы сугробы-то?
— Да уж как-нибудь... А сейчас куда?
— А вот... — Денисов распахнул пальто и показал телефонную трубку с болтающимися проводами. Увидев изумление в глазах у Левашова, он хитро подмигнул ему: вот так, мол, учи вас, молодых.
— Как бы не унесло вас... Вы погодите, я оденусь, ладно?
В угольном отсеке они нашли небольшой ломик и, постучав им по схваченной морозом двери, открыли ее. На ровной стене снега четко отпечатались все выступы двери. Взяв широкую лопату, Левашов ткнул ею в верхний угол и сразу почувствовал, как ее зажало там, снаружи. Лопата пружинила, выворачивалась.
— Ничего ветерок, а?
— Авось, — сказал Денисов.
Выбравшись наверх, они увидели, что заносы сровнялись уже с крышей вагонов, а от паровоза осталась лишь труба, коротким черным пнем торчавшая из снега. До проводов можно было дотянуться рукой. Ветер, рассекаясь о них, гудел протяжно и зло.
— К столбу, к столбу идти надо! — прокричал Денисов. — Пары! Нужны пары проводов! А здесь они перепутаны! Не найдешь!
До столба они добрались минут за десять. Денисов уперся в него спиной, вынул телефонную трубку и кивнул Левашову — давай. Прижав трубку к уху, он накрыл ее высоким воротником и приготовился слушать. А Левашов стал прикладывать оголенные контакты к проводам.
Первая пара проводов молчала. Видно, они были где-то оборваны.
Молчала и вторая пара. Но потом им повезло — они наткнулись на чей-то разговор.
— Алло! Не кладите трубку! Не кладите трубку! — надрывался Денисов, но уже раздались частые гудки отбоя.
Оступившись, Левашов провалился в снег, а выбравшись, никак не мог найти нужные провода. Но вот Денисов опять услышал разговор.
— Оха! Внимание, Оха! Вас вызывает Южный! Ответьте! — с профессиональной четкостью сказала телефонистка.
— Алло! — снова закричал Денисов. — Алло! Девушка! Девушка!
— Чего вы кричите? Даю Южный...
— Послушайте, говорит машинист поезда двести восемьдесят один! Денисов говорит. Вы слышите? Мы подключились на линии. Нас занесло! Вы слышите? Девушка!
— Соединяю с управлением железной дороги... Даю управление... Занято... Одну минутку... Управляющий? Вас вызывает поезд двести восемьдесят один. Ответьте поезду.
И опять соскользнул проводок, но Левашову удалось быстро восстановить связь. Теперь оба контакта он зажал в кулаки.
— Я слушаю. — Денисов с трудом узнал голос управляющего.
— Владимир Николаевич! Говорит Денисов... Денисов докладывает!
— Куда вы пропали, Денисов? Где вы?
— Сто восемьдесят пятый километр... Нас занесло. Нам нужен снегоочиститель. Самим не выбраться!
— Ротор вышел вам навстречу, но его тоже занесло.
— А что прогноз?
— Еще три дня. Еще три дня.
— Владимир Николаевич! У нас двести человек! Нужны продукты!
— Вертолеты не могут подняться. Вы слышите — не могут подняться вертолеты. Нет видимости. Переселите пассажиров в несколько вагонов, весь состав незачем отапливать! Экономьте уголь. Вы слышите? Вам нужно продержаться еще несколько дней. Вертолеты и продукты уже выделены.
— Одну минутку, — сказал Левашов, видя, что разговор кончается. — Скажите телефонистке, пусть соединит с номером... Два семнадцать тридцать четыре.
Денисов передал трубку Левашову, а сам перехватил контакты и отвернулся, спрятав лицо за высокий воротник.
— Степан Федорович? Доброе утро! Левашов говорит.
— Кто? Кто говорит?
— Левашов.
— Откуда ты? Мне сообщили, что ваш поезд занесло...
— Так и есть. Поезд стоит. И будет стоять еще несколько дней.
— Отлично! Это просто здорово! Тебе везет, Левашов!
— Дальше некуда! Степан Федорович, какие новости?
— Он едет в купейном. В седьмом. Одного мы задержали. Пока молчит. И будет молчать, если вы вернетесь ни с чем. Директор магазина скончалась. Сейчас все зависит...
Связь оборвалась — где-то не выдержали провода.
Дыру, через которую они выбрались наружу, уже занесло. Левашов потоптался, прошел вдоль вагона и... провалился. Вслед за ним в тамбур соскользнул Денисов.
Переселение закончилось только к вечеру. Теперь за седьмым вагоном шли опустевшие плацкартные. Проводники сразу закрыли их тамбуры на ключ.
В купе к Левашову и молодоженам Оля подселила лесорубов. Вещи ребят не вызывали подозрений. Обычные клеенчатые чемоданчики да коробка из-под обуви.
— А вы до какой станции? — спросил их Борис.
Первый вопрос человека, который опасается попутчиков, подумал Левашов. Что это — обычная осторожность провинциала или нечто большее?
Неожиданно дверь открылась, и Левашов увидел Пермякова.
— Серега! — воскликнул тот. — Вот новость! Оказывается, и ты здесь! А я иду по вагонам — не может быть, думаю, чтобы ни одного знакомого не встретил! И надо же — ты здесь!
— Остров потому что, — сказал Иван. — Я вот тебя тоже где-то видел, а где... Ты в Буюклы не приезжал?
— Ты лучше спроси, давно ли я оттуда? — Пермяков беззаботно засмеялся, запрокинув голову назад. Гладко выбрит, из-под свитера выглядывает свежий воротничок рубашки, механически отметил Левашов. У меня-то уж точно вид похуже.
— А ты по какой линии? — поинтересовался Афанасий.
— По линии снабжения, — быстро ответил Пермяков.
— О! Ты тогда нужный человек! Афанасий! — Он протянул руку.
— Геннадий. Очень приятно. Очень приятно. — Пермяков пожал всем руки, всем сказал, что его зовут Геннадием, и заверил в том, что ему очень приятно познакомиться с такими ребятами. — А я, значит, иду по составу и ни одной знакомой физиономии. И вдруг вижу — Серега! Надо же!
И Пермяков стал рассказывать какие-то истории, первым смеялся, дергал Левашова за рукав, как бы призывая в свидетели. Потом принялся расспрашивать ребят про Буюклы, про леспромхоз, в котором они работали, про начальство...
— Все ясно. Они ни при чем. Они в самом деле работают в леспромхозе, — спокойно и деловито сказал он, когда ребята вышли покурить.
— В основное время, — заметил Левашов. — А вообще, какого черта ты пришел?
— Соскучился. Как, думаю, поживает мой друг Серега Левашов — ответственный работник Урупской цунамистанции. И потом, я ведь тоже теперь еду, если можно так выразиться, в седьмом вагоне.
— Да, в шестом нашу лавочку можно прикрывать. Я разговаривал со Степаном Федоровичем.
— Да? Как?!
— По телефону. На линии присоединились. Тебе поклон.
— Спасибо, что у них?
— Одного задержали. Но улик немного... Степан Федорович сказал, что этот тип едет в седьмом вагоне. Правда, теперь здесь не двадцать человек, а все сорок!
— Но ты ведь помнишь, кто был в вагоне до переселения? Слушай, Серега, надо заставить его зашевелиться.
— А не провернуть ли нам такую вещь, — медленно проговорил Левашов. — У тебя пропадает чемодан. Ты поднимаешь шум, грозишься вызвать милицию, обыскать состав. Короче, устраиваешь легкую истерику, начинаешь всех подозревать и в конце концов приводишь милицию. Через два вагона, кстати, едут двое наших ребят, они в форме, так что воспользоваться их услугами можно... Итак, что делает преступник?
— Он начинает шевелить мозгами, — сказал Пермяков. — Первым делом ему нужно избавиться от денег. Это улика. А вдруг милиция и вправду устроит обыск? Самое разумное в его положении — припрятать деньги.
— Как? Вот деньги, вот ты с пеной у рта, вот милиция...
— Значит, нужно дать ему возможность избавиться от улики стоимостью в пятьдесят тысяч рублей... Я бы на его месте взял чемодан и ушел из поезда.
— Ты не выглядывал наружу? Над нами тайфун, Гена. Скорость ветра — пятьдесят метров в секунду. Деревья валятся. Он выдохнется на первой же сотне метров. Как ты думаешь, он доволен, что состав занесло?
— Вряд ли. Деньги не спрятаны. Дело не сделано. — Пермяков сейчас совсем не был похож на того шумного рубаху-парня, который ворвался в купе час назад. Теперь он был сосредоточен и словно немного опечален какой-то неотступной мыслью.
— А если нам для начала проверить документы?
— Как проверить? — Пермяков вскинул густые брови.
— Есть такая возможность.
Глава седьмая
Вечер тянулся мучительно долга. Лесорубы уже который час равнодушно шлепали набрякшими картами — им безделье давалось, наверное, тяжелее всего. Просидев час-другой, Иван вдруг вскакивал и тяжелыми, сильными шагами удалялся по коридору, и так же быстро возвращался.
— Фу! — говорил он облегченно. — Будто дело какое сделал.
— Всех обошел? Везде отметился? — смеялся кудлатый Афоня.
— Вы бы уж на уши сыграли, что ли? — советовал Левашов.
— Как? — не понял Иван.
— Ну как... Кто проиграет, тому ухо тут же и отделяют. Как два раза продул, так живи без ушей.
— С одними дырками! — захохотал Афоня.
— Нет, под уши я не буду, — сказал Иван и, не доиграв, бросил карты. Он поднял штору и с огорчением уставился на снег за окном. Потом медленно провел по стеклу толстыми пальцами, постучал костяшками по раме, вздохнул и сел. — Ох и вкалывать придется ребятам! Дорог нет, лесовозы под снегом, рембазу еще отрыть надо... А материалы, горючее...
— Да, план февраля завален, — сказал красивый Федор.
— Какой, к черту, февраля! Квартальный уже горит синим пламенем!
— Не впервой, ребята, — успокоил их Афоня. — Учитывая сложные погодные условия, — гнусавым голосом затянул он, видно, передразнивая кого-то, — а также неблагоприятное стечение производственных обстоятельств, принято решение снизить план на пятьдесят процентов.
— Наверно, снизят, — согласился Иван.
— Конечно, снизят!, Еще с перевыполнением закончим квартал!
— Но все равно ребятам вкалывать придется, пока мы в этой берлоге на колесах отсиживаемся.
— Ну и что! — воскликнул Афоня, который никак не мог проникнуться чувством вины. — Мы ведь в командировке! Обмениваемся опытом!
— А ребята уже вкалывают, — упрямо повторил Иван.
— Вот было бы здорово, — у Афони загорелись глаза, — если взять наш остров на буксир да оттащить его в Черное море... Какой был бы край! Весь этот Крым и в подметки не сгодился бы нашему острову! А? Водопады, озера, скалы, сопки, леса...
— Что-то я не слышал, чтобы в Крыму лесоразработки шли... — сказал Федор. — Заповедным стал бы наш остров. Но я бы не стал его в Черное море буксировать. Я бы его в Средиземном оставил. Представляете, вдоль всего Средиземного моря — наш остров! Тепло, светло, мухи не кусают!
— А ребята вкалывают, — вздохнул Иван.
— Да хватит тебе причитать! — возмутился Федор. — Ну действительно, вроде я должен объяснительную писать, почему нас в составе замело! Стихия. И все тут.
— Ох, помню, первой зимы испугался, — мечтательно проговорил Афоня. — К марту уже задыхаться стал, казалось, зима второй год идет... Не поверите, я из той зимы выбрался как из ямы... Весна наступила, так я воздух стал открытым ртом хватать. Но какая была зима! — Афоня поцокал языком. — Буран неделю, снег — телеграфных столбов найти не могли, мороз — кошка под окном пройдет, и скрип снега слышен.
— Как же ты не удрал? — спросил Левашов.
— А вот этих касатиков встретил. — Афоня показал головой на Ивана и Федора. — Контакт у меня с ними получается. И скажу тебе, парень, — Афоня посерьезнел, — когда контакт с людьми есть, никуда не уезжай. Не советую. Вернешься. Никакой климат, никакая зарплата не даст тебе... В общем, ты понял. И еще я скажу тебе, коль уж разговор зашел, — нет на земле ничего, кроме человеческих отношений. Все остальное — так, одежки. Ты их можешь снимать, можешь снова напяливать — это не имеет значения. Был у меня друг... Но вот у него оказалось высшее образование, а у меня его не оказалось. И контакт поломался. Была подруга... Она любила на мужчинах узкие брюки, а у меня были только широкие. И мы разошлись как в море корабли. И жена... Помню, была у меня жена, — Афоня усмехнулся. — Из ванной часами не выпускала — заставляла чуть ли не кипятком мазут из кожи на руках выпаривать. И руки у меня большие были, красные, вот как сейчас... Из парадного костюма они, вишь ли, некрасиво смотрелись. Как клешни. Пришлось развестись. А тот самый корреспондент, которому Иван хотел голову оторвать, первым делом всегда спрашивает у наших ребят: не думаешь ли, мол, с острова уезжать? Можно себе представить, как он относится к острову? Боится он его.
— И правильно делает, — сказал Федор. — Я заметил, что у каждого приезда на остров — это целая история. Это судьба. Не меньше. Я сам в газете работал. В многотиражке. И ушел. Надоело. Суетно. Газета наша выходила на четырех маленьких страницах, и у нас было четыре сотрудника. Они так и назывались — первая страница, вторая страница. Я был третьей страницей. Говорил о повышении производительности труда, качестве продукции, себестоимости... Все это важно, но мне наскучило.
— Но самая интересная история у нашего Ивана, верно, Иван? — усмехнулся Афоня. — Нет, нам с ним не тягаться!
— И не тягайся, — невозмутимо ответил Иван. — Куда тебе, задохлику, тягаться...
— А что за история? — спросил Левашов, стараясь, чтобы его вопрос прозвучал не слишком уж заинтересованно.
— Отсидел наш Ваня, — ответил Афоня. — И что я тебе скажу — не поверишь! Снова грозится отсидеть, если случай подвернется.
— Это как? — не понял Левашов.
— Вины он своей не осознал. И суду заявил, а перед этим следователю все толковал, что вины своей не признает. А то бы, может, и условным сроком отделался. Но больно принципиальным родился наш Иван, верно, Иван?
— Заткнись. У меня что вышло, — повернулся он к Левашову, — нарушил я пределы необходимой обороны. Есть, оказывается, такие пределы, и нарушать их никому не позволено. Вот только неведомо мне, где эти пределы начинаются, а где заканчиваются. Когда на тебя с ножом идут, с палкой, с кирпичом, тебе как-то недосуг о пределах-то подумать, а потом, когда есть время подумать, то оказывается, что ты уже сидишь.
— Это как подойти... В конце концов пределы обороны заканчиваются там, где заканчивается сама оборона, где уже начинается наступление на преступника.
— Ну ты даешь! — воскликнул Афоня. — Выходит, от преступника только обороняться можно, да? А как ты на него попрешь, то это уже ты вроде бы того, что закон нарушаешь? Сам преступником становишься, да?
— Да погоди ты, зачастил... Для Афони один предел, а для меня другой. Окажись Афоня тогда на моем месте, не было бы его с нами сейчас. Понимаешь, трое пьяных волосатиков к девчонке стали приставать. А ночь темная, пустырь, какая-то стройка. Ну, тут я проходил своей дорогой. Слышу, возня, крики сдавленные какие-то, а мне только того и надо. Я сразу туда. Как увидел... Понимаешь, сразу, мгновенно соображения во мне не стало никакого. Одна злость. И силу в себе почувствовал такую, что только всех крошить. Ну и накрошил... Двое расползлись сами, а третьего люди подобрали. Да и двинул-то я его, как потом выяснилось, один раз, и то после того, как он мне кирпичом по темечку саданул. Я не зверствовал, нет. Нужды не было. Дали мне немного, можно сказать, справедливо дали. Я ведь понимаю, что судят не только конкретного человека, но вообще, для пользы дела, чтобы другим неповадно было, чтоб порядок среди людей был. Ну а как освободили, то возвращаться мне в свой поселок было неуютно. И прав я, и наказание отбыл, а все-таки что-то поперек стало... Но окажись я снова на том пустыре, — в голосе Ивана послышалась железная непреклонность, — и снова все повторится. Не задумываясь, схлопочу себе еще один срок.
— У нас в леспромхозе завелась одна такая компания, по законам тайги захотелось ребятам пожить, — начал было рассказывать Афоня, но, посмотрев на Ивана, смешался. — Пожили... Пока Иван с ними не поговорил.
— Это другая история, — сказал Иван несколько горделиво. Чувствовалось, что он доволен своим разговором с любителями «таежных законов».
Левашов вышел из купе. Было поздно. Состав постепенно погружался в тяжелый и беспокойный сон. Воздух был хотя и довольно прохладный, но душный, проветривать вагоны никто не решался — в малейшую щель тут же набивался снег. Отопление работало беспрерывно, но тепла печки давали мало, надо было экономить уголь. К полуночи опустели коридоры, люди старались побыстрее заснуть, чтобы приблизить утро, которое может принести освобождение из этого затянувшегося снежного плена.
Левашов понимал, что в это время лучше всего и самому завалиться спать. Но он не мог заставить себя уйти в купе и двинулся по составу. Дойдя до последнего заселенного вагона, он так же неторопливо пошел обратно.
В своем вагоне Левашов увидел только Колю. Парнишка стоял у окна и так неотрывно смотрел в стекло, будто поезд проносился через полустанки, над речками, мимо озер и сопок. Невольно Левашов тоже глянул в окно. Нет, кроме смутного силуэта, Коля ничего не видел.
— Не спится, Коля?
— Да это я так... Подышать.
— Что-то ты поздновато дышать собрался. Оля у себя?
— А где же ей быть? У себя, в своих владениях. Хозяйка.
— Значит, поссорились? Напрасно.
— Больно много понимает о себе эта Оля, вот что я вам скажу.
— Ну, брат, этот недостаток еще ни одной девушке не мешал. Это даже хорошо. — Левашов окинул взглядом тщедушную Колину фигурку.
— Для нее это, может, и хорошо... А другим каково?
— Кому другим? — улыбнулся Левашов. — Кому? Подруги могут к этому по-разному относиться, это их дело. А мужчине, — последнее слово он проговорил, с трудом погасив улыбку, — мужчине положено вести себя достойно. Женщины к тому и стремятся, чтобы на них злились, из-за них страдали, чтобы добивались их благосклонности... А мужчина к этому должен относиться с улыбкой — он-то знает, что весь спектакль для него и дается!
— В самом деле? — Коля недоверчиво посмотрел на Левашова.
— А ты не знал? Жениться собрался, а такой грамоты не знаешь. Я тебе вот что скажу — ты за Олю держись. Это такая девчонка, что дай бог каждому.
— Да я знаю, — пробасил Коля, уставясь в собственное изображение.
— Вы где познакомились? — наконец-то Левашов мог подойти к делу.
— На улице. Я пристал к ней, через весь город топал сзади. Выпимши, конечно, был малость, с ребятами чей-то день рождения праздновали. Сзади шел и что-то вякал. А она обернулась, посмотрела так на меня, пуговицу застегнула на рубашке, пиджак отряхнула, а потом и спрашивает: «Мальчик, ты заблудился? Ты где живешь?» Так и познакомились...
— Когда свадьба? — спросил Левашов.
— Через месяц. Уже заявление подали.
— А жить где будете? Не в поезде?
— Да нет... К моим родителям поедем. Они на севере живут, в Охе.
— А как они к Оле относятся?
— Они ее не знают. Они вообще ничего ее знают. Я так... сюрпризом.
— Хорош сюрприз! — рассмеялся Левашов. — А они не сделают тебе ответный подарочек, не отправят обратно?
— Нет, — уверенно заявил Коля. — Они у меня нефтяники, я тоже нефтяником буду. Оха город большой, и Оле найдется работа.
— А где твои старики в Охе-то живут? Я в городе бывал...
— Таежная, семнадцать, знаете? Как раз напротив нового кинотеатра.
— Знаю, знаю... Новый дом там построили... Квартир на сто, наверно.
— Точно, — обрадовался Коля. — У них двадцать девятая квартира.
— Ну ладно, будущий житель двадцать девятой квартиры, иди мириться. Дам тебе еще один совет — мириться нужно сразу, немедленно. Для тебя же лучше. Все равно тебе ведь придется делать первый шаг. Так вот, чем раньше ты его сделаешь, тем легче, проще. Им-то неважно, кто виноват, главное, чтобы мужчина сделал первый шаг к примирению. А потом она же десять раз покается перед тобой и признает свою вину.
— Заметано, — сказал Коля, решительно направляясь к служебному купе. Но, взявшись за ручку, остановился. Левашов подошел, легко отодвинул дверь в сторону и, когда Коля переступил порог, снова задвинул ее.
— Нет, не он, — вздохнул Левашов не то огорченно, не то с облегчением.
Глава восьмая
Два молоденьких паренька в форме милиции сидели, низко склонившись, над откидными столиками. Присмотревшись, Левашов увидел маленькую, с ладонь, шахматную доску, освещенную огарком свечи.
— Так я вроде по делу к вам... Может, оторветесь на минуту?
— На минуту можно. — Оба одновременно посмотрели на Левашова.
— Вот мое удостоверение... Посмотрите.
Милиционеры по очереди поднесли маленькую книжечку к свече и молча взглянули друг на друга. Один из них — белобрысый, почти рыжий, с ресницами соломенного цвета — неопределенно хмыкнул, второй — потемнее, коренастее — с сожалением отодвинул шахматы.
— Транспортная милиция? — спросил Левашов, присаживаясь.
— Так точно, — ответил крепыш.
— Ясно. Как вас зовут?
— Меня — Игорь, — сказал рыжий. — А его — Николай.
— Вот что, ребята... Подробности я вам рассказывать не буду. Ни к чему. А суть такова... В поезде едет преступник. По нашим с вами понятиям — особо опасный. Задача простая — его нужно задержать.
— А приметы? — спросил Николай. — Нет примет.
— Что о нем известно?
— Ничего. В этом все дело. Известно только, что он опасный преступник и его необходимо задержать.
Милиционеры посмотрели друг на друга, потом на Левашова.
— Так вот, ребята, этот тип везет с собой... Нечто вроде саквояжа.
— Это уже легче, — сказал Николай.
— Или рюкзак, — добавил Левашов. — А возможно, чемодан или обычный мешок. Как бы там ни было, но со своим багажом он ни за что не согласится расстаться.
— Золото?
— Нет. И потом, это неважно. Главное — узнать, кто он? Известно одно — он едет в седьмом вагоне.
— Если известно, какой груз он везет, — начал было Николай, но Левашов перебил его:
— Груз небольшой. Он может уместиться в чемодане, портфеле, за пазухой, в конце концов. Наша задача — лишить его душевного равновесия. Заставить действовать и этим разоблачить себя. Для начала вы пройдете по составу и проверите документы. Большого нарушения в этом нет, и потом... интересы дела требуют. Во всех вагонах, кроме седьмого, можете отнестись к своей задаче почти формально. Но в седьмом смотрите в оба. Меня вы, конечно, не знаете. Встретится еще один наш товарищ — на него тоже ноль внимания. Вот и все.
— Что делать с гражданином, у которого документы будут не в порядке? — деловито спросил Николай.
— Задержать. Кто вас должен интересовать... Люди без сахалинской прописки. Если нет прописки, должно быть командировочное удостоверение с материка, справка исполкома, разрешение на право пребывания на острове... Все это вы знаете. И еще — никаких чрезвычайных мер. Проверка — ваша работа, скучная, надоевшая. Если обнаружите его, спокойно предложите пройти в купе к бригадиру поезда для выяснения отношений. Вряд ли он применит оружие. Ведь ему некуда скрыться.
— А если у всех документы в порядке?
— Возвращайтесь к себе с чувством исполненного долга. Но! Через час сделайте еще один обход. Не проверяя документов. Просто пройдите по составу. А в седьмом вагоне загляните в каждое купе, посмотрите в глаза каждому пассажиру. Вопросы есть?
— Когда начинать?
— Утром. Часов в девять... Не позже. Ну, ни пуха!
Левашов вернулся в свой вагон и остановился перед купе, в котором жила Лина. И удивленно скривил губы, вдруг почувствовав сердце. «Новости, — подумал он. — Чего это я... Никак старею». Он потер ладонью щетину на подбородке, пригладил волосы и громко постучал в дверь.
Выйдя из купе, Лина посмотрела в одну сторону, в другую, подняла глаза на Левашова.
— А, это вы? Что-нибудь случилось?
Левашов опять отметил про себя, что ему нравится ее глуховатый голос. Он смотрел на женщину, словно проверяя свое первое впечатление. Да, ей лет двадцать пять. И вряд ли все ее годы были легки и беззаботны. Левашов быстро взглянул на ее правую руку и, не увидев кольца, снова поднял глаза. Рука Лины невольно вздрогнула, на какую-то секунду она повернула ладонь так, чтобы не было видно ее безымянного пальца, но тут же, будто устыдившись своего смущения, подняла руку к лицу — на, смотри.
— Вам помолчать не с кем, да? — Лина была на голову ниже Левашова, и смотреть вызывающе ей было нелегко.
— Знаете, — усмехнулся Левашов, — у меня деловое предложение — давайте говорить друг другу «ты», а? Поскольку оба мы — жертвы стихии, оба пленники снега, и еще неизвестно, когда кончится вся эта катавасия... Будет излишней роскошью говорить «вы». И потом, Лина... Ведь «вы» — это временная форма обращения, так сказать, предварительная.
— Боже, да хватит меня уговаривать.
— Вот и отлично... Ты... одна едешь?
— Почему же... Нас двести человек. — Какой-то беспомощный вызов все время звучал в ее словах. Будто она заранее знала, что ее хотят обидеть, и заранее готовилась к отпору.
— Лина, ты на Урупе бывала когда-нибудь?
— Нет. И знаешь, не чувствую себя несчастной.
— А хочешь побывать?
— А что... Дело только за мной?
— Да.
— Что ж, если это не слишком дорого мне обойдется...
— Что ты имеешь в виду?
— Все. — Она в упор посмотрела на Левашова. И он только сейчас увидел как бы в отдельности ее
крупные губы, чуть раскосые глаза, широкие скулы, скрещенные на груди руки и беспомощность, в которой она боялась признаться, наверно, даже самой себе.
— Ты родилась в Сибири?
— Да, моя бабушка бурятка.
Они стояли одни в желтом полумраке коридора и невольно говорили вполголоса. Над головой все так же грохотал буран, а из купе доносился разноголосый неутихающий храп.
— Знаешь, — сказал Левашов, — странное какое-то у меня сейчас состояние... Тебе покупали когда-нибудь велосипед?
— Мне покупали другие вещи... Платья, куклы, потом — путевки.
— Это не то. Лет двадцать назад мне батя купил велосипед. До того времени я катался на чужих — задрипанных, трехколесных. Да и какие это были велосипеды... Собственность всего двора. По-моему, их и на зиму во дворе бросали. А тут — колеса никелем сверкают, звонок такой, что и прикоснуться страшно, руль без единой царапины! Поставил я его в сарай, сел напротив и смотрю... Потом дохну на обод и слежу, как облачко на нем исчезает. И кажется, если сесть на него, то носиться можно по всей земле и никто не угонится за тобой, и вообще. Знаешь, у меня с тех пор самый счастливый сон — это я в закатанных штанах, с глазами во все лицо, с тощими руками, будто припаянными к рулю, несусь по тропинке. А она петляет, кружит между деревьями, холмами... Трава по сторонам, козы на цепях пасутся, петухи на заборах орут как полоумные. Батя, тогда он еще был, что-то кричит мне, смеется, рукой машет. А я будто лечу над этой тропинкой. Видел я этот сон раза три, и, как только он начинается, я уже знаю, что дальше будет, знаю, когда петух закричит, когда батя на повороте покажется и что он крикнет мне.
Втиснувшись в угол купе, Арнаутов, казалось, дремал. Но едва Левашов открыл дверь, старик встрепенулся.
— А, это вы! Входите!
— Не помешал?
— А чему вы можете помешать? Разве что лишить меня возможности скучать, хандрить, злиться... За это я скажу только спасибо.
— Где же ваши соседи?
— Разбрелись по составу. Виталию проводница наша приглянулась, все время у нее торчит. Олег оказался любителем преферанса, третьи сутки пульку пишут. По моим подсчетам, они проиграли все вагоны и за паровоз принялись. А вам не скучно? Впрочем, вы, наверно, привыкли на своем Урупе к таким вот заносам, когда неделями неба не видишь. Да, в маленьких поселках, на маленьких островах иное отношение ко времени.
— Как сказать...
— Ну как же! В городе опоздал на работу на десять минут — и дело разбирает директор. А тут тебя три дня никто не видит, а когда ты наконец появляешься, только и спросят, все ли в порядке? Да и у вас. Ведь землетрясений десятилетиями не бывает...
— Землетрясения не прекращаются ни на минуту, — сказал Левашов.
— В масштабе Земли? Планеты? Да!
— Нет, в масштабе Курильских островов. Мы ведь ощущаем далеко не все землетрясения. А что касается времени... Хотите расскажу, как отсчитывают время сейсмологи? Допустим, в двухстах километрах от острова Уруп на дне Тихого океана произошло землетрясение. Тектоническая волна идет к нам минуту, и мы тут же сообщаем о землетрясении в управление гидрометеослужбы, а управление выходит на связь со всеми метеостанциями Курильских островов. Через пять минут предупреждения получают все узлы связи Курил. Через пятнадцать минут после первого толчка об опасности цунами знают Камчатка, Москва, Хабаровск, кроме того, сообщение передано на английском языке всем сейсмостанциям Тихого океана. Через двадцать пять минут после того, как дрогнула стрелка нашего сейсмографа, уже закончена эвакуация населения из наиболее опасных мест. И только через сорок минут мы получаем предупреждение от японцев.
— А американцы? — спросил Арнаутов.
— Те далеко. Но обычно цунами проходит через весь Тихий океан.
— Сколько же ему требуется на это времени?
— Гораздо меньше, чем хорошему современному самолету.
— Простите, — сказал Арнаутов, — сколько вам за это платят?
Выцветшие глаза старика были спокойны, брови вскинуты в ожидании ответа.
— На жизнь хватает.
— На жизнь или прожитие? — настаивал Арнаутов.
В желтоватом свете свечи Левашов видел сухую, морщинистую кожу старика, ввалившиеся глаза, прикрытые тонкими красными веками без ресниц... Седая щетина, выросшая за последние пять дней, придавала старику какой-то запущенный вид. «Он долго не протянет», — неожиданно для себя подумал Левашов, и ему стало жаль старика.
— Вы давно на острове? — спросил Левашов.
— Лет двадцать. Хороший остров, между прочим, — сказал Арнаутов с таким выражением, будто говорил о хорошем доме.
— И вам действительно здоровье не позволяет уехать?
— И здоровье тоже. — Арнаутов поплотнее закутался в пальто, зябко передернул плечами. — Да и куда ехать? В моем возрасте ищут не новых мест, а старых друзей. Но друзьям нельзя расставаться на двадцать лет. Иначе им не о чем будет говорить. Разве что вспоминать. Но за двадцать лет и воспоминания теряют смысл. Знаете, бывает, случайно встретишь на улице знакомого и впадаешь в легкую панику — о чем говорить?
— А там... в Ростове, вы не были женаты?
— Был. — Старик неотрывно и пристально смотрел в окно, как если бы в это время поезд проезжал по улицам далекого, залитого солнцем Ростова. Он словно хотел увидеть хотя бы угол знакомого дома, крыши, вывеску соседнего магазина...
— А я люблю дорогу, — сказал Левашов. — Даже такую. Знаете, каждый в дороге находит то, чего ему больше всего не хватает... Одиночество, общество, любовь, лекарство от любви... В дороге находят и друзей, и собутыльников, в то же время дорога — хорошее средство и от друзей, и от собутыльников.
— И жизнь тоже дорога, — думая о чем-то своем, сказал Арнаутов. — Только длиннее и опаснее.
— Да. — Левашов поднялся. — Жизнь опасна.
— Не надо с такой легкостью бросаться этими словами. — Старик тоже поднялся. — Для меня они отнюдь не способ красиво выразиться. Я, может быть, только теперь, только в этом поезде понял, насколько важно в мои годы быть довольным прошедшей жизнью. Конечно, можно быть не удовлетворенным результатами, которых добился, можно их вообще ни во что не ставить...
— И считать, что жизнь прожита зря? — спросил Левашов.
— Нет, я не о том. Наши результаты зависят не только от нас. Я бы даже сказал, что итог жизни человека зависит от него гораздо в меньшей степени, чем от обстоятельств, от людей, с которыми ему пришлось схватиться...
— А если этот человек не схватывался с людьми?
— Такого не бывает, — убежденно сказал Арнаутов. — Любое сотрудничество — это схватка. Любовь, дружба, работа — это схватка. Схватка со своей слабостью, пассивностью, с соблазнами, схватка с силой и агрессивностью других людей, с их авторитетом, достоинством, влиянием!
— А зачем схватываться с чужим достоинством?
— Вы меня не понимаете. Я говорю не в том смысле, что нужно обязательно уничтожать это чужое достоинство, я говорю «схватываться» в том смысле, что при столкновении с чужим достоинством, при встрече с чужим влиянием нужно уметь отстоять, оградить, утвердить свое собственное достоинство, отстоять свои границы. Вот о чем я говорю! Но мы отвлеклись. Так вот, можно быть не удовлетворенным результатами, которых добился к концу жизни, но человеку нужно быть уверенным в том, что он принимал правильные решения. Что он поступал в полном соответствии со своими убеждениями, целями, привязанностями. Что он не отступился от них ни в одном своем решении и поступке. Вот что главное. А результаты... они могут быть, могут не быть... Это уже не так важно.
— Вы не уверены, что ваши поступки были верны?
— Нет. Я уверен в том, что они были ошибочны. Поэтому и результаты меня не радуют. Машина, сад, дом... Я не могу гордиться этим. А человек должен, понимаете, должен чем-то гордиться к концу жизни! Иначе очень неприятно помирать!
— По-моему, вам еще рано об этом думать, — неуверенно проговорил Левашов.
— Да бросьте вы эти дежурные фразы! О чем еще человеку думать в конце шестого десятка? Ну да ладно... Вы, надеюсь, еще заглянете?
Глава девятая
А потом пройдет много лет, ты будешь жить далеко от этих мест, и однажды утром, выглянув в окно, увидишь, что идет снег. Это будет даже не снег, а воспоминание о нем. Он тонким слоем покрывает карниз твоего дома, деревянную планку балкона, сквозь него проступают ребра жестяных листов на крыше соседнего дома. А внизу, брезгливо поднимая лапы, идет кошка по щиколотку в снегу. Визжат радостно дети, таская по двору санки, и тебе хорошо будет слышно, как скрежещут полозья, натыкаясь на торчащие из снега мерзлые комья земли. И, слушая этот скрежет, глядя на эту хилую зиму, ты вспоминаешь Синегорск — сказочный поселок среди заснеженных сопок. Сквозь снег просвечивает глубокая зелень елей, а домики на дне распадка, узкая быстрая речка кажутся игрушечными, будто вчера лишь сделанными для какого-то детского фильма. От каждого двора к главной улице через речку переброшены мостики — узкие, широкие, с аккуратными резными перилами, с обычными жердинами вместо перил, а там, где один берег выше другого, мостики сделаны с перепадами, со ступеньками, некоторые мостики крытые, и прихожая в доме начинается еще на противоположном берегу.
Над речкой наметены сугробы, и она течет где-то под снегом, иногда только вырываясь на свободу и бликуя темной чистой водой. Идет медленный крупный снег. Солнце только что село за сопки, и, хотя до вечера еще далеко, улицы, тени от деревьев, узкие распадки, уходящие извилистыми ущельями на запад, — все это уже насыщено синевой. Снежинки, пролетая над освещенным склоном сопки, кажутся ярко-розовыми, как пеликаний пух, а опускаясь и попадая в тень, становятся голубыми. И ты видишь, что слева от тебя идет голубой снег, а справа — розовый. Но вот снежная туча уходит в сторону, и над головой вдруг распахивается пропасть неба. Потом медленно наплывает еще одна туча, и снова начинает идти густой сине-розовый снегопад. И как в детском фильме: заснеженные крыши домов, сопки, ели с одной стороны синие, а с другой — розовые.
Положив подбородок на ладони, Левашов с бездумным вниманием смотрел на свечу, как капли стеарина рывками скользят по застывшим потекам, срываются на столик и быстро мутнеют, покрываясь мелкими морщинками.
Над головой привычно гудел буран, но сейчас он напоминал Левашову другой гул — подземный, который он слышал во время землетрясения на Урупе, когда казалось, что где-то глубоко под землей ворочаются громадные жернова, сотрясающие скалистый островок. В то время Левашов был в сопках, и вдруг тысячи уток с криками поднялись над озером. Подойдя ближе, он увидел, что озеро вспучилось и осело. Уровень воды опускался все ниже, ниже, и вот показалось влажное илистое дно. В крике уток слышалось чуть ли не изумление.
Оглянувшись, он увидел, как в полной тишине, с тихим шорохом на него шло море. Волна была высотой метра полтора, но какая-то всклокоченная, нетерпеливая. Левашов бросился вверх, на вершину сопки. Море не отставало. Несколько раз волна хватала его за ноги, но Левашов успевал сделать еще один отчаянный прыжок, еще один, еще... И когда, задыхаясь, он свалился у дерева, обхватив ствол руками, чтобы не смыло, не унесло в океан, волна, будто раздумывая остановилась в двух шагах, сникла, сразу потеряв силу и упругость, и начала отступать.
Он знал, что отдыхать нельзя — следующая волна может быть посильнее. Так и случилось. Когда он поднялся еще на полсотни метров, вторая волна все-таки догнала его, смяла, окатила щепками, грязью, вырванной травой, листьями...
До поселка он добрался к вечеру, и тут снова начались толчки. В здании маяка хлопали двери, сыпалась штукатурка, звенели разбитые окна, словно кто-то, громадный и неповоротливый, бегал по лестницам, сотрясая стены. И уж совсем жутко стало, когда замкнулись контакты и в полной темноте луч вдруг вспыхнул сам по себе, а сирена взревела жалобно и обреченно. К маяку боялись подходить, как к большому раненому зверю. По стенам маяка, как молнии, пробежали трещины, а он все ревел, будто звал на помощь. Иногда крик затихал, но опять вздрагивала земля, и маяк вскрикивал, как от боли.
Но главные события происходили в двухстах километрах восточнее Курил, на глубине десяти тысяч метров. Там грохнул взрыв, от которого, как эхо, пошла на остров волна, пошла свободно и безнаказанно. Когда цунами начинается с отлива, море, отступая, оставляет на суше тонны рыбы — легкую добычу мальчишек, которые, бесстрашно бегая между камнями, успевают собрать бьющих хвостами окуней, кальмаров, осьминогов и, завидев вздувшийся на поверхности воды вал, взбегают на возвышенность. Отступив, словно для того, чтобы набраться сил, море обрушивается на берег. И баржи оказываются в сопках, реки меняют русла, приливной волной лодки тащит против течения. Волна перетирает, уничтожает плантации моллюсков, и рыба уходит искать новую пищу, и гибнут от голода стада каланов, и долго еще валяются на берегу туши китов с переломанными костями...
Левашов уже не видел, как захлебнулась в стеарине и погасла свеча. Маленькое светлое цунами набегало на берег, лизало нагретые солнцем камешки, откатывалось, набегало снова... А он барахтался в этой волне, переворачивался на спину, и солнце слепило его яркими, теплыми лучами, и был он настолько легок, молод, счастлив, что уже не мог оказаться в том самом сне, где он ехал на велосипеде по узкой тропинке, а отец что-то кричал ему, радостно размахивая руками.
Конечно, Левашов понимал, что затея с проверкой документов вряд ли позволит ему тут же разоблачить преступника. Слишком это было бы легко. Так не бывает. Да и какой преступник, не имея документов, будет держать деньги при себе! Опять же трудно поверить в то, что грабители отправили деньги с человеком, у которого нет прописки. Нет, уж если они так тщательно подготовили ограбление, то и здесь надо ожидать такой же предусмотрительности. А что они предусмотреть не могли? Конечно, тайфун. Теперь их планы сорваны. Во всяком случае, в том, что касается сроков. И если деньги сейчас действительно в поезде, то доставщик должен быть в легкой панике. Ведь следствие идет, он понимает, что милиция в Южном не сидит сложа руки, он понимает, что как бы ни было продумано ограбление, следы они оставили по той простой причине, что не оставить их невозможно. И у милиции есть время поискать эти следы, сделать выводы и принять меры. Вполне возможно, на конечной станции его уже поджидают. Да, невеселое у него, должно быть, сейчас настроение.
Когда милиционеры подошли к седьмому вагону, уже весь состав знал, что у пассажиров проверяются документы. Одни молча приготовили паспорта, справки, пропуска, другие удивлялись, третьи откровенно посмеивались над незадачливыми милиционерами, вздумавшими устраивать проверку в занесенном поезде.
— Это чтобы злодей не убежал! — хохотал Виталий. — А то возьмет и убежит! Ищи его тогда в снегах!
— Проверяют — значит, надо, — рассудительно заметил Арнаутов. — Остров, пограничная зона... Зря вы посмешище устроили, нехорошо. Вот, прошу обратить внимание, — старик повернулся к милиционеру, — с тех пор как я получил бессрочный паспорт, здесь стоит только одна печать о прописке и одна — с места работы.
— Молодец, папаша! Так держать! — сказал Олег. — Зато мне скоро вкладыш придется брать. Скажите, а вкладыш в паспорт делается? — спросил Олег у милиционера.
— Обычно до вкладыша дело не доходит, — ответил Николай, возвращая паспорт Олегу. — Обычно новый выдается.
— Уж лучше потерял бы ты его, — сказал Арнаутов. — Десять рублей штраф, зато ни одной печати... Приличней все-таки.
— Аккуратней надо с документами обращаться, — строго сказал Николай. — Обложку купили бы, что ли...
— Потрепанным паспортом возмущаться нечего, — сказал Олег. — Им гордиться надо.
— Особенно если еще и морда потрепанная, — не удержался Виталий.
— А, — протянул Олег. — И ты здесь... Хорошо, что напомнил о себе, а то я уж забывать стал. Хожу все время и думаю — что-то мне сделать надо, а вот что — никак не мог вспомнить.
— А что сделать? — настороженно спросил Виталий.
— Одно небольшое воспитательное мероприятие.
— Смотри, осторожней воспитывай... А то один все тигров воспитывал.
— С тиграми я не связываюсь, — улыбнулся Олег. — А вот ослу позвонки посчитать не откажусь. — И Олег вдруг вроде шутя большим пальцем резко ткнул Виталия в живот. Виталий поперхнулся, задохнулся, на глазах показались слезы. Олег смотрел на него спокойно, даже с интересом.
— Ну и шуточки у тебя... — наконец проговорил Виталий.
— И это все? — Олег разочарованно вытянул губы. — А я надеялся, что ты захочешь мне сдачи дать...
Борис долго искал паспорт, не нашел и показал справку с места работы о том, что он действительно уезжал на материк в отпуск. Левашов протянул паспорт. Игорь молча посмотрел его и вернул, даже не взглянув на Левашова.
— Скажите, а чем вызвана проверка? — спросила Лина.
— Такой порядок.
— Вы не знаете или не хотите ответить?
— А вы как думаете? — повернулся к ней Игорь.
— Думаю, что не знаете.
— Совершенно верно. Правда, приятно сознавать себя правой?
— А все-таки, ребята, что случилось? — спросил Олег. — Сколько езжу — первый раз такая проверка.
— Если, конечно, не секрет, — присоединился к просьбе Борис.
— Случилось то, что и должно было случиться. — Николай понизил голос. — Пассажира ограбили. Чемодан увели.
— Там бичи вон едут, — произнес мужчина, который, кажется, первый раз вышел из своего купе. Утяжеленная нижняя часть тела выдавала конторского работника. — Я бы на вашем месте вначале их проверил. Чреватый народ...
— Проверили, — сказал Николай. — В порядке у них документы. А вы, значит, будете... Кнышев? Так вот, товарищ Кнышев, паспорт ваш просрочен. Как это понимать?
— За последние два года мне первый раз приходится паспорт показывать. Я уже и забыл, что он есть у меня.
— А что у вас есть, кроме паспорта?
— Удостоверение. Инструктор профсоюза угольщиков.
— Не угольщиков, а работников угольной промышленности, — поправил его Арнаутов. — Инструктор должен это знать.
— Что положено — знаю, — ответил Кнышев. — И знаю, как вести себя с пожилыми людьми, которые суют нос не в свои дела. — Он повернулся спиной к Арнаутову, отгородив его от милиционера.
Федор молча протянул Игорю все три паспорта, и лесорубы продолжали играть в карты. Так же молча Федор взял паспорта и не глядя бросил их на полку.
— Ну а вы, молодой человек, — обратился Николай к тезке, стоявшему в дверях служебного купе. — У вас уже есть паспорт или обойдемся свидетельством о рождении?
— Вообще-то есть, — смутился Коля. — Только я дома оставил... Забыл. Но у меня удостоверение училища... Вот.
— Так, — протянул Николай. — У тебя что же, практика в поезде?
— Никакая не практика! — вступилась Оля. — Едет парень — и пусть едет. Мать у него заболела в Тымовском. Что же он, и к матери не может съездить?
— Нет, почему же... Конечно, он может проведать свою маму. Но я думаю, он слишком рано уехал от нес. Ему бы с мамой еще немного побыть.
Ушли милиционеры, разбрелись пассажиры, стихли голоса в коридоре. Левашов забрался на полку и закрыл глаза. Внизу о чем-то шептались Таня с Борисом, молча шлепали картами лесорубы, будто издалека доносились еле слышные порывы ветра.
Итак, если в порядке бреда прикинуть — какова реакция преступника? Первая неожиданность — остановка поезда. Но буран наверняка не организован, значит, можно быть спокойным. Тем более что в такую погоду милиции не до него. Занесенные поселки, нарушенная связь, бездействующие аэропорты, спасательные работы по всему острову... А вот проверка документов на пятый день после остановки поезда — это неспроста. Правда, милиционер сказал, что кого-то ограбили... Что же в таком случае даст проверка? Непонятно... Или молодые милиционеры решили проявить инициативу? Странная инициатива. Документы проверили по всему составу... Неужели они связались с Южным? Если искали меня, думает преступник, значит, можно предположить, что те попались. Но им нет никакого смысла выдавать меня... Выходит, милиционеры не врут. А если так, то вполне возможно, они начнут искать этот пропавший чемодан...
Дверь открылась, и в купе заглянули милиционеры. Они внимательно осмотрели всех, чуть помедлили. Словно бы раздумывая, словно колеблясь, и закрыли дверь. «Молодцы, — подумал Левашов. — Это как раз то, что нужно».
Итак, открывается дверь, и преступник встречается глазами с милиционерами. Он готов дать отпор, готов ответить на любой вопрос, пошутить, засмеяться, возмутиться, но... Ничего не происходит. Милиционеры молча задвигают дверь. Значит, они хотели убедиться, что он здесь?
— Что делает преступник? Прежде всего он должен подумать о том, чтобы избавить себя от неприятных случайностей. Деньги нужно спрятать — вдруг милиционеры поинтересуются его вещами. Спрятать... Куда? В своем купе неплохо, но опасно. Попутчики подтвердят, что эта сумка или чемодан принадлежат ему. Куда вообще можно спрятать деньги? Коридор?.. Туалет... Тамбур... Угольные ящики... Служебные купе...
Глава десятая
На острове большим уважением пользуются люди, немало повидавшие, поездившие на своем веку. Впрочем, человека бывалого ценят и уважают везде, но на острове к нему относятся еще и с каким-то ревнивым чувством, будто он в чем-то обошел вас, но вы все-таки не теряете надежды обойти его и, таким образом, восстановить, с вашей точки зрения, справедливость. Дело тут, наверно, в том, что на остров приезжают в основном люди, которые ценят новые края. Поэтому так часты здесь разговоры о всевозможных медвежьих углах, маленьких островках, не отмеченных на карте озерах, поэтому так подробны здесь разговоры о дорогах, о том, как куда лучше добраться, как лучше выбраться.
Вот и Левашов, знавший остров довольно неплохо, не упускал случая поговорить о нем. Во-первых, это облегчало выполнение задания, поскольку он общался со многими людьми, а во-вторых, чего греха таить, хотелось и ему прихвастнуть своими поездками.
— Послушай, — с восхищением спросил Иван, — ты что, в самом деле все Курилы объездил?
— Такая работа, ребята! Вы вон тоже по всему Сахалину помотались, а это больше, чем Курилы.
— А лесоразработок там нету? — спросил Афоня.
— Вот этого нет. Но если надумаешь пойти в рыбаки или геологи, работа найдется.
— И на Тюленьем острове был? — спросил Федор.
— Но это же не Курилы... Это к вашим лесоразработкам ближе, чем к островам.
— Как же не Курилы?! — воскликнул Афоня.
— Помолчи, — сказал Иван негромко. — Помолчи и послушай.
— Не понравилось мне там, — продолжал Левашов. — Воняет.
— Как воняет? — У Федора было такое выражение, будто его оскорбили.
— Ну как... Остров маленький, а сивучей... Земли не видно. С коммунальными услугами там пока еще слабовато. Но все-таки здорово! Птичьи базары каждую весну. Жить там, конечно, ни к чему, но побывать — здорово!
— А на Зеленом острове был? Там, говорят, дикие лошади бродят? — спросил Афоня почему-то шепотом.
— Бродят, — подтвердил Левашов. — Правда, не столько дикие, сколько одичавшие. Табун со времен войны остался... Людей нет, вот лошади и живут на воле. Неказистые, правда, лошаденки, но самые настоящие мустанги. Ничего, Афоня, ты еще молодой, побываешь, посмотришь.
— Это кто, Афоня молодой? — Федор хмыкнул. — Афоня уже алименты выплатил. Так что у него, можно сказать, вторая молодость открылась...
— А у тебя и первой не было, и второй не будет, — отрезал Афоня. — А Горячий пляж видел? — повернулся он к Левашову.
— Ну, ребята, Горячий пляж совсем рядом. Это же Кунашир. Рейсовые пароходы ходят.
— И что же, он действительно горячий?
— Через подошву печет. Там, понимаете, вулкан рядом, от него и весь жар. Что интересно, берег каменистый, как волна отбежит — тут уж не зевай! — хватай рыбешку и выбрасывай на берег. Между камнями ее всегда полно. Окунь морской попадается, еще кое-чего... Так вот, поймаешь голыми руками рыбу, заворачиваешь в газету и зарываешь в песок. Считай, что она уже на сковородке. Через полчаса такое блюдо, ребята, сравнить не с чем!
Левашов рассмеялся, увидев, как лесорубы дружно проглотили слюну.
— Ладно, не будем про блюдо, не тот случай... Но рыбалка однажды там случилась знаменитая. Надумали ребята с Кунашира рыбку половить. Ну, у пограничников отметились, те предупредили их насчет погоды, в общем, отчалили в море. Катерок у них был небольшой, одно название только, что катер, так, лодка с мотором. Плавали они плавали, но настало время домой возвращаться. Опять же пограничники подошли, говорят, хватит, ребята, туман сгущается.
— Поворачивать надо! — невольно воскликнул Афоня.
— Повернули. Туман плотный, низкий, носа лодки с кормы не видно. Опять же стемнело, и, как на грех, мотор заглох. Моториста среди них дельного не было, сели они на весла и помаленьку поплыли. Благо погода тихая, волна небольшая. Ребята не растерялись, бывалые потому как были, но когда поняли, что заблудились, кричать начали и ракеты в воздух пускать. Слышат, отзывается кто-то. Потом еще голоса в темноте раздались. Но когда подошли ближе да прислушались, оторопь их взяла. Язык-то японский! Присмотрелись — огни в тумане, лебедка постукивает, якорные цепи звенят. Только тогда и догадались, что к японскому траулеру причалили.
— К японцу?!
— Ну!
— Так вот, начали наши ребята лодку тихонько разворачивать на сто восемьдесят. Что-то японцы еще в темноте кричали, а ребята знай гребут. И что бы вы думали? Выбрались. Где-то через час услышали катер, по звуку мотора узнали — свой. Подобрали их, конечно. Но шуму было! Большинство испугом отделалось, но один начальничек с ними был, того с работы сняли, выговор с занесением вкатили... Но, по слухам, восстановился уже.
Из купе показалось растерянное лицо Бориса.
— Ребята... Это... Вроде того... Начинается!
— Что начинается?
— Ну эти... роды. Надо бы что-то сделать, а, ребята? — Борис походил сейчас на испуганного и беспомощного мальчишку. В коридоре уже столпились люди, но никто не знал, что предпринять.
— Ничего страшного, — сказал Арнаутов. — Раньше такие вещи вообще без врачей происходили. Природа все предусмотрела на тот случай, если врача не будет. Вы побудьте с ней, а я схожу узнать, может, среди пассажиров есть врач...
— Ей врач сказал, что через неделю, а то и через две...
— Ну, мил человек, мы здесь уже почти неделю торчим, и потом с нами случилось в некотором роде чрезвычайное происшествие.
Арнаутов постучал в дверь служебного купе.
— Видите ли... Она рожает... Таня то есть... — сказал он Оле.
— Да что она, с ума сошла?! — И Оля бросилась в купе.
Таня лежала, запрокинув голову. Лицо ее при желтом свете свечи казалось застывшим, и только руки скользили, скользили по животу.
— Ну что делать, что делать! — твердила Оля, выйдя в коридор. — И надо же — в моем вагоне! Нет, чтобы этой Верке повезло. И все мне, все мне!
— Оля, ты успокойся. — Лина взяла девушку под локоть. — В нашем вагоне врачей нет, мы узнали. Надо пройти по составу, пусть проводники спросят у пассажиров. И через пять минут все будет ясно.
— Да-да... Конечно.
Оля протиснулась через забитый коридор, выбежала в тамбур. В наступившей тишине слышно было, как грохнула дверь. И все особенно четко, как бы внове, услышали настойчивый гул ветра.
— Ну, с кем спорить, что пацан родится? — спросил Афоня.
— А на что спорить, на штаны? — захохотал Виталий.
— Зачем на штаны... Как приезжаем, ведешь меня в ресторан и кормишь, пока я не скажу — хватит. Мяса хочется, жареного, с корочкой, чтобы на нем еще пузыри лопались... И лимоном его побрызгать. И на второе — тоже мясо. И тоже с корочкой и лимонным соком. Разрежешь, а от него — дух! И на третье — мясо...
— Заткнись! — свирепо сказал Иван. — Мне это мясо каждую ночь снится. Только я его в рот, а оно вроде нарисовано и из бумажки вырезано. А сегодня колбаса приснилась, толстая, мягкая... А потом смотрю — это глина раскрашенная. Хватил я эту колбасу об пол, она и рассыпалась на мелкие кусочки. Тут какие-то собаки набежали, стали подбирать...
— Собаки — это хорошо, — сказал Олег. — А хотите про медведя?
— А что там с медведем? — спросил Иван.
— А то с медведем, что убили его. Вы никогда не были на празднике зимы у нивхов? Ну-у, вы много потеряли. — Олег выпятил вперед сочную нижнюю губу. — Что до разных там плясок, гонок на оленях, собаках, художественной самодеятельности — все это вы знаете. Я сам ездил на оленях и на собаках — хлопотно. Было однажды, даже прирученного медведя в сани запрягли, и ничего, тащил.
— А что, потащит! — убежденно сказал Афоня.
— Так вот о медведе... Центр и гвоздь всего праздника — убиение медведя. Надо убить медведя. Он у них вроде священного зверя, и если убить его как надо, то целый год и рыба будет ловиться, и дети рождаться, и все остальное будет в ажуре. Но порешить медведя полагается не из винтовки или ружья, нет, это нужно сделать оружием предков — стрелой!
— А что, можно! Запросто!
— Легко сказать — стрелой, а пусть попробует нынешний нивх убить нынешнего медведя из лука! Во-первых, медведи стали большие и злые, а луки нивхов никуда не годятся. Разучились они их делать. Секрет потеряли. Ну с луками кое-как выкрутились. Написали в какое-то материковское «Динамо», и оттуда им выслали лук спортивный. И тут вторая загвоздка — будь ты хоть какой нивх, но ни председатель колхоза, ни участковый милиционер не позволят тебе рисковать собственной жизнью. И кто решится на медведя идти с луком?! Это же смешно... Да и нивх уже не тот. Образование у него, специальность, жизненные планы, если можно так сказать, технику безопасности он изучал. Решили — медведя надо растить самим, как говорится, в своем коллективе. Так и сделали — стали растить медведей в клетках. Малышами из берлог берут и каждую зиму по одному убивают во славу предков. И нивх цел, и обычай сыт. Правда, пока медведь вырастает, он ручным становится, по поселку чуть ли не свободно разгуливает, и нашему брату, в общем-то, жалко его убивать, но обычай суров. И вот наступает праздник. Железными цепями приковывают разнесчастного медведя за все четыре лапы к столбам, а самый сильный и отважный начинает из лука в него стрелы пулять. Но спортивная стрела только шкуру медведю пробивает, не больше. Что там начинается! В общем, зрелище не для слабых.
Добивают медведя ножами. Шкура, конечно, подпорченной оказывается, но зато желчь в полной сохранности. Самому почетному гостю на празднике отдают шкуру и желчь.
— Зачем? — опять спросил Федор.
— Шкуру под ноги стелют, а желчь — лучшее средство от ревматизма, радикулита и еще чего-то, не помню уже. Несколько капель на полстакана коньяка — и будь здоров. Как рукой.
— Врешь! — с неожиданной злостью сказал Иван.
— Как это вру? — удивился Олег. — Ты насчет желчи не веришь?
— Про желчь — не знаю. А на празднике у нивхов я был. Хороший праздник. Веселый.
— И я говорю, что веселый. — Олег снисходительно улыбнулся.
— Хороший праздник, — повторил Иван. — Был я у них. И медведя они не убивают, давно уже не убивают. Дура, они же охотники, им совесть не позволит вот так с медведем. Он священный у них, ну вроде бы как корова в Индии. Напрасно ты так на них, не надо. Они хорошие ребята.
— Ну, извини, друг. — Олег виновато развел руками.
— Кстати о медведе. — Арнаутов почувствовал, что нужно как-то сгладить впечатление, оставшееся после рассказа Олега. — Был у нас начальник четвертого участка, некий Фетисов. Пошел он однажды на рыбалку, забрался по речушке за пятую или десятую сопку, пристроился и начал ловить. Место глухое, рыба непуганая, и сидит Фетисов не нарадуется. Поймал рыбку, и через себя, поймал еще одну — туда же. Речка там горная, быстрая, шумная, просидел он час, и уже ни шума, ни вообще ничего на свете не слышит. И вдруг чувствует — кто-то в спину ему дышит, горячо так дышит. Оборачивается Фетисов спокойно так, даже взгляд от поплавка не отрывая, а над ним — медведь. И росту в нем — как сарай, а лапы на живот свесил — рыбы ждет.
— Я бы тут же в воду! — воскликнул Афоня.
— А наш Фетисов заорал таким благим матом, что эхо, наверно, до сих пор по сопкам гуляет. И только он заорал, в горле у него что-то оборвалось. Ну а медведь посмотрел на него как на дурака последнего, покачал так головой да и пошел вперевалочку. Что до начальника четвертого участка Фетисова, так он до сих пор и слова сказать не может, сипит, и все. Как проклятье на него нашло. А начальник участка без голоса — сами понимаете... Ему, может, тот голос нужнее, чем певцу какому.
— А медведь?
— А надо вам сказать, что тот медведь с тех пор повадился к рыбакам пристраиваться. Как увидит человека с удочкой, сядет в сторонке и ждет. Близко уже, правда, не подходит. А если видит, что не замечают его, — ревет тихонько так, ветки ломает, камушки с горки спускает, здесь, мол, я. Ну, конечно, это уже не рыбалка...
В вагон вбежала радостная Оля. За ней торопливо шли две женщины.
— Чего столпились? Не собирайтесь — коридор должен быть свободным! — сказала громко одна из женщин, и всем сразу стало легче. Значит, нашелся человек, который все возьмет на себя. — Аптечка есть? — спросила она у проводницы.
— Есть вообще-то... ящичек... Я сейчас.
— Захватите несколько постельных комплектов. И растопите титан. Пусть мужчины снегу принесут. Халаты хорошо бы достать. Спросите у буфетчицы. Может, у пассажиров есть карманные фонарики — несите сколько найдется. А впрочем, у вас должны быть служебные фонари.
Команды сыпались как из мешка.
— Это врач? — спросил Левашов у Оли.
— Врач, — кивнула Оля. — Зубной.
— А вторая?
— Ветеринар из зверосовхоза.
Чертыхаясь и ругая себя за безалаберность, проводники выгребали из пыльных, рассохшихся аптечек флакончики с йодом и зеленкой, плоские пакетики с бинтами, таблетки в выцветших обертках.
Лесорубы собирали на крыше вагона снег, набивали его в наволочки и сбрасывали в тамбур. Левашов с Линой засыпали снег в чайный титан. Денисов, пробравшись к паровозу, наскреб еще два ведра угля, и вскоре в седьмом вагоне заметно потеплело. Безымянная старушка принесла два пакета стерильной ваты. Буфетчица перегретым утюгом проглаживала швы своего парадного халата.
А когда в третьем часу ночи из пятого купе послышался крик ребенка, вскоре об этом узнал весь состав. У какого-то рыбака нашлись две сигнальные ракеты — он не поленился среди ночи выбраться на крышу вагона и запустил их одну за другой в черное гудящее небо. Маленькие яркие огоньки тут же подхватил ветер, и рыбак даже не видел, как ракеты взорвались, как пылали в снегопаде разноцветные огни и сгорали, не успев упасть.
Потом в вагон торжественно вошла буфетчица с весами. Карманы ее халата провисали от тяжести гирь. Буфетчицу пропустили в купе, там протерли водкой тарелки и взвесили ребенка. Вскоре все знали — девочка весит три девятьсот и звать ее будут Надя.
— Что-нибудь заметил? — спросил Левашов.
— Ничего интересного. Хотя вся эта суматоха с родами была ему очень на руку.
— Ни с чемоданом, ни с сумкой в коридоре никто не появлялся?
— Нет. Буфетчица прошла с весами, но в них ничего не спрячешь.
— А аптечные ящики? Он не мог ими воспользоваться?
— Они в купе у Оли. Их всего три — наш, из соседнего вагона и еще откуда-то... Из четвертого, что ли...
— А этот рыбак, который на крышу поднимался? — спросил Левашов. — У него ничего с собой не было?
— Я ему тамбур открывал. Душа парень.
— Что-то не видно этого поганца Кнышева... Профинструктора...
— В другой вагон выселился.
— А вещи? — спросил Левашов.
— Унес с собой. У него один большой чемодан. Денег там нет. Я помогал ему укладываться.
— Знаешь, что я подумал... Сейчас любой может выселиться в другой вагон и оставить свой чемодан в купе. В каждом столько набито народу, что никто не знает, где чьи вещи.
— Не исключено, но маловероятно. Рискованно.
— Ладно, Гена. Иди отдыхай, а я заступлю на дежурство. В случае чего я в пятом купе. Да, ты где это побриться успел?
— Ха! Было бы желание! Есть тут один обладатель механической бритвы... Но ты ему не понравишься.
— Добрый вечер, товарищ бригадир, — сказал Левашов, присев и удобно ссутулившись у столика.
— А! Здравствуйте! — Дроздов приподнялся с полки, опустил ноги в валенках на пол и застегнул пуговицы кителя.
— Что новенького?
— А ничего. Сидим и сидеть будем. Разгрузочная неделька получилась. Говорят, печеночникам полезно.
— Ротор не идет?
— Какой ротор... Откуда?
— А в поезде все нормально?
— Если наше положение можно назвать нормальным... — Дроздов хмурился, словно был чем-то недоволен. Наконец Левашов понял — бригадир был недоволен собой. Мятый китель, щетина на подбородке, скомканная постель — все это лишало его уверенности, как бы обезоруживало.
— И ничего чрезвычайного не произошло?
Дроздов пожал плечами.
— Никто не ушел с поезда?
— В такую погоду? Это нужно рехнуться.
— Ничего ни у кого не пропало?
— В смысле украли? Нет, жалоб не поступало. На холод жаловались, на тесноту после переселения, вопросы задают — когда поедем, когда продукты подбросят... Один товарищ вез домой три килограмма шоколадных конфет — вчера вечером мы их раздали детям. А одна старушка отдала трехлитровую банку красной икры, так что детей мы и завтра сможем как-то поддержать.
— Да... Нехорошо получилось, Федор Васильевич, я хотел вас предупредить. Если кто о проверке документов спросит — ответьте, что так и должно быть. Мол, порядок такой. А может быть, запомните, кто спрашивал... — Левашов исподлобья глянул на бригадира.
— Вы спрашивали, не пропало ли у кого что... Я вот вспомнил... У проводницы из седьмого вагона пропал ключ.
— У Оли? Какой ключ? От каких дверей?
— От всех дверей. От туалетных, от купе, от тамбуров. Все двери можно открыть этим ключом и пройти состав из конца в конец.
— А она не потеряла его?
— Нет. Он был у нее на кольце вместе с другими ключами. Так вот, другие на месте, а этого нет.
— Ну спасибо. Спокойной ночи.
Глава одиннадцатая
А снаружи, заглушая снежные разряды, гудел тайфун. На сотни километров вокруг не было иных звуков, кроме надсадного глухого воя.
Во время такого снежного шабаша тебя вдруг охватывает острая тоска по самой обыкновенной пыли. Невольно представляешь, как идешь плохонькой проселочной дорогой, как тебя обгоняет дребезжащий грузовик, поднимая клубы пыли. Ты ничего не видишь в этой пыли, она скрипит на зубах, оседает на волосы — и тебя захлестывает счастье. Наступает момент, когда снег становится невыносимым. Слишком уж он вездесущ, слишком многое в его власти. Но когда кончается буран и ты видишь, как бульдозеры расширяют дороги, как постепенно из снега показываются верхушки деревьев, заборы, ты чувствуешь радость победы. В небе торжествующе ревут мощные лайнеры, уходят на таежные дороги грузовики, легко и празднично скользят по сверкающим сопкам разноцветные лыжники, и солнце отражается в каждом склоне, повороте дороги. Острую до слез радость вызывают мудрый рокот бульдозера, рейсовый автобус, самолет, тяжело оседающий при посадке, свежий номер газеты, открытые магазины, озабоченные крики паровозов на вокзале.
У каждого складывается свой образ острова, свое представление о нем. Конечно, можно найти таких, кто, вернувшись оттуда, говорит только о крабах, кетовых балыках, красной икре и прочих подробностях местной кухни. Для других остров — это порт, море, корабли на рейде, и все их самые милые воспоминания связаны именно с этими вещами. А для третьих — это тайга, еще для кого-то — побережье, пустынное и таинственное побережье, стекающие с сопок речушки, уходящие куда-то в глубь острова влажные и сумрачные распадки. Встречаются люди, готовые весь остров назвать Медвежьей охотой, или Зимней рыбалкой, или Сбором грибов и ягод, потому что в таком количестве и таких размеров грибы и ягоды встречаются только здесь.
Но всех объединяет тайфун. Для всех это событие, это происшествие, приключение не только в географическом или погодном смысле слова. Тайфун — это нечто личное, что врывается в тебя и будоражит, как встреча с чем-то действительно значительным в жизни.
Левашов проснулся неожиданно, как от толчка. Гулко и тяжело стучало сердце. Посмотрев на часы, он убедился, что спал недолго — минут десять. И успокоился. Некоторое время лежал прислушиваясь. Вагон спал. Только из соседнего купе доносились негромкие голоса, говорили неторопливо, с длинными паузами. Но вот послышались... В коридоре? Да, в коридоре. Крадущиеся, почти неслышные шаги. Левашов напрасно всматривался в заранее оставленную щель — он ничего не увидел. Но шаги уже удалялись.
Хлопнула дверь тамбура. Куда же он? Ведь дальше идут пустые вагоны... Может, кто-то решил покурить? Но зачем тогда красться?
Левашов осторожно отодвинул дверь. Тишина. Только мощные всхрапы за тонкой перегородкой. Ковровая дорожка на полу глушила шаги, и Левашов прошел в конец коридора. Дверь открыта. Так вот почему у Оли пропал ключ... В пустом вагоне послышался неясный звук — кто-то шел обратно. В левой руке Левашов держал фонарь, в правой — пистолет. Он снял предохранитель и вжался в темный угол тамбура. Вот кто-то вошел, постоял прислушиваясь, потом быстро закрыл дверь на ключ и проскользнул в вагон.
И только тогда Левашов перевел дух. И тут же снова остановил дыхание, прислушиваясь к почти бесшумным шагам в коридоре. Шаг, еще шаг, третий, четвертый... Остановка... Еще два шага. И осторожное нажатие на ручку двери. Потом дверь поползла в сторону, заскрипела — и металлический щелчок. Дверь закрылась.
Виталий долго ворочался, кряхтел. В голову лезли мысли о том, какое он слабое и никудышное существо, и что должность у него, в общем-то, никудышная, и что скорее всего он неудачник и никогда не будет жить так, как ему хочется. Только ощущая превосходство — должностное, физическое, какое угодно, — Виталий мог радоваться жизни. Он отлично чувствовал себя с людьми, которые ниже его, старше по возрасту. Виталий заметно оживлялся в обществе лысых, толстых, людей менее его образованных или хуже, чем он, одетых.
С начальством Виталий вел себя скромно и почтительно. И не потому, что боялся или хотел получить какую-то выгоду, нет. Просто он был уверен, что с начальством так и нужно вести себя, нужно оказывать мелкие услуги, забегать вперед, чтобы открыть дверь, предупредительно улыбаться при встрече, угощать, если подворачивается случай. Это, считал он, просто хороший тон. С людьми, от которых хоть в чем-то зависела его судьба, он чувствовал себя робко и неуверенно, терялся, не знал, что сказать, как повернуться, собственные мысли казались ему не просто неуместными, а постыдно бездарными, о которых даже заикнуться было бы глупо.
От невеселого раздумья его отвлекла фраза,
которую произнес Арнаутов. И только тогда Виталий осознал, что в купе уже давно идет разговор между стариком и высоким парнем из соседнего купе.
— Я уже расплатился за все подлости, которые совершу! — резко сказал Арнаутов. — Я расплатился за них своим одиночеством, десятилетиями, из которых не могу вспомнить ни одного дня!
— Слушай, батя, а за прошлые подлости ты тоже расплатился? — спросил Виталий, перегнувшись с полки.
— Да! Я сначала плачу, а потом уже поступаю как мне вздумается!
— А разве поступать как вздумается, — это поступать подло? — негромко спросил Левашов, глянув на старика исподлобья.
Арнаутов уже набрал было воздуха, чтобы ответить, но неожиданно сник и промолчал. В купе наступила тишина. Слышались голоса из коридора, где-то очень далеко гудел ветер, и медленно-медленно на маленьком столике у окна шевелился светлый круг от свечи.
— Все, ребята, гаси свечи! Ночь!
В дверях стояла Оля. Морозная, розовая, и в ее волосах, на бровях таяли снежинки. Все повернулись к ней, будто увидели нечто поразительное, чего до сих пор не замечали.
— Эх, Оля! — вздохнул Арнаутов. — Был бы я помоложе лет на сорок...
— И что тогда? — засмеялась девушка.
— А что, взял бы тогда тебя в жены. Ей-богу, взял бы. И на Колю твоего не посмотрел бы.
— Ну а меня хотя бы спросили?
— И спрашивать не стал бы. Нет, не стал бы, — повторил Арнаутов, будто еще раз убеждаясь в правильности такого решения.
— Берите сейчас!
— И сейчас бы взял, — серьезно и печально сказал старик.
— Так что, по рукам?
— Что ты! Бабка ему такую трепку задаст! Последние волосы выдернет! — воскликнул Виталий.
— Боже, какой глупый, — пробормотал старик. Он поднялся, с усилием распрямился, шагнул к девушке и некоторое время стоял не двигаясь в своем черном длинном пальто и с непокрытой головой. Потом медленно поднял руку, осторожно провел ею по прохладной, в каплях растаявшего снега щеке девушки. Никто не проронил ни слова. Арнаутов повернулся и, сгорбившись, сел.
— Оля, как вы попали на остров? — спросил Левашов, чтобы нарушить неловкое молчание.
— А, ничего интересного! — Оля махнула рукой. — На путину прикатила. Не в рейс, конечно, на рыбообработку. Ну и забросили нас на Курилы, в Крабозаводск. И только по общежитиям рассовали, приходит телеграмма — умерла мама. А тут, как назло, неделю штормило, пароходы и не появлялись в порту. Похоронили без меня. А я... ну что, поревела, поревела, да и осталась. Возвращаться не к чему было, да и не к кому. Начальство, правда, в положение вошло, пристроили меня в хорошую бригаду, чтоб заработать могла. А осенью, после путины, в Южный приехала. Нашла квартиру, заплатила за полгода вперед и с тех пор на материк даже не ездила. Лет пять уже. И пошло — зимой я в проводниках, а летом — на рыбообработке. Один раз на плавбазе даже к самой Америке добиралась... Знаете, почти к берегу подходили, огни видны, они нас овощами снабжали, пищей свежей...
— Нет, бабы они есть бабы! — возмутился на своей полке Виталий. — Человек, можно сказать, возле самой Америки был, а о чем речь ведет? О свежей пище и овощах!
— Ты! Тюря нехлебаная! Когда ты в море месяц пробудешь и вдоволь рыбки поешь на первое, на второе и на третье, вот тогда мы с тобой об овощах поговорим.
— А я с тобой и сейчас согласен о чем угодно всю ночь напролет говорить! А? Может, столкуемся? Главное — Колю из твоего купе вытурить...
— Жаль, что ты на второй полке, не дотянусь, — с сожалением сказала Оля и вышла.
— Ничего, — протянул Виталий, переворачиваясь на спину. — Столкуемся. Не сегодня, так завтра... Не с тобой, так с другой... Не об этом, так об том... Столкуемся. Никуда никто не денется.
Пермяков пришел под утро.
— Вот, оказывается, как ты дежуришь, — сказал он. — Дрыхнешь без задних ног!
— Виноват... — Левашов приподнялся на полке, сел, пригладил волосы. — Дежурства отменяются, — сказал он, когда они вышли в коридор. — Проведем, товарищ Пермяков, маленький следственный эксперимент.
— Интересно, какая роль отводится мне?
— Не беспокойся, справишься. Отойдем к тамбуру. Так... Становись у самой двери. А теперь сделай семь шагов на цыпочках в глубь коридора. И заметь, у какого купе ты окажешься. Смелей, это недалеко.
— Я оказался у твоего купе, — сказал Пермяков, вернувшись.
— А теперь еще раз. Только шаги делай побольше. — Пермяков снова вышел в коридор, прижался спиной к двери и начал отмерять шаги. При счете семь он остановился и посмотрел на дверь купе. Вернулся.
— Не хватило примерно полтора шага до седьмого купе, — сказал он. — А прошлый раз я остановился у пятого. Твое ведь пятое? .Что-нибудь случилось?
— Пошли.
Постояв в тамбуре, они торопясь проскочили в восьмой вагон. Постояли прислушиваясь. Левашов включил фонарь, бросил луч света по полкам, по окнам...
— Подожди, Серега... А ну-ка, посвети на пол... Видишь?
На полу, покрытом искрящейся изморозью, виднелись следы. Кто-то совсем недавно, потоптавшись, большими шагами прошел в глубину вагона.
— Как же это он? — в недоумении проговорил Левашов. — Такая неосторожность... Может, провокация?
— Никакой провокации. Он приходил сюда без фонаря. Поэтому собственных следов видеть не мог. А о том, что на полу образовалась изморозь, ему и в голову не пришло.
— Да, все учесть невозможно... Надо же, изморозь...
Следы пересекали вагон и выходили в тамбур.
— Здесь должен быть угольный ящик... — Левашов осмотрел пол, стенку. — Вот! — Открыв металлическую дверцу, он направил луч в нишу. Там, прикрытый угольным мешком, стоял небольшой клеенчатый чемоданчик с потертой ручкой и сбитыми уголками.
— Батюшки-светы! — шепотом воскликнул Пермяков. — Никак нашли?!
Вынув чемодан из ниши, Левашов прикинул его на вес.
— На, подержи... Будешь знать, сколько весят пятьдесят тысяч...
Чемодан открылся легко — замок был самый обычный. Вложенные в плотный целлофановый мешок, деньги лежали, прикрытые пижамой. Вначале, видно, их старались укладывать пачками по достоинству, но потом просто ссыпали как попало.
— Уверен, что они и посчитать не успели, — проговорил Пермяков.
— Не до того было.... Ничего мешочек... А теперь вкладывай все на место и закрывай чемодан. Остальное, как говорится, дело техники.
Войдя в тамбур своего вагона, они прислушались. Все было спокойно. Нигде не хлопнула дверь, никто не вышел вслед за ними.
— Ну что, — сказал Пермяков, — подобьем бабки?
— Пора. Я вот думаю, не сделал ли я ошибки... Может быть, мне следовало взять этого типа прямо в тамбуре, когда он возвращался? И тогда он уже сидел бы в отдельном купе.
— По-моему, все правильно. Никакой ошибки. — Пермяков помолчал и повторил: — Все правильно. Во-первых, ты не знал, зачем он ходил в пустой вагон. Не исключено, что это был обычный воришка, стащивший у кого-то бумажник. А может, человеку по нужде пришлось сбегать. И разоблачать себя вот так, с бухты-барахты, совершенно ни к чему.
— А во-вторых?
— А во-вторых, у него в поезде, возможно, есть сообщник. Вроде бы он едет один, ну а вдруг — не один? Вдруг деньги между ними разделены? Вдруг он ничего не прятал, а только сходил посмотреть этот тайник, чтобы убедиться в надежности? А сейчас мы о нем знаем, а он о нас — нет.
— Во всяком случае, мы на это надеемся, — улыбнулся Левашов.
— Мы можем быть в этом уверены. Знай он, что мы сидим здесь ради него, он не стал бы прятать деньги так близко. Ведь, по сути, они у него под рукой, он может взять их за две-три минуты. А мог спрятать их по-надежнее. В паровозе, к примеру. Мог отнести к первому километровому столбу и зарыть в снег. Мог, в конце концов, обшивку где-нибудь снять, положить между стенками деньги и снова все завинтить.
— Ну что ж, будем считать, что моя деятельность в коллективе одобрена. Тогда у меня вопрос к коллективу: кто он? Кого мы можем заподозрить с достаточной уверенностью?
— Я бы поставил вопрос иначе, — сказал Пермяков. — Кого мы можем освободить от наших подозрений?
— А имеем ли мы право освобождать кого-либо от наших подозрений?
— Ну... подозревать всех — это прежде всего аморально. Да и глупо.
— Понимаешь, Гена, — медленно проговорил Левашов, — я не думаю, что мы унизим чье-то достоинство, если вот здесь с тобой обсудим, преступник он или нет. Ведь мы никуда его не тащим и не требуем доказательств невиновности. Что ты думаешь об Арнаутове?
— Он давно на острове, многих знает, многие знают его.
— Во всяком случае, он так утверждает, — уточнил Левашов.
— Разумеется. Но он бы не стал так подробно врать. Врать надежнее немногословно, чтобы слушатели сами додумывали подробности. Каждый свои. Что касается Арнаутова... Дом в Ростове, машина, сад яблоневый... А сам здесь. Чего ему здесь сидеть? А того ему здесь сидеть, что он знает многих и его знают многие. В Ростове он чужой, хотя и родился там. Он везде чужой, кроме этого острова.
— Ты предлагаешь вычеркнуть его из списка?
Пермяков посмотрел на тусклую лампочку, переступил с ноги на ногу, а встретившись взглядом с Левашовым, опустил голову.
— Пусть остается... Пока.
— А молодой отец Борис?
— Его можно смело вычеркнуть. Он с материка едет. С женой опять же, а теперь и с дитем... До того ли ему?
— Если его никто не попросил доставить в Макаров небольшой чемоданчик, даже не говоря, что в нем...
— Маловероятно. А как тебе нравится Виталий?
— Довольно хамоватый тип. Сам говорит, что уже полгода без определенных занятий.
— Правда, — сказал Пермяков. — Пижон. И очень много о себе понимает.
— Может быть, потому, что чувствует себя состоятельным человеком?
— В любом случае вычеркивать из списка его нельзя.
— Не будем. А Олега?
— И Олег пусть остается. Он мне показался достаточно сильным для такого дела. И физически, и не только. Есть в нем какое-то волевое превосходство над тем же Виталием. — Пермяков поколебался секунду. — Да и я перед ним чувствую себя не в своей тарелке...
— Список растет. Как ты предлагаешь поступить с лесорубами? Ребята отчаянные, насмотрелись всякого, прошли через многое... В общем, тертые ребята.
— Предлагаю оставить, — сказал Пермяков, словно преодолев какое-то сомнение. — Хотя они мне нравятся. Понимаешь, Серега, все-таки видно — порченый человек или чистый. Он может быть грубым, черствым, но исключено, что за этим стоит цельность... Это как яблоко — вроде красивое, яркое, спелое, но вдруг замечаешь маленькое черное засохшее пятнышко. Если это грязь, ты ее просто сковырнешь, а если червь — пятно будет еще больше... Так и лесорубы. На них есть пятнышки, но это земля, она вся на поверхности. Кого бы я внес в список, так это Колю, жениха нашей проводницы, да и саму проводницу. И первую красавицу нашего вагона... эту — в брючках.
— Лину?
— Так ее зовут Линой? Сережа, так ее зовут Линой? Мы оставляем ее в списке или вычеркиваем?
— Если настаиваешь... Но я бы вычеркнул. Следы на изморози — мужские следы. Поэтому, Гена, не надо так коварно улыбаться... Итак, в список мы внесли всех, кого могли подозревать с той или иной долей вероятности. Так? Теперь об эксперименте. Когда ночью тот тип спрятал деньги, то, вернувшись в вагон, он от двери до своего купе сделал семь шагов. Шаги слышны были. Ты в первый раз за семь шагов добрался только до пятого. Пятое купе мое. В нем он быть не мог, потому что я слышал, когда он прошел мимо меня. Второй раз, прыгая как кенгуру, ты не смог добраться до седьмого. Так? Остается шестое. Даже если я ошибся На один шаг в ту или иную сторону, все равно остается шестое.
— А не мог ли он зайти в чужое купе?
— В четыре часа утра, когда все спят?
— Поправку снимаю, — коротко сказал Пермяков.
— Итак, шестое купе. Арнаутов, Виталий, Олег... и Борис.
— Борис — это у которого дочь родилась? А разве он не с женой?
— Нет, с Таней поселились две женщины, а он перешел в мужскую компанию. Эти четверо входят и в наш предварительный список...
— Тише! — вдруг прошептал Пермяков. — Слышишь?
— Что?
— Тишина...
За неделю они так привыкли к вою над головой, что перестали замечать его, и теперь напряженно вслушивались, боясь снова уловить протяжный гул.
Еще не веря, что все кончилось, Левашов рванулся вверх, опираясь на ручку двери, на решетку, ограждающую стекло, на выступ номера вагона, хватаясь пальцами за липкие от мороза железки, наконец, взобрался на крышу.
Луна висела почти над головой. Звезды казались яркими сколотыми льдинками. И стояла такая тишина, которая была здесь разве что тысячу лет назад. На десятки километров вокруг не работал ни один мотор грузовика, трактора, самолета, не грохотали поезда, не гудел прибой.
Левашов стоял над составом, над островом в центре пустынной равнины, залитой лунным светом. Только на самом горизонте темнели сопки. Искореженный берег океана поблескивал голубыми изломами льдин. И далеко-далеко от берега слабо мерцала лунная дорожка. Там начиналась чистая вода.
Буран кончился.
Глава двенадцатая
Мастерство оперативного работника заключается еще и в умении вести себя совершенно естественно в любой обстановке и при этом задавать необходимые вопросы, уточнять детали, вызывающие подозрения. В каждой ситуации существует круг вопросов, которые можно задавать, не опасаясь выдать себя. Например, в доме отдыха можно у каждого человека спокойно спросить, откуда он, надолго ли приехал, когда уезжает, сколько ему осталось быть здесь, часто ли он отдыхает вообще, бывал ли здесь раньше, как достал путевку... И так вот, не выходя за круг обычных курортных тем, можно выяснить о человеке все необходимое.
Есть свой круг естественных вопросов и на острове. Здесь никого не удивит, если вы спросите, например, давно ли человек на острове, собирается ли уезжать, как вообще он здесь оказался, приехал с семьей или один, не надоела ли ему суровая романтика края утренней зари, а поскольку народ здесь в основном практичный, простой и открытый, можно спокойно спрашивать и о зарплате, и о жилплощади, и о надбавках, даже о том, как человек этими надбавками распоряжается.
Левашов и Пермяков во время очередной своей встречи в тамбуре решили провести своеобразную анкету — всем задать одни и те же вопросы, а потом сопоставить их. Возможно, это позволит сделать какие-то выводы. Вопросы были выбраны самые простые — давно ли на острове? Как попал сюда? Думаешь ли возвращаться на материк?
И вот такие ответы они получили.
А р н а у т о в.
— Давно ли... Хм, иногда мне кажется, что здесь, на острове, я провел всю свою жизнь. А там, там была жизнь, в которой я не всегда поступал, как мне хотелось, говорил не то, что думал, да и общался с людьми не самого лучшего толка. Как оказался здесь... Нет, я сюда не приехал, не прилетел, не приплыл, я сюда бежал, ребята. Бежал. От самого себя, да и не только. Было от кого бежать, от чего... Давняя это история. И уж коль я здесь оказался, останусь. Придется остаться. Знаете, что я вам скажу? Человек должен время от времени совершать поступки, которые встряхивали бы его, заставляли бы почувствовать оставшиеся силы, омолаживали его хотя бы духовно. Может быть, для этого нужно влюбиться, нахулиганить или вообще выкинуть такое, что никому и в голову не придет! Так вот, остров дает такую возможность, он встряхивает, ты все время чувствуешь себя как после чашки крепкого кофе. Знаете, висит здесь в воздухе нечто такое, что заставляет тебя идти быстро, оглядываться неожиданно, смотреть пристально и быть все время к чему-то готовым. Даже если ты и миновал пенсионный рубеж.
Б о р и с.
— Я родился здесь, на острове. И считаю, что мне повезло. Был я на материке, даже за Уралом был. Красиво, конечно, там, но не для меня. Я, братцы, красоту понимаю по-своему — хорошо мне или не очень. Мне здесь хорошо. И я знаю — будет еще лучше. Занесет, к примеру, нас с вами через годик-второй, подобьем костяшки, и сами увидите. Дите подрастет, работаю я хорошо, честно, прорабом стану. Танька надбавку получать начнет, еще кое-что намечается... И потом я так считаю — где человек родился, там он и жить должен. В этом месте у него все лучше будет получаться, и везти ему будет, и здоровье у него не пропадет. Кем бы он ни стал — прорабом, поэтом, бухгалтером, — повезет ему только на своей земле.
О л е г.
— Черт его знает, как я здесь оказался... Занесло каким-то шальным ветром. С перекати-поле такие вещи случаются. Я не ворчу. Если так случилось, значит, так должно было случиться. Против судьбы не попрешь. У нас после института выбор был довольно своеобразный — казахские степи, якутская тайга и сахалинские туманы. Выбрал туманы. Не жалею, нет. Туман — это приятное явление природы, мне нравится. И в прямом и в переносном смысле. Туман позволяет сохранять отношения между людьми, в тумане все мы кажемся слегка расплывчатыми. Это как раз то, что нужно, чтобы не растерять друзей. Абсолютная, жесткая ясность ведет к разрыву. Когда все совершенно ясно, становится скучно. Вот я и думаю — пусть в семье тоже будет не то розовый, не то голубой туман. Согласитесь, мы выглядим лучше в тумане, чем при ярком, прямом свете юпитеров. Не видно морщин, не видно слез, хандры. Уеду ли я отсюда? Наверно, уеду. Вот ветерок поймаю попутный. Говорят, яхтсмены-профессионалы различают ветры даже по цвету. Мой цвет неопределенный. Может быть, розовый, а может, голубой.
В и т а л и й.
— Год я здесь. Ясно? Год. И уже в печенках у меня и остров, и снег, и бухты, и все его потроха. Господи, вы все уже у меня в печенках, если хотите знать. Уеду ли? Обязательно. Как пить дать. Вот деньги малость поднакоплю. Если без трепа, то я ради этой самой деньги и приехал сюда. И не думаю, что меня нужно за это презирать. Нет, себя я за это не презираю. Даже уважаю. Государству нужен специалист в этом далеком, суровом краю? Пожалуйста. Я готов. И опять же я прошу заплатить мне не только ради себя — государству полезнее человек с лишней копейкой, потому что он, не думая о хлебе насущном, с большей готовностью отдает себя общему делу. Открою секрет — хочу купить машину. Куплю. Пока не куплю — не уеду. О себе я думаю? Не только. О государстве тоже. Социологи доказали — человек с машиной гораздо выгоднее народному хозяйству, чем человек на своих двоих. Он мобильнее, его знания, опыт, энергия используются эффективнее. У него бо́льшая отдача. Поэтому, покупая машину, я делаю вклад не только в собственное благополучие, но и совершаю патриотический поступок. Вот так-то, граждане пассажиры, вот так-то, братцы-кролики! Нас голыми руками не возьмешь.
К полудню узкая тропинка на крыше состава превратилась в плотную дорожку. Все до боли в глазах всматривались в слепящую даль, надеясь увидеть снегоочиститель. Весь день по стометровке, протянувшейся среди бесконечной белой равнины, прогуливались люди, отвыкшие от солнечного света, свежего воздуха и простора. Несколько раз в океане показывались силуэты судов. Они возникали и медленно таяли в светло-голубой дымке.
Левашов нашел Лину на крыше последнего вагона, там, где заканчивалась протоптанная в снегу дорожка.
— Интересно, где мы встретимся в следующий раз? — Левашов обрадовался, увидев Лину.
— А, это вы... Простите — ты. — Она улыбнулась. — Где увидимся? Во всяком случае, не на крыше вагона. Это уж точно.
— Можно, я задам тебе один неприличный вопрос?
— Разве что один... — Лина насторожилась, но вопроса ждала с интересом.
— Ты замужем?
— Нет.
— А была?
— Это уже второй вопрос, а мы договорились только об одном.
— Значит, была.
— Да. Недолго.
— Послушай, Лина, может быть, я произвожу странное впечатление...
— Не производишь.
— Подожди, не перебивай. — Левашов взял ее за руку. — Ситуация не позволяет выдерживать все сроки приличия... Ротор на подходе. Ты мне ничего не скажешь?
— Что тебе сказать... Даже не знаю, что тебе и сказать... Я не привыкла к таким темпам. — Она прямо взглянула на него.
— Я тоже. Но темпы диктует ротор.
— Странно все как-то получается. — Лина улыбнулась, но ее раскосые глаза остались темными и серьезными.
— Такие вещи всегда происходят странно, — сказал Левашов.
— Какие вещи?
— Когда один человек приходит к другому и приглашает его с собой на остров Уруп, на Таганку или в соседнюю пещеру.
— И вот приходит к тебе этот человек, — медленно проговорила Лина, — и начинает задавать довольно бесцеремонные вопросы... Была ли ты замужем, где твой бывший муж, есть ли у тебя ребенок...
— Об этом я не спрашивал.
— Нет, почему же, об этом надо спросить. Знаешь, Сережа, обычно люди очень неохотно признаются в одиночестве. Если ты одинок, значит, ты слаб, бездарен, угрюм. Конечно, я могу найти уйму оправдывающих обстоятельств — я совсем недавно на острове, я приехала отнюдь не в прекрасном настроении и самочувствии, то, что произошло со мной на материке, в какой-то степени катастрофа... Но знакомые думают, что знают все, а на работе есть более важные вещи, есть твой моральный облик, и он должен быть чистым. Но где кончается чистота и начинается стерильность? Ведь мы не стремимся к моральной стерильности, верно? А эта деликатность... Она стала такой удобной и непробиваемой стеной, за которой часто прячется самое дремучее равнодушие. И тонкий, воспитанный человек отлично себя чувствует, оставляя за спиной твою зареванную морду! Соседка пожалуется кому-то на твою грубость, начальник беззлобно отметит, что ты редко выступаешь на семинарах... Иногда так хочется, чтобы хоть какой-нибудь пьяница спросил в автобусе — отчего ты, девка, хмурая сидишь? Странно, я до сих пор как о чем-то светлом вспоминаю заседание месткома, на котором разбирали меня за какую-то провинность. Мне тогда объявили выговор, но, господи, с каким волнением я отвечала на вопросы! Чем занимаюсь после работы, что читаю, какие фильмы нравятся...
— Послушай, Лина, — медленно проговорил Левашов, — давай как-то определимся.
— По сторонам света?
— Нет. Давай определимся между собой. Видишь ли, я не привык к таким вот ситуациям, и ты не удивляйся, пожалуйста, если я слова буду говорить не из этой оперы. Если я скажу сейчас, что люблю тебя, это будет нечестно. — И не говори! В чем же дело?
— А дело в том, что я, наверное, могу тебя полюбить.
— Отлично! Тогда и поговорим.
— Лина, нам нужно встретиться в Южном, когда вернемся из своих командировок. Это будет где-то через неделю. А с поправкой на погоду — через две недели. Через две недели в кафе «Рябинка». В семь часов вечера.
— Ты уверен, что это необходимо?
— Если к тому времени все потеряет значение, значит, кто-то из нас не придет. Может, мы не придем оба. Это вовсе не исключено. Поэтому я не прошу у тебя телефона и не даю тебе своего. На всякий случай назначим второй контрольный срок — через месяц там же, в то же время. Годится?
— Сережа, прошу тебя об одной вещи... Я прошу тебя прийти, даже если к тому времени потеряю для тебя значение. Ты скажешь мне об этом сам, хорошо?
— Заметано, — улыбнулся Левашов.
Потом они спустились в вагон, прошли в пустое купе, где жила Лина, зажгли два огрызка свечи и уселись друг напротив друга. Оба поставили локти на столик, оба подперли подбородки ладонями и... рассмеялись.
Уже то, что они одни в купе, наполненном уютным запахом коптящего фитиля, было самым большим, что вообще могло быть между ними в этот день. Они словно давно шли навстречу друг другу и теперь не торопились, зная, что у них еще очень много времени. И зная, что это не так.
Утром Левашов хотел было зайти к проводнице, но остановился, услышав голоса в купе. Там был Виталий. После всего, что сказала ему Оля в тот вечер... Видно, он был из тех, кого трудно оскорбить.
— И вагон холодный, — говорил Виталий, — и ты какая-то холодная.
— Слава богу, не все так думают. А холодно — бери ведро и мотанись по составу... Может, наскребешь чего.
— Слушай, Оля, а этот дружок твой... Коля... Тебе в самом деле интересно с ним? Какой-то он того...
— Давай-давай, я слушаю!
— Не для тебя он, Оля! Он же лопушок садовый!
— Да ты на себя посмотри, тюря нехлебаная! Бери лучше ведро, совок и пройдись по вагонам.
— Пошли вместе?
Левашов понял, что пора вмешаться. Если они отправятся сейчас на поиски угля, то поставят под угрозу всю операцию. Ясно, что за чемоданом присматривают не только они с Пермяковым. Есть в поезде еще один человек, который не сводит глаз с восьмого вагона.
— Куда это вы собираетесь, молодые люди? — Левашов отодвинул дверь.
— Да вот товарищу холодно стало, решил печь истопить...
— А стоит ли? Завтра все равно стронемся.
— Оля, посмотрите, какой у него свитер. — Виталий ткнул пальцем Левашову в грудь. — Ему здесь зимовать можно. Идемте.
— Оля, вам не страшно идти с ним? По моим наблюдениям, этот человек готов на все, кроме одного — поработать на общество.
— Сам вызвался — пусть сходит.
— Сам? — удивился Левашов. — Тогда другое дело... Счастливого улова!
— Будет улов, парень, будет! — заверил его Виталий.
Когда они вышли из вагона, Левашов бросился к Пермякову.
— Гена, проснись, Гена!
— Спокойно, Сережа, — сказал Пермяков, не открывая глаз.
— Виталий и проводница только что пошли по ящикам уголь собирать.
— Что?!
— Я иду в тамбур. Займу там позицию. А ты поднимайся на крышу. Они могут выбраться с того конца вагона.
— Все понял.
— И еще. Ничего не предпринимать. Только наблюдение.
Тамбур был пуст. Виталий и Оля уже прошли в восьмой вагон. Левашов подошел к внешней двери и рывком открыл ее. В темный тамбур вместе с солнечным светом осыпался молодой сверкающий снег. Сразу стало светло и холодно.
— Вот, давно пора.
Левашов обернулся.
В тамбур входил Олег.
— Скоро отправляемся... — Левашов почувствовал необходимость что-то сказать. — Теперь везде будем знакомых встречать.
— Я и так встречаю их на каждом шагу. — Олег осклабился, наслаждаясь ярким солнцем, свежим воздухом.
— Да ведь вы летун, — усмехнулся Левашов.
— Для нашего уважаемого кодекса важно не количество мест службы, а количество отработанных лет. Ну а тут у меня все в порядке. Об этом я забочусь. Послушайте, а как вы относитесь к летунам? Смелее! Я вообще не обижаюсь, я только делаю выводы!.. Ну!
В это время распахнулась дверь, и из восьмого вагона выбежала Оля. Не сказав ни слова, она проскочила через тамбур в свой вагон. Вслед за ней показался Виталий. Ведро в его руках было пустым.
— Какой же у тебя улов? — поинтересовался Левашов.
— Да какой улов... Вы думаете, мне уголь был нужен?
— А, вон оно что. — Левашов заметил красное пятно на щеке у Виталия. — Я вижу, ты сегодня с утра начинаешь румянец наводить.
— И на старуху бывает проруха. — Виталий прошел в вагон.
— Понимаешь, — Олег постучал себя кулаком по груди, — не могу без новых людей. Кисну! Неинтересно жить. Проработав год на одном месте, я уже знаю, чем буду заниматься в январе, марте, августе. Жизнь становится... ну, как езда в автобусе, когда наизусть помнишь весь маршрут и знаешь, когда будет последняя остановка. Я не хочу знать, где моя последняя остановка.
— Ты просто бродяга, — улыбнулся Левашов. — Будь я психологом, я назвал бы тебя человеком, склонным к авантюрным поступкам.
— Даже так? — Олег озадаченно поднял вверх брови и выпятил губу.
— Но ведь это тяжело, а?
— Тяжело, — согласился Олег. — Приходится рассчитывать только на собственные силы. Ни профсоюз, ни администрация не обязаны заботиться о летунах. Но я не жалею. Я не насилую себя ни ради карьеры, ни ради зарплаты. Я остаюсь самим собой.
— Зачем? Ради чего?
— А ради себя самого! Разве этого мало?
— Вы все еще трепитесь? — В дверях снова показался Виталий. — Не надоело языки чесать?
— А ты опять за углем? — спросил Олег.
— Вот хожу по составу, высматриваю угольщицу посимпатичнее.
— Ну да, вторая-то щека осталась бледноватой, — сказал Левашов.
— Знаешь, парень, не надо. — Виталий положил ладонь Левашову на плечо. — Не надо. За мной тебе все равно не угнаться.
— Разумеется, — сказал Олег. — Ведь ты на одну щеку впереди.
— Ладно вам... Слушайте, а чего вы здесь торчите? Наверх бы выбрались, свежим воздухом подышали! Такие девушки, оказывается, с нами едут. — Виталий причмокнул. — Идемте, а?
— Нет, брат, иди уж ты один. Понимаешь, годы не те... — Олег с ласковой улыбкой так щелкнул Виталия по носу, что у того выступили слезы.
— Ну, как хотите. — Виталий открыл дверь в восьмой вагон.
— Куда же ты? — спросил Олег. — Там была одна девушка, но сбежала.
— Из этого вагона легче подняться, — пояснил Виталий. — А те лестницы работают с перегрузкой. Не достоишься. То спускаются, то поднимаются... — Он помолчал, подыскивая еще какой-нибудь довод. — И потом, надо осваивать новые пути!
Виталий захлопнул дверь, и в наступившей тишине Левашов услышал, как щелкнул замок.
— Новости есть?
— Да, — ответил Пермяков. — Виталий только что выбрался из восьмого вагона.
— Вынес?
— В авоське. А потом сразу к себе в купе.
— Сейчас он там?
— Нет. Вышел через несколько минут. И опять с пакетом. Но пакет был уже другой, хотя завернут в ту же газету. Понимаешь? Все очень просто — если кому-то показался подозрительным его сверток, то вот он, пожалуйста. Он и сейчас разгуливает с ним по вагону. Даже газету в нескольких местах порвал, чтобы все видели, что у него там свитер.
— Осторожный, гад, — сказал Левашов.
— Да, Серега, ты извини, что я спрашиваю об этом... Эта женщина... Она его сообщница или твоя? Я имею в виду Ткачеву...
— Какую Ткачеву? — удивился Левашов.
— Методист Дворца пионеров.
— А, Лина... Нет, она моя сообщница. Вернее, я не против того, чтобы она была моей сообщницей.
— Серега, ты всерьез?
— Не знаю... На данный момент мне просто жаль было бы потерять ее из виду...
— Скромничаешь, — не то спросил, не то подтвердил Пермяков.
— Маленько есть. Слушай, каким-то ты больно заинтересованным выглядишь?
— Откровенно говоря, Серега, если бы ты женился... я чувствовал бы себя спокойнее каждый раз, когда моя жена будет ставить тебя в пример.
— Какие же у тебя черные мысли! — рассмеялся Левашов.
Глава тринадцатая
В этот день, когда весь остров напоминал один большой, вытянутый на сотни километров солнечный зайчик, в седьмом вагоне произошло в некотором роде чрезвычайное событие.
А случилось вот что.
Афанасий, проходя по коридору, случайно столкнулся с Виталием. Он пропустил его мимо себя, а когда тот уже удалялся, настороженно потянул носом и вошел в купе следом за Виталием.
— Сережа, — обратился Афоня к Левашову, — ты когда ел последний раз?
— Дня три уже прошло. Ты хочешь меня угостить?
— Да. Колбаской.
— Я не против. — Левашов подумал, что начинается розыгрыш.
— Виталий, — сказал Афоня, — угости человека!
— Ха-ха! — громко и раскатисто засмеялся тот. — Может, ему и шашлык на палочке подать?
— Но ты ведь кушал сегодня колбаску? — спросил Афоня. В купе после этих слов наступила тишина.
— А что ты еще скажешь? — осторожно спросил Виталий.
Афоня оказался сильным парнем, неожиданно сильным. Он спокойно взял Виталия за одежки, почти без усилий приподнял и поставил перед собой.
— Я вру? — спросил он, глядя на Виталия снизу вверх.
— Врешь.
— А это что? — Афоня показал на отдувающийся карман.
— Не твое дело.
— Правильно, не мое. Но если это не колбаса, я сам подставлю тебе физиономию. Договорились?
— Плевать мне на твою физиономию, — сказал Виталий и тут же пожалел. Таких слов ему говорить не следовало. Афоня коваными пальцами взял Виталия за пояс, а второй рукой вынул у него из кармана продолговатый сверток. Когда он развернул его, все увидели кусок колбасы с четким срезом зубов.
— В уборной заперся и жрал, — пояснил Афоня. — Вопросы есть?
— Стыд-то какой, какой стыд! — прошептал Арнаутов. — Ведь тебе же бежать надо, бежать, пока не упадешь, пока не задохнешься...
— Никто никуда не побежит, — сказал Афоня. Он завернул колбасу в мятую промасленную газету и сунул Виталию в карман.
— Сам я неважный человек с точки зрения современных молодых людей, да и не только молодых, — сказал Арнаутов. — У меня неплохой слух, и я хорошо знаю, какое произвожу впечатление... Но на острове за двадцать с лишним лет мне ни разу не били физиономию. Я хочу сказать, что бывают моменты, когда этим начинаешь гордиться.
Бледный и какой-то вздрагивающий, Виталий пытался улыбнуться, но улыбка не получалась, и он кривился нервно и боязливо.
— А колбаса-то материковская, — сказал Олег и как бы между прочим, шутя ударил Виталия ребром ладони по шее. — Ах ты, шалунишка поганый! Ах ты, озорник вонючий!
— Дело ведь не в колбасе, — рассудительно сказал Афоня. — Хрен с ней, с колбасой. Дело в том, что так не поступают. У вас за такие хохмы наказывают.
— А за что еще у нас наказывают?
— Подожди, не трепыхайся. Вот скажи, как ты мог жрать икру, которую батя в первый день выложил? А конфеты, что старуха принесла? А корюшек, которыми рыбак угощал, сколько тебе досталось? Ну, сказал бы, что будешь жить на своем провианте, тебе никто бы и слова поперек... Уважать бы тебя, конечно, не уважали, но морду бить бы не стали. А так — надо.
— Дать ему под зад коленом, да и ладно, — сказал Левашов.
— Я, конечно, некрасиво поступил, у самого тошнота вот здесь. — Афоня постучал кулаком по груди. — В карман полез, колбасу искать начал — тошно. Но что было делать? Пусть бы хоть в остальном человеком был.
— Заставить его съесть эту колбасу при всех, сейчас, — сказал Олег.
— Боюсь, что здесь один выход, — проговорил Афоня. Он встал, подошел к Виталию и резко размахнулся. Но Виталий отшатнулся от него с таким испугом, что Афоня только руки опустил и растерянно посмотрел на остальных. — Не могу, ведь знаю, что заслужил, а не могу. — Он опять повернулся к Виталию и, вдруг схватив его за одежки, с такой силой бросил на стенку, что тот, не удержавшись на ногах, упал.
— Тут, брат, сноровка нужна, — сказал Олег. — И чувство справедливого возмездия. Долги опять же надо отдавать, верно? — Он помог Виталию подняться. — Обещания надо выполнять, правильно говорю? — снова спросил он. И, не дождавшись ответа, размахнулся и накрыл кулаком почти все лицо Виталия — нос, губы, глаза. А потом вышвырнул его в коридор и закрыл дверь. Но через секунду на пороге опять стоял длинный, красивый и заплаканный Виталий.
— Ну что, справились, да? — тонко закричал он. — Сколько же вас? Трое? Четверо? Справились... А я презираю вас! Всех! Ведь вы ничего собой не представляете, ничего. Жалкие людишки, которым внушили, что они владыки мира! Вы — владыки и носители собственных штанов! Ах, как вы чисты и благородны! Как же, негодяя наказали! Бей его, он нам колбасы не дал! А сами вы чище? И нет у вас ни одного пятнышка на совести? Ты, Афоня, ты только снаружи черный, да? А внутри ты наше самое красное солнышко? А ты, длинный? Никогда никого не надул? Каждый из вас мог бы оказаться на моем месте, каждый! Были вы уже на моем месте, и морды вам уже били, били! Ха! Колбасу в чужом кармане увидел и сам вроде чище стал! Скажите, пожалуйста, желудочки у них подвело, колбаски им захотелось! А тебе, батя, до сих пор за меня стыдно? Признайся, батя, положа руку на свое старое лживое сердце, ничего ты в жизни не сделал такого, за что тебя на скамью можно сажать? Пока нас не поймали, мы чисты. А уж если попался кто — все готовы наброситься! Ну, батя, скажи, сколько тебе лет можно дать за дела, о которых никто не знает? А тебе, лесоруб? А тебе? Ну?! Над каждым из вас срок висит, над каждым. А колбаса... Нет, немного вы спишете с себя этой колбасой! А если она вот так уж вам поперек горла стала — берите! Ешьте! Подавитесь!
Бросив колбасу на стол, Виталий захлопнул дверь.
Первый не выдержал Афоня.
— Пойду погуляю, — сказал он.
Прихватив шапку, вслед за ним молча вышел Олег.
Потом поднялись Левашов и Арнаутов.
— Немного же ему потребовалось, — чтобы вот так расколоться, — сказал Афоня. — У нас бы он не смог работать. Надо же — три дня не поел, и вот он, со всеми потрохами. Я помню, нас занесло как-то на участке, в тайге, — продолжал Афоня. — Бульдозеры не могли пробиться, вертолеты не нашли. Почти неделю как в берлоге жили. Один, помню, плакать на пятые сутки начал, один даже умом маленько тронулся. Но чтобы вот так... Нет, такого не было.
— А знаете, — сказал Арнаутов, — я доволен, что судьба подбросила мне такую недельку, когда можно оглянуться по сторонам, назад... Иногда это необходимо — оглянуться назад. Идут годы, появляются новые друзья, новые цели. Вернее, исчезают старые друзья и старые цели. А своя дорога, с которой ты сошел когда-то, где она? Да и о какой дороге речь? Глухая, заросшая тропинка и... И стоит ли теперь сходить с чужого, но такого удобного асфальта? — неожиданно спросил Арнаутов, повернув к Левашову усталое, осунувшееся лицо. И два маленьких желтых язычка пламени шевельнулись в его глазах. Спрятав руки в рукава пальто, он как-то весь съежился, так что и пальто и шапка сразу стали ему велики. Старик уже не снимал пальто и даже спал в нем, подтянув ноги, чтобы согреться. — А потом, однажды осенью, — продолжал Арнаутов, — ты спохватишься и с ужасом обнаружишь вдруг, что самого-то тебя в тебе и нет. Из зеркала на тебя смотрит чужой и не очень хороший человек. А ты, ты растворился в словах, поступках, которые тебе подсказали или до которых ты додумался сам, рассчитывая на чье-то одобрение, на какую-то выгоду...
— И вы получили эту выгоду? — спросил Левашов.
— Какая выгода... Вы же знаете, что ее нет, ведь вы это знаете! — почти выкрикнул старик. — Вы хотите спросить, понял ли я это? Я это понял. Я думаю о другом... Что мне сказать этому старому человеку, который смотрит на меня из зеркала? Сережа, вы думаете о смерти, о собственной смерти?
— Бывает.
— Одно дело, когда бывает, а другое — когда эти мысли не выходят из головы. Ты переступаешь какой-то порог и однажды ловишь себя на том, что живешь судорожно и торопливо, комкая дни и месяцы, как комкают слова на трибуне, когда выходит время. Хм, знаете, на острове иногда происходят странные вещи... Неожиданно вдруг выясняется, что человека, который прожил здесь, казалось бы, всю жизнь, хорошо знают где-то на материке. Не только знают, но давно ищут, и вовсе не для того, чтобы вручить наследство.
Левашов с удивлением посмотрел на старика.
— Я хочу сказать, — продолжал Арнаутов, — что когда-нибудь найдут и меня. Боже, сколько будет удивления! Такой тихий старик, такой безобидный, и надо же! Видите ли, Сергей, время от времени подворачивается возможность с выгодой нарушить закон, но не каждый человек в состоянии отказаться от нее, от этой возможности... Вы понимаете, о чем я говорю?
— По-моему, вы говорите о себе.
— Д-да. А потом все зависит от того, как повезет. Большинству не везет. Мне повезло, но я этого не знал. Я уехал до того, как все решилось.
— Послушайте, — сказал Левашов, — давайте назовем вещи своими именами, а то наш разговор, простите, напоминает мне игру в жмурки. Вы совершили хищение?
— Хм, как вы сразу быка за рога...
Арнаутов с удивлением посмотрел на Левашова, перевел взгляд на свечку, опять взглянул на собеседника, усмехнулся.
— После этих ваших слов я невольно почувствовал себя в кабинете официального представителя правосудия.
— Вы не ошиблись. — Левашов вынул из кармана и показал Арнаутову удостоверение.
— Ишь как... А я-то, дурак старый, решил, что интересен вам как человек, что ли. Итак, насколько я понял ситуацию, допрос начался давно?
— Не говорите глупостей. И не надо кокетничать. Этот разговор затеяли вы, а не я. И уж коли вы его затеяли, позвольте задать вам несколько вопросов, чтобы я не возвращался к этому в Южном. Куда вы едете?
— В командировку.
— Будьте добры, покажите мне свое командировочное удостоверение.
— Пожалуйста.
— Здесь сказано, что вы должны были выехать на день раньше. Что вам помешало?
— Как сказать... Ничего, конечно, не помешало... Просто я решил... решил побыть денек дома... Этакая невинная хитрость простительна, как мне кажется, в моем возрасте...
— Невинная хитрость, винная хитрость... Зачем это вам? — с горечью спросил Левашов. — Не пойму...
— Спрашивайте, спрашивайте, — усмехнулся Арнаутов. — Ведь вы хотите меня в чем-то уличить...
— Уличить — это не то слово. Словом «уличить» вы хотите обидеть меня и высказать пренебрежение к моей работе, разве не так? Разве я дал для этого вам основания? Разве я в чем-то обидел вас?
— Простите. Вы должны понять, что у меня к людям вашей профессии особое отношение.
— Ладно, замнем. Так вот насчет уличения... Я хочу знать — официальная цель вашей командировки единственная? Или есть еще какая-то оказия? Давно ли вы знали о предстоящей командировке? И почему задержались на день? Поймите меня — я задаю эти вопросы не для того, чтобы уличить вас, а для того, чтобы оправдать.
— Попробую вам поверить. Я действительно хотел уехать на день раньше, но боялся. Когда пришел на вокзал, мне показалось, что... что там ожидает поезда человек, который знал меня раньше. Теперь я понимаю, это был психоз, не больше, но я не уехал. Даже отказался было от командировки вообще, но в последний момент опять передумал и все-таки поехал.
— А теперь о том давнем хищении.
— Мои действия квалифицировали как безалаберность. Но она ведь тоже наказуема. Тут, на острове, мне можно было жить довольно сносно, если бы не постоянный страх. Он повсюду тащился за мной, как гиря на цепи. Мне все время казалось, что меня обнаружили и не сегодня-завтра спросят о той цифре с четырьмя нулями. Страх... Когда случалось, он пропадал, я чувствовал, что чего-то не хватает. Именно страх взбадривал меня, давал силы жить. Благодаря страху я легко просыпался, бодро ходил на работу. Он стал для меня как наркотик. Я был неутомим, когда другие валились с ног, я мог не спать сутками и даже получал от всего этого какое-то странное наслаждение. Но так не могло продолжаться вечно. Благодаря тому же страху у меня было уже два инфаркта. Очередь за третьим. Говорят, больше трех бывает очень редко. Ну вот, собственно, и все.
Свечка наконец догорела и погасла. Тонкая струйка дыма еще несколько секунд вилась над нею, а потом медленно растворилась в воздухе. Черный фитиль судорожно изогнулся и застыл оцепенев.
Глава четырнадцатая
Это случилось на восьмые сутки, когда жизнь в поезде стала привычной и почти естественной. Несколько раз прилетали вертолеты и сбрасывали мешки со сгущенным молоком, хлебом, колбасой. С ближайшей станции пришел отряд лыжников с продуктами. Возбуждение первых дней постепенно спало, и многими овладела обыкновенная скука. Самые интересные истории рассказаны, встречи назначены, адреса записаны, и единственное, чего хотелось, — это побыстрее добраться до Тымовского.
Левашов в то утро проснулся рано. В коридоре было светло. Вчера открыли несколько ниш у окон, и теперь через них проникал зыбкий и холодный свет. Поднимаясь на крышу, Левашов видел, как пар изо рта покрывал металлические
ступеньки нежным белесым налетом.
Несколько минут Левашов стоял не двигаясь, не замечая мороза. Вокруг до самого горизонта простиралась розовая под утренним солнцем равнина. Только далеко-далеко, будто в прошлом, можно было заметить маленькие голубоватые сопки. От обилия розового света, от лиловых теней у столбов и сугробов, от легких прочерков уцелевших проводов у Левашова захватило дух. Он посмотрел на дорожку, которая странно обрывалась среди снежных заносов, потом взглядом скользнул дальше по поверхности снега и только тогда увидел темную точку километрах в пяти. От нее поднималась вверх и опускалась невдалеке крутая струя снега, похожая на маленькую розовую радугу.
Шел ротор.
Он медленно и неумолимо приближался, оставляя за собой глубокую траншею. Затопленные розовым светом, на дне траншеи лежали свободные рельсы. Снежная радуга становилась все ближе, круче, мощнее.
Левашов не спешил вниз, в вагон. Понимая, что поступает не совсем честно, в одиночку наслаждаясь этим утром, он не мог ничего с собой поделать. Если уж говорить откровенно, то ради этого он и приехал на остров — чтобы время от времени, хотя бы раз в году, замереть вот так с широко открытыми глазами, в которых, он знал, отражаются сейчас розовая равнина, лиловые сугробы и сверкающие изломы льдин на берегу, замереть всем существом, остановиться в мыслях, в желаниях и впитывать все, что в такой миг окажется рядом, — сумрачный туман между сопками, мелкий невидимый дождь, громадный лунный свет над океаном или просто воспоминание о трех новогодних ночах...
Новый год в Колендо...
Он приехал в этот едва ли не самый северный поселок острова в конце года — тридцать первого декабря. Был солнечный морозный день, был «газик», обшитый изнутри списанными в общежитии одеялами, была дорога, петляющая среди пологих, почти неприметных сопок. И боль в глазах от нестерпимо яркой снежной равнины. Шофер ехал в темных очках, опустив светозащитное стекло. А над болотами, над замерзшими и засыпанными снегом болотами неподвижно стояли легкие облачка пара, точно такие же, как над рекой теплым летним вечером.
И там Левашов первый раз увидел, как гудит и бесится над скважиной огромное, почти невидимое на солнце газовое пламя. Только вдруг среди мерзлой равнины — зной. И на десятки метров вокруг странно и чуждо простиралась сухая рыжая поляна с выгоревшей травой, сухими тропинками и теплой пылью, которая поднималась на ветру вместе со снежной пылью.
Его поселили в низеньком деревянном общежитии с ребятами из буровой бригады. Все шло отлично, они встретили Новый год и продолжали поднимать тосты за каждый часовой пояс, потому что на каждом часовом поясе у кого-то находился друг, а когда добрались до Байкала, крики и топот в коридоре заставили всех выскочить на улицу. И он увидел, как по узкой тропинке в снегу к газовой скважине бегут люди.
Когда, запыхавшись, Левашов подбежал к сатанеющему пламени, то увидел картину, которую вряд ли забудет когда-нибудь. Из ночи, из снега на огонь летели кайры, сотни и сотни белых птиц. Их с силой выбрасывало из темноты, как из какой-то трубы, и швыряло в огонь, проносило сквозь него. Дальше птицы летели живыми пылающими факелами, с шипением падали в снег и бились, бились, пока не затихали, черные и обгорелые. В воздухе пахло палеными перьями. Крики людей, пытающихся отогнать птиц, почти не были слышны из-за гула огня. Старый буровой мастер уже из последних сил размахивал шестом с привязанной тряпкой, что-то кричал, но птицы словно не видели его, не хотели видеть. Бросив шест, он стоял, слабый и беспомощный, а вокруг затихали на снегу тлеющие птицы. Потом мастера отвели в общежитие, снова усадили за стол, но радости не было. Он сидел, сжавшись в комок, уставившись неподвижным взглядом прямо перед собой, и в его глазах все еще металось пламя и бились на снегу кайры.
Следующий Новый год застал Левашова в Южном. И ровно в двенадцать часов ночи в полутемной комнате, освещенной лишь маленькими елочными лампочками, вдруг по стенам заметались разноцветные тени, а глянув в окно, Левашов увидел тысячи сигнальных ракет, взвившихся над городом. Там, вверху, они взрывались и осыпались каким-то необыкновенным снегопадом. Ракеты вылетали из распахнутых окон, из форточек, из подъездов, с балконов. Все-таки это была столица рыбаков, геологов, моряков, и ракеты входили в экипировку любой экспедиции. Конечно же, к лучшему, что их не использовали по прямому назначению, что дело не дошло до призывов о помощи. Ракеты привезли домой, и они не один месяц ждали часа, чтобы невырвавшийся крик о помощи стал криком радости.
Целое зарево огней колыхалось над площадью. На материке площади пустеют к двенадцати, а здесь собиралась целая толпа, и из нее, ярясь, с шипением уходили вверх темные сгустки и взрывались, осыпались огненными брызгами.
А потом, когда Новый год перевалил через Уральский хребет, вся компания пошла в сопки на лыжах, и Левашов в самой чаще нашел убранную елку. На ней горели разноцветные лампочки, и рядом со стеклянными игрушками висели промерзшие ломтики колбасы, кетового балыка и даже несколько микроскопических бутылок с коньяком.
Кто это сделал? Зачем?
Да и так ли уж важно зачем... Он нашел убранную елку в глухом лесу, и это была хорошая примета на весь год.
А еще через год он встречал праздник в гастрономе.
Буран начался тридцать первого декабря с утра и к одиннадцати ночи достиг небывалой силы. Левашов едва добрался до гастронома, а передохнув, понял, что не только не успеет домой к двенадцати, но и вообще вряд ли доберется. И остался в гастрономе. Двери не закрывали, в них время от времени протискивались замерзшие, уставшие люди. Шли уже не за покупками — спасались от бурана. Продавцы тоже не решились возвращаться домой в такую ночь. К двенадцати собралось человек тридцать, и получился отличный праздник. Вряд ли нашелся хоть один человек, который не оставил бы восторженного автографа в книге жалоб и предложений.
За столом Левашов сидел на ящике из-под печенья, а после трех, подстелив брезент, его уложили на мешки с сахаром. Утро началось с того, что все тридцать человек готовились встречать первых покупателей — расчищали ближние и дальние подступы к гастроному.
И это было здорово!
Скользя ногами по покатой крыше вагона, он побежал к провалу в снегу, нырнул в тамбур.
— Подъем! — заорал он. — Подъем! Все наверх! Ротор идет!
И радостные, сомневающиеся голоса заглушили все, что говорил Левашов, что он объяснял, его не слушали. Через минуту среди пустой снежной равнины вдруг появилось две сотни человек. Обнимались и плакали люди, которые еще неделю назад не были даже знакомы друг с другом. А радуга из снега все приближалась и постепенно из розовой превратилась в белую. Но ждать все-таки было еще долго, и многие опять спускались вниз, чтобы согреться, потом снова поднимались.
Наконец ротор и состав соприкоснулись, вагоны вздрогнули, между ними шевельнулся и осел снег. А потом поезд, словно еще не веря в свои силы, медленно шел по дну глубокой траншеи, и мимо окон проплывали извилистые слои снега. Они уже не вызывали раздражения, с ними прощались. Как и каждое прощание, оно было с грустью — позади остался еще один случай, который запомнится на всю жизнь.
Когда поезд остановился в Тымовском, первым на перрон спрыгнул Пермяков. Не торопясь он оглядел полузанесенный вокзал, круглые вертикальные дымки над скрытыми под снегом домами поселка, автобусную остановку.
Мороз был явно посильнее тридцати градусов. Переступив с ноги на ногу, Пермяков с уважением прислушивался к скрипу снега. Потом он долго вынимал сигарету из пачки, раскуривал ее, пропускал мимо себя выходивших пассажиров.
Виталия все не было.
Уже сошел с поезда, осторожно придерживаясь за поручень, Арнаутов, легко спрыгнула со ступеньки Лина, настороженно, словно опасаясь неожиданного нападения, вышли бичи, тяжело спрыгнул Олег, подмигнул Оле и направился к автобусной остановке. Вышли два милиционера, остановились...
— Поручений не будет? — спросил Николай.
И Пермяков не выдержал — вскочил в вагон и побежал по коридору. Он резко отбрасывал в сторону двери и шел дальше. И наконец увидел... На полу в своем купе лежал Виталий.
— Кто тебя?! Кто? — тормошил его Левашов.
— Не знаю... Саквояж... Мой саквояж...
— Кто вышел с саквояжем? — спросил Левашов. — Желтый саквояж из натуральной кожи! Ну?
— Кажется, Олег.
Они пробежали по коридору, но по ступенькам сошли медленно, остановились, будто прощаясь с Олей. Движения их были нарочито спокойными.
— Оля, — быстро проговорил Левашов. — Слушайте внимательно. В пятом купе лежит Виталий. Ему нужна медицинская помощь. Срочно. На станции есть врач. Только не бегите. Понимаете? Помашите нам рукой, не спеша войдите в вагон... За нами наблюдают, поэтому никто не должен догадаться, что вы торопитесь... Понимаете? Ну пока. Мы сегодня еще увидимся. Идемте, ребята! — крикнул он милиционерам. — Автобус мимо управления идет, там все и сойдем!
Маленький автобус, который шел рейсом в какой-то поселочек за два десятка километров от Тымовского, уже урчал мотором.
— Спасибо, друг! — громко сказал Пермяков шоферу, распахнувшему перед ними дверцу.
Левашов вошел, быстро окинул взглядом пассажиров. Олег сидел у окна. На его коленях стоял кожаный саквояж. Прислонившись спиной к никелированной стойке, Левашов закрыл глаза. За несколько секунд перед ним как бы пронеслись события последних дней... Вот Виталий, пытаясь «столковаться» с Олей, идет с ведром по вагонам. В угольном ящике он находит чемодан, приносит деньги к себе и перекладывает их в саквояж. За ним внимательно наблюдают не только они с Пермяковым, но и преступник, который решил, что будет неплохо, если деньги довезет этот самонадеянный дурачок. А в последний момент он оглушает его в купе, берет саквояж и садится в автобус.
Преступника никто не встречал. Значит, все можно было сделать гораздо проще — задержать еще той ночью, когда он прятал чемодан в соседнем вагоне.
— Остановите, пожалуйста, возле управления внутренних дел, — негромко сказал Левашов шоферу. Тот кивнул, не отрывая взгляда от дороги.
Когда автобус остановился и водитель пояснил, что управление внутренних дел находится за углом, Пермяков наклонился к Олегу, положил ему руку на плечо и сказал негромко, даже доверительно:
— Пошли, пора выходить. Только прошу тебя — спокойно. Нас здесь четверо.
Олег внимательно посмотрел на Пермякова, потом повернул голову, встретился взглядом с Левашовым, а оглянувшись, увидел двух милиционеров, бледных от волнения, но готовых действовать.
— Да, — протянул Олег. — А мне казалось, что все идет довольно неплохо. Где же это я подзалетел...
— Вы забыли саквояж, — напомнил ему попутчик, сидевший рядом.
— Ах да. — Олег улыбнулся посеревшими губами.
Выйдя, все невольно остановились возле столба, на котором висел заиндевевший репродуктор. На ходу слушать последние известия было невозможно — скрип снега заглушал голос диктора.
...Настоящее сражение развернулось в районе станции Быково. На расчистку путей вышли сотни граждан, и к вечеру в областной центр отправится первый состав с углем для теплоцентрали.
...На Курилах второй день стоит бесснежная погода с сильным ветром. Рабочие с занесенных предприятий расчищают улицы, откапывают дома. Отряд бульдозеров уже несколько суток пробивается к поселку Буревестник, с которым потеряна связь неделю назад.
...Ни на минуту не прекращается расчистка аэродрома в Южном. Высота снежных заносов превышает здесь два метра. Сейчас на летном поле вся снегоочистительная техника авиаторов. Завтра ожидаются первые самолеты с материка.
...Синоптики Парамушира и Урупа сообщили, что центр тайфуна переместился в сторону Камчатки.
НЕ ПРИХОДЯ В СОЗНАНИЕ
Документальная повесть
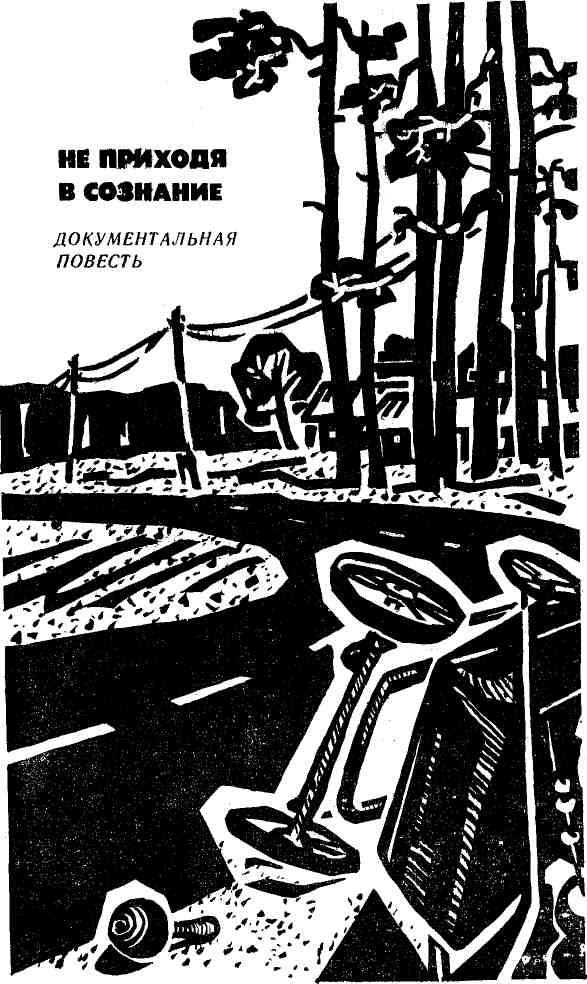
НАЕЗД
Представьте себе небольшой подмосковный городок, открытую железнодорожную платформу, круглые часы с тяжелыми стрелками, переезд, полосатый шлагбаум с красными мигающими лампочками. В сотне метров — шоссе. На обочине стоят высокие сосны, их верхушки освещены закатным солнцем. Пахнет оттаявшей землей, дымом весенних костров, из лесу доносится запах подсыхающей хвои.
Рабочий день кончился, дорога опустела. Жители городка, истосковавшиеся по яркому небу, жаркому солнцу, в предчувствии близкого лета прогуливаются по улочкам, сгребают в костры обнажившийся после снега мусор, укрепляют флаги к завтрашнему Первомаю. На станции, вокруг платформы, предпраздничная чистота. Все подметено, вычищено, собраны скопившиеся за зиму консервные банки, битые бутылки, окурки, оберточная бумага.
Часы показывают ровно восемь. Платформа залита солнцем — дни уже длинные, вечера светлые. Вот-вот должна подойти электричка. Ожидающие шелестят газетами, разглядывают друг друга, смотрят в просвет между деревьями, где через минуту-вторую покажется зеленый квадрат первого вагона. Все потихоньку наслаждаются теплом, солнцем, приятными надеждами на лето — в последних известиях уже сообщают о погоде на побережьях Крыма и Кавказа. Из-за высоких стволов сосен слышится гул электрички. Опытные пассажиры почувствовали ее приближение по перезвону, дребезжанию проводов над рельсами.
Такие вот моменты бывают нечасто и потому запоминаются, хотя вроде бы и не происходит ничего необычного. Мелкие брызги солнца из-за верхушек сосен, запах дыма, ощущение приближающегося праздника. Много ли надо... Через минуту остановится у платформы электричка, распахнутся десятки ее дверей, и ты войдешь, выберешь место у окна и, ощущая на лице солнечные лучи, понесешься мимо леса, оттаявших полей, понесешься к своему дому, к близким людям, к празднику. В будущее. А впрочем, мы только и делаем, что несемся в будущее, с грустью сознавая, что и в прошлом нам было не так уж плохо...
Электричка подойдет через минуту. Пока есть время, бросим взгляд на дорогу.
По самому краю обочины, по влажной еще земле медленно идет семейство. Впереди отец катит коляску с малышом, ему около двух с половиной лет, чуть поотстав, идет мать с сыном постарше — этому около пяти. Они только вышли из лесу и еще не успели свернуть на узкую дорожку за кустарником. Все немного усталые, разморенные лесом, прогулкой, чистым воздухом. В руках у женщины детское ведерко с сосновыми шишками, малыш держит в руке красный воздушный шарик, для него завтрашний праздник уже наступил.
До перехода на пешеходную дорожку остается пройти около десяти метров. Но семейству не суждено пройти эти метры. Не успеют.
Подходит к платформе поезд. Станция незначительная, остановки короткие, все торопятся проскочить в вагоны, пока двери не захлопнулись. Время вечернее, следующая электричка будет минут через двадцать. Можно, конечно, и на платформе в такую погоду посидеть, но как-то привыкли мы бежать, даже когда не торопимся. Бежим к замешкавшемуся троллейбусу, по ступенькам метро, задыхаясь, вскакиваем в автобус, даже зная прекрасно, что впереди, кроме долгого вечера в четырех стенах, нас ничего не ждет.
И так мало остается дней, которые бы хотелось повторить, прожить заново. Нам некогда, мы пробегаем мимо них. А когда нет времени, нечего и вспомнить. В памяти остаются дни, прожитые неторопливо, замедленно, когда мы видели форму облака, выражение лица попутчика, слышали его слова, да и в самого себя заглянуть оставалось время...
Электричка еще стоит. Из-за поворота дороги показывается машина. Светлые «Жигули». Скорость — за семьдесят километров в час. Идет как положено, по правой стороне. Осадка значительная, машина загружена. Родителям с детишками остается пройти пять метров, чтобы свернуть на дорожку. Машина делает правый поворот. Приехавшие на электричке люди невольно останавливаются. Большая скорость «Жигулей», надсадный рев мотора, даже шуршание шин об асфальт хорошо слышны в тишине. «Жигули» все круче, круче берут вправо, но набранная скорость не позволяет вписаться в поворот, и машину прижимает к осевой линии. Вот она пересекает ее, но не может удержаться на дороге, ее отбрасывает к левому краю. Машина несется прямо на отца, который спокойно катит коляску, не видя, что происходит за его спиной. До поворота ему остается метра три, не больше.
Первой обернулась мать. Что-то заставило ее обернуться. Она едва успела оттолкнуть сына в кювет, в кустарник.
— Коля! Машина! — крикнула она, но оставшихся секунд было недостаточно. Николай обернулся, дернул коляску на себя, сам отшатнулся. И все-таки машина зацепила коляску. Она опрокинулась в кювет, малыш выпал. Когда подбежавшая мать подняла сына на руки, у того из носа и ушей текла кровь. Его еще не осматривали врачи, не фотографировали в рентгеновских лучах, еще не было вскрытия, а оно будет, но уже можно сказать: травма оказалась смертельной.
Со стороны платформы, от стоянки такси, из лесу торопятся люди. Мать пытается привести сына в себя или хотя бы увидеть в нем признаки жизни.
— Он жив... Кажется, жив... Конечно, он жив... — повторяет она, убеждая не то себя, не то какие-то высшие силы.
Отец бросается к машине, распахивает переднюю дверцу и пытается выволочь водителя наружу. Но толстый коротышка, уцепившись в руль, упершись ногами в рычаги машины, всеми силами старается остаться в ней, понимая, что снаружи его ничего хорошего не ожидает. А вокруг уже толпа — охающая, сочувствующая, толпа, которая ничем помочь не может. Разве что добрым советом, но никакой совет не спасет мальчонку.
— Коля! Он живой! — кричит мать, поднимая сынишку. Николай, бросив водителя, подбегает к ней.
И в тот момент, когда общее внимание переключилось на малыша, неожиданно распахиваются четыре дверцы машины, из нее в обе стороны начинают выпрыгивать мужчины и женщины. Всем показалось, что их было больше, чем могли вместить «Жигули». Что вы думаете, они делают? Пытаются вытащить машину из кювета? Нет. Помогают матери спасти ребенка? Тоже нет. Хотя бы соболезнуют, сочувствуют? Ничуть не бывало. Разбегаются. Все, включая коротконогого водителя. С топотом, ломая сучья кустарника, несутся к лесу. Он рядом, скрыться можно без труда, тем более что преследовать беглецов никто не собирался, не до того было. Женщинам, вернее, девушкам, которые выскочили с левой стороны машины, пришлось пробежать мимо матери с окровавленным ребенком, проявить сноровку, чтобы, не дай бог, не столкнуться. Удалось. Прошмыгнули.
Прошло совсем немного времени, несколько минут. Часы на платформе показывали пять минут девятого. Электричка едва успела отойти, еще виден последний вагон, слышен перезвон проводов, пахнет, как и пять минут назад, хвоей, дымком и предстоящим летом, но для некоторых мир изменился настолько, что уже никогда не будет для них таким беззаботным, счастливым, каким был пять минут назад.
Тяжело топают убегающие люди. И когда они остановились и взглянули друг другу в глаза, между ними были уже совершенно иные отношения. Если раньше их связывали симпатия, привязанность, взаимная заинтересованность, то теперь — только сговор. От сговора им уже никуда не деться. Вот увидите.
СГОВОР
Эта история явно детективная. Но договоримся сразу — никаких тайн не будет. В конце концов, главное все-таки не в том, чтобы продержать читателя в неведении до последней страницы, а потом показать пальцем на неприметного человека и сказать: вот он, преступник.
Конечно, это увлекательно, при таком повествовании каждый сам может вообразить себя следователем. Но не менее интересно, зная преступника с самого начала, проследить за его поступками, посмотреть, к чему он стремится, какими путями надеется уйти от наказания. Тем более что в данном происшествии оказались замешанными люди, которых хотя и нельзя заподозрить в преступной изощренности, но зато их поведение любопытно как некий предел самой очевидной и безнадежной лжи во спасение. Да и спасали-то понятия скорее придуманные, нежели присущие им на самом деле, — честь и достоинство. Надо же, потребовалось это печальное событие, чтобы люди вспомнили о существовании понятий, до того вызывавших у них лишь скуку и раздражение. Бывает.
Вот они бегут по лесу. Бегут молча, опасаясь погони. Чувства их самые разные. У женщин — ужас случившегося. У мужчин чувства были более простые, практичные — влипли. Так некстати, неожиданно, по-дурацки влипли. И Хлыстов и Батихин, обогнав женщин, молча кляли себя на чем свет стоит за то, что соблазнились этой поездкой. Но они не могли не ощутить облегчения — есть главный и единственный виновник. Дядьков. Ему и отвечать. Ему и гореть синим пламенем. И черт с ним. Чем сможем — поможем, а там пусть сам вертится.
Упершись спинами в теплые стволы сосен, Хлыстов и Батихин поджидали девушек. Те выглядели обессилевшими и подурневшими. От роскошных причесок не осталось и следа. Запутавшиеся в волосах иглы, сучки, перепачканные туфли, размазанная косметика...
— Говорила же Борьке — не садись пьяный за руль! — повторяла Татьяна. — Ведь говорила ж! Обойдется, обойдется... Обошлось!
— Заткнись, — сказал подошедший Дядьков. Он был толст, хотя и молод — немногим более тридцати. Но укоренившиеся в нем повелительные нотки как бы скрашивали полноту, во всяком случае, заставляли забыть о ней. — Ты поняла? Вообще заткнись. Навсегда. С нами ничего не произошло. Ясно? Ничего.
— Что будем делать? — спросил Хлыстов.
— Погоди, дай отдышаться... Перестань реветь! — прикрикнул Дядьков на Аллу. — Ничего не случилось, поняла?! — Он сел, откинув голову и упершись ладонями в землю. — Так... Саша, — повернулся он к Батихину, — машина осталась на месте. И ключ зажигания... Не успел я его выхватить. Этот тип так навалился... Думал, если вытащит из машины — синяками не отделаюсь.
— Видели, — нервно усмехнулся Батихин.
— Так вот, все смотрели на водителя, на малыша, на его отца... Тебя никто не заметил. Иди к машине. Понял? Садись за руль, заводи мотор, выезжай и сматывайся.
— Куда?
— К себе домой. Там и встретимся.
— Не получится.
— Что ты предлагаешь? Отвечать-то мне. Мне и решать. Ты чем рискуешь? Ну, не дадут тебе увести машину, ну и что? Валяй. А теперь вы, — Дядьков повернулся к хныкающим девицам, — запомните: вы нас не знаете. В машине вас не было. Никакого происшествия вы не видели. Гуляли по лесу, дышали воздухом...
— Ничего себе дышали!
— Запомните, повторяю еще раз. Меня вы не знаете и никогда не видели. Что касается машины — ее угнали. Да, кто-то угнал машину, совершил наезд и скрылся. Вы об этом узнали от соседей, подружек, от кого угодно. Остальное — моя забота. Обойдется. Катитесь отсюда! — Дядьков, не поднимаясь с земли, из-под светлых бровей посмотрел на девушек.
— Смываться надо, — сказал Хлыстов, когда они остались одни. — От тебя несет за три версты.
— Тоже верно. Если усекут, что я выпил... Да пока разберутся, что к чему, пройдет несколько дней. Тогда и объявлюсь. Мотай к моим домой, предупреди. Скажи, что я поехал к родне. К какой родне — неизвестно. На случай, если кто спросит. — Дядьков поднялся, отряхнул руки от листьев, елочных иголок, одернул одежду. — Хлопотно будет. Ох, хлопотно. Но ничего, вины-то нашей здесь нету.
— Это в каком смысле? — спросил Хлыстов.
— Подберем смысл. Главное — чтоб вины не было. Если еще Батихин машину угонит... Эх! — крякнул Дядьков. — Если бы ему удалось!
Сговор состоялся. И сразу сместились многие понятия. Теперь его участники полагали за честь держаться уговора, всячески выгораживать друг друга, поскольку оправдание одного снимало вину с остальных. И они не жалели усилий, чтобы оправдать Дядькова. Но если еще можно было говорить об их невиновности сразу после наезда, то с каждой новой ложью они словно брали на себя часть вины Дядькова.
СВИДЕТЕЛИ
Как всегда в подобных случаях, среди общей растерянности находится человек, который почему-то все знает, все помнит и, не задумываясь, берет на себя руководство. Здесь таким человеком оказалась женщина весьма серьезного возраста — под шестьдесят, как потом выяснилось. Ее звали Вера Павловна Воробьева. Она шла позади Железновых и видела все от начала до конца. Причем не только видела, но прекрасно запомнила самые, казалось бы, незначительные детали происшествия.
— Что вы стоите! — крикнула она отцу. — Недалеко остановка такси. Бегите немедленно туда, хватайте машину! Нужно срочно везти ребенка в больницу. Здесь вы ему ничем не поможете. Без вас управимся. Николай бросился к стоянке такси у железнодорожной платформы.
— Не держите ребенка горизонтально, — сказала Вера Павловна матери. — Он может захлебнуться кровью. Поднимите ему головку. Вот так. И тихонько идите к поликлинике. Вон она, крыша, виднеется, муж догонит вас на машине, все-таки будет быстрее.
Надежда Железнова немедля побежала по тропинке. В это время от стоянки уже отъезжала машина. Николай догнал их через несколько минут. Малыша осторожно внесли в такси.
— Подберите их вещи, — сказала Вера Павловна. Кто-то поднял лежащую в сторонке коляску, подобрали воздушный шарик — надо же, он остался невредимым. Женщина собрала даже шишки и сложила их в детское ведерко.
Простые и скорбные действия заставили собравшихся примолкнуть. И в тишине вдруг услышали, как тихо, словно таясь, воровски заработал мотор. Обернулись. В «Жигулях» сидел не очень трезвого вида парень и вертел руль, пытаясь выехать из кювета. Обычно в таких случаях людей что-то останавливает, не торопятся они вмешаться. В самом деле, если человек заводит мотор, значит, так и нужно, не наше дело задавать вопросы, решать, правильно ли он поступает, кто он такой, какова его цель.
Батихин раскачивал машину, то делая рывок вперед, то давая задний ход, стараясь выбраться из пологого, но довольно глубокого кювета. Он бы, наверное, уехал, если бы не решительность Воробьевой, которая и здесь твердо знала: этого допустить нельзя.
— Вы куда?! — закричала она. — Сейчас же вылезайте из машины! Вы кто такой? Хотите угнать машину?! Нельзя! Будет следствие! Важно, где она стоит, в каком положении рычаги управления! Вы же все испортите!
От такого напора Батихин слегка растерялся.
— Хочу помочь отвезти мальчика в больницу! — брякнул он первое, что пришло в голову.
— Вылезайте, — приказала Воробьева. — Ребенок уже в больнице.
Батихин захлопнул изнутри дверцу, поднял стекла и снова завел мотор, пытаясь выехать на дорогу.
— Окружайте машину! — крикнула Вера Павловна. — Не давайте ему выехать. Если он скроется, никто ничего не докажет. — Она легла на капот и заколотила кулаками по стеклу. Кто-то даже схватил коляску, чтобы разбить ветровое стекло и вытащить Батихина наружу. Прибежал от стоянки водитель такси. Увидев, что стекло на передней дверце осталось чуть приспущенным, он просунул руку внутрь и выдернул ключ зажигания. Мотор сразу заглох.
Через несколько минут подъехала милиция.
Подведем первые итоги. Павлик Железнов в больнице. Все меры врачей привести малыша в сознание безуспешны. Отцу, Николаю Железнову, стало плохо, ему тоже оказывают помощь. Свидетельница Вера Павловна Воробьева, оставив милиции свой адрес, понесла в больницу коляску и ведерко с шишками. Даже воздушный шарик прихватила. Батихин вместе с машиной доставлен в милицию. Дядьков в бегах. Через три дня он явится на службу — в свой кабинет начальника автотранспортного предприятия. Расторопным человеком оказался Борис Иванович Дядьков. Правда, его наставления приятелям оказались слишком поспешными. Слепленная впопыхах версия лопнула после первых же допросов. Единственное, чего Дядьков добился, это задержал на несколько дней следствие.
Кто еще? Три девицы в нарядных платьях и туфельках на высоких каблучках нехожеными зарослями пробираются к городку. Наталья Кузькина, Алла Ковалева, Татьяна Мельник. Они вышли на окраину, потопали ножками об асфальт, обивая с туфелек глину и прошлогоднюю листву. Дальше двинулись так, будто вместе с грязью стряхнули случившиеся с ними неприятности. Проводили подругу Аллу на электричку, постояли на платформе, опасливо косясь в сторону опустевшего уже поворота дороги.
К тому времени стемнело. Машина стояла во дворе милиции. Батихин задержан. Хлыстов отсыпался, Дядьков в надежном месте вдали от посторонних глаз пил кефир, принимал душ, дышал свежим воздухом.
Павлик плакал, не приходя в сознание.
В пустом, пропахшем лекарствами больничном вестибюле прикорнули на клеенчатых стульях его родители — Николай и Надежда Железновы. Старшего сына отвели к соседям.
СЛЕДОВАТЕЛЬ
Такова была картина этого дорожно-транспортного происшествия, когда следователь Мытищинской районной прокуратуры Московской области Тамара Васильевна Глазова получила задание во всем разобраться. Надо сказать, что дело попало к ней не сразу, некоторое время происшествием занималась милиция. Но когда Павлик Железнов умер, дело передали прокуратуре.
Следствие по наездам не бывает слишком долгим, запутанным. Когда известна машина, нетрудно установить ее владельца, пассажиров. В подобных случаях задача следователя нередко сводится к установлению степени вины того или иного участника. Если же виновник пытается скрыться с места происшествия, это уже ЧП. В действие, вступает служба Госавтоинспекции, и побег вполне справедливо толкуется как усугубляющее вину обстоятельство.
Здесь же в самом начале все оказалось куда сложнее. Прежде всего печальный итог — погиб человек. Разбежались пассажиры, скрылся даже водитель. Как бы там ни было, Тамара Васильевна с подобным столкнулась впервые. Оставить машину, бросить умирающего ребенка, спрятаться в лесу... Как говорится, ни в какие ворота! Казалось бы, какой смысл? Разве что в машине ехали преступники после ограбления кассы, квартиры, и для них было важнее всего удрать. Но нет, в машине не нашли ничего, кроме выпивки. Количество снеди говорило о том, что намечалось веселье на лоне природы.
Потом все стало на свои места, следователь нашел объяснение и странному поведению пассажиров светлых «Жигулей», да и самому факту наезда. Но Глазову до сих пор удивляет, как быстро пассажиры приняли единое решение и как долго за него держались.
— Были все основания предположить, — говорит Глазова, — что в машине тем апрельским вечером собрались люди примерно одного пошиба. Этим и объяснялось их единство в начале следствия. Очевидно, были случаи, которые подготовили их к тому, чтобы в тот вечер вести себя столь опытно. Впрочем, лучше сказать — столь цинично. Такое бывает нечасто. Хотя как подойти... Для Дядькова было бы гораздо разумнее, грамотнее со всех точек зрения остаться в машине. Во всяком случае, в обвинительном заключении поменьше было бы нарушенных статей Уголовного кодекса.
Глазова придвигает толстый том уголовного дела, перебирает справки, показания, характеристики, протоколы очных ставок, допросов.
— Все-таки странная это работа — следователь, — улыбается Глазова. — Нам признаются в мыслях, желаниях, в которых человек, может быть, и перед самим собой не до конца откровенен. В подлости признаются. К врачам идут со своими болячками, к нам — со своими. Правда, здесь чаще оказываются не по своей воле. А в остальном очень похоже получается. И наверно, поэтому в манере разговора и врача и следователя можно уловить одни и те же нотки — несколько жестковатые. На допросах, бывает, человек говорит с бравадой, со смешком по отношению к себе, к положению, в котором оказался, раскаяние тоже не всегда искреннее и откровенное. А мы... мы вынуждены отвечать жестковатостью, иронией, пытаемся остроту разговора как-то смягчить шуткой, улыбкой. Ведь в душу человека лезем.
Да, видно, эта профессия не из тех, которой может заниматься каждый желающий. Слишком много условий ставит она, слишком много требований предъявляет. И суть не в готовности жертвовать свободными часами, дело не в усердии или некой психологической цепкости, позволяющей чуть ли не силком вытягивать необходимые сведения из подозреваемого, свидетеля, соучастника. И логическое мышление, умение строить красивые версии тоже не стоит на первом месте среди качеств, необходимых хорошему следователю. Что же нужно прежде всего, что главное?
Глазова отвечает так:
— Наш объект — человек. И необходимо желание работать с ним. Мне приходилось видеть следователей, которым неинтересно встречаться с новыми людьми. Они их утомляют, раздражают... Таким надо менять профессию. Ведь у каждого своя система ценностей, за стремлением человека к тем или иным вещам, за его привязанностью к способам, которыми он достигает своих целей, за жертвами, которые он готов принести для их достижения, стоит характер, личность. Твердо знать, способен ли человек на данный поступок, или же он для него совершенно неприемлем, может ли он пойти на крайние меры, знать, какие меры для него крайние, — вот ключ для решения многих загадок, с которыми обычно сталкивается следователь.
Но даже все эти качества не сделают человека хорошим следователем. Нужно еще и обостренное чувство справедливости, и азарт поиска, и постоянная готовность к схватке.
Тамара Васильевна Глазова — хороший следователь. Об этом говорят ее товарищи, начальство, об этом с большей или меньшей охотой говорят и те, кто ее усилиями оказался в местах не столь отдаленных. Об этом может сказать и она сама. Не вижу здесь ничего плохого. Если человек знает себе цену и всегда готов подтвердить профессиональное мастерство, это прекрасно. У Тамары Васильевны получаются дела, в которых путаются другие, она охотно берется за раскрытие сложных, неоднозначных преступлений, распутывает преступления почти безнадежные, слывет специалистом по так называемым «глухим» делам — запоротым слабыми, неумелыми, неопытными следователями.
Есть очень простой способ определить, нравится ли работа человеку. Это хорошо видно по его настроению на работе. Если он подавлен, угрюм, раздражителен, если криклив или, наоборот, замкнут, все ясно. Эта работа не для него. Тамара Васильевна всегда оживлена, охотно смеется, готова пошутить. Люди, по каким бы надобностям ни попадали к ней в кабинет, не могут не откликнуться на ее открытость, непосредственность. Подозревая человека в преступлении, она прямо ему об этом говорит, если, конечно, позволяют обстоятельства дела. И сразу определяется позиция в разговоре, в следствии. За этим уже свой стиль работы.
Четверть века работает Глазова следователем. Сама говорит: работа тяжелая, для семейного человека часто непосильная. Тут и полуночные звонки, и выезды спозаранку, да и не выбросишь из головы, не оставишь в кабинете вместе с материалами уголовного дела, сомнения, догадки, надежды. Все это несешь с собой, и близкие понимают, видят, что ты их не слышишь, что ты еще там. Все ли смогут найти в себе достаточно любви и долготерпения, чтобы выносить это из года в год?
Пусть это не покажется притянутым за уши шаблоном, но Тамара Васильевна решила стать следователем еще в детские годы, когда училась в школе. На выбор повлияло печальное происшествие — была убита ее родственница, старая бабуля, которая никому не причиняла огорчений. Приехала, как водится, оперативная группа, привезли собаку, фотограф ходил по двору, за забором и с таинственным видом щелкал аппаратом. Казалось, он фотографирует не поворот тропинки, не реку, а самого преступника, невидимого для всех, кроме него. Потом начались осмотры, допросы, вызовы свидетелей и прочие следственные действия, в которых сейчас она считается первоклассным специалистом. И давнее убийство беззащитной старушки произвело на нее, девочку, столь сильное впечатление, вызвало такое страстное желание справедливого возмездия, что оно не угасло, не истощилось до сих пор.
Вот с каким человеком предстояло встретиться Дядькову.
ДОПРОС
В первый же день по номеру машины был установлен ее владелец — инженер местного завода Бармичев. Естественно, он оказался первым, кого вызвала Глазова на допрос. Бармичев исправно явился в назначенное время, словно бы самой исполнительностью своей желая засвидетельствовать почтение следователю и тому делу, которым она занимается.
Высокий, плотный, в добротном костюме, свежевыбритый и благоухающий, Бармичев производил хорошее впечатление. Не было в его лице, во всем облике каких-то признаков разгульной жизни. Такие вещи следователь обычно чувствует. С первых же слов, жестов, по манере выслушивать вопрос, отвечать, по наигранному негодованию, деланному спокойствию, подчеркнутой деловитости, серьезности или почти неуправляемому желанию шутить, посмеиваться, играть словами — по всему этому следователь понимает, что за человек сидит перед ним.
— Садитесь, Бармичев, — начала Тамара Васильевна. — По данным, которые мы получили, вы являетесь владельцем автомашины «Жигули». Это верно?
— Да, у меня есть машина. Купил два года назад. Вам неинтересно, за какие деньги? — улыбается Бармичев. Очевидно, он готов был ответить и на этот вопрос.
— Нет. Пока меня это не интересует. Номер вашей машины 84-34, правильно?
— Да, это моя машина.
— Дело вот в чем... Тридцатого апреля...
— Я знаю! Нехорошо получилось...
— Подождите. Я хочу полностью задать вопрос. Не только для вас, но и для протокола. Так вот, тридцатого апреля сего года вашей машиной совершен наезд на детскую коляску. В результате находившийся в ней мальчик, Павлик Железнов, погиб. Он умер в больнице через три дня. Что вы можете сказать поэтому поводу? — Глазова про себя решила: показания будут не совсем честные, не совсем искренние, но будут. Хотя этому человеку очень хотелось бы промолчать.
— Что я могу сказать? — Бармичев виновато развел руками. — Если вы говорите, был наезд, значит, был... У меня нет оснований не верить вам.
— Кто был за рулем? Вы?
— Ну почему же сразу я? Если машина принадлежит мне, то это еще ничего не значит...
— Кто же?
— Не знаю.
— Интересно. Начинается нечто из ряда вон. Итак, если я правильно вас поняла, вы не знаете, кто пользовался вашей машиной тридцатого апреля?
— Не совсем... Видите ли... — Бармичев помялся, помолчал горестно и наконец решился: — Как не знать, если я ключи от машины дал. Без ключей ведь никто не поедет...
— Полностью с вами согласна. Кому же вы дали ключи?
— Соседу дал. Он попросил, я дал. Беды большой в том не вижу.
— Фамилия вашего соседа? Чем занимается?
— Дядьков Борис Иванович. Начальник автотранспортного предприятия. Живет в соседнем доме. Знаю его давно, уважаемый человек, известный в городе. Попросил выручить... Я и... пошел навстречу.
— Зачем ему понадобилась машина? — спросила Тамара Васильевна.
— Он хотел отвезти домой родственников. У него в этот день, накануне Первомая, родственники были... Гостили.
— Праздновали?
— Да, скорее всего выпивали. Хотя утверждать не могу.
— Ну, если родственники сами не могли по домам разойтись...
— Нет-нет, утверждать не могу. — Бармичев клятвенно сложил руки на груди, как бы подчеркивая этим чистосердечность своих слов. — Наговаривать на людей не хочу. Увольте.
— Да я вас к этому и не принуждаю, — усмехнулась Глазова. — Наговоры мне и самой не нужны. Скажите, вы дали ему ключи или сами решили развезти родственников? Ведь это было бы разумно — самому доставить захмелевших гостей, не доверяя машину пьяным?
— Дело в том, что у нас с женой было на этот вечер кое-что назначено... Кино, то-се... И потом Дядьков попросил ключи. Я не смог ему отказать.
— Вы часто давали ему машину?
— Бывало.
— А почему не смогли отказать? Ведь вы знали, что рискуете машиной? Или привыкли к такому риску? Объясните.
— Видите ли... — Бармичев замялся, подыскивая достаточно убедительные доводы. — Когда живешь рядом не один год, всегда складываются отношения... Разрушать их, ставить под сомнение из-за машины... И потом... Ладно, скажу. Дядьков — начальник автопредприятия. А у нашего брата-водителя всегда чего-нибудь не хватает — то гаечки, то трубочки, то стеклышка... Что говорить — взаимовыгодные отношения.
— Он помогал вам с ремонтом?
— Было. Было, что делать! Поэтому, когда Дядьков попросил машину... Хотя, честно говоря, на душе кошки скребли. Не хотелось. Как чувствовал — что-то случится. Так и вышло. Чтоб я теперь кому-нибудь хотя бы на пять минут...
— Итак, будем считать установленным, что за рулем в момент наезда находился Дядьков?
— Этого я не говорил, — твердо сказал Бармичев. — И не слышал об этом. А что в самом деле...
— Хорошо. Что было дальше?
— Примерно через час ко мне прибегает взволнованный Дядьков и говорит, что машину у него угнали. Сказал, что он уже позвонил в милицию, передал номер машины, цвет, модель и все такое прочее. Сказал, что далеко уехать угонщики не могли, их наверняка задержат где-нибудь поблизости.
— Вы считаете, что все так и было? — спросила Тамара Васильевна.
— Не знаю, — уклонился от ответа Бармичев. — Я говорю только то, что сказал мне Дядьков.
— Вы видели машину после того вечера?
— Да. В милиции. Ее туда отогнали.
— Заметили какие-нибудь повреждения?
— Передний бампер слегка помят, капот поцарапан, разбит габаритный фонарь с левой стороны... А так вроде все в порядке. Да и эти повреждения тоже несерьезные. У меня нет претензий к Дядькову.
— Это ваше дело. Зато у нас есть претензии. Подпишите вот здесь ваши показания.
— С удовольствием, — сказал Бармичев и тут же смешался — удовольствие было весьма сомнительное.
Состоялись первые неожиданности. Нашелся владелец машины, Бармичев. Стало понятно, почему все пассажиры так бездумно покинули машину. Свою машину Дядьков вряд ли вот так легко бросил бы в кювете, даже не посмотрев, есть ли на ней повреждения. Дальше — оказывается, накануне была пьянка. Бармичев явно уклонялся от подробных показаний, его можно понять. Хотя мог бы вести себя и более мужественно. Ведь за его умалчиванием стояли отнюдь не дружественные отношения с Дядьковым. Боялся нарушить взаимовыгодность, лишиться ремонтной ямы в гараже Дядькова. За его поведением проступала знакомая позиция человека, не желающего ни во что вмешиваться.
Вполне вероятно, догадывалась Глазова, свои показания он заранее подробно согласовал с самим Дядьковым. Посидели вечерок, тщательно все выверили. Машину угнали, Дядьков не виноват. И даже признание о ремонтной яме тоже могло быть оговорено ими заранее, чтобы придать показаниям Бармичева видимость правды.
Вот тогда-то, после первого допроса, и мелькнула у нее мысль, что Дядьков не сможет спокойно наблюдать за ходом следствия, что он попытается вмешиваться, но тогда она еще не могла даже предположить, насколько серьезные помехи будет создавать Дядьков, какую деятельность развернет, чтобы изменить всю
картину происшествия.
Эта догадка полностью подтвердилась во время допросов других свидетелей. Одними из наиболее интересных, как надеялась Глазова, могут быть показания Батихина. Он оказался маленьким вертлявым человечком, бойким на язык, но довольно трусоватым, когда речь заходила о каких-то существенных показаниях. Тамара Васильевна по опыту знала, что подобные люди всегда вьются при начальниках определенного толка. Их задачи несложные, лакейские в общем-то задачи — куда сбегать, предупредить, организовать, созвониться с девушками, мотануться в магазин к знакомому директору за приличной закуской, чтобы угостить как подобает нужного человека. Духовный мир таких людей был ей достаточно известен: самолюбие, чуть воспаленное от сознания собственной никчемности, обидчивость и отсутствие каких-то своих, личных убеждений, оценок.
— Как вы оказались на месте преступления? — спросила Глазова.
— Вот так и оказался! — Батихин развел руками. — Сам до сих пор не пойму. Хотел как лучше, а оно вона как повернулась! Как говорится, нежданно-негаданно!
— Нет, Батихин, такие разговоры никому не нужны. Вас задержали в машине, на которой совершен наезд. Так?
— Не знаю никакого наезда! — торопливо выкрикнул Батихин.
— Хорошо. О наезде потом. Вас задержали в машине. В чужой машине. Как вы там оказались?
— Если я скажу, что меня туда силком затолкали, вы же все равно не поверите! — хихикнул Батихин.
— Значит, сами забрались? — Глазова поняла, что на этот раз ей больше всего потребуется не опыт или знание всех деталей наезда, а самое обыкновенное долготерпение.
— Получается, что сам. Только как это все случилось, ума не приложу!
— Нет, Батихин, так не пойдет. У меня много времени. Если мы не закончим сегодня, продолжим допрос завтра, послезавтра...
— Понял. Все понял. Значит, машина... Стою это я на платформе и вдруг вижу — несется на страшной скорости машина.
— Скорость была превышена? — уточнила Тамара Васильевна.
— Значительно! — воскликнул Батихин и тут же замолчал, для верности прикрыв рот рукой. Задумался, покусал ногти. Видимо, осознал, что такое утверждение может обернуться совсем другой стороной, если версия об угоне машины лопнет. — Это самое... Ребеночку плохо стало... Дай, думаю, помогу, отвезу в больницу...
— А как понимать то, что вы закрылись в машине, что вас оттуда пришлось силком выволакивать?
— Испугался! — воскликнул Батихин почти радостно оттого, что удалось найти столь простое и убедительнее объяснение. — Они же там озверели все! Уж начали двери выламывать, по стеклу кулаками стучать... Толпа!
— Некоторые свидетели утверждают, что видели вас в машине в момент наезда.
— Врут. Быть такого не могло.
— Ложные показания, Батихин, влекут за собой уголовную ответственность. Я вас об этом предупредила и вот снова напоминаю.
— Откровенно говоря, Тамара Васильевна, в тот вечер я был слегка навеселе. У Дядькова мы... гостили. Он сам, правда, ни-ни, а мы с Хлыстовым слегка... расслабились. Да, был навеселе, — повторил Батихин, которому, видимо, понравилось столь невинное определение. — И поэтому все события видятся мне в некотором тумане. Боюсь, что я вам и в протокол туману напущу.
— Ну что ж, попробуем разогнать ваш туман, — улыбнулась Тамара Васильевна.
Допрос Хлыстова мало чем отличался от этого. Разве что сам Хлыстов, который, будучи родственником Дядькова, вел себя самоувереннее, на вопросы отвечал многословно, старательно, но не было в его показаниях ничего, что хоть как-то прояснило бы картину наезда, позволило бы приблизиться к истине.
ОСМОТР
Для успешного следствия всегда важен грамотный осмотр места происшествия. Самые незначительные детали, занесенные в протокол осмотра, со временем могут не просто помочь, а перевернуть весь ход следствия. После события невозможно предсказать, как пойдет дело дальше. То, что сейчас кажется очевидным, не требующим доказательств, через несколько дней становится сомнительным. Невзначай брошенные словечки, царапина на асфальте, метеосводка со временем замыкают цепь вокруг преступника, а затем, подкрепленные показаниями свидетелей, заключениями экспертов, становятся вехами, по которым можно наметить путь расследования. Вот, например, сведения из протокола осмотра места происшествия. Опуская вводные данные, приведем лишь те, которые впоследствии помогли изобличить преступника.
Направление дорожного полотна относительно частей света — восточное. (Это обстоятельство окажется важным, когда Дядьков, исчерпав все разумные доводы, будет ссылаться на то, что дескать, солнце его ослепило и он не видел ни дороги, ни людей.)
Состояние дорожного покрытия — повреждений нет. (О, сколько заявлений напишет Дядьков, объясняя наезд тем, что он якобы вынужден был объезжать выбоины на дороге. А их, оказывается, не было, выбоин-то!)
Продольный уклон дороги — нулевой.
Радиус поворота дороги — около сорока градусов. (Крутой поворот, но несложный для трезвого водителя при допустимой скорости движения.)
Ширина обочины — полтора метра. (Очень важное обстоятельство. В дальнейшем Дядьков будет строить защиту на том, что будто бы семья Железновых шла по проезжей части, забыв, что сам в нарушение всех правил оказался на левой стороне дороги.)
Глубина кюветов — 0,5 метра.
Ширина кюветов — 2,5 метра.
Наличие дорожных знаков — перед поворотом стоит предупреждающий знак «извилистая дорога». (О значении этого обстоятельства говорить не приходится, оно очевидно.)
Погодные условия в момент осмотра дороги — ясно. (То есть здесь тоже не может быть кривотолков, вызванных различными погодными условиями.)
Следы торможения — не обнаружены. (Дядьков, оказывается, был настолько пьян, что не успел даже нажать на тормоз.)
Вещественные доказательства — следы волочения детской коляски на кромке обочины. Длина — 2,7 метра.
В протоколе осмотра машины отмечены потертости и царапины на бампере, на габаритном фонаре, на передней части капота. И еще одно — во время наезда дорога была свободна и от транспорта, и от людей. Важное свидетельство, поскольку на каком-то этапе следствия Дядьков настойчиво ссылался на то, что, дескать, дорога оказалась запружена народом, вышедшим из электрички, и он вынужден был свернуть на обочину.
В показаниях свидетелей подробно описан наезд, кто где стоял, откуда появилась машина, и даже случайная фраза, оброненная одной из женщин, выскочившей из машины: «Говорила Борьке — не садись за руль!» — даже эта фраза, занесенная в протокол, сыграла впоследствии существенную роль. Среди сотен страниц допросов, показаний, очных ставок увидеть ее, придать должное значение — заслуга следователя.
В этом и мастерство и интуиция. Заметить и оценить очевидный промах преступника, прямое доказательство, уличающий документ несложно, но такие подарки случаются редко, надеяться на них нельзя.
ОБВИНЯЕМЫЙ
Первый допрос обвиняемого важен для следователя как первая пристрелка — сразу становится ясной его позиция. Если он признает собственную вину, то задача сводится к доказательству этой вины. Если же обвиняемый вину не признает, то важно выяснить его доводы. Поэтому встречу с Дядьковым Глазова ожидала, заметно волнуясь: кто он, каков он?
Вызванный на допрос, Дядьков пришел с заметным опозданием, пришел оживленный, уверенный в себе, шумно поздоровался, пожаловался на жару, на неприятности, случившиеся несколько дней назад и невольным участником которых он оказался. Во всем его облике чувствовалась готовность шутить, разговаривать по-свойски. Как бы между прочим, он посмотрел на часы, давая понять, что времени у него мало, что надо бы поскорее закончить формальности.
Тамара Васильевна наблюдала за Дядьковым, не прерывая его, не мешая. Когда Дядьков завершил ритуал панибратского приветствия, она показала на стул.
— Садитесь, Борис Иванович. Не задержу вас ни на одну минуту лишнюю. Но поговорить надо. У меня есть вопросы, я обязана их задать.
Дядьков был невысок ростом, плотен, если не сказать — толст, он был из тех, кто явно торопился насладиться радостями жизни. Должность, довольно значительная по масштабам городка, позволяла ему несколько снисходительно поглядывать вокруг себя. Он преуспел в жизни больше других и не забывал об этом. Глазова уже знала, что у Дядькова двое детей от второй жены, что семейными привязанностями он не очень скован.
Наблюдая за ним, Тамара Васильевна понимала, что предстоит нелегкая работа. И сложность будет не в том, чтобы преодолеть ловко построенную защиту, — основная сила Дядькова в упорстве, готовности идти на что угодно, лишь бы вывернуться, спастись, уйти от наказания. Ну что ж, к схваткам ей не привыкать. Каждый допрос, самый вроде бы невинный, — это уже схватка с чужим мнением, тщеславием.
— Борис Иванович, — начала допрос Глазова, — ваш сосед Бармичев утверждает, что дал вам машину тридцатого апреля в семь часов вечера, это верно?
— Да. У меня были гости, и я хотел развезти их по домам. Закон гостеприимства обязывал. Кстати, один из них — муж моей сестры Хлыстов. А второй — так... приятель. Вот я и попросил у соседа машину. Дай, думаю, порадую ребят.
— Что же произошло дальше?
— Ну что, родственника я отвез домой. А приятель остался на платформе дожидаться электрички.
— Кстати, как его фамилия?
— Батихин. Так вот, когда мы вышли из машины у дома Хлыстова, то решили немного пройтись, поговорить. Но едва отошли от машины метров на двести, как, обернувшись, увидели, что машина на большой скорости удаляется в сторону городка.
— То есть у вас ее угнали?
— Вы удивительно догадливы. У нас ее угнали. Это было тем более печально, что машина принадлежала не мне. Поэтому я предпринял все, чтобы немедленно известить милицию. Как выяснилось, угонщики далеко не смогли удрать, машину обнаружили где-то недалеко от железнодорожной платформы. Вы их еще не нашли?
— А чем вы объясните, что вашего приятеля Батихина задержали в этой самой машине? Машину угнали, а оказалось, что заперся в ней Батихин, больше того, пытался угнать ее с места происшествия. Все это очень странно, вам не кажется?
— О! — Дядьков махнул пухлой ладошкой. — Ничего странного. Батихина мы высадили у платформы, я уже об этом говорил. Когда машину угнали, а потом на ней свалились в кювет, Батихин еще не успел уехать на электричке и вместе со всеми бросился к машине. Это естественно. Очевидно, он хотел вытащить ее из канавы... Но лучше спросить у самого Батихина. К сожалению, я его с тех пор не видел. Да, вы упомянули происшествие... Там что-то серьезное?
— Очень серьезное, — кивнула. — Наезд на детскую коляску.
— И в коляске... был? — Дядьков старательно сделал испуганно-сочувствующие глаза.
— Совершенно верно, — подтвердила Глазова. — В коляске был ребенок. Мальчик умер, не приходя в сознание.
— Ах, негодяи! Какие негодяи? — Дядьков горестно покачался из стороны в сторону и закрыл лицо руками. — Ведь живут такие сволочи среди нас, а? Ай-яй-яй! Стрелять их надо? Без суда и следствия!
— Ну, это вы напрасно, Борис Иванович. Наказывать их надо по всей строгости, но все-таки и со следствием, и с судом. Так мы и поступим.
Глазова смотрела на румяные, гладко выбритые щеки Дядькова, на воротничок, впившийся в толстую шею, и не могла отделаться от ощущения, что тот тихонько посмеивается про себя.
— Их нашли? — спросил Дядьков, поняв, что успокаивать его никто не собирается и воды поднести не торопится.
— Ищем, — улыбнулась Глазова. — Ищем, Борис Иванович. Но вот незадача — некоторые утверждают, что за рулем были вы. Как это можно объяснить?
— Как угодно! — не задумываясь, ответил Дядьков. — Заблуждением, ошибкой, желанием напакостить. Знаете, как бывает — чуть пробьется человек повыше, чуть расправит крылья, тут же найдутся и завистники и ненавистники. Но у меня, слава богу, есть свидетели, которые всегда...
— Кто эти люди?
— Тот же Хлыстов, которого я отвозил домой, Батихин, которого мы оставили на платформе. Если в этом дело, найдутся и другие. У меня этих свидетелей — пруд пруди, — доверительно произнес Дядьков, с нажимом произнес, с намеком.
— Вот еще что я хотела у вас спросить...
— Внимательно вас слушаю, — осклабился Дядьков, откинувшись на спинку стула.
— Сразу же после тридцатого апреля, когда все это случилось, вас несколько дней не было дома. Никто не знал, где вы, — ни семья, ни на работе, ни друзья. Как это понимать?
— Да, тут вы правы! — воскликнул Дядьков. — Я поступил не совсем хорошо. Мы с женой раньше говорили, что надо бы на праздники съездить в соседнюю область родню проведать. Сейчас и сама удивляется своей забывчивости.
— Как родня себя чувствует?
— Спасибо. Хорошо.
— Как вас приняли?
— Спасибо. Хорошо, — повторил Дядьков.
— Оставьте, пожалуйста, адрес вашей родни. Уж коли они так хорошо принимают гостей, думаю, нам тоже не грех съездить к ним.
— Вы мне не верите?
— Нет, — сказала Глазова. — Не верю. Работа такая. Вам что-нибудь говорит фамилия Железнов?
— Впервые слышу. Кто это?
— Павлик Железнов — это тот самый мальчик, который погиб в результате наезда машины на коляску. Его отец, Николай Железнов, хорошо помнит водителя автомашины. Сразу же после наезда он пытался вытащить его из-за руля, но ему это не удалось. В своих показаниях Железнов подробно описал водителя, его внешность, одежду, отличительные признаки.
— И что же? Я похож на него? — Дядьков, кажется, впервые за весь допрос встревожился. Если раньше он сидел развалясь, то после слов следователя подался вперед. — Я действительно похож на того водителя?
— Очень. Железнов скоро подойдет. Мы проведем опознание со всеми необходимыми формальностями — протоколом, понятыми, пригласим еще несколько человек примерно вашего возраста, комплекции.
— Послушайте, Тамара Васильевна, а зачем вам это? — Дядьков лег грудью на стол, приблизив румяное лицо с маленькими круглыми глазками. — Мне кажется, это совершенно излишнее следственное действие. Ведь все сходится как нельзя лучше! Смотрите... Машину я действительно взял. Хлыстова отвез. Батихина оставил на платформе. Это могут подтвердить многие. Машину у меня угнали. Кто угнал — не знаю. Говорят, что какая-то развеселая компания покататься захотела. После наезда компания разбежалась. Никого задержать не удалось. Все. Что же вам еще надо? Бросьте, Тамара Васильевна. Ни к чему хорошему это не приведет.
— Что вы имеете в виду? — спокойно спросила Глазова тише обычного.
— Я ничего не имею в виду. Просто говорю то, что хочу сказать. Не умею на что-то там намекать или иметь в виду. Плохо все это может кончиться.
— Для кого, Борис Иванович?
— Если хотите — скажу. Для всех нас.
— Вы в этом уверены?
— Да, уверен.
— Проверим? — улыбнулась Глазова. — Давайте рискнем — вдруг это кончится плохо не для всех, а?
— Смотрите, Тамара Васильевна. Я предупредил.
— А! — Глазова махнула рукой. — Где наша не пропадала! Опознание мы все-таки проведем. Напрасно беспокоитесь, Борис Иванович. Если за рулем сидел кто-то другой, Железнов это подтвердит. Он хорошо запомнил водителя. Вам нечего опасаться. Если, конечно, в самом деле за рулем был кто-то другой.
— Я сказал, как все было. Машину у меня угнали. И все тут.
Такова была первая версия Дядькова. Простая, внешне даже убедительная.
ОПОЗНАНИЕ
Глазова не была уверена в том, что Николай Железнов сможет точно опознать Дядькова. Слишком он был тогда взволнован. В больнице, куда доставили Павлика, ему самому пришлось оказывать помощь. В доме Железновых последние дни было пусто и тихо. После похорон малыша Николай и Надя не могли прийти в себя. Им казалось, что вот-вот распахнется дверь детской комнаты и оттуда выйдет Павлик. Иногда доходило до галлюцинаций: Надя слышала шаги босых ножек, по ночам Николаю казалось, что сын ворочается в кроватке, просит подойти к нему...
Дядькова отвели в другую комнату, побольше. Там, рассевшись у стены, уже поджидали несколько мужчин. Одно место было свободно.
— Садитесь, Борис Иванович. Это место для вас.
— Это еще не скамья подсудимых? — пошутил он.
— Нет, пока это просто стул.
Дядьков втиснулся между двумя мужчинами, осмотрелся. Окинул взглядом сидящих людей, сопоставил с собой — нет ли ярких, необычных деталей в одежде, которые могли бы подсказать, что именно он и есть тот самый... Поколебавшись, принял точно такую же позу, в какой сидел мужчина справа. Скрестив руки на животе, ноги поджал под стул и с равнодушным, скучающим видом уставился прямо перед собой. Волновался. Решалось многое. Или его версия подтвердится, или лопнет тут же. Незаметно Дядьков перевел дух, насторожился, услышав шаги в коридоре. Но на дверь не посмотрел. Заставил себя сидеть все так же, глядя в окно. Но когда вошел Железнов, не выдержал, быстро взглянул на него. Дядьков узнал человека, который в тот вечер пытался вытащить его из машины: бледный, осунувшийся.
— Николай, посмотрите внимательно на этих людей. Нет ли среди них знакомого вам человека? Понятые, прошу внимательно выслушать ответы Железнова. Так что скажете, Николай?
Железнов окинул взглядом сидящих у стены, повернулся к Глазовой.
— Одного из них я узнал.
— Кого именно?
— Тот, который сидит посередине, находился за рулем автомобиля тридцатого апреля.
— Вы не ошибаетесь?
— Нет, это он. Я хорошо его запомнил. Он ухватился за руль и не хотел вылезать из машины. Я пытался оторвать его руки от руля, но в этот момент меня позвала жена. Когда я разгибал его пальцы на руле, то заметил на правой руке обручальное кольцо.
— Покажите руки, — сказала Глазова Дядькову. На безымянном пальце сверкнуло широкое обручальное кольцо.
После этого оставалось только составить протокол и подписать его. Дядьков впервые был опознан как человек, совершивший наезд. Последующие действия его не выходили за рамки представлений самого заскорузлого преступника. Новая позиция выглядела так:
«Вы уличили меня во лжи? Согласен. Что требуется? Покаяться? Пожалуйста. Да, я поступил нехорошо, пытаясь исказить правду. Мне казалось, что так будет лучше для всех нас. Единственная цель этой невинной лжи — упростить задачу следствия: да, несчастье случилось, но человека, которого можно было бы назвать преступником... нет. Если настаиваете, могу сказать, как было на самом деле. Да, я поступил плохо, взяв у своего соседа машину, воспользовался ею, не имея на то необходимых прав, не оформив это установленными документами. И готов нести ответственность по закону. Что касается дальнейших событий, то они таковы. Я отвез своего родственника Хлыстова, но у него дома никого не оказалось, и мы решили вернуться ко мне. Когда выехали на трассу, увидели нескольких девушек. Они стояли на обочине, просили подвезти. Возможно, я поступил противозаконно, проявив сострадание, — остановил машину и разрешил девушкам сесть, но не думаю, что моя вина так уж велика. Когда въезжали в город, как раз подошла электричка, со станции повалил народ, многие вышли на дорогу. Чтобы не сшибить кого-нибудь, объезжая выбоины на проезжей части, мне пришлось свернуть влево, и я невзначай пересек осевую линию. Правилами дорожного движения это не возбраняется, если дорога свободна от транспорта. А коляска... это уж, извините, чистый домысел. Наезда не было. За все, что я совершил нехорошего, готов отвечать. И за пользование машиной, и за то, что пассажиров на дороге подобрал, но наезда... Его не было. Извините».
— Есть вопросы, — вздохнула Глазова, поняв, что начинается новый этап схватки, более серьезный. — Вам знакомы девушки, которые сели в машину?
— Что вы! Первый раз видел.
— Почему же они бросились врассыпную, едва машина оказалась в кювете?
— Понятия не имею! — воскликнул Дядьков. — Странные такие девушки... С виду вроде нормальные... Представляете, даже спасибо не сказали!
— А почему вы сами побежали вслед за ними? Почему скрылись с места происшествия?
— Какого происшествия? — Дядьков заморгал светлыми ресницами.
— Ах, да! Ведь вы ничего не видели! — усмехнулась Глазова. — Тогда тем более непонятно, зачем вам понадобилось так спешно оставлять машину, чужую машину, и мчаться в лес вслед за этими странными девушками.
— Отвечу, — вздохнул Дядьков, быстро глянув на следователя, проверяя, верит ли она ему. — Отвечу. Когда машина остановилась, я вышел из нее и увидел, что к нам несется толпа, причем вид у людей был угрожающий, недобрый... Ну что ж, проявил слабость, испугался толпы и решил, что лучше подальше от греха... Виноват. И готов за это нести ответственность.
Это была вторая версия Дядькова.
Тамара Васильевна Глазова могла с уверенностью сказать — будет и третья. Уверенность давала ей одна небольшая деталь в уголовном деле. Вспомните записанную со слов свидетелей фразу: «Говорила Борьке — не садись за руль!» Эти слова выкрикнула, вылезая из машины, одна из девушек. Так вот, достаточно было эту фразу приложить к версии Дядькова, как сразу становилась очевидной ее лживость. Незначащие вроде бы слова стали для следователя тем ключом, с помощью которого она сразу могла определить правдивость показаний. В этих словах четко отразились отношения между Дядьковым и ехавшими в машине девицами. Да, директор автотранспортного предприятия Борис Иванович Дядьков был, оказывается, для них просто Борькой.
ПОДЛОГ
Еще до того, как развалилась вторая версия Дядькова, он уже начал готовить третью. Однако чтобы она имела право на жизнь, нужно было провести некоторые подготовительные меры. Мешала, например, детская коляска Павлика Железнова. На ней, возможно, оставались царапины после столкновения. Дядьков выяснил, что коляска находится в больнице, там же хранилась и одежда Павлика. Дядькова интересовали верхние вещи, например пальтишко, на котором также могли остаться следы соприкосновения с машиной; их тоже надо было изъять из больничных кладовок.
И верный человек отправляется на задание. Это случилось в первые дни после наезда, когда малыш был еще жив. Попробуем представить себе, как все произошло. Обстоятельства позволяют сделать вполне обоснованную попытку. Например, близкая приятельница или дальняя родственница, соседка или подчиненная, назовем ее Зинаидой, соглашается выполнить поручение. Городок небольшой, почти все знакомы друг с другом, если не впрямую, то через соседей, приятелей. И Зинаида после нескольких встреч, бесед, чаепитий выяснила: есть в больнице свой человек, допустим нянечка. Тетя Паша.
— Тетя Паша, — начала Зинаида, — вы можете выручить... И меня... И Борю... Знаете, какая беда с ним случилась... Это такой ужас, такой ужас! — Зинаида помолчала горестно, присматриваясь, как отнесется к разговору тетя Паша. Нянечка отнеслась сочувственно.
— Как не знать, — сказала она, — конечно, знаю. Такой был человек! Всегда веселый, видный, а теперь, смотрю, лица на нем нет. — Тетя Паша, конечно, поняла, к кому требуется сочувствие. Поэтому и заговорила не о мальчике, умирающем на втором этаже, а о Дядькове, который, по некоторым наблюдениям, несколько спал с лица.
— Выручайте, тетя Паша! — после нескольких незначащих фраз воскликнула Зинаида. — Только вы можете спасти Борю... Уж он в долгу ее останется... А, теть Паш?
— А чего делать-то?
— Вынесите коляску детскую... Она у вас там... Возле кислородных баллонов.
— А на кой тебе коляска-то? — подозрительно спросила нянечка.
— Да я и знать не знаю. Просит Борис, вот я и передала вам его просьбу. Вроде следователь его совсем затаскала, вообще хоть в петлю лезь...
Многословием Зинаида хотела уйти от четкого ответа. Тетя Паша догадывалась, что разговор затеян неспроста, что дело ей предлагают не очень чистое. Но незнание как бы освобождало ее от укоров совести, ей самой проще было ничего не знать, и она даже с облегчением слушала Зинаиду, толком так ничего и не сказавшую.
— Попробую, — коротко сказала тетя Паша. — От хорошего человека отчего ж не отвести беду... — Она уже искала оправдания для себя. — Как не понять — беда случилась.
— И это... Теть Паша... Еще бы пальтишко...
— Какое пальтишко?
— Ну, это... мальчика.
— А пальтишко-то зачем?
— Понятия не имею! — прикинулась дурочкой гостья. — Попросил Борис... Очень, говорит, нужно. А зачем — я и спрашивать не стала. Ничего, говорит, не пожалею! — налегала Зинаида на посулы.
Как бы там ни было — удалось. Пропали из больницы и поврежденная коляска, и пальтишко Павлика Железнова. Вещички других детей на месте: коляски, велосипедики стоят там, где их поставили, а вот коляски Павлика так и не нашли, хотя сил приложили немало. Подумали было, что выбросили как негодную, вынесли на свалку, заподозрили, что в металлолом попала. Предположили, что кто-то из выздоровевших случайно прихватил, — нет, не нашли.
Вскоре Зинаида получила новое задание — натаскать в тот самый кювет, где наезд случился, камней и булыжников. Но так, чтоб ни одна душа живая не увидела. А где их возьмешь, камней-то, после уборки предпраздничной? И отправляется Зинаида на соседнюю станцию, бродит вдоль заборов, у дач, посещает сельские свалки. Задание выполнено — собрана целая хозяйственная сумка камней. И вот, когда затихает городок, когда даже уличные фонари выключают за ненадобностью, крадется она в темноте к железнодорожной платформе и ссыпает в кювет камни, разбрасывает их по сторонам, старается каждый вдавить в землю, чтоб казалось, будто давно они лежат, с зимы еще.
Наутро, проходя с товарками к платформе, нечаянно глянув в сторону кювета, Зинаида воскликнула:
— А камней-то наворочено! Тут кто угодно голову свернет!
— И вправду! — удивилась женщина. — Надо же, а я вроде и не замечала... Каждый день хожу, а пока носом не ткнут, не увидишь!
— Вот и следовательно тоже, наверно, никак их увидеть не может, — сказала Зинаида. — Ее бы тоже не мешало носом ткнуть. Может, удружишь, а?
— А что, и скажу! Пойду и скажу!
Действительно, пришла однажды к Глазовой странная свидетельница. Так, мол, и так, говорит, в кювете камни лежат. Сказала, даже не сообразив, зачем ей это понадобилось и какое такое значение имеют камни в кювете. Переборщила Зинаида. Сама же себя и выдала. Наверно, это неизбежно. При таком размахе маскировочных работ где-нибудь обязательно промахнешься. И не от способностей это зависит, не от предусмотрительности. Невозможно изменить сущность преступления, да так, чтоб и следов не оставить.
ДЕВИЦЫ-КРАСАВИЦЫ
Одно из качеств, необходимых следователю, конечно же, терпение, позволяющее спокойно выслушивать очередную ложь, спокойно отводить все попытки вызнать, что известно следствию, спокойно делать свое дело. Здесь следователя можно сравнить с математиком, применяющим в анализе метод постепенного приближения.
В первом приближении Дядьков признался лишь в том, что брал у Бармичева машину и использовал ее в личных целях, хотя не имел на это прав. А поскольку машину у него угнали неизвестные злодеи, то и укорить, побранить за небрежность, не больше, его может лишь хозяин машины.
Во втором приближении Дядьков признал, что не только брал машину, но и был за рулем в момент наезда. Признал, что малодушно скрылся в лесу сразу же после происшествия. Признал, что в машине были девушки. Но при этом утверждал, что это были незнакомые ему, случайные девушки, которых он по доброте душевной согласился подвезти несколько километров. А за это он готов нести полную ответственность по всей строгости закона.
— Сколько в машине было человек? — спросила Глазова.
— Пятеро. Мы с Хлыстовым и девушки. Их вроде было трое. Да, всего получается пятеро.
— А куда делся Батихин?
— Я же говорил, мы оставили его на платформе. Он решил добираться домой электричкой.
— Как же объяснить, что его задержали в машине?
— Он увидел, как мы съехали в кювет, и подошел. Это же рядом, с платформы все видно. Батихин хотел выехать из кювета, чтобы на этой машине доставить мальчика в больницу. Думаю, что он поступил правильно.
— Свидетели утверждают, что он появился из лесу, в котором скрылись и вы вместе с девушками.
— Скажете тоже — вместе! — усмехнулся Дядьков. — Очевидно, Батихин, перед тем как подойти к машине, прошел в лес, чтобы узнать, не случилось ли с нами чего...
— Почему же он не прошел в лес дальше, если его так уж волновало ваше здоровье?
— Трудно сказать. — Дядьков развел руками. — Трудно сказать, — повторил он отрешенно.
Тамара Васильевна обратила внимание, как изменился за последнее время Дядьков. Если раньше он был безоглядно уверен, что все кончится благополучно, а следователь попросту поможет ему выпутаться из неприятного положения, в котором он оказался, то теперь Дядьков почувствовал, что кольцо вокруг него замыкается. Правда, в кольце чудились ему просветы, он надеялся воспользоваться ими и выскользнуть, но это были слабые надежды, да и становилось их все меньше.
В полной мере он ощутил нависшую опасность, когда однажды вечером к нему прибежали перепуганные Наталья, Татьяна и Алла. В руках у них были полученные в этот день повестки от следователя Глазовой. Им надлежало явиться в прокуратуру для дачи показаний в качестве свидетелей.
— Ах, черт! — крякнул Дядьков. — Как же она про вас-то пронюхала? Вот чертова баба!
— Очень просто! — ответила Кузькина. — Нас узнали. Там еще, в кювете. Народ-то весь свой собрался, городской. Меня и Татьяну узнали.
— Значит, так... — протянул Дядьков озадаченно. — Хорошо. Слушайте внимательно. Вы тоже можете влипнуть. Нам надо держаться друг друга. Запомните — я вас подвез. Подобрал на дороге и подвез. Вы меня не знаете. Поняли? Вы видели меня только со спины. Все. И второго парня вы не знаете.
— А если спросит про малыша?
— Вы ничего не видели! — заорал Дядьков. — Машина в кювете, вы испугались и ушли. Понятно?! Никаких малышей, никаких колясок не видели! И весь сказ.
— Жидковато все это, — проговорила Татьяна. — На дурачков.
— Что ты предлагаешь? — глянул на нее Дядьков.
— Что я могу предложить... Сказать-то мы скажем, да только непохоже, чтоб нам поверили.
— Ваше дело — сказать. Об остальном я позабочусь. Слава богу, друзья у меня остались, не бросят в беде, — обнадежил Дядьков.
Естественно, после такой подготовки показания девушек в кабинете Глазовой полностью совпадали. Даже выражения были одинаковы. Весь день накануне наезда они чуть ли не с утра, оказывается, примеряли наряды, смотрели в окно, слушали музыку. Когда наступил вечер, собрались сходить в кино, какое именно, не помнят. Остановили машину, в ней сидели двое мужчин. Как машина оказалась в кювете, не заметили, водителя узнать не смогут, поскольку видели со спины. Когда машина остановилась, вышли из нее. «Пошли, девушки, отсюда», — сказала Таня. Смотреть кино уже не было настроения, поговорили о приближающихся праздниках, о нарядах, о ценах на эти наряды, потом проводили Аллу и разошлись по домам.
Тамара Васильевна добросовестно записала эти показания. Ложь была очевидной. Не могут три человека разного возраста, образования, характера вот так одинаково видеть, слышать, чувствовать. И даже отношение к происшедшему было не то что похожим, а полностью совпадало.
— Дядьков поставил вас в дурацкое положение, — сказала Глазова. — Но вы-то должны понимать, что к чему. Зачем вам лезть во всю эту грязь?
— Какой Дядьков? — попыталась было сделать удивленные глаза Кузькина.
— Ваш сосед. Девушки, я же сама выписывала повестки, вы живете в одном доме с Дядьковым, хорошо знаете не только его самого, но и родителей, жену, детей... Вы очень хорошо всех их знаете. Это он предложил вам нести такую чушь? Дядьков по наивности полагает, что чем больше виноватых окажется, тем меньше будет его собственная вина. Послушайте, ведь речь идет о смерти человека. Это серьезно. А ведете вы себя легкомысленно. Вас видели не только в этот день, вы и раньше приятно проводили время.
— Это еще надо доказать!
— Зачем? — грустно улыбнулась Глазова. — Это уже доказано. Есть даже фотография, где вы вместе сняты примерно год назад.
Показания Татьяны Кузькиной, сделанные ею через несколько дней: «Мы в самом деле гуляли по лесу. Нас догнала машина. За рулем сидел Дядьков, на заднем сиденье еще двое — Батихин и Хлыстов. Они предложили покататься. Мы согласились. В машине нас было шестеро. Когда Дядьков, не справившись с управлением, выскочил на левую сторону шоссе и съехал в кювет, мы все разбежались, потому что испугались. В лесу мы договорились не выдавать его, сказать, что за рулем сидел незнакомый человек. Когда получили повестки, снова встретились с Дядьковым, и он велел нам ничего не говорить, держаться за прежние свои показания. Сейчас, когда я узнала, что мальчик погиб, решила сказать правду».
О правде. В этих показаниях правды меньше половины. Подруги дали примерно такие же, тоже согласованные и выверенные показания. Поэтому можно сказать, что ссылка на погибшего мальчика не более как прием, в котором опять же нетрудно разглядеть руку Дядькова.
Как выяснилось, он чуть ли не каждый день собирал всех участников происшествия и подробно обсуждал все вопросы, которые задавала Глазова. Вырабатывалась общая линия дальнейшей борьбы со следователем, согласовывались показания, заявления и даже жалобы.
Девушкам нравились эти сборища, они чувствовали себя заговорщицами. А риска никакого — отвечать-то все равно Борьке. «Бедный Борька!» — сочувственно вздыхали они, расходясь по домам. А «бедный Борька», проводив гостей, удрученно качал головой, прикидывая количество выпитого — с такими приятелями недолго и по миру пойти. Дороговато ему обходились их показания.
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ
Интересные наблюдения высказал прокурор Мытищинского района Владимир Дмитриевич Сухачев, под началом которого работает Глазова. Он говорил о странном отношении некоторых свидетелей к своим обязанностям. По сравнению с тем, что было, например, лет десять назад, нынешний свидетель как-то легче идет на ложь, уж больно просто отрекается от своих же показаний, дает новые, которые зачастую оказываются ничуть не ближе к истине, нежели предыдущие. И при этом не чувствует никаких угрызений совести, не наступает в нем разлада с самим собой. Вроде бы дело личное, дело житейское — сказал так, сказал этак...
Может быть, юридические знания позволяют недобросовестным свидетелям ориентироваться в следовательском, судебном процессах, самим решать, что хорошо, а что плохо. И они пытаются вершить свой суд, отталкиваясь от собственных представлений о солидарности, стремятся выручить приятеля, даже не сомневаясь в его виновности. Дескать, главное — спасти от суда, а уж там сами разберемся.
Возможно и другое объяснение — лживые показания дают обычно люди, так или иначе замешанные в преступлении, и тогда, конечно же, понятно их желание выйти сухими из воды. В деле Дядькова некоторые свидетели не один раз меняли свои показания, ссылаясь на хорошо знакомые и следователям, и судьям, и прокурорам причины: не осознали значения собственных показаний, не представляли серьезности последствий, прозрели и вот решили сказать правду, и так далее.
Нетрудно представить себе, насколько четкой, грамотной, неуязвимой должна быть работа следователя, чтобы судья мог на основании дела, лежащего перед ним, уверенно, с сознанием правоты и справедливости выносить приговор, несмотря на всевозможные уловки подобных свидетелей.
Возвращаясь к делу Дядькова, скажем: каждая очередная его версия держалась недолго, слишком она была примитивной. Уже через несколько дней Тамара Васильевна Глазова знала, что в машине при наезде находились шесть человек: Дядьков с двумя приятелями и три девушки без определенных занятий. Впрочем, занятия у них были: кто работал, кто учился. Но это были далеко не основные занятия. Больше всего девицам хотелось красиво жить. Причем красоту жизни они понимали довольно своеобразно — даровые выпивки, гонки по ночным шоссе, пикники в сосновых, березовых, дубовых и прочих рощах.
А работать они работали. Ковалева даже на «скорой помощи» трудилась. Какой-никакой, а все же медицинский работник. Чего стоит этот медицинский работник, можно судить по одному лишь факту: она, не колеблясь, прошла мимо обливающегося кровью малыша.
Случайность? Шоковое состояние? Ничуть не бывало. На допросах она полностью, слово в слово подтверждала первую версию Дядькова, потом столь же убежденно подтверждала его вторую версию, третью...
Последняя версия Дядькова была такова. Он действительно с приятелями и знакомыми девушками — пришлось признать, куда деваться! — ехал в этот злополучный вечер на чужой машине. Прекрасно понимая, что превышение загруженности машины уже является нарушением, он уговорил всех участников неудавшегося пикника в один голос повторять: в машине было пятеро. Так вот, ехали они на малой скорости, а на повороте, объезжая выбоины и вышедших из электрички людей, ненароком съехали в кювет. Вот и все. А что касается прискорбной гибели ребенка, то его отец, видите ли, увидев машину, от неожиданности дернул коляску. Малыш не удержался, выпал и ударился головой о камни в кювете. Таким образом, никакого отношения к смерти мальчика ни машина, ни ее водитель, ни пассажиры не имеют. А вы, уважаемый гражданин следователь, попробуйте докажите, что все было иначе. Доказывайте. А мы посмотрим, как это у вас получится.
Выложив свои новые доводы, Дядьков раскланялся, заверив, что с нетерпением будет ждать очередной весточки от следователя, и, подписав протокол допроса, вышел, аккуратно притворив за собой дверь. А Глазова осталась в кабинете один на один с толстым томом уголовного дела. Вздохнула и начала не торопясь по своему обыкновению листать уже достаточно потертые страницы, пытаясь найти в них зацепку, нащупать слабое звено в позиции Дядькова.
Надо ли говорить, что за схваткой следователя Глазовой и начальника автопредприятия Дядькова с напряжением следили сотни людей. И все они делали для себя выводы, все получали урок на всю жизнь. И от того, кто победит, зависело, разочаруются они, навсегда уверовав в возможность безнаказанности, или же, наоборот, воспрянут, еще раз убедятся, насколько сильны правда, справедливость, порядочность. Кто победит? Достаточно ли сильно правосудие? Так ли уж могуществен Дядьков? Правда ли, что у него такие покровители, которых не одолеет ни один следователь? Может, и в самом деле законы писаны для кого угодно, но только не для него?
ДЯДЬКОВ
Попробуем поближе, попристальнее взглянуть на преступника, Дядькова Бориса Ивановича. В своем кабинете он бывал обычно подчеркнуто деловит, создавал впечатление, что каждый новый посетитель, телефонный звонок, просьба подчиненных отрывали его от важного дела в самый решающий момент и он никак не мог к нему приступить.
Однако, оставшись в кабинете один, преображался. Становился расслабленным, взгляд его вяло блуждал по бумагам, соскальзывал со стола, упирался в окно, рука непроизвольно тянулась к телефону — любил Дядьков переброситься словцом-другим с приятелями. Те чувствовали себя польщенными, предлагали встретиться в хорошем месте, где их уже ждут, где все приготовлено и дело только за тем, чтобы Борис Иванович уважил и согласился скоротать с ними вечерок. Дядьков обычно не разочаровывал, не огорчал приятелей и, подумав, попричитав, все-таки давал согласие. Свои деньги тратить не любил, приятели знали об этой его маленькой слабости и охотно прощали Борису Ивановичу прижимистость, тем более что он мог подсобить с запчастями, грузовичок по надобности устроить, машину поставить в гараж на ремонт, а оплату опять же принимал натурой где-нибудь в хорошем месте свободным вечерком...
Были у Дядькова и деловые качества. Умел он организовать работу, этого не отнимешь. Но больше криком, давлением, приказом. Возникающие конфликты Дядьков гасить не умел, вольно или невольно еще больше распалял людей, нагнетал страсти. Обиженные не чувствовали удовлетворения от его вмешательства, обидчики понимали — можно откупиться. И все шло как прежде.
Чем это можно объяснить? Не было духовной культуры, которая бы позволила Дядькову понять человека, принять сторону правого, объяснить заблуждения неправому. И доброжелательности, как-то окупающей недостаток духовности, тоже у него не было. Он являл собой типичный пример жесткого руководителя, который больше полагался на свои административные права, нежели на доводы разума. Во взаимоотношениях подчиненных его интересовала только субординация. Главное — чтоб беспрекословно подчинялся тот, кому положено подчиняться. Остальное, полагал Дядьков, приложится.
Но там, где все сводится только к подчиненности, неизбежно будут и ссоры и жалобы. Этого добра в хозяйстве Дядькова всегда хватало. И все-таки руководителем он считался неплохим. Были и промахи — их объясняли молодостью. Кроме того, Дядьков умел покаяться в грехах и заверить начальство, что приложит все силы, опыт, еще что-то и исправит упущение. Действительно, упущения исправлял. Правда, при этом допускал новые, но начальство знало: стоит Дядькову указать, исправит и новые. Человек он исполнительный, а тщеславие не позволяло ему плестись в хвосте родственных предприятий.
Соседи знали, что Дядьков не всегда ночует дома, но жена молчала. Когда после наезда выплыли деликатные подробности, жена опять решила отложить выяснение отношений с мужем до лучших времен.
— Сильным этого человека не назовешь, — говорит Тамара Васильевна Глазова. — То, что он проделал, шло не от силы, а от отчаяния. В глубине души Дядьков понимал безнадежность затеянной авантюры, но уже не мог остановиться. Что им двигало? Прежде всего страх. Он боялся лишиться должности, привычных благ, положения, приятелей, приятельниц. Кроме того, не мог допустить даже в мыслях, что его, руководителя пусть небольшого предприятия, но все-таки известного в районе человека, вот так возьмут да и на скамью подсудимых посадят. Не верил, что так может быть. И потому полагал, что просто обязан делать все, чтобы этого не случилось. Ход мышления довольно своеобразен: вы, дескать, не на меня покушаетесь, а на авторитет руководителя. Вот так! И все свои действия во время следствия он считал даже необходимыми.
Если честный человек мог бы задуматься: это недостойно, это недопустимо, — то у Дядькова подобных колебаний не было. Уйди он от ответственности — и на свободе остался бы человек, убежденный в том, что самые подлые действия могут оказаться полезными. Происходило некое накопление дозволенностей. Ему нравилось быть везде своим человеком, полезным, нужным. Вроде бы и плохого в этом нет, но Дядьков того же требовал от других, только таких людей и ценил, им отдавал всяческие
предпочтения.
Где-то здесь начиналось разлагающее действие Дядькова, поскольку мнение руководителя, его требования все-таки заставляют людей пересматривать свое поведение, а слабых вынуждают искать возможность попасть в число избранных. И вот уже следующая ступенька — в почете оказываются люди, склонные к угодничеству, продажности, готовые посмеяться над бескорыстностью, откровенностью, если это нравится начальству. Интересы дела оттесняются на задний план, откровенный разговор в коллективе становится нежелательным для приближенных, поэтому честные, искренние отношения искореняются. И все это прикрывается обилием вроде бы правильных слов, ссылками на высокие авторитеты и решения, разговорами о задачах и свершениях. Но поскольку эти правильные слова произносят люди, окончательно падшие в глазах коллектива, все ставится с ног на голову: человеку принципиальному приклеивают ярлык склочника, в честном видят опасность, истинное трудолюбие остается незамеченным, а то и подвергается осмеянию — дескать, все деньги человек заработать торопится. В результате духовные и нравственные ценности общества оказываются обесчещенными.
ПРОКУРОР
Дядьков чувствовал себя все увереннее в новой версии, позволял себе не являться к следователю, когда получал повестку, отделывался телефонными звонками, ссылаясь на занятость, на большое количество работы, подзапущенной в связи со следствием.
Девушки тоже успокоились, пришли в себя. Чувство вины, которое Тамаре Васильевне удалось было пробудить в них, покинуло всех троих. Если раньше они признавали, что их попутчики являются кавалерами, говорили об увеселительных целях поездки, то теперь отшатнулись от этих показаний. В этом явно чувствовалось влияние Дядькова.
Через некоторое время оказалось, что дело словно бы расползается на глазах. Показания очевидцев Дядьков истолковывал довольно своеобразно — дескать, взбудоражены были люди, им, естественно, хотелось иметь перед собой виновника, чтобы дать выход, конечно же, справедливому возмущению. Вещественных доказательств наезда не было — основной козырь Дядькова. Коляска похищена, детское пальтишко, на котором могли остаться микроскопические следы соприкосновения с машиной, тоже исчезло. В кювете многие видели камни, о которые мальчик действительно мог разбить голову. Ничто не подтверждало и того, что Дядьков вел машину пьяным. Даже опознание его Железновым ничего не доказывало. Да, он находился за рулем, но коляски машина даже не коснулась.
Как поступить в таком положении следователю?
Ведь от него требуется не просто воссоздание происшествия, его истолкование фактическое или психологическое. Требуются неопровержимые доказательства, на основании которых суд мог бы вынести обоснованный приговор. Решается судьба человека, и вольные предположения недопустимы. Как бы ни было велико наше сочувствие пострадавшим, оно не может служить основанием для приговора.
И вот, когда, казалось, обесценились все показания и доказательства, а Дядьков снова похаживал по городку румяный и уверенный в себе, Глазова пошла в наступление. Вызвав Дядькова в очередной раз на допрос, она встретила его с уже подготовленным, подписанным прокурором постановлением об изменении меры пресечения — так называется документ, на основании которого она здесь же, в прокуратуре, взяла Дядькова под стражу. Основания: настойчивые попытки мешать работе следствия, уклонение от своих обязанностей, недопустимая обработка свидетелей.
— Я хочу видеть прокурора! — заявил Дядьков, ознакомившись с постановлением.
— Не возражаю, — ответила Глазова. — Пожалуйста. Пройдите в конец коридора и направо. Сухачев Владимир Дмитриевич.
Тамара Васильевна поднялась следом. Предстоял разговор у прокурора. Вроде все уже обсуждено, согласовано, но вдруг Дядьков приготовил какую-нибудь неожиданность, вдруг у него новая версия? Но нет, на этот раз Дядьков был просто обескуражен, растерян. Слишком уж он уверовал в свою неуязвимость и такого шага от следователя не ожидал.
Вот что об этом разговоре с Дядьковым рассказал Владимир Дмитриевич:
— Наша работа позволяет видеть людей далеко не в самые светлые их дни, не в самом веселом состоянии духа. Но вот на что обращаешь внимание — большинство, несмотря на драматические обстоятельства, все-таки сохраняют достоинство. С Дядьковым же произошло столь неожиданное превращение... Право же, за многие годы работы мне едва ли приходилось сталкиваться с чем-то подобным. Минуту назад это был нагловатый, бесцеремонный человек, который почему-то уверовал в собственную безнаказанность, — некоторым должность дает такое ощущение. Он с пренебрежением разговаривает со следователем, не каждый вопрос услышит, не на каждый ответить соблаговолит. Но вот знакомится с постановлением, из которого явствует, что отсюда, из прокуратуры, он под конвоем отправится в изолятор. И куда все делось! Дядьков готов падать на колени, он просит, плачет, обещает все, что можно обещать и чего обещать нельзя. Заметьте, я говорю все это без преувеличения. Если до этого у меня были какие-то сомнения в его виновности, если мы с Тамарой Васильевной не один раз прикидывали обстоятельства, чтобы, не дай бог, не ошибиться, то теперь мои сомнения рассеялись: Дядьков неожиданно предстал предельно бесчестным человеком. И это был такой контраст с тем, что было минуту назад, что я просто поразился. И подумал про себя: может ли такой человек совершить преступление? Может. Может солгать? Может. Может уничтожить следы преступления, чтобы уйти от ответственности? Может. Пойдет ли он на уговоры, подкуп, шантаж, угрозы? Пойдет. Знаете, наверно, в этом есть какая-то закономерность. Хам и наглец с оборотной стороны часто оказывается лишенным всякого человеческого достоинства. Очевидно, стремлением унизить ближнего он берет какой-то реванш за свою угодливую сущность. Я так понял этого человека. Конечно же, ни о какой отмене постановления не могло быть и речи.
НАСТУПЛЕНИЕ
Итак, Дядьков изолирован и лишен возможности влиять на ход следствия. Теперь можно всерьез взяться за анализ его последней версии. Опорный довод — камни в кювете. Дядьков поминал эти камни в каждом своем заявлении, а написал он их не один десяток.
И Тамара Васильевна вновь выезжает на место происшествия. Осматривает кювет, асфальтовую дорожку, ближайшие сосны. Поднимает несколько камней — под ними еще зеленая трава. А в конце апреля, когда случилось несчастье, травы-то не было. Следовательно, камни в кювете появились после того, как выросла трава. Глазова составляет протокол, его подписывают понятые.
Не останавливаясь на этом, Тамара Васильевна находит школу, ученики которой тридцатого апреля, перед майскими праздниками, проводили уборку в районе железнодорожной платформы. Учительница и десятиклассники дают показания, что на этом участке не было никаких камней, обломков кирпичей и даже бумажек. Составляется протокол.
Камни отпали.
Глазова вызывает отца погибшего мальчика, Николая Железнова, чтобы выяснить, не осталось ли что-либо из одежды, которая была на Павлике тридцатого апреля.
— Это очень важно, — напоминает Тамара Васильевна. — Постарайтесь припомнить, Николай. Может пригодиться любая мелочь.
— Пальто и коляска пропали еще в больнице, — задумчиво отвечает Николай. — А ботиночки остались, шапка вязаная, брюки... Вот, пожалуй, и все. Разве что игрушки — ведерко, лопатка...
— Игрушки были в руках у Павлика?
— Ведерко жена несла, лопатка, кажется, у меня...
— Нет, игрушки не надо. А вот остальное понадобится. Будем приобщать к делу.
Все эти вещи Глазова направляет на экспертизу. И ставит вопросы: имеются ли на шерстяной шапочке, брюках нарушения ворса? Если есть, то в каком месте, какого характера нарушения, какой формы? Имеется ли лакокрасочное вещество или частицы резины на этих вещах? Если имеются, то совпадает ли их родовая принадлежность с лакокрасочным покрытием и резиной на покрышке левого колеса машины «Жигули» 84-34?
Через несколько дней пришел ответ. На детской шапочке Павлика Железнова обнаружен след в виде сглаженности ворса. Такой след, уточняют эксперты, мог образоваться от кратковременного, но сильного контакта с твердым округлым предметом.
Далее следователь назначает металловедческую экспертизу и выносит на рассмотрение вопросы: является ли нарушение металла на переднем бампере сбоем или же это коррозия? Определить причину образования сбоя металла около левого подфарника. Как могла образоваться вмятина на левом колпаке колеса, учитывая обстоятельства дела?
Вывод эксперта: задир металла на поверхности бампера образован при контакте с острым металлическим предметом. Судя по обстоятельствам дела, это могла быть детская коляска.
Ответ из трассологической лаборатории: вмятина на колпаке колеса автомобиля образована частью человеческого тела. Судя по обстоятельствам дела, это могла быть голова ребенка.
Акт судебно-медицинского исследования: смерть наступила от сильного ушиба головного мозга. Повреждения, обнаруженные на теле ребенка при падении из коляски в кювет, исключаются, даже если в кювете находились твердые предметы. Вывод подтверждается грубым характером повреждений костей черепа, которые в этом возрасте отличаются особой мягкостью. Невозможность возникновения подобных травм при падении ребенка из коляски в кювет в условиях происшествия позволяет сделать вывод, что обширный кровоподтек правой половины головы, перелом костей правой половины свода и полный поперечный перелом основания черепа произошли от удара деталью движущегося с большой скоростью автомобиля.
Это были уже не предположения, нет, в деле появились заключения, в которых вещи недвусмысленно названы своими именами: был наезд, был удар, было преступление. И теперь все разговоры о том, что, дескать, отец мальчика дернул коляску и поэтому малыш выпал, что машина съехала в кювет, никого не зацепив, все эти утверждения потеряли всякий смысл.
Невероятно подробные показания дала свидетельница Воробьева. Она уверенно сказала, сколько было в машине мужчин, сколько женщин, подробно описала, во что каждая была одета, с какой стороны выскочила, в какую сторону направилась. Когда кое-кто усомнился было в ее показаниях, Воробьева предложила проверить, есть ли у светловолосой девушки зеленое платье с желтой отделкой, есть ли у толстушки серый свитер с высоким воротником, есть ли у черноволосой с короткой стрижкой синие джинсы с этикеткой на заднем кармане. Проверять не пришлось — девушки подтвердили, что эти вещи у них есть и действительно в тот вечер они были одеты, как описала Воробьева.
Следователю оставалось только развести руками. Такая наблюдательность встречается нечасто. А когда она сказала об этом Воробьевой, та еще показала на схеме, в каком месте машина пересекла осевую линию, под каким углом, в каком положении стояла в кювете.
— А что касается коляски, — заметила эта женщина, — то могу поклясться, что у нее был сорван левый подлокотник из желтой пластмассы, смят правый бок и слегка повреждена спинка.
Когда Глазова рассказала об этих показаниях Железновым, отец мальчика, не говоря ни слова, пошел домой и принес этот самый желтый подлокотник, о котором говорила Вера Павловна Воробьева. Подлокотник был сорван во время наезда, и его подобрали вместе с детским ведерком и лопаткой. Николай Железнов, оказывается, недооценивал значение этой детали для дела.
ПСИХИЧЕСКАЯ АТАКА
Дядьков, ознакомившись с заключением экспертов, заметно поскучнел. Но ненадолго. Он изменил тактику — писал бесконечные жалобы, в которых оспаривал правильность процессуальной стороны дела, подвергая сомнению показания свидетелей, правомочность тех или иных действий следователя, настаивал на том, что его содержат под стражей незаконно.
Дальнейшее поведение его можно назвать, наверное, психической атакой. Находясь в предварительном заключении, Дядьков и не думал сдаваться. Качество, надо признать, весьма достойное. За ним хочется видеть силу характера, уверенность в собственной невиновности, готовность дать бой обстоятельствам.
Однако, вдумываясь в сложившееся положение, приходишь к выводу, что за настойчивостью Дядькова стояла скорее ограниченность, неспособность понять силу объективных доказательств. Без конца вспоминая тот злополучный вечер, перебирая мельчайшие детали, сопоставляя слова, поступки, он убедил себя, что если наезд действительно был, то вины его, Дядькова, в том нет. Виноваты девушки и приятели. Он вспомнил, что не хотел с ними ехать, что не хотел пить в тот вечер, но его уговорили, не хотел брать машину, но Бармичев сам предложил...
И еще — он озлобился. Тоже, в общем-то, качество натуры слабой, поверхностной, тщеславной. Все происходящее он стал воспринимать как стремление наказать его во что бы то ни стало, чтоб другим неповадно было. Не доверяя никому, он рассылал жалобы одного и того же содержания в различные надзорные и прокурорские инстанции. Их проверяли, убеждались, что все делается в строгом соблюдении законности, и отправляли Глазовой. Не в состоянии опровергнуть показания свидетелей, заключения экспертов, Дядьков ставил вопросы, не имеющие никакого отношения к существу дела. Например, через своих друзей Дядьков вызнал, что в поликлинике, куда доставили ребенка, Николай Железнов, находясь в полубессознательном состоянии, сказал в приемном покое, что мальчика сшибла не машина, а мотоцикл. Оговорился. И этого было вполне достаточно для десятка заявлений Дядькова, в которых он требовал дополнительного расследования, каким видом транспорта сбита коляска.
Но основной его тезис — наезда не было. Отец, видите ли, неосторожно дернул коляску, мальчик выпал, ударился и погиб. И в своих жалобах Дядьков писал не иначе как «отец — убийца своего ребенка», «родители убили своего сына», «они сами убили своего сына, а теперь стараются все свалить на меня и разбить мою молодую семью». Кстати, семья у Дядькова действительно молодая, прежнюю он бросил. Да только и с новой не собирался жизнь коротать, судя по составу пассажиров в машине тем вечером.
Попытался Дядьков из изолятора повлиять на ход событий. Вот какую записку передает он своей жене: «Срочно сходи к Железновым, поговори, выясни, чего хотят. Сына им все равно не вернуть, а от денег не откажутся. Спроси, сколько нужно, чтобы замолчали и взяли свои обвинения назад. Особенно не скупись, но и меру знай. Сотню, вторую можешь предложить. Налегай на то, что меня им все равно не посадить, доказательств нет, а сами вообще с носом могут остаться».
Из показаний Надежды Железновой, матери Павлика:
«К нам приходила женщина, которая назвалась женой Дядькова. Она предложила деньги, чтобы замять дело. Когда мы отказались и вообще не стали разговаривать с ней на эту тему, она начала кричать на нас и заявила, что, когда ее мужа отпустят на свободу, он нам еще покажет».
Что получается — жил человек, вроде нормальный человек, работал, серьезное положение занял на производстве, в обществе. И вдруг происходит событие, которое не укладывается в привычные рамки. Оно как бы испытало его на духовную зрелость. И оказалось, что весь его образ жизни, взаимоотношения с людьми, даже вкусы, слабости — все было если и не преступным, то где-то на полпути к этому.
Вроде бы и шалости достаточно невинны — взял у соседа машину, пообещав помочь с ремонтом, когда надобность возникнет. Поступок не из красивых, но понять можно. От жены с ребенком ушел? Что ж, возможно, любовь душу обуяла, куда деваться... Но, оказывается, не очень-то и обуяла. Подвернулись девушки легкого нрава — и он уже везет компанию в лес, не забыв загрузить багажник необходимыми сопутствующими товарами. Нехорошо, конечно. Пожурить человека можно.
Но как легко забавное и шаловливое переходит в оговоры, подкуп, угрозы!
СУД
На суде обвинение поддерживала прокурор Тамара Георгиевна Белолипецкая. Вот ее мнение о работе следователя:
— В ходе суда всегда чувствуется, когда дело начинает слегка «провисать», когда одними доказательствами следователь пытается прикрыть зыбкость, неубедительность других. Не найдя прямого свидетеля, он восполняет это тем, что допрашивает десяток косвенных, а то и вовсе делает допущение, ничем его не подкрепляя. В нашей работе это явный брак. У Глазовой дело обычно подготовлено так, что вопрос о надежности доказательств не возникает, они как бы цепляются одно за другое, поддерживают и объясняют друг друга. Иногда возникает ощущение, что то или иное доказательство вроде бы и не имеет прямого отношения к делу, кажется незначительным, но, когда все они на твоих глазах выстраиваются в одну неразрывную цепь, начинаешь понимать, какая кропотливая работа проведена. Ни одного пробела, не оставлен без внимания ни один довод обвиняемого. Судьям, прокурорам знаком холодок в душе, когда вдруг видишь, что в деле нет надежных доказательств, — преступник уничтожил явные следы, подогнал нужную документацию, «обработал» свидетелей и, казалось бы, обеспечил себе неуязвимость. И вот Тамара Васильевна берет такое «глухое» дело и, не торопясь, принимается за работу. И находятся свидетели, которых ранее почему-то недооценивали или не догадались задать им нужные вопросы. Находятся детали, требующие уточнения, появляются заключения экспертиз, которые проясняют картину преступления и дают эти самые доказательства. И мы видим, что преступник, несмотря на все свои усилия, так и не смог уничтожить следы. Тот же Дядьков, как бойко начинал, сколько было гонору, не всегда находил время на вопросы ответить. А закончилось тем, что он смирено попросил суд о снисхождении.
Во время последних допросов приятельницы Дядькова готовы были в мельчайших деталях описать весь вечер тридцатого апреля, но заставить их выступить с этими показаниями на суде оказалось невозможным делом. Путаясь, краснея и бледнея, пряча глаза, они на судебном заседании несли ту самую чушь, с которой начали в первых своих показаниях.
— Да вы же чуть не сшибли меня с ног, когда я шла с мальчиком на руках! — не выдержав, воскликнула мать Павлика Железнова.
— Нет, мы ничего не видели, — упрямо повторяет Кузькина.
— Но вот подписанные вами показания, в которых вы рассказываете о том, как сговорились в лесу выгородить Дядькова, — напоминает ей судья.
Кузькина молчит. На ее лице можно прочитать только одно: скорей бы все кончилось, чтобы спрятаться от этих вопросов, от людских глаз, от насмешливого гула за спиной.
Наверно, лишь на суде с этими девушками поговорили всерьез о них же, задали прямые вопросы, заставили задуматься над прямыми ответами. До этого они как-то обходились легковесными шуточками, необязательными обещаниями, ничему не придавая слишком большого значения, готовые посмеяться над чем угодно.
Да, они оказались всего лишь в роли свидетельниц, но высказать свое мнение о них суд счел необходимым. Причем речь шла не об их жизни до наезда. Суд больше интересовала чехарда с показаниями, настойчивые попытки уберечь преступника от наказания. Было интересно узнать, что стоит за всем этим, какие такие убеждения?
Оказывается, ничего за этим не стоит. Пустота. Когда судья произносила слово «убеждения», девушки стыдливо хмыкали, словно им предлагали примерить королевские наряды. Дескать, не про нашу честь, мы люди простые, убеждения нам ни к чему, нас вот в машину пригласили, угощение посулили — оно и спасибо, мы и рады, много ли нам надо...
Время от времени в газетах, публикующих различные курьезы вроде сообщений о появлении двухголового теленка, о девочке, выросшей в волчьем логове, можно встретить описание странного состояния, в которое впадает некий житель дальней или ближней страны. Он словно бы спит и не спит, он дышит, живет, ему вводят пищу, он отправляет естественные надобности. Возможно, он слышит голоса, доносящиеся из мира, который проносится над ним, может быть, в этом мире ему что-то дорого, он переживает, страдает — там, за порогом сознания. Может быть. Проходят годы и десятилетия, проходит жизнь. Человек стареет, дряхлеет и наконец умирает, так и не придя в сознание.
Подобные случаи довольно редки, уж коли о них пишут как о курьезах. Чаще происходит другое — человек в полном здравии сознательно ограждает себя от всех волнений, которыми живет окружающий мир, которые приносит совесть. И в этом ненормальном, в общем-то, состоянии он существует и, не приходя в сознание, благополучно стареет, так и не узнав до конца, чем жил мир вокруг него...
В отношении девушек суд принял частное определение, дал свое толкование их образу жизни. Надо же, потребовалось такое печальное событие, чтобы убедиться — вековечные ценности человеческие не отменены. И поныне совесть, честность, искренность остаются в силе. Казалось, такие заезженные понятия, а когда всерьез — выше-то и нет ничего. И при ближайшем рассмотрении выясняется, что машины, ночные шоссе, вседозволенность и гроша ломаного не стоят. Если, конечно, всерьез. А ведь было — во всем этом смысл виделся, истина просматривалась, душа рвалась вслед за каждой легковушкой...
Да, нянечка из местной больницы. Вот она спохватилась. Честно и откровенно признала свои ошибки и заблуждения, как она выразилась. Ее подвела, как ни странно, доброжелательность. Просит человек — надо уважить. Этим часто не прочь воспользоваться ловкачи и пройдохи. Но когда дело до суда дошло и весь городок узнал детали происшествия, когда уж малыша схоронили, поняла старушка, чего натворила. Покаялась прилюдно и тем грех с души сняла.
ПРИГОВОР
Дядьков Борис Иванович был признан виновным по двум статьям: 127-я, часть II и 211-я, часть II. Вот эти статьи:
127-я, часть II. Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии и лишенного возможности принять меры по малолетству, старости, болезни или вообще вследствие своей беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать потерпевшему помощь и был обязан иметь о нем заботу, либо сам поставил его в опасное для жизни состояние, наказывается лишением свободы на срок до двух лет или исправительными работами на срок до одного года.
211-я, часть II. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, повлекшее смерть потерпевшего или причинение ему тяжкого телесного повреждения, наказывается лишением свободы на срок до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до пяти лет или без такового.
По первой из этих статей Дядьков был приговорен к двум годам лишения свободы, по второй — к восьми с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии общего режима. В соответствии со статьей 40 УК РСФСР окончательная мера наказания по совокупности (поглощением менее строгого наказания более строгим) определена в восемь лет лишения свободы и запрещением управлять автотранспортом в течение трех лет.
Остается только добавить, что через некоторое время в народный суд пришло извещение о том, что осужденный Дядьков Борис Иванович прибыл в исправительно-трудовую колонию общего режима отбывать наказание. Далее шел адрес учреждения, его номер и подпись начальника.
Вот и все.
И — НОВАЯ ЖИЗНЬ
Тамара Васильевна Глазова сидит за небольшим однотумбовым столом в своем маленьком кабинете, где, кроме стола, сейфа, двух стульев, нет ничего, да ничего больше и не поместится. Но кабинетик тоже достижение, поскольку не везде, не во всякой прокуратуре есть такие условия. Это заботами прокурора Владимира Дмитриевича Сухачева. Он же обеспечил всех следователей пишущими машинками, что тоже немаловажно.
Рядом с прокуратурой вокзал, газетные киоски, суета, а здесь — тишина и сосредоточенность. Тамара Васильевна задумчиво перебирает бумаги, вживаясь в новое дело. Именно вживаясь, потому что каждое следствие — это еще одна прожитая жизнь. С друзьями, недругами, с выяснением отношений куда более подробным, чем в настоящей жизни. Если там допустимы недомолвки, тайные обиды, молчаливое прощение, то здесь, в следствии, все должно быть выяснено до конца, до последнего душевного порыва.
Но вот отшумели, отошли в прошлое людские страсти, боли, страдания, обман и ненависть, все отошло. И начинается новая жизнь, не менее сложная, запутанная, где тебе предстоит все назвать своими именами, расставить по местам, всему найти объяснение.
На столе новая папочка, в ней всего несколько листочков. Пройдет время, и она вырастет до толстого тома, а то и до нескольких, и сколько же людей пройдет через этот кабинетик, сколько жизней выплеснется на голубенькие бланки протоколов!
— Я устала от этого дела, — говорит Тамара Васильевна. — Не от его сложности или запутанности. Оно оказалось довольно редким по психологической напряженности. Прикиньте, сколько людей подключил Дядьков, чтобы изменить картину преступления! А похищение коляски, эти булыжники в кювете! Подкуп, попытки отделаться двумя сотнями рублей, эти девицы... И пройти через все это, через правду и ложь каждого, через их опасения, истерики... Тяжело. — Она положила руку на тощую коричневую папочку — новое дело.
Сколько всем нам каждый день приходится видеть всякого, сколько мы переживаем встреч, событий, происшествий, но нередко проходят годы, прежде чем мы правильно поймем услышанное когда-то слово, запомнившийся взгляд, замеченное нами молчание или многословие. А здесь оценивать событие, собственное смутное подозрение, сомнение нужно немедленно, на месте или, может быть, лучше сказать, не сходя с места происшествия. А это ох как непросто, если учесть, что за твоим решением, за твоей оценкой — человек, его судьба.
— Знаете, как бывает, — говорит Тамара Васильевна. — Все вроде в деле уже есть. Свидетели дали показания, обвиняемый признался в совершенном преступлении, подшиты заключения экспертов, должным образом освещены и поданы вещественные доказательства... А как-нибудь вечером, когда опустеют наши коридоры, затихнут голоса, перестук машинок, хлопанье дверей, листаешь, листаешь дело, и охватывает неудовлетворенность, что ли... И не могу понять, чего же не хватает? Ощущение потери. Будто не все возможности использованы. Наверно, это происходит оттого, что хочется придать делу убедительность не только для суда, но и для самого обвиняемого. Запираешь дело в сейф и словно запираешь все голоса, звучавшие с каждой страницы, запираешь фотографии, изученные до того, что кажется, они вот-вот оживут перед твоими глазами. Приходишь домой, а голоса звучат, бойкие, робкие, запинающиеся. И истерики, случившиеся в твоем кабинете, все еще продолжаются, и обвинения, угрозы, жалобы... Вслушиваешься в эту разноголосицу, пытаясь понять, почему доказательства не смыкаются. Почему противоречат друг другу свидетели? Почему события не выстраиваются в одну логическую цепочку, которая бы полностью охватывала не только само преступление, но и роль каждого в нем? Листаешь страницы, натыкаешься на самые разные показания и в этот момент буквально слышишь, как тот, другой свидетель, соучастник успевает еще раз выкрикнуть свое, пока его страничка не перекроется следующей... И наконец как толчок — тебя охватывает счастливое ощущение находки, прозрения. Вот оно! Вот то место, та фраза, та цифра, та запятая, которая замкнет цепь, и сразу все станет на свои места, и никто не сможет опровергнуть, да что там опровергнуть — усомниться не сможет ни в одном твоем выводе. Вот человек уклонился от ответа. Вот скомкал показания. Вот эксперт упустил важную деталь. Вот обвиняемый слукавил. Вот слова, которые все объясняют! — Тамара Васильевна смущенно проводит рукой по лицу, улыбается.
Уточним: следователь прокуратуры — это особая статья. По закону он занимается расследованием тяжких преступлений: убийства, насилия, крупные хищения. Будни следователя — это экспертизы, вскрытия, очные ставки, допросы, постоянные встречи с худшими представителями рода человеческого. И каждого необходимо понять, причем настолько хорошо, чтобы можно было судить о его поступках, о его виновности. В самом деле тяжело. Человеку слабому, лишенному твердых жизненных убеждений, нетрудно распространить свои наблюдения гораздо дальше, нежели это допустимо. Можно попросту устать от этой изматывающей работы, сделаться глухим к человеческим болям и радостям
Но Глазову эти беды миновали. Преступники не заслонили от нее остальное человечество, хотя ей приходится и поныне отдавать им немало сил и времени.
ОТ АВТОРА
Твоя жизнь. Твои надежды, заботы, общение с людьми.
Ты привыкаешь к ним и с трудом можешь вообразить себя в другом окружении. В другой жизни. Но, наверно, больше всего привыкаешь к самому себе. Настолько, что не в состоянии представить себя иным человеком. Да и можешь ли ты быть иным, не таким, которого знают все вокруг?
Твоя привычная жизнь — это еще и блага, льготы, предпочтения, которыми окружают тебя ближние. Есть и некие заслуги перед обществом, а почему бы и нет? От них тоже не откажешься, слишком нелегко они дались. Как далеко ты готов зайти, чтобы попытаться оставить все это при угрозе потерять? И вообще — ставишь ли перед собой цель: сохранить положение, должность, почет и уважение, сохранить, несмотря ни на что? Имеют ли для тебя какое-нибудь значение такие возвышенно-отвлеченные понятия, как порядочность, совесть, честь? Вызывают ли они в тебе что-нибудь, кроме снисходительной усмешки?
Эти вопросы тоже могут показаться возвышенно-отвлеченными, но дело в том, что частенько после того или иного события, даже после мимолетной нервотрепки ты невольно упираешься в эти вопросы, и дай тебе бог ответить на них так, чтобы не опростоволоситься на веки вечные.
Кто может сказать, каким ты окажешься по ту сторону события?
Да, произошло, например, событие, перевернувшее твою жизнь. Хватит ли в тебе силы духа, твердости, чтобы остаться самим собой и не разрушить о себе впечатление, которое создавалось годами? Хватит ли тебе жертвенности — часто требуется именно это, — чтобы оставаться самим собой...
Не получится ли так, что событие и покажет, каков ты есть на самом деле? Возможно, твои привычки, шуточки, даже люди, которыми ты себя окружил, все наносное, ненастоящее, искусственно созданное тобой, чтобы легче, приятнее шлось по жизни?
Что же делает событие? Меняет тебя, мнет, корежит? Превращает в нечто чуждое тебе самому? Или сдирает шелуху, маскирующую нутро, которое ты предпочитаешь не показывать при ярком свете? А может быть, всего понемножку? Неужели твоя суть настолько зыбка и непрочна, что событие легко меняет тебя и никто не сможет предсказать, каков ты окажешься по ту сторону события, в какую нравственную глушь заведет тебя чувство самосохранения?
Нет, сколь бы драматичным ни было событие, вряд ли ему дано вот так круто и необратимо изменить человека. Неожиданность может толкнуть на необдуманный шаг, на некрасивый поступок. Но преобразить человека, сделать из него подлеца... Нет.
Оглавление
И ЗАПЕЛА СВИРЕЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ГОЛОСОМ...
Роман
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ТАЙФУН
Повесть
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Глава шестая
Глава седьмая
Глава восьмая
Глава девятая
Глава десятая
Глава одиннадцатая
Глава двенадцатая
Глава тринадцатая
Глава четырнадцатая
НЕ ПРИХОДЯ В СОЗНАНИЕ
Документальная повесть
НАЕЗД
СГОВОР
СВИДЕТЕЛИ
СЛЕДОВАТЕЛЬ
ДОПРОС
ОСМОТР
ОБВИНЯЕМЫЙ
ОПОЗНАНИЕ
ПОДЛОГ
ДЕВИЦЫ-КРАСАВИЦЫ
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ
ДЯДЬКОВ
ПРОКУРОР
НАСТУПЛЕНИЕ
ПСИХИЧЕСКАЯ АТАКА
СУД
ПРИГОВОР
И — НОВАЯ ЖИЗНЬ
ОТ АВТОРА


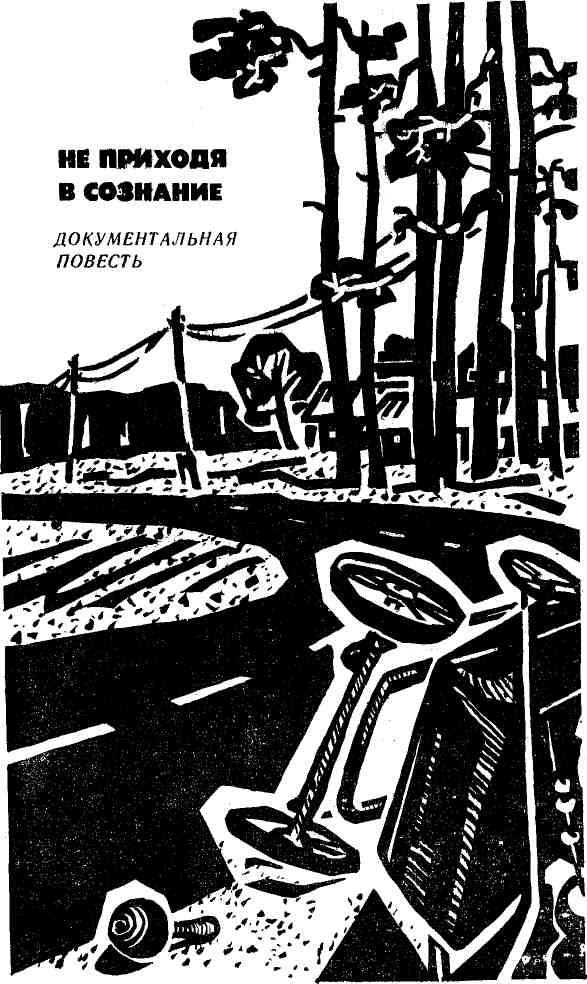
Последние комментарии
1 день 18 часов назад
1 день 23 часов назад
2 дней 59 минут назад
2 дней 2 часов назад
2 дней 3 часов назад
2 дней 4 часов назад