Жигалов и Балатон. Последний удар «пантеры» [Владимир Петрович Малахов] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Владимир Малахов Жигалов и Балатон. Последний удар "пантеры"

От автора
В те времена, это 1978 год, когда я начинал свою трудовую деятельность, в коллективе АТП было шестьдесят семь фронтовиков. С виду обычные люди – шофера, трактористы, строители, но когда общаешься каждый день, то начинаешь замечать в этом человеке стальной стержень, волю несгибаемую. Эти люди все в жизни делали до тех пор, пока «ноги держат». Для меня это особая каста людей, которые не прощали обмана, были жестоки с подлостью, ценили настоящую дружбу. Если пообещал, то сделал, а не сделаешь не обещай. Многие из них, имея четыре класса образования, отлично знали историю и географию, могли без измерительных приборов определить расстояние, размер, но самое главное они безошибочно разбирались в людях. Жадность и корысть видели сразу. Мне довелось среди них жить и работать, наблюдать за ними, впитывая их рассказы и воспоминания, хотя на них они были скупы. Мало кого из них приглашали на митинги или пионерские сборы, с трибун они не вступали, а ведь имели боевые ордена, видимо тогда не совсем соответствовали образу героя. Вот им – настоящим трудягам войны, я посвящаю свою повесть.ЖИГАЛОВ
Участковый Жигалов служил в милиции уже восемнадцать лет. Работу свою любил и, как ему казалось, знал. Знал он и весь свой непростой участок. Городок был небольшой и делился надвое железной дорогой, и когда начальство нарезало наделы участковым, то все оказалось просто: Эта сторона и Та сторона. На Той стороне участковым был давний приятель Жигалова – Мишка Капацевич. Это была в основном жилая зона, еще пара предприятий и организаций – крупных да с десяток мелких. Зато на Этой стороне находились абсолютно все административные учреждения – райком, райисполком, больница, парк, стадион, школа, гордость городка – огромный элеватор. Даже железнодорожный вокзал и тот находился на Этой стороне. Поэтому Жигалов всегда смотрел на Мишку с легким снисхождением, хотя они были в одном звании и одного возраста. Судьбу Жигалова в свое время решил военкомат, определив его служить во внутренние войска. Пока его сверстники прыгали с парашютом, водили танки, пускали и ловили ракеты, заносили хвосты самолетам – Ваня Жигалов охранял зэков в одном из лагерей на севере Иркутской области. Служил исправно, ему даже предоставили десять суток отпуска с выездом на родину. Он отказался, сказав командиру: «А можно я на дембель на десять дней раньше пойду»? Командир его понял и согласился, в то время, когда треть страны отсидела, у другой трети кто-нибудь из родных сидел, в поездах в форме внутренних войск ехать было небезопасно. Кстати, и слово свое командир сдержал, отпустил на десять дней раньше. Так, весной шестьдесят восьмого, отслужив три года, в гражданской одежде, великолепно зная блатной жаргон, Жигалов ступил на привокзальную площадь городка. Уголовный элемент в то время, надо сказать, присутствовал значительно. Ошивались они в основном в людных местах: около базаров, в парках, в кустах около вокзалов. Занимались в основном мелким грабежом – гоп-стопом, сшибали по мелочи: то рубль, то два, то копейки у кого-то отнимут, бывало шапки с людей снимали, перчатки, часы. Милиция, конечно, с ними боролась, но с переменным успехом: отловят, посадят, а тут, смотришь, двое других с зоны вернулись – и пошло всё снова да ладом. Грабили большей частью жителей множества сел и деревень, которым обойти городок стороной никак не получалось. Путь от автостанции до железнодорожного вокзала – вот этот участок был настоящей военной тропой. Нет, если, скажем, ты с семьей или возраста немолодого, то тебя никто не тронет, а наоборот, вежливо подскажут, как пройти и где найти. Демобилизованный Ваня Жигалов, с его короткой стрижкой и в костюме с чужого плеча идеально подходил под нужную категорию. Поэтому, только ступив на почти родную землю, он тут же попал в объятия местной братвы. Дорогу преградили четверо: – А ну-ка тормози, фраерок! Часики у тебя знатные, разреши полюбопытствовать? Сердце Ивана ускоренно заработало: «В чемодане форма солдатская с погонами внутренних войск, если грабить будут, то и ножом в бок получить можно. С другой стороны, серьезные уголовники этим заниматься не будут». Чуть прищурив глаз и добавив металла в голосе, Иван решил пойти ва-банк: – Вы че, бакланы в натуре, масть попутали! Бельма разуйте, с кем базарите? Уголовники насторожились. Разговаривать с ними так мог либо человек, который не дружит с головой, либо занимающий гораздо более высокое место в уголовном мире. Главный произнес: – Меня, если чё, Ганей кличут, а ты кто, обзовись! Какой масти будешь? Жигалов вспомнил дерзкого молодого зэка, которого не раз конвоировал в изолятор за нарушение режима: – Я с Иркутлага, а масть моя – черная! Ладно, Ганя, позже встретимся, побазарим. И он не обманывал, они позже встретятся, ох, как встретятся. – А ты сейчас куда? Может чифирнем? – В мусарню, на учет вставать. Время я просрочил. И здесь Иван тоже не обманул, он действительно пошел в милицию, у него и раньше была задумка поступить на службу, а теперь он понял, что у него одна дорога. Шел, ненавидя себя: «Почему не дал отпор, не ввязался в драку? Да и вообще, непонятно: отслужил три года или срок отмотал?» Дежурный в милиции, едва услышав зачем пришел этот коротко стриженный, сутуловатый паренек, сразу же куда-то позвонил и, взяв Ивана под руку, повел его к начальнику милиции Лопатину. – Это ты, парень, правильно решил! – широко улыбаясь, сказал дежурный. – Служить в милиции дело почетное и нужное. Лопатин, тоже посмотрев документы, был приветлив и очень доволен. Сказывалась нехватка кадров. – Давай, Иван Егорович, в военкомат! Два-три дня отдохнешь и ко мне. Отправим тебя на месяц на курсы – и в бой! Работы непочатый край. Жить есть где? – Да, мамка у меня здесь живет. Правда, еще не был по новому адресу ни разу. Иван пояснил: Призывался-то я из Павловки, пока три года служил, Павловка под укрупнение попала. Мамка писала, там сейчас одни развалины. – Да, уж! От твоей деревни камня на камне не осталось, – Лопатин призадумался. – Впрочем, камней там никогда и не было, одни саманухи, так что и жалеть-то особо нечего. – Все равно жалко, вырос я там. – Ладно, слюни не распускай, что сделано, то сделано. Ступай! Жду тебя через три дня, не придешь на четвертый – отправлю за тобой наряд, – пошутил Лопатин и добавил: Милиционер Жигалов Иван Егорович! Подойдя к дому, Иван увидел, как мамка складывала дрова. «За три года мать постарела», – подумал он. Она, глянув на сына, выронила дрова и бросилась ему на шею. – Счастье-то какое, счастье-то какое! Накрыла на стол, бутылочку поставила. Иван надел форму солдатскую, выпил стопку за приезд: – В милицию, мать, пойду служить. – Да ты хоть отдохни недельку-другую. – Некогда отдыхать, начальнику милиции Лопатину пообещал! А потом долго они сидели, разговаривали, Ваня что-то спрашивал, мать отвечала, изредка смахивала слезинку, любовалась, как сын ест: – Вот отец не дожил, порадовался бы. Отец умер, когда Ивану было десять лет. Зимой, работая на тракторе, сильно простудился. Наряд за Жигаловым отправлять не пришлось, засиживаться дома не было ни резону, ни желания, и на четвертый день он явился, как договаривались с Лопатиным. Получил направление в отделе кадров, отбыл в Барнаул на курсы подготовки милиционеров. Даже в те три дня, что он был дома, очень уж ему не хотелось встретиться с кем-нибудь из Ганиной шайки. Встретились они месяца через полтора, когда Жигалов, в хромовых сапогах, в галифе, перетянутый портупеей с пистолетом на боку, в составе опергруппы приехал брать эту шайку. На станции останавливалось много поездов из Алма-Аты, Ташкента, и блатные часто крутились около этих поездов. Сорвут шапку с зазевавшегося мужичка, часы отнимут, а у мужичка этого всегда дилемма: либо идти в милицию писать заявление, но при этом отстанешь от поезда, либо махнуть рукой и ехать дальше. В большинстве случаев выбирали второе. Или подъезжает поезд к станции. Курящие из купе выходят на улицу, а форточка открыта. Прошлись по перрону, ножки промяли, пивка выпили и поехали дальше. Глядь, а половины вещей то и нет. Шнырь уже поработал. А еще сетки с продуктами, висящие из форточек, срезали. В какой-нибудь сетке бутылочка лежит, для охлаждения. Действовали быстро, бегом, резали бритвой, никто толком понять ничего не успевал. При этом действовала железная формула: «А поезд-то ушел!» Но в этот раз сработали грубо и жестко. В форточку высунулся узбек в дорогой тюбетейке: – Какой станция? И тут же получил дубинкой по голове. Головной убор с узбека сбили, как сбивают высоко висящее яблоко с яблони, в результате тот потерял не только тюбетейку, но и четыре зуба. «Вот баран, – подумал потом Жигалов, – на здании вокзала написано же какая станция». Узбека с поезда сняли, повезли в больницу, а хлопцы попали – это уже серьезно. Из Барнаула приехали опера из транспортной милиции, отдел подняли по тревоге и пошло-понеслось – Ганя, Цыпа, Пупа, Ботинок, Гребень и еще десятка полтора разномастной шушеры оказались в отделе, облава по горячим следам удалась. Вокзал почистили тогда хорошо. Ганя, конечно же, узнал Жигалова: – О! гражданин начальник… А в ответ услышал: – Закрой хайло, сявка, гавкать будешь из-под шконки, а шконка будет около параши стоять, – и еще добавил такую тираду, что пожилой видавший виды барнаульский опер Баширов удивленно произнес: – Молодой человек, вы где обучились такой фене? – На Иркутлаге, – ответил Жигалов и в полголоса добавил: Сукой буду! Вот здесь поднялся такой хохот, что прохожие дружно повернулись в их сторону. Начальник милиции Лопатин аж присел на корточки и вытирая слезы, выступившие от смеха, произнес: – Все, преступности конец, теперь у нас есть Жигалов! В одночасье Иван стал известной во всей милиции личностью. Начальник уголовного розыска звал его к себе: – Пока стажером, потом, глядишь, хороший опер из тебя выйдет! Но Жигалов свой путь уже наметил. Армейское звание – старший сержант, при поступлении в милицию ему сохранили. «Осенью поступлю в сельскохозяйственный техникум, заочно, через год получу старшину, а там глядишь и офицерские погоны не за горами», – выстраивал свои планы Иван. В жизни ему были симпатичны сильные, в его понимании, люди, до армии в деревне – это колхозный бригадир Павел Иванович – он все про всех в деревне знал. К нему все шли что-нибудь просить: кому огород вспахать, навоз отгрести, у этого корма закончились или сено. Если в деревне кто-нибудь помирал, сразу бежали: «Пал Иваныч, помоги!» Бригадир никому особенно не отказывал, ведь не со своего двора давал-то, но если кто напился да работу прогулял – все, привилегий не жди. Путь один: в ночь на трактор, землю пахать. Недельку попашешь, смотришь Пал Иваныч и отойдет, простит. Или к примеру: старшина роты, в которой служил Иван Жигалов, к тому и офицеры все на поклон шли, не говоря уже про солдат. А если сказал «Не дам», значит не даст. В каптёрке у него много чего было. Зэков-то, когда арестовывали, так в разных местах, кого в колхозе, а кого-то и в ресторане, да в дорогом костюме. У старшины везде свои люди были. Жигалов и сам в таком костюмчике домой на дембель приехал. А больше всего Жигалову нравился участковый Анискин из кинофильма «Деревенский детектив». Вот уж хозяин настоящий. Все двери ему открыты, везде почет и уважение. Меж тем время шло, и нехитрые планы Ивана Егоровича потихоньку реализовывались. И под Новый 1972 год он получил из рук начальника милиции Лопатина новенькие лейтенантские погоны. Лопатину нравился этот молодой энергичный милиционер, правда, грамотёшки не хватало и опыта маловато, но зато хватка была, как у волка. Если ухватит какую проблему, не отцепится, пока не решит по-своему. А недостатки свои Иван покрывал своим крестьянским умом. Начальник решил поставить его на участок. Так молодой лейтенант Жигалов стал участковым. Работе новой он отдавал всю свою энергию, работал от темна и до темна. Очень хотелось навести порядок, хотелось, чтобы про него люди говорили: «Ну, вот, хозяин Иван Егорович! Вот это хозяин!». Жигалов составил списки всех судимых, отдельно списки тех адресов, кто хоть раз обращался лично или звонил в милицию из-за семейных ссор. С утра обходил он свой участок, к примеру, сегодня одну улицу, завтра – другую и так далее. Составлял протоколы, брал объяснения, принимал заявления, опрашивал соседей. Последние всегда были словоохотливыми. Заходил в различные организации, просил списки прогульщиков и тех, кто любит выпить. Особенно охотно с ним сотрудничали председатели профкомов и рабочкомов. Они приглашали его на собрания и заседания, где отчитывали всякий нерадивый элемент. Там Иван Егорович оттачивал свое ораторское мастерство. Однажды, зайдя в школу, он увидел, как дети снимают устаревшую стенгазету. Попросил пионервожатую подарить ему использованный ватман. Пришел в свой опорный пункт и, расстелив ватман на столе оборотной стороной, начал рисовать карту своего участка. Рисовал долго, но зато подробно. С утра сходит, осмотрит улицу, запомнит все подробности, потом, придя в кабинет, нанесет все, что запомнил, на бумагу. Вплоть до колдобин и стихийных свалок. Лопатину жаловалась начальник детской комнаты милиции Сартакова: – Лезет в мою работу, ходит по школам, беседы с детьми, понимаете ли, проводит! Дети – это мое! – Что скажешь Иван Егорович? – спросил Лопатин и явно для виду сделал строгое лицо. – Да, так-то оно так, товарищ майор, но только не совсем. Вот Людмила Васильевна говорит: «Дети – это мое», но это сегодня, а завтра им исполнится восемнадцать лет, и это уже будет мое и ваше, товарищ майор. Какими они подойдут к этой черте надо знать уже сегодня и по возможности исправлять. – Вот, Иван Егорович, это я бы сказал государственный подход, – Лопатин почему-то поднял руку и указал пальцем в потолок. – Вы что, товарищ Жигалов, хотите сказать, что наша служба плохо работает? – было видно, что Сартакова сейчас заплачет. – Да, нет, Людмила Васильевна, вы нормально работаете, мне не нравится, когда кто-нибудь из пацанов увлекается уголовной романтикой, вот их я и выявляю. И он выявлял. Смех сказать: переоденется в гражданскую одежду и идет вечером в парк на танцы. Только не танцевал там Жигалов, а встанет где-нибудь в темном месте, под кустиками и выглядывает самых буйных да дерзких. Записывает, выясняет кто да что, а потом через день другой вызывает к себе и рассказывает о тяготах и лишениях тюремной жизни. С подробностями, так часика на два. Вчерашние прыткие пулей вылетают из его кабинета с прижатыми ушами. С военкомом ходил договариваться не раз. Парня садить надо, а участковый его в армию. Оттуда приходит другим человеком: «Спасибо, Иван Егорович, если б не ты, пропал бы я!» Многие так говорили и до сих пор говорят. А годы шли. Иван женился, родился сын, дом перестроил, к великому горю своему мать похоронил, но главным делом считал свою работу. Он даже взял на себя функции инспектора ГАИ, конечно, на своем участке. Бывало, стоит машина, Жигалов подойдет: «Ваши документы, с какой целью вы тут стоите, куда едете?» Водители предъявляли документы, отвечали на вопросы. Так продолжалось, пока не напоролся на какого-то председателя колхоза. Тот, как и следовало ожидать, позвонил начальнику милиции, пожаловался. Лопатин разозлился не на шутку: – Иван! Ну что ты лезешь куда тебя не просят? Есть вон гаишники Рыжиков, Большунов – это их работа! То ты у Сартаковой кусок хлеба пытаешься отобрать, то транспортная милиция с вокзала на тебя жалуется, теперь до ГАИ добрался! – Товарищ подполковник, а вдруг на этой машине готовятся совершить преступление… – Иди работай, умник! Через два дня Жигалов оказался на другом конце городка, где стояла, как ее все звали, Шоферская чайная. Трасса проходила через городок, и в этой чайной проезжие водители обедали. И вот он видит такую картину: возле чайной стоит большая желтая бочка на колесах, на которой написано «Пиво». Подъезжают машины, шоферы выпивают, кто кружку, кто две, садятся за руль и едут дальше. «Да как же так? Что же это за бардак такой!», – подумал Жигалов, но припоминая недавний разнос, предпринимать ничего не стал. Зашел в кабинет заведующей, там был телефон. Хозяйку кабинета попросил выйти, сказав, что у него секретный разговор, та недовольно вышла, при этом ухом налегла на дверь так, что та жалобно скрипнула. Тетка была килограмм сто с лишним. – Алло, дежурный, Жигалов говорит, отправь гаишников к Шоферской чайной. Минут через двадцать подъехал инспектор Большунов на мотоцикле «Ковровец». – Ты чё звонил, Иван, авария что ли? – Какая авария, пиво вон видишь пьют. – Ааа, ну погоди! Большунов подошел к небольшой очереди. – Кто последний? – Инспектора без очереди, – зашумели шофёры. Большунов взял две кружки и отхлебывая из одной, подошел к Ивану протянул ему вторую: – Ну, так о чем ты говорил-то? Выражение лица у Жигалова было примерно такое же, как у Лжедмитрия, когда его предали польские шляхтичи. Постояв пару минут с таким выражением лица, он взял у Большунова кружку и спокойно стал пить. Пиво было действительно неплохое и притом прохладное. – Могу на спор забить, сейчас допиваем и садимся на мой драндулет, едем в больницу, находим врача, он намешивает свои пробирки, и? Большунов посмотрел на Ивана вопросительно. – И? – И экспертиза ничего не показывает, – ответил сам на свой вопрос инспектор, – если она не показывает у нас, почему она должна показать у них, – он указал взглядом на шофёров. – Ты все понял? А за то, что вызвал меня, молодец. Пивка попили. А вскоре произошел случай, который поставил окончательную точку в желании Жигалова взять под контроль автомобильное движение по территории вверенного ему участка. Была суббота. В опорный пункт милиции зашел коллега по соседнему участку Капацевич. Иван стоял, опершись руками на стол, на котором лежала карта, и делал какие-то пометки, красные и синие крестики. Что они обозначали, знал только он сам. – Иван, ты прям как Кутузов перед сражением, только глаз один выбить надо, – захихикал Мишка, – а у меня день рождения, – и запросто поставил на Иванову карту бутылку водки и положил два огурца. Жигалов сначала возмутился, но, подумав, сказал: – А, давай, суббота все ж таки! И, закрыв дверь изнутри, достал из сейфа стаканы. Выпили. Посидели часа два, и Мишка пошел по своим делам, а Иван вспомнил, что давно собирался навестить свою двоюродную тетку, которая жила на окраине. Дорога шла вдоль высокого забора у элеватора, по другой стороне были кусты и заросли лопуха. Был жаркий день. Вдали послышался треск мотоцикла. «Может, кто знакомый, довезет», – подумал Иван и стал вглядываться в подъезжающего мотоциклиста. На стареньком ИЖ-49 восседал огромный детина в рабочем комбинезоне. «Да он же пьяный! – подумал Жигалов, – и явно за водкой из деревни приезжал». – А ну, стой! Мотоциклист остановился. – Ваши права и документы на мотоцикл? – начал строжиться Иван. – Употребляли спиртное? – Да нет, не пил я, – детина выпрямился и оказался еще больше. – А документы забыл я дома. – Да у вас и номер государственный отсутствует, почему? – И, подумав, добавил: Будем изымать у вас транспортное средство, мотоцикл, значит. Детине эта идея, видимо, не понравилась. И дальше произошло то, что Жигалов не мог себе представить в самом страшном сне. Иван Егорович начал отстранять мотоциклиста от его боевого коня. Но детина как-то недобро посмотрел на Жигалова, огляделся по сторонам, вдруг повернулся и так врезал ему в ухо, что тот, крутнувшись волчком на одной ноге, улетел метров за пять в лопухи. Детина спокойно сел на своего ИЖа и укатил в неизвестном направлении. Иван еще минут пятнадцать лежал в лопухах, в голове его колокола выводили мелодию песни «Вечерний звон». Потом пришлось до темноты сидеть в кустах. Куда и как идти? Весь в грязи, в репьях. Первая мысль была бежать в милицию, поднимать всех по тревоге, но что-то подсказывало ему, что этого делать не надо. Обязательно будут вопросы, зачем остановил, зачем пытался отнять мотоцикл, почему сам с запашком? В общем, дождавшись темноты, Иван пошел домой. Неделю Жигалов мучился, не находил себе места: «Какой позор, это ж надо так, и пистолет как назло в дежурку сдал». Мотоциклист даже снился ему ночью, а днем, заслышав треск мотоцикла, Иван втягивал голову в плечи: «Эх! Если бы у меня в тот раза был бы с собой пистолет». Через неделю он не выдержал и все рассказал другу Капацевичу, и даже как-то полегчало, как вроде камень с души снял. Но Мишка оказался несусветным болтуном, и еще через неделю весь отдел милиции знал о Ванином позоре, особенно изгалялись дежурные и опера: – О, Иван, привет! Я слышал ты в ГАИ переводишься? Или еще хуже: – Жигалов, ты посмотри на своем участке, ориентировка пришла, разыскивается мотоциклист, вместо кулаков гири пудовые, ты такого не встречал? – при этом все ржали как табун лошадей. Длилось это примерно месяца два-три, столько же Иван не здоровался и не разговаривал с Мишкой Капацевичем. Потом они все же помирились: – Иван, не злись, ну что ты злишься? А помнишь, как у меня было-то? Жигалов вспомнил и не смог сдержать смех. Года четыре назад, по осени, Мишку вызвали успокаивать одного домашнего дебошира. Мишка на крыльцо, а ему двустволка в грудь: «Убью, суку!», Мишке ничего не оставалось делать кроме как спрятаться среди кустов картошки и уходить по-пластунски. Мужику это только добавило азарта, и он начал палить по картошке. Соседи вызвали подмогу. Мишка неделю ходил героем, рассказывал всем как картечь над головой свистела, а он восьмерками уползал из сектора обстрела. Потом следователи выяснили, что патроны у мужика были холостые – так порох и дым. И тут началось: – Михаил, ты что в субботу делаешь? Помоги картошку прополоть! – Ты знаешь, Иван, за что я Бога благодарю, за то, что, пистолета у меня с собой не было. Мужик в общем-то неплохой оказался, жена стерва. Срок ему, конечно, дали, но небольшой. Через полтора года по УДО вышел, трактористом в ПМК работает. А она через неделю, как его посадили, уже с другим жила, правда, когда этот освободился, тот от нее уже сбежал. Потом он вспомнил как городские транспортники облажались. Уголовники местные «подломили» железнодорожный магазин, опера туда было сунулись, а им: «Не лезьте! Не ваша земля». Приехала опергруппа: опера, следователи, эксперт, кинолог с собакой. Собака огромная, как теленок, и вот как только с нее намордник сняли, давай она эту опергруппу гонять. Представьте себе такую картину: вся опергруппа сидит на деревьях да на столбах, и собаковод хренов тоже на дереве сидит, а кобель внизу ветки деревьев в опилки перерабатывает. И тут подходит поезд. Остановился прямо напротив от центра событий, метрах в двадцати. Окна открыты. А тут еще громкоговоритель на столбе: «Стоянка поезда двадцать минут». Майор с порванными штанами с дерева кричит: – Сержант, уберите собаку! А тот в ответ: –Да он сейчас полчасика и успокоится! – Собака мне сразу не понравилась, – смеясь, сказал Жигалов. – А ты что, тоже там был? – А как же, это ж мой участок. – Издалека смотрел? –Нет, тоже на дереве сидел. И они опять начинали хохотать, забыв прежние обиды, ведь это были будни их милицейской жизни, которую они себе выбрали. А в жизни городка происходили перемены: он преображался, становился чище и наряднее. Исчезли последние бараки, а вместе с ними и свалки с помойками, их вечные спутники. Строилось много жилья, открыли новый Дом культуры, кинотеатр. Снесли старый базар, который Жигалов считал рассадником преступности, а на его месте возвели памятник героям войны. Даже не памятник, а целый комплекс. Ко всем этим переменам Иван Егорович чувствовал свою сопричастность. Столько бессонных ночей он провел в рейдах, сколько раз он пресекал хищение стройматериалов, так называемой социалистической собственности, сколько бесед провел с «несознательным элементом»… Причем с возбуждением уголовных дел участковый не торопился, понимал, что каждый отправленный в тюрьму – это горе для семьи, это детские слезы. Ну, бывало, умыкнул мужик со стройки рулон рубероида, Жигалов его так пропесочит, что у того при слове «рубероид» еще лет десять изжога начинается. Но не со всеми так поступал Иван Егорович, те, что терроризировали привокзальную зону, у него у самого были такой изжогой, что по ночам спать не мог. Судьей в городке в ту пору был Григорий Яковлевич Головачев – фронтовик, инвалид войны, человек настолько уважаемый всеми, что даже те, кто срок получил, говорили ему: «Спасибо, Григорий Яковлевич!» Все это потому, что поступал он строго по закону. За долгое время своего судейства он научился быть абсолютно беспристрастным. Встретил его Жигалов как-то на улице: – Здравствуйте, Григорий Яковлевич! – Здравствуй, Иван! Как дела? – Да, так, вроде все хорошо. Вот только блатные достали, сил нет. – Что, сильно достали? – Да это ж как гидра о семи головах, одну срубишь – две вырастет, – распалялся участковый, – один садится, другие освобождаются, годами нигде не работают, воруют по мелочи, да приезжих грабят, а заявления на них никто не пишет, вот они безнаказанностью и пользуются. А если кто и пишет, то обвиняемый один, а остальные свидетели и свидетельствуют они понятно в чью пользу. – Да, – призадумался Головачев, – а знаешь, Иван, эта братия появилась еще после войны. Люди меняются, а промысел воровской остается, от тех первых и в живых-то теперь никого не осталось. Они раньше вокруг базара крутились. – Базара того сейчас уже нет. – Вот и они должны исчезнуть как пережиток прошлого, – произнес Григорий Яковлевич. – Ты, Иван, зайди ко мне через недельку, подумаем вместе. Неделю ждать Жигалов не смог, не вытерпел, и уже на четвертый день пришел к судье. Тот его принял с улыбкой. – Ты, Иван, «Операцию Ы и другие приключения Шурика» смотрел? Жигалов утвердительно кивнул – Там, – продолжал судья, – момент есть, когда Шурик на стройке с верзилой работает. Жигалов опять кивнул. – Вот этот верзила и подскажет тебе, что надо делать. Иван Егорович даже обидеться успел на судью: «Он что, надо мной насмехается?» герой этого фильма, прямо скажем, отрицательный герой, очень напоминал Жигалову того мотоциклиста. Судья между тем продолжал, опустив очки на кончик носа и раскрыв Уголовный кодекс. – Ты, Иван, Уголовный кодекс читаешь? – Жигалов опять кивнул, – плохо читаешь. Весь твой контингент, а именно, мелкие хищения, кража, – перечислял Головачев, – грабеж, хулиганство заканчивается на двести шестой статье УК. Вот тут-то верзила тебе и говорит: «Мыслить надо ширше». – Что-то я вас не понимаю, Григорий Яковлевич, – обиженно произнес Жигалов. – А понимать не надо, – надо следующую страницу перевернуть, – Головачев ткнул пальцем в книгу, – статья двести девятая – тунеядство. Ты же сам сказал: «Годами нигде не работают», а советский человек имеет не только право на труд, но святую обязанность быть полезным обществу. А в противном случае ты тунеядец. – Как-то мне это даже в голову не пришло… – Ведь у тебя с этой братией почему всегда проблемы? – продолжал судья, – потому что они всегда на шаг впереди тебя идут, ты же не знаешь их следующий шаг, а они все твои действия на пять ходов вперед знают. Плюс сейчас в том, что их познания в части Уголовного кодекса тоже заканчиваются на двести шестой статье «Хулиганство», а про двести девятую «Тунеядство» они и слыхом не слыхивали. А закон есть закон и статья в нем такая есть. Головачев улыбнулся и продолжал: – Правда, за всю судебную практику по этой статье в нашем районе ни разу уголовное дело не возбуждали. Действуй, Иван Егорович. Собирай документы, чтоб комар носа не подточил, а как соберешь – приходи, – и подмигнул участковому. – Так, так, так, – Жигалов переваривал сказанное. – Я вас понял, Григорий Яковлевич, сделаю все в лучшей форме. – Да, Иван, – судья протянул руку, прощаясь, – гидре головы рубить надо все сразу, только тогда толк будет. Жигалов не сразу оценил, какой подарок сделал ему старый судья, а когда до него дошло, он начал, как говорится, «копытом землю рыть», как племенной жеребец на конезаводе. С утра запасался бланками нужных протоколов, справок, объяснений и уходил в народ, находил нужных людей, заводил с ними задушевные разговоры, как бы невзначай спрашивал: – А вы, почему на работу не устраиваетесь? А давайте протокольчик составим, – дескать, – не обижайтесь, – работа у меня такая, – а подпишитесь вот здесь. А сколько хитроумных ответов наслушался за это время участковый: – От работы кони дохнут, или а пусть работает железный паровоз, а особо дерзкие утверждали, что им по понятиям работать не положено. «Ничего, – думал Иван, – дайте только срок, будет вам и белка, будет и свисток. И паровоз вам будет, и кони, и трактор». А они подписывали, кайфуя от своей безнаказанности. О них опера не единожды зубы ломали, а тут какой-то участковый, даже не мент, а так – мильтон. И вот спустя три месяца внушительная папка с документами, успешно пройдя все необходимые инстанции, легла на такой же старый и мощный, как и его хозяин, стол судьи Григория Яковлевича Головачева. Он неторопливо принялся их изучать. Персоны, которые фигурировали в этих документах, его интересовали мало. Ему было важно убедиться правильно ли составлены протоколы, последовательны ли показания свидетелей. В общем, соблюдена ли законность. Ознакомившись и убедившись, в один прекрасный вечер, а засиживался на работе Григорий Яковлевич допоздна, он позвонил Жигалову: – Ну, что, Иван, хорошая работа. Завтра в прокуратуру, ты знаешь, что делать, а послезавтра берешь усиленный наряд, собираешь всех своих «друзей», пока они тепленькие с утреца, и часам к десяти привозишь ко мне, «венчать» будем. В назначенный срок Жигалов имел полный комплект фигурантов дел, о которых они пока еще не знали, уютно расположившись в стареньком милицейском автозаке. Кого-то на деле взяли ночью, других с постели подняли, кто-то побегать успел вместо физзарядки. Среди милиционеров тоже были люди, которые любили спорт, поэтому далеко убежать не получилось. – И что, все? – Жигалов поздоровался со старшим конвойной группы. – Все, Иван Егорович, минут через двадцать повезем. – Дай-ка я с ними пообщаюсь, слишком долго я с ними рука об руку шел, – Жигалов поднялся в тамбур «автозака». – Ну, что, козлы, допрыгались? Жулики начали бить ногами и кулаками по стенкам: – Ты чё, мусор, масть попутал? – Начальник, за базаром-то следи! За козла отвечать придется! – А я отвечу, –согласился Жигалов. – Да тихо, тихо. Кто там самый голосистый? Вот, например, мой старый «друг» Ганя, ты здесь? – Да, здесь, начальник, где ж мне еще быть-то? – Имел ты до этого три ходки, две за хулиганку и одну за грабеж. И по зоновским понятиям ты баклан, не более того, и быть тебе в лагере над шестерками начальником, не в авторитете, конечно, но хлеб с маслом обеспечен. Да вот только поедем сейчас мы не в любимую вами кэпэзэ, а прямиком в суд, где глубоко уважаемый всеми нами судья Григорий Яковлевич Головачев отмеряет вам срок по доселе вам неведомой статье «Тунеядство», и через два часа выйдете вы из зала суда чертями, зэками, лишенными всякого авторитета. Воцарилась гробовая тишина. Жигалов продолжал: – И на этапе спросят, и в лагере спросят: «Ты кто по жизни?», – и надо будет отвечать, а отвечать-то, что? В блатные дорога заказана, а мужики, я уверен, никого из вас к себе не определят. Остается один путь – «нацеплять лахмутину», то есть надевать на руку повязку красную и определяться в актив. Так что я вас правильно назвал, просто вы этого еще не поняли. После продолжительной паузы начались шушуканья, затем робкие возражения: – Начальник, неправильно это. – Это не по понятиям! – Григорий Яковлевич такого не позволит. – Может не надо, начальник? В эту минуту Жигалов сам себе очень нравился, он чувствовал себя на коне: – А пацанов деревенских, вызванных военкоматом, грабить, последние копейки отнимать, это по понятиям? Да и к тому же вы ведь сами все подписывали, и протоколы, и предупреждения, судья у нас справедливый, отмеряет всем по закону, те, кто ранее не судим, получат условный срок, но только дорога в зону с этой статьей будет закрыта. Из-за решетчатой двери повеяло грустью и тоской. – Иван Егорович, ну пошутили и хватит. – Начальник, ну, правда, не смешно уже. В этот момент все находящиеся в клетке «автозака» готовы были написать явку с повинной за последние десять лет и подписать документ о сотрудничестве на десять грядущих лет, но Жигалов был непреклонен. – Я с вами хочу поговорить о другом, как только закончится срок, вы сюда приезжать не торопитесь, обходите стороной, здесь я хозяин – Жигалов Иван Егорович, а в моем лице советская милиция, а в ее лице – советское государство наше. Вы здесь столько напоганили, что места вам здесь не будет! Все, физкульт-привет! Дело получилось шумным. Кто-то из задержанных даже пытался напасть на конвой, чтобы прикрыться более тяжкой статьей, но конвой был усиленный и давал крепкий, однако «деликатный» отпор. Лопатин цвел как первый подснежник: – Ай, да, Ваня! Переиграл! Ай, да шахматист, молодец! Буду ходатайствовать о присвоении очередного звания. А я на пенсию ухожу с чистой совестью перед людьми. И получил тогда Жигалов не только очередное звание, а еще и благодарность от начальника управления и новенький мотоцикл «Урал» желто-синего цвета, оборудованный сиреной и с надписью «Милиция» на боку.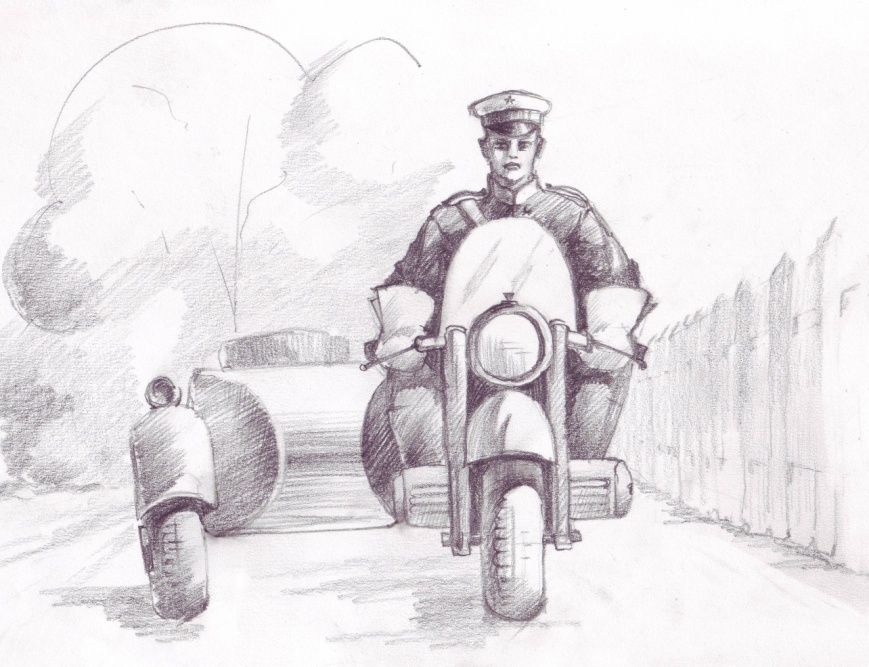 Иван Егорович чувствовал себя именинником, он шел по своему участку с высоко поднятой головой, как бы всем своим видом говоря: «Вот, люди, живите спокойно, потому что я за вас в ответе». Он прошел от вокзала до автостанции, все везде спокойно. Решил пройтись по парку, и на первой же скамейке наткнулся на пьяного деда Балатона, тот спал сидя, и что-то бормотал под нос. «Вот же, зараза, все настроение испортил, а какой хороший день был, – подумал Жигалов, – ну, ничего, мы и с этим как-нибудь управимся».
К парку участковый имел особое отношение, поскольку считал его чуть ли не святым местом. Люди гуляют семьями или мамаша молодая с коляской, а вот дети играют в мяч, парень с девушкой обнимаются. Все эти картины радовали глаз Ивана Егоровича. К пьянке же на территории парка он относился как к личному оскорблению. Все местные алкоголики об этом знали и предпочитали не злить Жигалова. Себе дороже!
Один только дед Балатон его ни во что не ставил, и длилось это почти с тех пор, когда Жигалов стал участковым. Справедливости ради нужно сказать, что Иван Егорович ни разу и не видел, чтобы тот употреблял спиртное, потому что водка, стакан и закуска находились в принесенном дедом портфеле. Жигалов даже как-то решил устроить засаду, чтобы поймать его с поличным, но засада результата не дала. Старик приходил в парк, садился на скамейку, ставил рядом свой портфель и сидел, устремив взгляд в одну точку. Сидеть мог целый час, а иногда и больше, затем опускал руку в портфель, делал там какие-то манипуляции, на несколько секунд показывалась рука с наполненным стаканом, выпивал он залпом, затем так же быстро закрывал портфель и продолжал смотреть в ту же точку. Поэтому ни одна попытка застигнуть старика за «распитием спиртных напитков» успехом не увенчалась. Жигалов на какое-то время забывал про деда Балатона, потом он опять попадался на глаза, вызывая у участкового чувство раздражения.
Старик этот имел конкретную фамилию, имя и отчество – Макарычев Алексей Егорович, об этом Жигалов узнал, когда подошел с вопросом:
– Гражданин, предъявите ваши документы.
Старик молча, не глядя на участкового, протянул ему паспорт. «Смотри-ка, даже взглядом не удостоил, – подумал Жигалов
– Вы почему в общественном месте распиваете спиртные напитки, гражданин Макарычев?
– Лекарство я принял, гражданин начальник, – сухо ответил старик, продолжая смотреть в одну точку.
«Наверное, бывший уголовник, – промелькнула мысль в голове Ивана, – надо забрать его в участок, там разберемся». Но этого не сделал, вспоминая урок гаишника Большунова.
Иван Егорович чувствовал себя именинником, он шел по своему участку с высоко поднятой головой, как бы всем своим видом говоря: «Вот, люди, живите спокойно, потому что я за вас в ответе». Он прошел от вокзала до автостанции, все везде спокойно. Решил пройтись по парку, и на первой же скамейке наткнулся на пьяного деда Балатона, тот спал сидя, и что-то бормотал под нос. «Вот же, зараза, все настроение испортил, а какой хороший день был, – подумал Жигалов, – ну, ничего, мы и с этим как-нибудь управимся».
К парку участковый имел особое отношение, поскольку считал его чуть ли не святым местом. Люди гуляют семьями или мамаша молодая с коляской, а вот дети играют в мяч, парень с девушкой обнимаются. Все эти картины радовали глаз Ивана Егоровича. К пьянке же на территории парка он относился как к личному оскорблению. Все местные алкоголики об этом знали и предпочитали не злить Жигалова. Себе дороже!
Один только дед Балатон его ни во что не ставил, и длилось это почти с тех пор, когда Жигалов стал участковым. Справедливости ради нужно сказать, что Иван Егорович ни разу и не видел, чтобы тот употреблял спиртное, потому что водка, стакан и закуска находились в принесенном дедом портфеле. Жигалов даже как-то решил устроить засаду, чтобы поймать его с поличным, но засада результата не дала. Старик приходил в парк, садился на скамейку, ставил рядом свой портфель и сидел, устремив взгляд в одну точку. Сидеть мог целый час, а иногда и больше, затем опускал руку в портфель, делал там какие-то манипуляции, на несколько секунд показывалась рука с наполненным стаканом, выпивал он залпом, затем так же быстро закрывал портфель и продолжал смотреть в ту же точку. Поэтому ни одна попытка застигнуть старика за «распитием спиртных напитков» успехом не увенчалась. Жигалов на какое-то время забывал про деда Балатона, потом он опять попадался на глаза, вызывая у участкового чувство раздражения.
Старик этот имел конкретную фамилию, имя и отчество – Макарычев Алексей Егорович, об этом Жигалов узнал, когда подошел с вопросом:
– Гражданин, предъявите ваши документы.
Старик молча, не глядя на участкового, протянул ему паспорт. «Смотри-ка, даже взглядом не удостоил, – подумал Жигалов
– Вы почему в общественном месте распиваете спиртные напитки, гражданин Макарычев?
– Лекарство я принял, гражданин начальник, – сухо ответил старик, продолжая смотреть в одну точку.
«Наверное, бывший уголовник, – промелькнула мысль в голове Ивана, – надо забрать его в участок, там разберемся». Но этого не сделал, вспоминая урок гаишника Большунова.
 Деда Балатона в городке знали, наверное, все, потому что он лет пятнадцать уже маячил в самых людных местах, при этом даже имя его мало кто знал. Так – дед Макар, дед Макарыч, но чаще всего дед Балатон. Балатоном его прозвали за то, что этим словом он выражал все отрицательные эмоции, к примеру, – плохая погода, или колдобина на дороге, он непременно говорил:
– Эх, балатон, балатон…, – потом глубоко вздыхал и добавлял, – вот проклятый балатон!
В фигуре старика просматривалась былая стать, он был высок ростом, широкоплеч, при этом не имел ни грамма лишнего веса. Коротко стриженая голова, с как будто вытесанным из камня, никогда ничего не выражающим лицом, сидела на мощной, почти борцовской шее. Большие крепкие, при этом очень цепкие руки, выдавали то, что он, видимо, долгое время занимался тяжелым физическим трудом. У тех, кто здоровался с ним за руку, возникало ощущение, что он слегка сжимает, нет не руку, а позвоночник, где-то в области почек.
Старик был неразговорчив, а если что-то и говорил, то был немногословен. Единственное, что отражало его эмоции, это глаза. Однако большую часть времени старик смотрел, казалось, куда-то внутрь себя, а если же он смотрел на кого-то, то складывалось впечатление, что он смотрел сквозь собеседника, куда-то вдаль.
Лет десять назад подвалили к нему двое блатных – Синий и Пупа.
– А не хочешь ли ты, дед, опохмелить честных бродяг? Старик повернулся к ним, как-то по волчьи, всем телом и внимательно посмотрел на них. Через полминуты первым заговорил Синий:
– Вы извините нас, пожалуйста, отдыхайте, дай Бог вам здоровья!
Потом Пупа, громко проглотив слюну, вопросительно произнес:
– Ну, дак мы пойдем? – И уже отойдя метров пятьдесят добавил: Сукой буду, из старых воров он, а здесь, наверное, от мусоров шифруется.
– У моего бати глаза такие были, – присев на скамейку, сказал Синий. – Он с войны без башки пришел.
– Как это – без башки?
– А так! Другие без руки, без ноги возвращались, а батя без башки пришел. Вроде бы смотришь: голова на месте, а присмотришься – ее нету. Для такого человека убить, как тебе таракана раздавить. Не всегда он такой был, месяц-два вроде все нормально, а потом сдвиг по фазе, и пошел в штыковую атаку! Мы с мамкой неделями по кустам да по огородам прятались. Пил сильно, а потом плакал и прощения просил.
– Да, тяжело так жить, как же он жил-то?
– А он и не жил. Как-то в очередной загул сосед пытался урезонить, так он его черенком от лопаты до полусмерти избил, хорошо мужики прибежали скрутили…
– И чё?
– Да ничё, посадили его, а через полгода на лесоповале, когда он с топором на охрану кинулся, пристрелили! Я не знаю, из каких дед Балатон, из тех или из этих, ясно одно, стороной его обходить надо!
Однажды Жигалову позвонил дежурный:
– Иван, у тебя в парке труп. Выдвигайся туда, опергруппа подъедет позже.
Прибыв в парк, Жигалов обнаружил под скамейкой тело мужчины. Начали собираться зеваки. Приглядевшись, Жигалов определил, что это Мишка Петухов по прозвищу Гребень, из блатных. «Наверное, политуры какой-нибудь обожрался, да кони двинул», – подумал Иван Егорович. Вдруг тело издало звук, который бывает при жесточайшем поносе, от него пошла ужасная вонь. Гребень открыл глаза:
– О, где я? Привет, начальник, – Мишка разглядел участкового. – Что это со мной?
Подъехала опергруппа:
– Отбой, – крикнул Жигалов, – живой Мишка, только обгадился.
– Расходитесь, граждане, расходитесь, кина не будет, – и уже тише, обращаясь к Гребню, – а тебя я сейчас в камеру засуну вот в таком виде и все – зашкваренный ты, лишишься всякого уголовного авторитета.
– Начальник, Богом прошу не надо, меня же там на парашу посадят.
Жигалов достал какой-то бланк и стал быстро его заполнять:
– Это расписка о сотрудничестве, агентом моим будешь, стучать будешь, понял? Подписывай быстро! Или в камеру?
Петухов подписал, деваться было некуда.
– А теперь, пошел вон!
Когда Мишка засеменил, держа потяжелевшие штаны, Жигалов подошел к Матвеевне, которая продавала билеты на танцплощадку, а днем эту площадку подметала.
– Что тут произошло-то?
– Подсел Мишка к Балатону и шасть к нему в портфель, – полушепотом излагала Матвеевна, – а Балатон его кулаком сверху по голове тук, Мишка и стих. Дед его за руки и за скамейку, да и был таков.
«Ай, да Балатон! – смеялся Жигалов. – Сам того не желая, на меня сработал. И надо ж так приложился, что Мишка ничего не помнит».
Придя в отдел, он рассказал эту историю дежурному Баранову, тот со смехом предположил:
– Может, Мишка в портфель к Балатону полез за шахматами, ведь он же всегда шахматы с собой носит?
– Ага! – подхватил Жигалов, – в шахматишки решил перекинуться, а тот его по кумполу, аж лампочку стряхнул! Оба рассмеялись.
Шахматы, действительно, у старика Макарычева всегда были с собой, они были его увлечением, даже страстью, они же служили еще одной причиной неприязненного отношения к нему Жигалова. «Надо ж так! – думал Жигалов. – Шахматы вполне мирная, даже полезная игра, а Балатон и тут нарушает закон». Матвеевна рассказывала участковому, что иногда старик играл на бутылку водки. Так шахматы из мирного увлечения превращались в азартную игру, а этого не заметить, спустить на тормозах, Жигалов уже не мог. Чтобы на его участке, белым днем, в центре парка творилось такое беззаконие! Тут уже попахивало честью мундира, и Жигалов в который уже раз объявил деду Балатону войну. А тот как будто чуял опасность, даже пить вроде бы стал меньше и никак не давал шанса поймать себя с поличным.
Балатон по-прежнему находился в парке, иногда расставив фигуры на шахматной доске, иногда просто сидел, уставившись в одну точку. «Значит, уже выпил, – думал Иван Егорович, – сейчас начнет предлагать прохожим сыграть партейку». А старик сидел себе, бормотал что-то под нос, ни к кому не приставал, и раздосадованный Жигалов уходил прочь.
Война результатов не давала никаких, и Жигалов навремя отступал. Забыть эту тему совсем не позволяли поступающие время от времени сигналы, и даже упреки в бездеятельности:
– А что это дед Балатон в парке пьяный спит? – или еще хуже, – Он же сам с собой разговаривает, людей пугает, кричит. Вы почему ничего не предпринимаете, ведь вы же участковый? Я вот своему мужу деньги дала на электробритву, а он деду Балатону в шахматы их проиграл и пьяный домой пришел.
Жигалов разработал как-то целую операцию. Жил в то время в городке плут и авантюрист Анашкин по прозвищу Гроссмейстер. С его появлением, как грибы после дождя, начали появляться шахматные секции и кружки – в Доме пионеров, в школах, в клубе ремзавода, на элеваторе. Любителей шахмат было не очень много, так что во всех кружках, или, как их называл Гроссмейстер, клубах состояли одни и те же люди и их многочисленные родственники. Названия клубов разнообразием тоже не отличались – «Ход конем», «Черная королева», «Белая ладья» и так далее. И везде Гроссмейстер-Анашкин получал пусть небольшую, но зарплату. Иногда по выходным он устраивал турниры, первенства, другие соревнования по шахматам. При этом Гроссмейстер появлялся на публике в белой рубашке и галстуке-бабочке. Обо всех его финансовых махинациях Жигалов докладывал новому начальнику милиции Гончаруку, но тот махнул рукой:
– Если по линии ОБХСС на предприятиях нарушения найдут, тогда ладно, а так пусть играют, – народу все же веселей.
И все же Гроссмейстер-Анашкин был у Жигалова на крючке и по первому требованию явился в опорный пункт.
– У меня к тебе Анашкин, задание особой важности – надо одного «фрукта» отучить в шахматы играть, – начал Иван Егорович. – Я выдам тебе бутылку водки.
– Да я же не пью, товарищ капитан, – возмутился Анашкин.
– Тебя пить никто и не заставляет, – давал наставления Жигалов, – подойдешь к деду Балатону, предложишь ему сыграть. Мне надо, чтобы ты выиграл у него несколько раз, чтобы он за бутылками побегал, потом одну партию ему проиграешь.
– Я проигрывать не привык, – опять возмутился Гроссмейстер.
– Ничего, проиграешь и отдашь ему мою меченую бутылку. А тут и я с понятыми подоспею, понял?
В назначенное время Жигалов послал Анашкина к Балатону, а сам занял наблюдательную позицию за танцплощадкой. Прошло полчаса, старик никуда не уходил, прошел еще час, Гроссмейстер не подавал условного сигнала, прошло еще полчаса, все без изменений. Жигалов вспомнил, что у него назначена важная встреча, и когда он спустя полчаса вернулся, то увидел такую картину. Анашкин сидел на скамье один, и через горлышко допивал его, меченую, кстати, купленную за собственные деньги, бутылку.
– Что ж ты делаешь, идиот? – взорвался Жигалов, но когда заметил, что Гроссмейстер-Анашкин плачет, спросил: Он тебя бил что ли?
– Он меня даже пальцем не коснулся, – всхлипывая произнес шахматист, – он мне просто показал, что я никто, что я ноль полнейший. Одну партию в растяжку, причем на протяжении всей партии я был уверен, что я выигрываю, а он потом – бац и все – мат! Потом предложил блиц, быстрые шахматы, значит. И пять партий меня как щенка мордой в лужу тыкал, а потом встал и ушел.
Анашкин допил остаток водки.
– А бутылку он не взял твою, Иван Егорович. Сказал, чтоб я выпил, вот я и пью.
Через неделю к Жигалову пришла жена Анашкина и сказала, что тот уже неделю пьет, на работу не ходит, и просила отменить «спецзадание». Беседу с шахматистом участковый, конечно, провел, пить тот бросил, но и к шахматам, как он утверждал, больше в жизни не притронется.
– Я на них, Иван Егорович, смотреть не могу!
Перестроился Анашкин быстро. За казенные же деньги купил несколько пневматических винтовок и начал открывать стрелковые секции и кружки. Видимо, работать физически ему было противопоказано на генном уровне.
А что же старик Макарычев? Продолжал сидеть в парке, иногда с шахматами, иногда без них, то исчезал на месяц, то снова появлялся. Зимой он коротал вечера во множественных в то время кочегарках. Можно было встретить его на вокзале или в доме колхозника. А как только пригревало солнышко, он вот он тут как тут – в парке на скамье.
Сильно не любил Макарычева участковый Жигалов: «Вроде бы не преступник же он, да и не сильно шумный, хоть и часто пьяным бывает». И нелюбовь эта не давала покоя, как зубная боль, то проходила, то обострялась. А все от того, что Балатон этот не боялся, не уважал, как все остальные, а наоборот, всем своим видом показывал презрение к нему, к Жигалову. А ведь это его земля, он здесь хозяин.
Бывало едет участковый на своем мотоцикле, а впереди пьяные мужики маячат, увидят его и в кусты прячутся. «Уважают, – думает Иван Егорович, и делает вид, что не заметил, – или другой попадается на мелочевке, – прости Иван Егорович, больше не повторится, – он и прощает, построжится для виду, – а этот нет, он не то чтобы поздороваться первым, он даже головы не повернет, даже не смотрит в твою сторону, а ведь это все на людях». Жигалов ловил себя на мысли, что он боится этого старика, боится потому что за столько лет так ничего и не удалось о нем выяснить. Кто он? Откуда? Родственников нет, друзей тоже, одни собутыльники да партнеры по шахматам, которые о нем ничего не знали. Делать запрос в архив МВД, вроде бы не было весомых причин, в военкомате Жигалову сухо ответили:
– В силу преклонного возраста, на воинском учете данный гражданин не состоит, если он вам интересен, делайте официальный запрос, мы отошлем его в архив Министерства обороны.
Причин делать запрос у Жигалова не было, и он очередной раз отступался и даже забывал о старике. Потом в очередной раз заходил в парк и натыкался на Балатона, который, явно в нетрезвом состоянии, разговаривал сам с собой. Жигалов присаживался на скамью и пытался хоть что-то разобрать в словах Макарычева, но для него это была полная околесица:
– Бабыня, зачем ты так? Шурка! Водку не пей, узбекам водку не положено!
– Гражданин Макарычев, – громко говорил Жигалов, – вы почему в пьяном виде?
– Я! – отзывался Балатон, вставал. – Ухожу!
Деда Балатона в городке знали, наверное, все, потому что он лет пятнадцать уже маячил в самых людных местах, при этом даже имя его мало кто знал. Так – дед Макар, дед Макарыч, но чаще всего дед Балатон. Балатоном его прозвали за то, что этим словом он выражал все отрицательные эмоции, к примеру, – плохая погода, или колдобина на дороге, он непременно говорил:
– Эх, балатон, балатон…, – потом глубоко вздыхал и добавлял, – вот проклятый балатон!
В фигуре старика просматривалась былая стать, он был высок ростом, широкоплеч, при этом не имел ни грамма лишнего веса. Коротко стриженая голова, с как будто вытесанным из камня, никогда ничего не выражающим лицом, сидела на мощной, почти борцовской шее. Большие крепкие, при этом очень цепкие руки, выдавали то, что он, видимо, долгое время занимался тяжелым физическим трудом. У тех, кто здоровался с ним за руку, возникало ощущение, что он слегка сжимает, нет не руку, а позвоночник, где-то в области почек.
Старик был неразговорчив, а если что-то и говорил, то был немногословен. Единственное, что отражало его эмоции, это глаза. Однако большую часть времени старик смотрел, казалось, куда-то внутрь себя, а если же он смотрел на кого-то, то складывалось впечатление, что он смотрел сквозь собеседника, куда-то вдаль.
Лет десять назад подвалили к нему двое блатных – Синий и Пупа.
– А не хочешь ли ты, дед, опохмелить честных бродяг? Старик повернулся к ним, как-то по волчьи, всем телом и внимательно посмотрел на них. Через полминуты первым заговорил Синий:
– Вы извините нас, пожалуйста, отдыхайте, дай Бог вам здоровья!
Потом Пупа, громко проглотив слюну, вопросительно произнес:
– Ну, дак мы пойдем? – И уже отойдя метров пятьдесят добавил: Сукой буду, из старых воров он, а здесь, наверное, от мусоров шифруется.
– У моего бати глаза такие были, – присев на скамейку, сказал Синий. – Он с войны без башки пришел.
– Как это – без башки?
– А так! Другие без руки, без ноги возвращались, а батя без башки пришел. Вроде бы смотришь: голова на месте, а присмотришься – ее нету. Для такого человека убить, как тебе таракана раздавить. Не всегда он такой был, месяц-два вроде все нормально, а потом сдвиг по фазе, и пошел в штыковую атаку! Мы с мамкой неделями по кустам да по огородам прятались. Пил сильно, а потом плакал и прощения просил.
– Да, тяжело так жить, как же он жил-то?
– А он и не жил. Как-то в очередной загул сосед пытался урезонить, так он его черенком от лопаты до полусмерти избил, хорошо мужики прибежали скрутили…
– И чё?
– Да ничё, посадили его, а через полгода на лесоповале, когда он с топором на охрану кинулся, пристрелили! Я не знаю, из каких дед Балатон, из тех или из этих, ясно одно, стороной его обходить надо!
Однажды Жигалову позвонил дежурный:
– Иван, у тебя в парке труп. Выдвигайся туда, опергруппа подъедет позже.
Прибыв в парк, Жигалов обнаружил под скамейкой тело мужчины. Начали собираться зеваки. Приглядевшись, Жигалов определил, что это Мишка Петухов по прозвищу Гребень, из блатных. «Наверное, политуры какой-нибудь обожрался, да кони двинул», – подумал Иван Егорович. Вдруг тело издало звук, который бывает при жесточайшем поносе, от него пошла ужасная вонь. Гребень открыл глаза:
– О, где я? Привет, начальник, – Мишка разглядел участкового. – Что это со мной?
Подъехала опергруппа:
– Отбой, – крикнул Жигалов, – живой Мишка, только обгадился.
– Расходитесь, граждане, расходитесь, кина не будет, – и уже тише, обращаясь к Гребню, – а тебя я сейчас в камеру засуну вот в таком виде и все – зашкваренный ты, лишишься всякого уголовного авторитета.
– Начальник, Богом прошу не надо, меня же там на парашу посадят.
Жигалов достал какой-то бланк и стал быстро его заполнять:
– Это расписка о сотрудничестве, агентом моим будешь, стучать будешь, понял? Подписывай быстро! Или в камеру?
Петухов подписал, деваться было некуда.
– А теперь, пошел вон!
Когда Мишка засеменил, держа потяжелевшие штаны, Жигалов подошел к Матвеевне, которая продавала билеты на танцплощадку, а днем эту площадку подметала.
– Что тут произошло-то?
– Подсел Мишка к Балатону и шасть к нему в портфель, – полушепотом излагала Матвеевна, – а Балатон его кулаком сверху по голове тук, Мишка и стих. Дед его за руки и за скамейку, да и был таков.
«Ай, да Балатон! – смеялся Жигалов. – Сам того не желая, на меня сработал. И надо ж так приложился, что Мишка ничего не помнит».
Придя в отдел, он рассказал эту историю дежурному Баранову, тот со смехом предположил:
– Может, Мишка в портфель к Балатону полез за шахматами, ведь он же всегда шахматы с собой носит?
– Ага! – подхватил Жигалов, – в шахматишки решил перекинуться, а тот его по кумполу, аж лампочку стряхнул! Оба рассмеялись.
Шахматы, действительно, у старика Макарычева всегда были с собой, они были его увлечением, даже страстью, они же служили еще одной причиной неприязненного отношения к нему Жигалова. «Надо ж так! – думал Жигалов. – Шахматы вполне мирная, даже полезная игра, а Балатон и тут нарушает закон». Матвеевна рассказывала участковому, что иногда старик играл на бутылку водки. Так шахматы из мирного увлечения превращались в азартную игру, а этого не заметить, спустить на тормозах, Жигалов уже не мог. Чтобы на его участке, белым днем, в центре парка творилось такое беззаконие! Тут уже попахивало честью мундира, и Жигалов в который уже раз объявил деду Балатону войну. А тот как будто чуял опасность, даже пить вроде бы стал меньше и никак не давал шанса поймать себя с поличным.
Балатон по-прежнему находился в парке, иногда расставив фигуры на шахматной доске, иногда просто сидел, уставившись в одну точку. «Значит, уже выпил, – думал Иван Егорович, – сейчас начнет предлагать прохожим сыграть партейку». А старик сидел себе, бормотал что-то под нос, ни к кому не приставал, и раздосадованный Жигалов уходил прочь.
Война результатов не давала никаких, и Жигалов навремя отступал. Забыть эту тему совсем не позволяли поступающие время от времени сигналы, и даже упреки в бездеятельности:
– А что это дед Балатон в парке пьяный спит? – или еще хуже, – Он же сам с собой разговаривает, людей пугает, кричит. Вы почему ничего не предпринимаете, ведь вы же участковый? Я вот своему мужу деньги дала на электробритву, а он деду Балатону в шахматы их проиграл и пьяный домой пришел.
Жигалов разработал как-то целую операцию. Жил в то время в городке плут и авантюрист Анашкин по прозвищу Гроссмейстер. С его появлением, как грибы после дождя, начали появляться шахматные секции и кружки – в Доме пионеров, в школах, в клубе ремзавода, на элеваторе. Любителей шахмат было не очень много, так что во всех кружках, или, как их называл Гроссмейстер, клубах состояли одни и те же люди и их многочисленные родственники. Названия клубов разнообразием тоже не отличались – «Ход конем», «Черная королева», «Белая ладья» и так далее. И везде Гроссмейстер-Анашкин получал пусть небольшую, но зарплату. Иногда по выходным он устраивал турниры, первенства, другие соревнования по шахматам. При этом Гроссмейстер появлялся на публике в белой рубашке и галстуке-бабочке. Обо всех его финансовых махинациях Жигалов докладывал новому начальнику милиции Гончаруку, но тот махнул рукой:
– Если по линии ОБХСС на предприятиях нарушения найдут, тогда ладно, а так пусть играют, – народу все же веселей.
И все же Гроссмейстер-Анашкин был у Жигалова на крючке и по первому требованию явился в опорный пункт.
– У меня к тебе Анашкин, задание особой важности – надо одного «фрукта» отучить в шахматы играть, – начал Иван Егорович. – Я выдам тебе бутылку водки.
– Да я же не пью, товарищ капитан, – возмутился Анашкин.
– Тебя пить никто и не заставляет, – давал наставления Жигалов, – подойдешь к деду Балатону, предложишь ему сыграть. Мне надо, чтобы ты выиграл у него несколько раз, чтобы он за бутылками побегал, потом одну партию ему проиграешь.
– Я проигрывать не привык, – опять возмутился Гроссмейстер.
– Ничего, проиграешь и отдашь ему мою меченую бутылку. А тут и я с понятыми подоспею, понял?
В назначенное время Жигалов послал Анашкина к Балатону, а сам занял наблюдательную позицию за танцплощадкой. Прошло полчаса, старик никуда не уходил, прошел еще час, Гроссмейстер не подавал условного сигнала, прошло еще полчаса, все без изменений. Жигалов вспомнил, что у него назначена важная встреча, и когда он спустя полчаса вернулся, то увидел такую картину. Анашкин сидел на скамье один, и через горлышко допивал его, меченую, кстати, купленную за собственные деньги, бутылку.
– Что ж ты делаешь, идиот? – взорвался Жигалов, но когда заметил, что Гроссмейстер-Анашкин плачет, спросил: Он тебя бил что ли?
– Он меня даже пальцем не коснулся, – всхлипывая произнес шахматист, – он мне просто показал, что я никто, что я ноль полнейший. Одну партию в растяжку, причем на протяжении всей партии я был уверен, что я выигрываю, а он потом – бац и все – мат! Потом предложил блиц, быстрые шахматы, значит. И пять партий меня как щенка мордой в лужу тыкал, а потом встал и ушел.
Анашкин допил остаток водки.
– А бутылку он не взял твою, Иван Егорович. Сказал, чтоб я выпил, вот я и пью.
Через неделю к Жигалову пришла жена Анашкина и сказала, что тот уже неделю пьет, на работу не ходит, и просила отменить «спецзадание». Беседу с шахматистом участковый, конечно, провел, пить тот бросил, но и к шахматам, как он утверждал, больше в жизни не притронется.
– Я на них, Иван Егорович, смотреть не могу!
Перестроился Анашкин быстро. За казенные же деньги купил несколько пневматических винтовок и начал открывать стрелковые секции и кружки. Видимо, работать физически ему было противопоказано на генном уровне.
А что же старик Макарычев? Продолжал сидеть в парке, иногда с шахматами, иногда без них, то исчезал на месяц, то снова появлялся. Зимой он коротал вечера во множественных в то время кочегарках. Можно было встретить его на вокзале или в доме колхозника. А как только пригревало солнышко, он вот он тут как тут – в парке на скамье.
Сильно не любил Макарычева участковый Жигалов: «Вроде бы не преступник же он, да и не сильно шумный, хоть и часто пьяным бывает». И нелюбовь эта не давала покоя, как зубная боль, то проходила, то обострялась. А все от того, что Балатон этот не боялся, не уважал, как все остальные, а наоборот, всем своим видом показывал презрение к нему, к Жигалову. А ведь это его земля, он здесь хозяин.
Бывало едет участковый на своем мотоцикле, а впереди пьяные мужики маячат, увидят его и в кусты прячутся. «Уважают, – думает Иван Егорович, и делает вид, что не заметил, – или другой попадается на мелочевке, – прости Иван Егорович, больше не повторится, – он и прощает, построжится для виду, – а этот нет, он не то чтобы поздороваться первым, он даже головы не повернет, даже не смотрит в твою сторону, а ведь это все на людях». Жигалов ловил себя на мысли, что он боится этого старика, боится потому что за столько лет так ничего и не удалось о нем выяснить. Кто он? Откуда? Родственников нет, друзей тоже, одни собутыльники да партнеры по шахматам, которые о нем ничего не знали. Делать запрос в архив МВД, вроде бы не было весомых причин, в военкомате Жигалову сухо ответили:
– В силу преклонного возраста, на воинском учете данный гражданин не состоит, если он вам интересен, делайте официальный запрос, мы отошлем его в архив Министерства обороны.
Причин делать запрос у Жигалова не было, и он очередной раз отступался и даже забывал о старике. Потом в очередной раз заходил в парк и натыкался на Балатона, который, явно в нетрезвом состоянии, разговаривал сам с собой. Жигалов присаживался на скамью и пытался хоть что-то разобрать в словах Макарычева, но для него это была полная околесица:
– Бабыня, зачем ты так? Шурка! Водку не пей, узбекам водку не положено!
– Гражданин Макарычев, – громко говорил Жигалов, – вы почему в пьяном виде?
– Я! – отзывался Балатон, вставал. – Ухожу!
 И уходил тяжелой, однако уверенной походкой. «Хоть бы споткнулся, упал!» У Жигалова и рация уже в руке, чтобы вызвать наряд и доставить деда в отделение, но тот не падал, он просто уходил, оставляя участкового один на один со своим бессилием.
И уходил тяжелой, однако уверенной походкой. «Хоть бы споткнулся, упал!» У Жигалова и рация уже в руке, чтобы вызвать наряд и доставить деда в отделение, но тот не падал, он просто уходил, оставляя участкового один на один со своим бессилием.
Все бы ничего, но год назад старик Макарычев выкинул фортель, после которого городок гудел еще неделю, как пчелиный улей, обсуждая произошедшее. В канун сорокалетия Великой Победы советское правительство приняло решение наградить всех участников войны орденом Отечественной войны. По случаю этого награждения во Дворце культуры собрали фронтовиков со всего района. Жигалов присутствовал на этом мероприятии по долгу службы. Он всматривался в знакомые и незнакомые лица, это только с первого взгляда могло показаться, что все ветераны похожи друг на друга. На самом деле нет. Вот тихонько стоит группа, человек десять. Если приглядеться, у них и медали боевой ни одной нет, все юбилейные. Другая группа – более многочисленная, и тоже без особых наград. «Это, наверное, те, что воевали с японцами на Дальнем Востоке,» – подумал Иван Егорович. Подтверждением его догадки были доносившиеся до него слова Хинган, Мукдэн. Прибывали все новые и новые ветераны, от звона множества медалей исходил мягкий мелодичный звук. Особо шумной была группа, которая стояла ближе всех к крыльцу Дома культуры. Подойдя ближе, Жигалов увидел обилие орденов: Красной Звезды, Отечественной войны, Красного Знамени. «Это мужики серьезные» – мелькнуло в голове Жигалова. Вновь подошедшие определялись, куда им подойти, здоровались, обнимались. Были и такие, что просто стояли, по трое. Иван Егорович встретил своего соседа, дядю Сережу Андреева, скромнейшего человека с изуродованным лицом без одного глаза. Историю дяди Сережи Жигалов знал. Дело в том, что на фронте он не был, ушел добровольцем, направили его в артиллерийское минометное училище в Красноярск. Спустя три месяца при учебных стрельбах произошел несчастный случай: разорвало миномет, двое курсантов погибли, а Андреев почти год пролежал в госпиталях, потом его комиссовали. Иван Егорович каждый год видел, как сосед в День Победы сидел у себя в садке один, пил водку и плакал, сильно переживал непонятное положение. – Мы ведь там, в училище, как дистрофики ходили, у ребят голодные обмороки случались, – рассказывал Андреев, – кинули мину в ствол, она не сработала, осталась в стволе, а мы уши руками закрыли и не заметили, думали она улетела, и кинули туда вторую, произошел взрыв прямо в стволе, миномет разорвало…». Неизвестно, сколько бы таких праздников Победы было бы у дяди Сережи, но однажды к нему пришел один из самых уважаемых в городке фронтовиков, полковник Лукьянов, и сразу от калитки заявил: – Так, Серега, чтобы на девятое мая с нами был в общем, так сказать, строю! Андреев хотел что-то возразить, но полковник шутливо скомандовал: – Молчать! Ранение ты тяжелое получил? Получил. Год по госпиталям провалялся? Было? И друзей потерял! Вот и должен ты с нами за одним столом сидеть. – Да я немцев только пленных видел, – робко возразил Андреев. Полковник призадумался и произнес: – Друг у меня есть под Новосибирском, Герой Советского Союза, между прочим, так вот он тоже за всю войну ни одного фашиста не видел, а знаешь почему? В дальнобойной артиллерии воевал. В один прекрасный момент разведка доложила о большом скоплении немцев, им дали координаты, и они до дивизии врагов уничтожили. За что и были представлены к высоким правительственным наградам, – полковник раскатисто захохотал, потом опять сделался серьезным. – Или вот председатель районного Совета ветеранов войны Романец, знаешь такого? – Андреев кивнул. – Так вот он всю войну в Омске в учебном батальоне прослужил, – кадры готовил для своей дивизии. Дивизия-то боевой путь прошла от Москвы до Берлина, и номер этой дивизии у Романца в военном билете записан, не подкопаешься. Пригласил его как-то первый секретарь товарищ Ховченко и спросил, где он воевал, Романец соврать ему не посмел, рассказал все честно. Потом попросил освободить его от должности. Ховченко сказал, чтобы тот работал и дальше, но за стол с фронтовиками никогда не садился. Вот такие дела, Серега… И уже собравшись уходить, добавил: – Как старший по званию приказываю – праздник Великой Победы праздновать вместе с другими! Понял? А у кого вопросы будут, ко мне отправляй, объясню! Жигалов, находясь за живой изгородью из черемухи, слышал весь этот разговор и теперь смотрел на скромно стоящего у крыльца дядю Сережу. «И все равно он стесняется», – подумал Иван Егорович, подошел и нарочито громко сказал: – С праздником, с Днем Победы, товарищ артиллерист-минометчик Андреев. – Спасибо, Ваня, – сосед опустил голову. – У кого-то война медалями на груди написана, а у тебя она на лице расписалась, да таким почерком, что ни с чем не перепутаешь, – крепко пожимая руку Андрееву, закончил разговор Жигалов. И тут увидел Макарычева-Балатона, тот размеренно прохаживался среди ветеранов, в своем неизменном наряде, выцветшем темно-синем плаще и белой кепке. «Этот что здесь потерял?» – подумал участковый. Пригласили всех пройти в зал. Люди начали шумно рассаживаться, причем так же группами, как и стояли на улице. Хор грянул «Вставай, страна огромная…», звучали поздравительные речи и вот, наконец, стали вручать ордена, согласно списку, по алфавиту. Ведущий называл фамилию, ветеран выходил на сцену, военком вручал орден. Награжденные вели себя по-разному, кто-то привинчивал орден и рвался к микрофону со словами: «Наконец-то Родина оценила наши заслуги». Другие тихонько выходили, получали орден и быстро уходили, пряча его в карман. Обстановка в зале становилась нездоровой, люди шумели, о чем-то спорили друг с другом, раздались выкрики: – Что ж вы всех под одну гребенку-то? – Неправильно это! Страсти немного поутихли, когда на сцену стали приглашать орденоносцев и вручать им ордена первой степени «в золоте», тогда как всем остальным вручали ордена второй степени «в серебре». По алфавиту дошла очередь до Романца, ему как председателю Совета ветеранов военком также выхлопотал Орден Отечественной войны первой степени в золоте. Когда ведущий объявил об этом, в зале наступила гробовая тишина. «Вот сейчас кинь спичку, и зал взорвется», – успел подумать Жигалов. – И как ты, Романец, носить-то его будешь? – в тишине раздался голос старика Макарычева, который стоял у стены, держась за батарею. – Он же дырку у тебя на груди прожжет. Такими орденами посмертно награждали, – и повернувшись к выходу, напоследок крикнул: Устроили тут балаган! «А вот и спичка», – мелькнуло в голове Ивана. Ему и самому эта процедура не нравилась. Зал взорвался, загудел, даже слышен был отборный мат, человек пятнадцать встали и ушли вслед за Балатоном. Ушли, шумно ругаясь, кто-то из уже получивших награду, клал свой орден на край сцены, среди них Жигалов заметил и своего соседа Андреева. Дядю Сережу было искренне жаль. «Вот Балатон, вот сволочь! Праздник людям испортил! Ну ничего, я до тебя доберусь!» – негодовал Иван Егорович. Обстановку попытался разрядить небезызвестный Анашкин, который выскочил на сцену с баяном и резанул марш Семёна Чернецкого «Вступление Красной Армии в Будапешт». Романцу стало плохо, ему вызвали скорую, когда его выводили под руки, он, держась за сердце, все повторял: «Мне же положено, меня же государство наградило!» Пытались было продолжить награждение, но на сцену люди выходить не хотели. Поняв, что ничего не получится, военный комиссар района сделал заявление: «Всем остальным ордена будут вручены через сельские Советы и через военкомат» и тоже ушел. Потом начался концерт, но оставшиеся в зале, казалось, смотрели не на сцену, а себе под ноги и тихонько расходились. Утром следующего дня всех работников милиции, которые присутствовали на этом мероприятии, во главе с начальником, подполковником Гончаруком, вызвали в райком партии, где они получили такую взбучку, что Иван Егорович слег с температурой, а жена, ночью вытирая ему пот, слышала, как он во сне или в бреду говорил: «Убью гада!» Оправившись от болезни, Жигалов с головой погрузился в работу, которой становилось не меньше. Ведь не одним же Балатоном, в самом деле, заниматься! А тот куда-то исчез и появился только к осени. «У этого старика какое-то звериное чутье на приближающуюся опасность», – подумал Жигалов, вспоминая все свои провалившиеся засады и «операции». Вот и в этот раз он исчез перед опасностью, а она – эта опасность – была! Летом, через месяц после майских праздников, в городке появились двое симпатичных мужчин, с одинаковыми прическами, в одинаковых костюмах и галстуках. Они очень интересовались персоной Макарычева. – Кто такой? Откуда прибыл? Чем занимается? О чем говорит? Да и самого Жигалова как будто через стиральную машину пропустили. Выясняли, имея в виду сорванное награждение фронтовиков: – Почему допустили такое? Почему не пресекли вражеские нападки на заслуженных людей? «Это Романец донос настрочил», – подумал участковый, а вслух произнес: – Да не враг он, Макарычев этот, товарищи дорогие, а просто старый выпивоха, а с Романцом у них старые неприязненные отношения. Те двое переглянулись, записали объяснения Ивана Егоровича, он расписался, на прощание один сказал: – Вы не обижайтесь, работа у нас такая. – Ведь мы с вами почти коллеги, – добавил второй. Когда они исчезли из поля зрения, Жигалов еще долго сидел чернее тучи: «Вот еще с Комитетом неприятностей не хватало из-за этого Балатона, и так выговор по партийной линии схлопотал ни за что». Потом улыбнулся, даже хохотнул: «А ты тоже хорош гусь, грудью встал за Балатона, сдал бы его комитетчикам, и у самого проблем бы поубавилось. Взял бы да сказал, что тот недоволен советской властью!». Потом вновь сделался серьезным. «Нет, это уже подлость, не враг же он на самом деле, воюешь ты с ним и воюй дальше, но только по-честному, по закону, ведь ты же не подлец, Жигалов? А?» – спросил сам себя Иван Егорович. А старик Макарычев, как будто мысли его прочитал, в благодарность целый год почти никак себя не проявлял. Участковый видел его издалека несколько раз, даже как-то поздоровались, хотя Жигалов часто заходил в парк в надежде встретить там деда Балатона, но тот радости такой ему не предоставлял, или просто не судьба была встретиться. Когда участковый приходил, того уже не было, и наоборот. «Неужели это победа, и война с Балатоном окончена?» – подумал Жигалов, но добровольная помощница Матвеевна опустила его на грешную землю: – Туточки он, Иван Егорович, Макарыч-то, выпивает, ага, только он уходит минут за десять до того, как тебе прийти, как чует что ли. – Вот нечистая сила, – ругнулся Жигалов, – чертовщина какая-то, ладно ничего… Мы и с чертовщиной разберемся, вот сейчас сухой закон вышел, я всех на чистую воду выведу, и Балатона тоже. А вскоре на стол участкового легла бумага, которая повлияла на ход дальнейших событий. Этой бумагой было заявление от директора Дома пионеров Ларисы Ивановны Вороновой, в котором она излагала, что во время занятий авиамодельного кружка пионеры Сидоров и Сахно выражались нецензурной бранью. И когда она учинила им допрос, они рассказали, что, гуляя по парку, они увидели старика с шахматной доской, вежливо попросили у него шахматы, на что тот ответил: «Повторите за мной эти слова, тогда дам». Дети повторять не стали, но слова запомнили. Далее Лариса Ивановна просила принять меры и оградить детей от пьяного матерщинника. «Вот это уже документ, – подумал Жигалов, – теперь мы по-другому поговорим». Хотя, что делать с этим заявлением, он не знал, несмотря на большой стаж работы. Доказательств, что тот был пьян, нет, да и процедуру опроса детей, даже в присутствии родителей, он представлял себе слабо. «Вот встречаемся мы с детьми и заставляем их произносить нецензурную брань в присутствии родителей и работников милиции… Гмм, так и самому под статью о развращении малолетних загреметь нетрудно», – размышлял Иван Егорович. Поэтому при первой же возможности зашел он к начальнику милиции Гончаруку и изложил все свои опасения, а также честно рассказал о своей давней войне с Балатоном. Гончарук внимательно выслушал: – Это тот самый Макарычев, который год назад сорвал вручение орденов? – Так точно, – ответил Жигалов. Гончарук внимательно перечитывал заявление из Дома пионеров, даже зачем-то посмотрел его на свет, как будто пытаясь найти в нем что-то еще, чего не было на поверхности, поднял трубку: – Дежурный, соедини меня с Домом пионеров! Выждав несколько секунд, продолжил: – Алло, Лариса Ивановна, здравствуйте! Начальник милиции Гончарук беспокоит. Вот сидим с капитаном Жигаловым, изучаем ваше заявление, вы пишите, что Макарычев, или как вы его называете Балатон, был пьян. А у вас есть взрослые свидетели? Не надо кричать, я понимаю, что трезвому человеку такое в голову не придет. Значит, свидетелей нет. Понятно. А теперь наберитесь мужества и скажите, какие слова произносили пионеры? Лариса Ивановна, это нужно для пользы дела, мы же с вами взрослые люди. Итак, я записываю. «Секеш», «Фехер», – выдержал паузу, подумал, – это какая-то абракадабра. Где тут нецензурная брань? Понял, понял! – и положил трубку. – Сказала, если не примем меры, пойдет жаловаться в райком партии. Гончарук встал и, сверкая до блеска начищенными сапогами, поскрипывая портупеей, прошелся по кабинету, подошел к столу, еще раз перечитал заявление: – Пустышка, – открыв ящик стола, бросил бумагу туда. – Слушай, капитан, а давай-ка, мы твоего Балатона отправим в лечебно-трудовой профилакторий, в ЛТП значит, там алкоголиков принудительно лечат? Такого поворота событий Жигалов не ожидал: – Старый он, под семьдесят уже, я в собесе узнавал, он пенсию получает как участник войны. Начальника милиции эти слова нисколько не смутили: – Лечиться никогда не поздно, а насчет участника войны ты характеристику возьми у этого, как его, Романца. Я думаю, он его охарактеризует как надо. И сделай официальный запрос в военкомат, на всякий случай, – подумав, добавил: После войны у нас, говорят, все тюрьмы фронтовиками забиты были. – Есть! – ответил Жигалов. – Разрешите идти? – Постой, – Гончарук достал какой-то документ, – вот разнарядка пришла, в рамках «сухого закона», к концу месяца надо отправить на излечение в ЛТП десять человек. Подключайся. Два раза пьяного встречаешь, составляешь протоколы, на третий под белы рученьки и поехали трудом лечиться. Режим содержания лагерный. Все понял? – Так точно! – Я тут твое личное дело смотрел, – продолжал Гончарук. – У тебя отличный опыт в таких делах есть. Все. Свободен. Жигалов вышел в скверном настроении. «Опыт у тебя есть, – передразнил он начальника, – одно дело уголовщину на место определить, в лагеря, и совсем другое мужиков, работяг за пьянку в те же лагеря отправить». Что поделать, служба есть служба, и Иван Егорович начал работать. Протоколы, объяснения, показания. Старался в списки свои вносить людей возрастом постарше, которым в его понимании терять было уже нечего. Молодых тоже оформлял, но откладывал в отдельную папку, ведь после ЛТП человека на хорошую работу не возьмут. Это как «черная метка», алкоголик, даже излечившийся, никому не нужен. Поступая так, участковый думал, что он дает людям шанс, возможность исправиться. А старому выпивохе Балатону он, Жигалов Иван Егорович, такого шанса не даст. В сумке у него уже лежат два протокола за его нахождение в нетрезвом виде в общественном месте. Причем подписал их старик Макарычев, не читая, не проронив ни слова, как бы даже безучастно, вроде дело касалось не его – Алексея Егоровича Макарычева, а кого-то другого, совершенно незнакомого ему человека. До назначенного Гончаруком срока оставался один день. Документы были все оформлены должным образом. Работу свою участковый выполнил качественно, дела кандидатов на отправку в лечебно-трудовой профилакторий были прошиты и пронумерованы, кроме одного… Иван Егорович, войдя на территорию парка, поймал себя на мысли, что ему очень не хочется вновь встретиться с дедом Балатоном. «Хоть бы его тут не было, – душу терзали сомнения, – зачем это ему, старику, нужно, а с другой стороны, ты, Жигалов, выполняешь приказ начальника милиции Гончарука, – Иван Егорович остановился даже. – Опять же, кто Гончарука подвел к этому решению? Ты и подвел! Ладно, будь что будет, – и пошел дальше». Старик Макарычев сидел на своем, полюбившемся ему за многие годы, месте. Было видно, что он уже изрядно выпил: – Гражданин Макарычев, – начал было Иван Егорович. – А, это ты, капитан, – грубо оборвал его Балатон, – давай, где подписать! «Что ж, видать судьба», – подумал участковый и начал составлять третий за месяц, роковой для Макарычева протокол.
СТАРИК БАЛАТОН
Начальник милиции Александр Леонидович Гончарук, так же, как и Жигалов, любил свою работу, но любил он ее по-особенному. Ему нравились дисциплина, субординация, военная выправка. Он, собственно, и был из военных, закончил училище, дослужился до капитана в мотострелковой части, а потом медицинская комиссия признала его негодным к строевой службе, что-то с сердцем было не так, и партия направила его на службу в органы внутренних дел, вскоре он получил звание майора, а уже два года как ему присвоили подполковника милиции. От подчиненных он требовал исполнения Устава: «Разрешите обратиться, разрешите идти, разрешите доложить»! Поначалу даже требовал, чтобы милиционеры честь друг другу отдавали, потом понял, что это перебор. Заступив на должность начальника милиции, Гончарук приказал отключить у себя в кабинете прямые телефоны, и с внешним миром, в отличии от простодушного Лопатина, он общался через дежурного и только через доклад. Одет Гончарук был всегда с иголочки, хотя все в отделе ходили в брюках обычного покроя и ботинках или туфлях, начальник милиции круглый год надевал галифе и идеально начищенные хромовые сапоги. Всегда, до синевы на лице, выбрит и перетянут портупеей. Звездным часом подполковника был День советской милиции, когда на центральной площади, возле памятника Ленину, выстраивался весь отдел в парадной форме, все стояли по стойке «Смирно» перед ним, боясь пропустить хоть одно слово: – Товарищи, поздравляю вас с годовщиной советской милиции! – Ура! Ура! Ура! – Равняйсь, смирррр-но, на-ле-во, шагом арррш! Гончарук подавал команды, а сам наслаждался своим голосом, а потом медленно проходил вдоль строя, вглядываясь в лица, в глаза подчиненных. Потому что подполковник в душе считал себя психологом, даже устраивая разносы сотрудникам, не справляющимся, по его мнению, со своей задачей, он всегда всматривался в глаза. Этот злится, этот напуган, этот обижается – определял почти безошибочно и делал выводы, даже записи вел. Каждое утро к нему по очереди заводили мелких правонарушителей, задержанных накануне. Начальник милиции сам определял размер штрафа или исправительные работы, при этом он проводил с ними те же процедуры: беседует с человеком, строжится, даже на крик переходит, а сам в глаза ему смотрит, наблюдает, раскаивается тот или нет. Хулиганы и дебоширы, а иногда и милиционеры не могли понять, почему за одинаковые нарушения были такие разные наказания. Вот и в этот раз, посмотрев дела, составленные Жигаловым для отправки людей на принудительное лечение от алкоголизма, Гончарук решил побеседовать с каждым персонально. В назначенный час всех собрали в коридоре возле кабинета начальника: – Дежурный, заводи по одному! Несколько человек воспринимали все спокойно, видимо, сами понимали, что нуждаются в лечении, один оказался шумным, даже прокурором пугал, а потом начал плакать, умолять, говорил, что ни капли больше не выпьет. – Типичный алкоголик, – произнес находящийся здесь же Жигалов, – психика нарушена, а затем громко крикнул: Дежурный, уводи, давай следующего. Гончарук внимательно рассматривал входящего в кабинет пожилого мужчину. Он был одет в синий, с большими потертостями, длинный плащ и белую кепку, а также в широкие, по моде пятидесятых годов, брюки и ботинки на манер офицерских. Под мышкой у него была шахматная доска. Взгляд подполковника остановился на старой, но чистой одежде и отглаженных брюках старика. – Гражданин Макарычев Алексей Егорович? – начал Гончарук. – Тысяча девятьсот восемнадцатого года рождения? – Он самый, гражданин подполковник, – ответил старик. – За последний месяц вы три раза задержаны в пьяном виде, о чем есть соответствующие протоколы…«Что нужно от меня этому подполковнику? – думал Макарычев, – он очень похож на начальника особого отдела дивизии подполковника Фисенко, тогда, в августе сорок третьего». И как наяву возникло: – Отвечайте, Макарычев! Почему вы покинули боевую позицию? – задал вопрос Фисенко. – Товарищ подполковник, – начал, было, Леха, но Фисенко его грубо прервал – Я вам не товарищ, Гитлер вам товарищ, потому что вы трус и паникер! Ясно? Обращайтесь ко мне гражданин подполковник! – Ясно, гражданин подполковник. – Не ясно, а так точно, – взорвался Фисенко, потом, немного успокоившись, продолжал, – передо мной показания рядового Балтабоева Шухрата, который поясняет, что огневую позицию вы – весь расчет противотанкового орудия, покинули по приказу старшего сержанта Бабыни. Так, я вас спрашиваю? «А вот тут хрен тебе, товарищ дорогой, чтоб Шурка на Бабыню, своего командира, показания дал, тут ты явно перегнул», – подумал Леха, а вслух сказал: – Гражданин подполковник, ведь он же узбек, по-русски плохо понимает. Бабыня отправил его, меня, а также рядового Деревянко за снарядами. – Ты из меня дурака-то не делай! – взорвался опять Фисенко, – под трибунал пойдете все! В это время дверь в кабинет шумно раскрылась и вошел начальник артиллерии армии полковник Ермолаев, доли секунды оценив обстановку он громко произнес: – Боец, свободен. – Товарищ полковник, – привстал Фисенко, – я бы вас попросил… – Свободен, я сказал! – и крепко так саданул рукой по столу. Леха посмотрел на Фисенко, тот опустил глаза. Еще раз повторять было не нужно, и он пулей вылетел из кабинета, но не смог удержаться и метрах в трех от двери замер, вслушиваясь в каждое слово, доносящееся из кабинета, а там продолжался разговор на повышенных тонах. – Товарищ полковник, извините, но я вам не подчиняюсь, – мягко возмутился Фисенко. – А полк, бойцов которого ты пытаешься арестовать, не подчиняется вашей дивизии. Он входит в резерв армии, то есть подчиняется непосредственно мне, ясно! – Но старший сержант Бабыня не выполнил приказ заместителя командира полка майора Гришина, – не унимался Фисенко. – Глупый приказ! Гришин приказал пушки установить в чистом поле, еще и в низине, а Бабыня пушки замаскировал, подпустил танки максимально близко и в упор расстрелял. Да… Бабыня, он же поэт, композитор по части истребления танков, он с сорок первого года, с первого дня войны. К нему из соседних полков комбаты, майоры за опытом приезжают, – Ермолаев призадумался, – я его несколько раз пытался на офицерские курсы отправить, отказывается, говорит, что пока последнего фашиста не истребим, никуда не поедет. Вот поэтому у меня старший сержант взводом командует. За Курскую операцию взвод Бабыни восемнадцать танков сжег, из них восемь «пантер». А если бы он подчинился майору Гришину, который, кстати, и не является ему командиром, то через десять минут боя не только его взвода, а от всей батареи следа бы не осталось. – Что ж, война, потери неизбежны, – уже робко возразил Фисенко. – А ты сам-то, подполковник, давно на передовой был? – возмутился его словам Ермолаев. – В общем, так! Бабыню освободить из-под ареста немедленно, иначе ты у меня пойдешь на передовую, танки противника уничтожать, вон у тебя пистолет есть, командиром штрафного батальона пойдешь, а? Фисенко? Ты же знаешь у меня с командующим хорошие отношения. – Я на том участке фронта, куда меня поставила партия, – побледневший подполковник слова эти из себя с трудом выдавил, – а на передовой я побываю в ближайшее время. Выйдя из кабинета, полковник Ермолаев обнаружил Леху Макара, который с улыбкой до ушей вытанцовывал какие-то движения. – А ты чего здесь, ну-ка бегом на батарею! – и когда боец растворился, – распустились совсем, подслушал же шельмец, через полчаса вся батарея знать будет. Да ладно, своих в обиду не даем.
Начальник милиции Гончарук продолжал: – Вот вы сидите в парке, а на вас дети смотрят, – вдруг он понял, что старик его не слышит, нет, не то чтобы не слушает, просто не слышит. Он вроде бы и смотрит на него, на Гончарука, но глаза направлены куда-то внутрь себя. Подполковник вдруг увидел, что и на старика он вовсе не тянет. Шестьдесят девять лет, а морщин особенно не видно, лицо как из камня вытесано, а самое интересное, никаких эмоций абсолютно. Гончарук применил свой излюбленный приемчик возврата внимания собеседника на себя, встал и начал расхаживать по кабинету. Теперь собеседнику волей-неволей нужно было крутить головой за говорящим, но старик переиграл его, опустив голову. – Какой пример вы подаете молодежи? – сетовал подполковник, слегка задетый поведением Макарычева.
«Как же все-таки он похож на Фисенко, – думал Макарычев, – сапоги вон огнем горят. И опять мысли помчались в прошлое. Комбат Еремин, бывало, устраивая разнос на батарее, так, для виду, конечно, мужик он был незлобливый, всегда заканчивал фразой: – И смотрите у меня, материальная часть, – он имел в виду пушки, – чтоб сверкала, как у… подполковника Фисенко сапоги. Комбат Еремин погиб при форсировании Днепра, там половина полка осталась. Фисенко тоже погиб, правда, как-то по-дурацки. После разговора с полковником Ермолаевым он нет-нет, да и выезжал на передовую. Вот и в этот раз приехал, поскольку тишина стояла уже неделю, немцев выбили, плацдарм расширили до уверенности. Полк готовился к эвакуации в тыл для пополнения личного состава и материальной части. Фисенко шел по полю. Солнышко, тишина… И вдруг ему под ноги шальной снаряд крупного калибра, разорвало на мелкие кусочки. Потом нашли разорванную фуражку, портупею и остатки от сапог с ногами. Это и похоронили. Впрочем, на войне шальных снарядов или мин не бывало. Вот, к примеру, устанавливают артиллеристы батарею минометную или дальнобойную и ждут приказа открыть огонь. Приказ этот может поступить завтра, а может через неделю или того больше. При этом орудия должны быть пристреляны по площадям, и если на эту площадь зайдут танки или много живой силы, они бах…, и с первого залпа все это превратят в пыль и дым. Пристрелять нужно так, чтобы себя не обнаружить, вот они за весь день один-два снаряда выпустят, а за ними десятки глаз с биноклями наблюдают, как он ляжет и куда, под каким углом. Так что шальным этот снаряд бывает для несведущего человека или ленивого наблюдателя. Если бы не смерть Фисенко, этот снаряд тоже списали бы в шальные, а так наблюдателям хвоста накрутили. Они стали внимательней и на следующий день засекли дальнобойную батарею врага. Дальше дело авиации: полетели, обнаружили, сравняли с землей. Так что начальник особого отдела дивизии подполковник Фисенко очень, очень много жизней солдатских спас, за что и был посмертно награжден Орденом Отечественной войны первой степени. Заряжающий Буратино тогда зло пошутил: – Он же за орденом сюда ехал, орден и получил. Бабыня одернул: – Не злобствуй, погиб все ж таки человек. – Этот человек два месяца назад за малым тебя к стенке не поставил, если бы Крестный не вмешался. Крестным после того, как Леха Макар пересказал на батарее тот разговор слово в слово, стали называть полковника Ермолаева.
Старик Макарычев вдруг поднял голову и широко по-детски улыбнулся, глаза его наполнились теплом, исходящим откуда-то изнутри, из глубины. Такое поведение опять привело Гончарука в недоумение, старик казался блаженным, ничего веселого он ведь не говорил, потом немного успокоил себя и продолжил: – Там хорошие врачи, вас обследуют, подлечат если нужно. – А я не больной, – впервые подал голос Макарычев. – Ничего, там белые чистые простыни, хорошее питание.
«Белые простыни…» И вновь память ухватила старика железными клещами и потащила, потянула через водовороты событий и бросила на госпитальную койку, туда, где Леха Макар в марте сорок пятого лежал забинтованный с головы до ног. То, что он выжил один из всей батареи, он не знал. Кто он такой тоже не знали в госпитале. В его карточке значилось: «Доставлен пробивающимися из окружения бойцами штрафного батальона. Передняя часть гимнастерки отсутствует, документов нет». Когда-то давно, еще в детстве, Лешка любил бегать к деду Харитону, который пас коней в ночь. Они пекли картошку на костре. Дед был старым сибирским казаком, он рассказывал восьмилетнему Лешке о своих походах, о том, как «бил супостата на дальних рубежах». Потом он укладывал внука на свой старый пропахший дымом и лошадьми ватник: – Спи, внучек, а я ишшо посижу. Лешка засыпал, ему снились дальние страны с голубыми реками и высокими горами. И не было никого счастливее на свете, чем он. Потом пришла беда. Однажды ночью, уже перед рассветом, волки подняли табун, и кони, подчиняясь тысячелетнему инстинкту, закружились, заметались, потом сбились в одно большое целое, как единый организм – никем не управляемое нечто. И это самое нечто неслось прямо на них: – Беги, Лешка, беги, впереди канава, в нее прыгай, не успеешь – растопчут! – А ты, деда? – Да, беги ж ты! И не смотри на них, на канаву смотри, мне не добежать. Беги, беги! – кричал старый казак. И Лешка бежал, со слезами выкрикивая «Деда, деда!», а навстречу ему, восьмилетнему мальчишке, несся обезумевший табун, сотнями копыт врубаясь в сухую солончаковую землю. Он успел юркнуть в канаву и сжаться в комочек, а над ним пролетали, перепрыгивая канаву и гулко ударяя копытами, десятки лошадей. Лешка скулил по щенячьи, а они все прыгали и прыгали…

Деда Харитона хоронили на следующий день, лошади буквально измочалили его тело, а он – Лешка – сутки ревел, уткнувшись в подушку. Тогда, наверное, кончилось его детство, а в той канаве остался его страх. Вот и теперь в госпитале он стонал и кричал в бреду, а лошади все прыгали, только теперь каждый удар копытом о землю причинял страшную боль. «Не скачите же, кони! Господи, как же мне больно-то!» Послышался женский голос: – Неизвестный. Шесть осколочных ранений, но неглубокие, большая потеря крови, тяжелая контузия, были подозрения на полный паралич, но в последние дни шевелил пальцами и еще нагноение глаз, промываем. Затем мужской голос: – Борись солдат, борись. Организм молодой, должен восстановиться. «Вот почему такая темнота, у меня повязка на глазах, – сознание медленно возвращалось к Алексею, – осколочные ранения неглубокие… Когда осколки до меня долетели, они уже через Шурку Балтабоева прошли, они ведь с Буратиной между мной и разрывом снаряда «пантеры» стояли. Своими телами меня закрыли. Поэтому жив остался». – Боец, вы меня слышите? – спросил уже знакомый голос. Алексей собрался с силами и с трудом произнес: – Да… Он не узнал свой голос, как будто говорит не он, а кто-то другой в огромном пустом зале, и тут же прозвучало эхо «да, да, да», причиняя неимоверную боль в голове. – Как ваша фамилия? Номер вашей части, фамилия командира? – Сержант Макарычев, девятнадцать сорок седьмой ИПТАП. Командир батареи капитан Кравченко. И опять поскакали кони, а он опять бежал навстречу, прыгнул в канаву, но лошадей не было, а вместо них послышался рев моторов. Он полежал немного и выглянул из укрытия. Там невдалеке стояла «пантера». Как только он выглянул, танк начал поворачивать башню и наводить пушку на него. Он упал на дно канавы, сжался: «Все, конец»! Потом раздался громкий смех, Леха открыл глаза, над канавой склонились взводный Бабыня, Шурка Балтабоев и Буратино – Саня Деревянко и еще десяток ребят с их батареи: – Ты что напугался-то, Макар? Глянь, никого же нет, «пантеру» ты сжег уже! – Ребята, ведь вы же погибли все? Вы же мертвые? Бабыня, я же тебя сам похоронил! А вас взрывом разорвало! Как это? А? Он замолчал, потом грустно спросил: – Ребята, а я тоже мертвый? Да? – Нет, – Шурка-Шухрат присел на край канавы, – ты живой. Живи за себя и за нас. Жена у меня в Ташкенте с четырьмя детьми, помоги, если выживешь – и исчез. – А у меня мамка под Ростовом, ты ей не говори, что я погиб. Я у нее один, просто скажи, что воевали вместе. Жалко, по коммерческой части не довелось поработать, а так хотелось, – расхохотался Буратино и тоже исчез. Исчезли все, остался один Бабыня. – Тут вот какое дело, Леха. Мертвые мы, немцы нашу позицию раскатали, и могилу мою тоже, и все, что от Буратины и Шурки осталось, и потому числимся мы без вести пропавшие. Так что ты, Макар, исправь это дело. Ты-то знаешь, как это было. А родных у меня нет, детдомовский я. – Сделаю я, командир, умру, но сделаю! Бабыня козырнул шутливо и тоже исчез. Потом появился немец, эсесовец, огромного роста, в камуфляжной куртке, поднял винтовку прицелился прямо в лоб, в последний момент передумал, опустил винтовку и тоже исчез. Темнота, опять темнота. Вдруг Леха услышал немецкую речь, и обращались явно к нему, причем было ощущение, что говоривший склонился над ним: – Wie heißen Sie? «Неужели плен, – мелькнула мысль, – я у немцев в госпитале». Потом ясность внес уже знакомый голос: – Товарищ лейтенант СМЕРШа, я же вам говорил, мне удалось пообщаться с раненым – это сержант Макарычев. – А у меня документ, товарищ майор, медицинской службы, вот читаю: «Гвардии сержант Макарычев Алексей Егорыч погиб смертью храбрых на высоте двенадцать тире ноль семь в сорока километрах южнее города Секешфехервара, где были найдены его останки и документы. Награжден Орденом Славы первой степени, посмертно». Родным отправлено извещение о его смерти. А вы тут фашиста какого-нибудь лечите. Военврач возразил: – По уцелевшим частям обмундирования и белья, смею утверждать, что это боец Красной Армии. – Противотанковая батарея капитана Кравченко погибла полностью, включая комбата, – настаивал смершевец, – кроме нескольких бойцов, которые, возможно, сдались в плен. – Никто, ты слышишь, сука, никто в плен не сдался! Взрывами их разорвало, танками в землю вкатали, ты слышишь меня, – это кричал Леха, по его телу, как будто прошел электрический разряд, и он почувствовал свои ноги. Он готов был зубами рвать того, кто это сказал, рванулся всем телом и вновь потерял сознание. Вновь заговорил доктор: – Товарищ лейтенант, попрошу вас удалиться. Я думаю, боец в полном объеме ответил на все ваши вопросы. – В общем-то, да, – согласился лейтенант. – Когда будете повязки с лица снимать, сообщите. Кого-нибудь из полка найду, опознание провести, ему же надо будет документы новые выписать, – уже уходя, добавил: У вас, доктор, своя служба, а у меня – своя, врагов и предателей пруд пруди. И не надо на меня так смотреть! – и удалился.
– И не надо на меня так смотреть, гражданин Макарычев, – снова сел в свое кресло начальник милиции Гончарук, – вот факты, протоколы, мы обязаны принимать меры. При этом он стал еще пристальнее всматриваться в глаза и выражение лица старика. А тот, наконец, стал понимать, для чего он здесь. Лицо старика Макарычева сначала стало похоже на лицо пьяного дебошира, который вчера накуролесил чёрте что, а сегодня вспомнить не может и сожалеет о том, что произошло, глаза его выражали извинение. Но недолго, секунд десять. Потом было лицо ребенка, которого ведут в зубной кабинет, а он смотрит на маму, прося помощи. Это тоже длилось недолго. Лицо Макарычева стало темнеть, на нем начали просматриваться все мышцы, а глаза… его взгляд впечатал Гончарука в спинку кресла. А в последнюю долю секунды блеснула какая-то озорная искорка. Старик медленно встал, выпрямился… Нет, это был не возглас, не крик даже, это был рык льва: – А, ну-ка встать! Гончарук подскочил как на катапульте, по пути даже успел надеть фуражку. Голос старика потряс подполковника, он еле сдержал желание вскинуть руку к козырьку. – Вот так, смирно стоять перед участником парада Победы тысяча девятьсот сорок пятого в городе-герое Москва, – взял своишахматы и, уже уходя, негромко добавил: Развели тут балаган! Выполнить команду «встать» у Жигалова получилось гораздо хуже, чем у Гончарука, во-первых, любые команды он выполнял крайне редко, во-вторых, он был в раздумьях о чем-то своем и отреагировать должным образом не успел. На коленях у него лежала кожаная папка с неисправным замком, она упала, и из нее высыпались бумаги, а сверху папки лежала фуражка, которая тоже упала и докатилась почти до ног Макарычева. Гончарук смотрел на это так, как будто ждал, что в завершение картины дед Балатон, уходя, пнет эту фуражку с такой силой, что она улетит в дальний угол кабинета, туда, где за сейфом стояли переходящие Красные знамена. Но старик Макарычев этого не сделал. – Так, так, так… – выхаживал по кабинету Гончарук. – Как ты там писал, капитан, старый уголовник? А? Пьяница? Ты запрос в военкомат сделал? – Так точно! – гаркнул Жигалов, уже стоявший навытяжку. – Да не ори ты, сядь! И так в ушах звенит Так, так, так… Гончарук поднял телефонную трубку: – Дежурный, соедини меня с военкоматом. Заглянул помощник дежурного: – Товарищ подполковник, следующего заводить? – Отпустить всех по домам! Потом будем разбираться. Свободен! Помощник дежурного, хлопнув дверью, удалился. Зазвонил телефон. – Алло, привет Министерству обороны, – поздоровался с военкомом Гончарук. – Привет, привет, Министерство внутренних дел! Военком Черняев был человеком громогласным, и Жигалов отчетливо слышал каждое его слово, доносящееся из телефонной трубки. – Там запрос был от нас на ветерана, Макарычева Алексея Егоровича, 1918 года рождения, пришло что-нибудь? – Сейчас посмотрим, – слышно было, как военком кому-то крикнул, – зайдите ко мне! А зачем он тебе, ветеран этот? – На принудительное лечение в ЛТП мы его хотим отправить, – не подумав, ляпнул Гончарук, и тут же пожалел о сказанном, – вернее, хотели… – Так, есть. Пришел ответ из архива Министерства обороны. – Петр Михайлович, – обратился с просьбой Гончарук, – ты мне его перешли, пожалуйста, как положено, по инстанции. А сейчас, если можно, прочитай, – и взяв ручку, приготовился записывать, – хотя бы награды. – Да, медаль «За отвагу» сорок третий год, – повторял за Черняевым Гончарук, записывая, – орден Красной Звезды за Курск, орден Отечественной войны первой степени за Днепровскую операцию, солдатский орден Славы третьей степени, сорок четвертый год, Карпаты, орден Боевого Красного Знамени. Каждая из перечисленных наград пудовой гирей ложилась Жигалову на плечи, и казалось, что стул, на котором он сидел, не выдержит, у него разойдутся ножки. И еще он отчетливо представлял себе, что в ближайшие полчаса он будет очень бледно выглядеть. – Солдатский орден Славы первой степени, – продолжал повторять за военкомом Гончарук, – озеро Балатон, Венгрия, город Секешфехервар, посмертно, – затем он перестал повторять и записывать, поднял голову и стал пристально смотреть на Жигалова. А подполковник Черняев из трубки продолжал: – Именные, наградные часы от командующего фронтом, а также медали «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над Германией», участник Парада Победы тысяча девятьсот сорок пятого года в Москве, – затем после короткой паузы он произнес: Извини, Александр Леонидович. Не успевшая лечь на телефон трубка сообщила: – Твою дивизию мать, начальника четвертого отдела ко мне быстро! – и связь оборвалась. От того, что сейчас небо покажется с овчинку не только ему одному, Жигалову стало чуть легче. – Так, так, так, так – вновь начал нарезать круги по кабинету Гончарук. Покопавшись в ящике стола, поднял трубку: – Дежурный, соедини с Домом пионеров. – Алло, Лариса Ивановна! Это начальник милиции вас беспокоит, извините за нескромный вопрос, а вы что заканчивали, пединститут? Там вам географию преподавали? Если бы преподавали, то вы бы знали, что Балатон – это озеро в Венгрии, а не уголовная кличка, как вы пишите в своем заявлении! А Секешфехервар – это город там же, в Венгрии! А если бы вы учили историю, вы бы знали, что Венгрию освобождала от фашистов Красная Армия, и в том числе, опять же, как вы пишите, тот самый пьяный матерщинник! Дорогая вы моя, Лариса Ивановна! – и заканчивая разговор, крикнул: Дура! – Жигалов, а? Жигалов, ты кого мне привел? Как ты мне говорил: «Пятнадцать лет на участке, каждый пень знаю»! Так ты мне говорил, капитан? Немного выручил зазвонивший телефон. Гончарук снял трубку. – Саня, – военком Черняев впервые называл его так, хотя у них были хорошие отношения, даже выпивали вместе не раз, – если ты Макарычева Алексея Егоровича на принудительное лечение отправишь, то мы с тобой следом поедем, выделят нам двухъярусную кровать. Чур, я на нижнем ярусе, – невесело пошутил военком, ты меня хорошо понял? Он еще что-то говорил, но негромко, Жигалов не услышал. – Да. Понял я, понял, – и трубка легла на телефон. – Жигалов, пятнадцать лет этот человек живет в городке, ты с ним встречаешься чуть ли не каждый день, и единственное твое умозаключение «старый уголовник»! Может ты устал, капитан? Может пора профессию сменить? В соседний кабинет начальника уголовного розыска Романова заглянул участковый Капацевич. – Привет, Николай Иванович, ты Ивана Жигалова не видел? Романов сначала приложил палец к губам, а потом спросил: – Миш, посмотри свежим взглядом, люстра не качается? – и поднял глаза к потолку, а потом также выразительно показал глазами на стену. – А стена не дрожит? – Нет, вроде не видать, а что у вас тут? И тут он сам услышал, что за стеной раздавался громкий крик начальника, чередующийся с ударами кулаком по столу. – Иван там? Слушай, я совсем забыл, мне бежать надо, – и очень быстро удалился. – Что ж, надо, так надо, – сказал уже себе Романов. Когда рубашка Жигалова со стороны спины пропиталась потом, а его ноги стали предательски подкашиваться, начальник, наконец, выдохся, присел и заговорщически произнес: – Сейчас берешь, Иван Егорович, мою машину с шофером, час тебе сроку, нет полтора, найдешь две бутылки коньяка, который ни ты, ни я в жизни не пили, поеду попробую с дедом замириться. – А где же я найду-то? – начал было Жигалов. – Вон у тебя армяне комбинат бытового обслуживания строят, грузины склад на элеваторе ремонтируют, в райпо езжай, в конце концов! Что я тебя учить должен? Не найдешь, пеняй на себя, все, время пошло! Участковый собрался было уходить, но Гончарук задержал – Ты знаешь кто у него однополчанин? Мне военком по секрету сказал, – и на ухо шепнул фамилию, от которой Жигалов проникся серьезностью положения и сразу рванул с места. А что же старик Макарычев? Он спокойно вышел из милиции и через площадь направился на свое любимое место, в парк. Дойдя до середины площади, вдруг остановился и громко сказал: – Жениться что ли? – и так же громко рассмеялся, впервые за долгое время. Жениться он, конечно же, не собирался, это память подкралась к нему незаметно, через солнечный день, через добрых, улыбающихся людей, через вот эти, стоящие по краю площади, красавицы ели. Точно такие же ели были в большом карпатском селе, где их полк стоял летом сорок четвертого года, находясь в резерве штаба армии, в ожидании танкоопасного направления. Если разведка докладывала, что есть опасность танковой атаки немцев, их бросали туда. Их ИПТАП девятнадцать сорок семь дрался, теряя до половины состава и пушек, потом их опять отводили в тыл, доукомплектовывали, и они ждали, потом опять выдвигались на позиции, умирали, теряли товарищей своих, жгли фашистские танки и уходили в тыл, такова судьба истребительного противотанкового артиллерийского полка армейского подчинения. Все давалось нелегко, даже часы отдыха, они тоже выматывали. Когда тебя кинут в пекло – сейчас или через неделю, а может быть, через месяц? И куда? Может, за десять километров, а может, за сто? И успеешь ли ты там, куда кинут подготовиться, окопаться? Или же с ходу в бой, при этом неся самые большие, самые страшные потери. Вот в таком ожидании они проводили время, находясь в украинском селе в Карпатах. Там в первый раз заряжающий Сашка Буратино и сказал эти слова, которые стали крылатыми. – Жениться что ли? – вопросительно поглядел на Бабыню. – А что, женись, погуляем, – подхватил тот. Село было почти не тронуто войной, было в нем много солдаток и вдов, а так как это была Западная Украина, то мужья их не все, скажем так, воевали за Красную Армию. Словам Буратино никто особого значения не придал, посмеялись и забыли, но через неделю он подошел к командиру батареи капитану Кравченко: – Товарищ капитан, разрешите обратиться? – Валяй, что у тебя? – Жениться я надумал, товарищ капитан. – Что это вдруг? – удивился капитан. – Любовь, товарищ капитан, любовь, – говорит Сашка нарочито громко, чтобы слышала стоящая метрах в десяти за его спиной, крепкая телом деваха в вышиванке. Комбат понизил голос, – на ней что ли? – Буратино утвердительно кивнул. – Слушай, не мое дело, конечно, но как-то она не очень… – Она-то ладно, – перешел на шепот Сашка, – у нее кабан по двору ходит, как немецкий мотоцикл ростом. Каша уже поперек горла. – Да?! – Угу! – Ладно, документ о браке я тебе выпишу, только потом вернешь, понял? – и уже громко: Что ж, коли надумали, совет вам да любовь. Кабана всем взводом съели за два дня, еще через два Буратино сбежал от молодой жены, прихватив свидетельство о браке, а вскоре их отправили на передовую и в это село они больше не вернулись. История эта, много раз приукрашенная, еще долго гуляла по всей их армии. И бойцы часто, особенно когда было трудно с кормежкой, говорили: – Буратино, может тебе жениться, а? Так бывало на войне. Солдаты, которые были участниками тех или иных событий, погибали, выбывали по ранению, приходили другие, а поговорки и присказки, связанные с ними, жили. Почти никто в полку в глаза не видел ни капитана Еремина, ни подполковника Фисенко, а многие вообще не знали, кто это, но весь полк, от командира батареи до ездового, знал, что «материальная часть, то есть пушки, должны блестеть как сапоги у подполковника Фисенко». «Жениться что ли?» – через три месяца все, кому не лень в полку и даже в армии, пытаясь показать свою удаль и разухабистость, ставили перед собой этот вопрос, и при этом все дружно смеялись, а то, что автор этих слов Сашка, со временем забыли, кроме близких друзей, конечно.
БАБЫНЯ. ШУХРАТ. БУРАТИНО
С Буратино Леха Макарычев познакомился в июне сорок третьего, перед Курском, когда они с Шухратом Балтабоевым впервые прибыли на батарею. На станине орудия сидел и курил молодой капитан, вернее, человек с накинутым на плечи ватником, на который были нашиты погоны капитана артиллерии. Леха с Шухратом подошли, доложили по всей форме, протянули документы. Капитан долго и тщательно их перечитывал, бросая взгляды то на одного, то на другого, потом встал и вручил им ведра: – Товарищи Макарычев и Балтабоев! На батарею должна нагрянуть комиссия, а у нашего орудия колеса грязные, номера не читаются, нужно принести воды и хорошо отмыть колеса! Неизвестно, чем бы закончилась эта история, но в этот момент из расположенной невдалеке землянки вышел еще один капитан и, обращаясь к сидевшему тут же старшему сержанту, спросил: – Бабыня, я не у тебя свою телогрейку оставил? Старший сержант, улыбаясь, промолчал, а первый капитан рванул ко второму со словами: – Так точно, товарищ капитан, туточки. И через минуту вернулся к вновь прибывшим уже рядовым и протянул руку: – Саня Деревянко, можно просто Буратино! Леха у нас уже есть, – он взглядом указал на старшего сержанта, – поэтому ты будешь Макар, а вот с тобой сложнее, рядовой Балтабоев, у тебя дед, наверное, болты забивал. – Нет, Буратино, – вмешался старший сержант, – он один болт забил, на тебя. – Да, нет, – Шухрат улыбнулся, «болта» – это по-русски топор. – Старший сержант Бабыня, звать Алексей, исполняю обязанности командира взвода. – Разрешите доложить, – начал, было, Леха, но тот отмахнулся, – комбат сейчас побреется, выйдет, ему и доложите. Обращаясь к Шухрату: По-русски говоришь без акцента, где выучил? – Я до войны еще срочную отслужил, да и в Ташкенте русских сейчас очень много. Через несколько минут из землянки вышел комбат: – Что тут у тебя, Бабыня, пополнение прибыло? – Так точно, товарищ капитан. Макарычев и Балтабоев сделали шаг вперед: – Товарищ гвардии капитан, – начал Леха, – рядовой Макарычев для дальнейшего прохождения службы прибыл. – Рядовой Балтабоев… – вторил ему Шухрат. Тут влез вездесущий Буратино: – Товарищ капитан, документы я у них проверил, хорошие ребята, вот этот, указывая на Леху, из Сибири, охотник, белку в глаз бьет на лету, а второй болты умеет забивать топором! – Замолчи ты уже! – одернул Бабыня. – Балабол. Товарищ капитан, в расчет наводчик нужен, Демченко выбыл по ранению, вы же знаете. – Бабыня, у тебя здесь что твориться? Один командира перебивает, другие двое документы свои отдали неизвестно кому. Что у тебя с дисциплиной, Бабыня? Устроили здесь балаган! – и ушел в землянку. Служить во взводе Бабыни посчитал бы за честь, наверное, каждый в полку. Он был бронебойщиком от бога, опасность умел предвидеть за многие часы и километры, пушки своего взвода расставлял так, что немецкие танкисты замечали их, уже получив в бок снаряд. Часами мог сидеть, рисуя на бумаге карту предстоящего боя, чертя схемы передвижения танков. Бывало в бою возьмет, да и переставит пушки своего взвода в нарушение всех приказов. А дело-то в малом: на местности есть ложок, которому командование не придало значения, а Бабыня приметил. И получалось, что при выходе из ложка танки на несколько секунд подставляли свое слабо защищенное брюхо, и тут, как говорится: «Маэстро, музыку!». Бабыня постоянно готовил немцам все новые и новые сюрпризы: «огненный мешок», «карусель», «ложная батарея», при этом очень бережно относился к своим бойцам. Вот и сейчас, инструктируя Леху, говорил: – Хороший наводчик десять пушек стоит, без него пушка – кусок железа. Тут тебе не дивизионная артиллерия, они бьют по площади, сами не видят, куда снаряды летят, а у тебя каждый выстрел, как ниткой в игольное ушко, и выстрелов у тебя три, максимум – четыре. Потом они тебя обнаружат – и все! Шансов у тебя никаких. Немецкие танкисты за пяти-, десятисантиметровой броней, а у тебя щиток восемь миллиметров. Прицелы у них отличные, да и подготовка на высоте. Поэтому, как только они завертели башнями, пушки на тебя наводят, нужно быстро покинуть позицию. Потом Бабыня посмотрел на Балтабоева: – От тебя тоже очень многое зависит. Снарядов на позиции много быть не должно. – Так точно, немец ударит, снаряды сдетонируют, – сообщил обрадованно Шухрат. – Правильно соображаешь! Поэтому метрах в десяти копаешь промежуточный окоп и там складируешь боеприпасы. По первому требованию, по кивку головы, по движению бровью ты должен быть возле пушки со снарядом в руках. Причем, если тебе оторвало руку или ногу, снаряд должен быть на месте все равно. А еще служить с Бабыней было тяжело, гонял он нещадно, даже в тылу заставлял копать окопы полного профиля. Проводили тренировки-расчеты с утра до вечера. По его команде пушки появлялись из-под земли, делали выстрел и через секунду опять исчезали. А сам уйдет за километр и в бинокль рассматривает, оценивает маскировку. Потом придет и делает замечания: – Федотов, – обращаясь к командиру третьего орудия, – я твою башку три раза видел. Что ты ее выставляешь-то? Макар вон метр девяносто вымахал, я его ни разу не заметил, а ты ростом с суслика, а все туда же! – Да, ладно командир, не на передовой же. – На передовой ты бы уже без головы был. Орудия выкатывать на прямую наводку, целиться в меня, – опять уходил, а в бинокль проверял качество наводки. – Запомните, орёлики, мы противотанковая артиллерия, «чем длиннее ствол, тем короче жизнь», слышали, наверное, все, что мы сейчас делаем, это для того, чтобы жизнь вашу продлить! Ясно?! Справедливости ради нужно сказать, что многое из того, что делал командир взвода старший сержант Бабыня, было либо с нарушением устава, либо с нарушением чьего-то приказа. И за него много раз пытались ухватиться особисты и даже смершевцы, но оправданием ему служили танки – сожженные, покореженные, пробитые насквозь, с обугленным экипажем и без него. Танки, которые оставались там, где стоял его взвод. Взвод Бабыни, конечно, тоже нёс потери. Под Курском попали в окружение и, бросив поврежденные пушки, три дня пробивались к своим. При форсировании Днепра полк понес потери до половины личного состава. Едва они сгрузили орудия с плотов, как пошли немецкие танки. Бой был страшным, но и тогда, и потом еще много раз Бог сохранял им жизни. Шестеро из их взвода получили ранения. На фоне потерь полка, армии и всего фронта – это выглядело сущим пустяком, а они, Алексей Бабыня, Леха Макар, Сашка Буратино и Шурик Балтабоев без серьезных ранений прошли Украину, штурмовали Карпаты, громили врага в Румынии и Венгрии, вплоть до самого судного для них дня. День этот неумолимо приближался. Судным он станет не только для них, но и еще для нескольких таких же истребительных противотанковых полков, а также для нескольких стрелковых дивизий, для армии, для всего фронта. Разведка доложила, о том, что немцы готовят танковый удар между озерами Балатон и Вельце. Какой силы будет удар, точно установить не удалось. Особого беспокойства командование фронтом не проявляло, стрелковым дивизиям был дан приказ готовиться к обороне, на передовую были брошены все истребительные противотанковые полки и штрафные батальоны из резерва армии и фронта. Оборона строилась в несколько линий, если враг прорвет первую линию, то через несколько километров наткнется на вторую и так далее, до пятидесяти километров в тыл. Выражаясь военным языком, это была глубоко эшелонированная оборона. Полк, в котором служил Леха Макарычев, расположился во второй линии, на крайнем левом фланге. Батареей командовал капитан Кравченко, из своих, из доморощенных, начинал сержантом. Командир орудия Алексей Бабыня специальным приказом и безо всякого обучения тоже получил звание лейтенанта, но так и остался командиром своего взвода. Леха Макар стал сержантом. Шухрат Балтабоев, после долгих и трудных переговоров с Буратино, все же стал Шуриком или Шуркой. Вот и сегодня, сидя на краю окопа, с грустью поглядывая в сторону тыла, Буратино произнес: – Что-то жрать не несут? Александр, не мог бы ты сходить на кухню? – Я не Александр, я Шухрат, – добродушно улыбнулся тот. – Но я ведь тоже не Буратино? – Нет, нет, вот ты как раз Буратино и есть, и не потому что фамилия у тебя Деревянко, а потому, что ты нос свой суешь везде, даже туда куда совсем не положено. – Это куда я свой нос сунул? Спор прекратился, как только на позиции появился незнакомый старшина с двумя вещмешками и двадцатилитровым термосом. Заметив Бабыню, доложил: – Старшина Фонарев, с сегодняшнего дня назначен старшиной батареи. Москвич коренной, – выдержав паузу, явно ожидая реакции и поняв, что реакции не будет, сухо добавил, – питание, каша, тушенка, водка. – Братцы, обед! – закричал Буратино. – Жратва пришла! Стали подходить бойцы, гремя котелками. Старшина начал выдавать продукты: – Фляжка водки на пятерых, банка тушенки на двоих, – распоряжался Фонарев, но слова его были неуместными, старшина Яремчук просто приносил продукты, и никогда никто ничего лишнего не взял. Потому что знали, возьмешь лишнее, кто-то будет голодным. – А где Яремчук-то? – спросил Леха Макар. – Говорили у него вся… – Фонарев похлопал себя рукой ниже спины, – чирьями покрылась, в госпиталь отправили. – Тушенки, наверное, обожрался, – съехидничал Буратино. Фонарев заметил Балтабоева: – Люблю узбеков, после них водка и свиная тушенка остается, ха-ха-ха! Шурка Шухрат подошел к старшинским вещмешкам, достал банку тушенки, налил больше половины кружки, выпил залпом, закусывая с ножа кусками свинины, произнес: – Если бы Аллах был, он бы не допустил всего этого, войны этой, проклятой, – потом добавил, – а я не люблю москвичей. – Это почему, позвольте полюбопытствовать? – начал заводиться старшина. – Вот вы подошли, сказали, что вы коренной москвич, наверное, надеялись земляков встретить? Только нет их тут земляков ваших, они в эвакуации в Алма-Ате да в Ташкенте. – Ну, знаешь, с такими разговорами можно и по морде получить! – вскочил старшина. – Отставить! – вмешался Бабыня. – Старшина, идите кормить второй взвод. И когда Фонарев ушел, извергая глазами молнии, по-свойски спросил: – Что ты, Шурка, завелся-то? – Обидно мне стало, узбеков он любит, халявщик хренов. У меня командир, трое детей было, когда призвали, жена четвертого родила уже без меня. И при мне-то голодно было, лепешки да вода, а лепешки тоже на воде. А эти эвакуированные понаехали, творческая интеллигенция, морды у всех сытые, денег полные карманы, плов на базаре жрут. Мне не понятно было, как так, немец к Москве подошел, к твоему дому. Бери оружие и защищай свой дом. А узбеков из кишлаков на фронт, они мальчишки совсем, даже паровоза никогда не видели, ты же сам видел командир, какие они вояки. Первый артобстрел или бомбежка, они в кучу сбиваются и «Мама!» кричат. Мина прилетела и все, целого взвода нет. Ладно я, хоть у меня и четверо детей дома сидят, я срочную до войны отслужил, какой-никакой опыт есть, а они же дети еще совсем. – Родственники что ж семье не помогут? – Жена у меня татарка, не приняли ее родственники мои, чужая, хоть и мусульманка, и от меня отвернулись, когда я на ней женился, отца ослушался. Я ведь ее со службы привез. – Да, грустная история, – Бабыня призадумался, – а на москвичей ты может и зря. Как дивизии народного ополчения из Москвы в сорок первом уходили на фронт я видел. Правда, толку от них было не особенно много, – не подготовленные, слабо вооруженные. Два часа – и дивизии нет, но немца все же задерживали, хоть на два часа, хоть на час, но задерживали же. Я помню случай, колонну из Москвы на фронт отправили, на автобусах, без оружия, в гражданской одежде. Прямо как будто в колхоз, на картошку, а здесь танки немецкие, и давай эту колонну в упор расстреливать и гусеницами давить. Я ведь тогда тоже веру потерял во всё и во всех, духом пал, думал, не остановим немца никогда. Потом увидел вон их, – Бабыня кивнул головой на Леху Макара: – Дивизии сибирские на станции выгружались, танки, пушки, бойцы сытые, отлично обмундированные, вооруженные до зубов, с эшелона и сразу в бой, да как жахнули… Немец и побежал. Вот тут вера ко мне вернулась. Нет, господа фашисты, мы еще повоюем! Потом пленных увидел, – продолжал Алексей, – недели через две. Жалкие, обмороженные, полураздетые, раненые. Вера моя сменилась уверенностью, что война закончится в Берлине! – И вот мы почти доехали, – вставил до этого внимательно слушающий Буратино. – Товарищи пассажиры, следующая остановка – Берлин! Нам на выход, – и уже к Балтабоеву, – так что Александр, крысы есть везде. Тот кивнул. – Вот у вас в Сибири есть? Товарищ сержант Макарычев? – Я не Александр, я Шухрат – возмутился Шурка. – Все поздно, ты уже согласился. Все засмеялись, махнул рукой и Шурка. – Да иди ты… в Берлин! – Обязательно пойду, – парировал Буратино, – и вас всех с собой возьму. Представляете, заходим мы в кабинет к Гитлеру, а я ему говорю: «Господин Гитлер, у нас накопилось много вопросов к вам!» При этом Буратино не только говорил, но и показывал, как он открывает двери, как заходит в кабинет. На смех начали подходить бойцы из других подразделений. – Мы думали к вам артисты приехали. – Нет, Буратино свой концерт дает! Чуть позже подошел молоденький лейтенант: – Я ищу командира артиллеристов. – Подходи сюда, – отозвался Бабыня, который достал из вещмешка полученное раньше новое обмундирование и теперь подшивал белый подворотничок. Застав командира за таким занятием, лейтенант, который ожидал увидеть хотя бы капитана, вместо положенного «Разрешите доложить, прибыл в ваше распоряжение» вяло произнес: – Вот, прислали к вам. – Зачем прислали, за пряниками что ли? Лейтенант, вы, что устав забыли? Доложите, как положено! Бабыня быстро поставил его на место, тот вскинул руку к козырьку: – Виноват! Командир стрелкового взвода лейтенант Магазинщиков с взводом прибыл в ваше распоряжение. – Вот теперь вы похожи на командира. После училища? – Так точно! – Боевой опыт есть? – Никак нет! – А во взводе сколько бойцов имеют боевой опыт? – Из тридцати человек шестеро принимали участие в боях. – Полчаса на отдых. Потом с этими шестерыми бойцами прибыть ко мне. Ясно? – Так точно! Разрешите идти? – Идите. Лейтенант повернулся, чтобы уйти, но тут влез Буратино: – Товарищ лейтенант, разрешите обратиться? – Ну да, – опять растерялся лейтенант. – А вы случайно до призыва не по коммерческой части занимались? – Я только школу закончил и в училище сразу. – Буратино, – прикрикнул Бабыня. – Ступайте, лейтенант! При этом он показал Сашке кулак. В назначенное время лейтенант Магазинщиков прибыл со своим взводом. Они стояли, два лейтенанта, один молодой, восемнадцатилетний выпускник ускоренных командирских курсов, другой на десять лет старше, прошедший всю войну, с первого дня. Стояли и смотрели на огромную долину, простирающуюся на десятки километров. – Когда пойдут танки, неизвестно, сколько их будет, неизвестно. Точно известно одно – они пойдут! И что-то мне подсказывает, что их будет много, – говорил Бабыня отрывисто, с хрипотцой в голосе. – Если их будет пятьдесят – это одно, если двести пятьдесят – совсем другое. Возьмите бинокль, смотрите туда. Что видите? – Примерно в двух километрах от нас вижу противотанковые орудия, десять штук, – ответил Магазинщиков. – Правильно было бы сказать: вижу плохо замаскированную противотанковую батарею. Это батарея капитана Долгова, и у нее самая тяжелая участь. Если немцы прорвут первую линию обороны, то пойдут прямо на Долгова. Батарея будет вести огонь в лоб, привлекая на себя внимание. Мы будем стрелять сбоку из засады. Рано или поздно они нас обнаружат и пойдут на нас. Слева у нас еще две замаскированные пушки, так что когда танки пойдут на нас, они подставят свой бок этим пушкам. Если они уничтожат нас и пойдут на эти пушки, у нас останется последнее орудие, которому они опять же подставят бок. Понял? – Так точно! – у Магазинщикова было удивленное лицо. –Да тут целая наука. – Точно, наука, карусель называется. – Нужно, чтобы у немецких танкистов появилось ощущение, что по ним бьют со всех сторон, что они в «огненном мешке», и тогда у них появляется страх. Твоя задача, – продолжал Бабыня, – внимательно осмотри батарею Долгова и сделай со своими бойцами такую же точно, из дерева. Срубите жерди вместо пушек, замаскируйте ветками, чтобы ни я, ни ты, ни немцы в бинокль не смогли отличить её от настоящей батареи. Ты, лейтенант, всем нам минут пятнадцать жизни подаришь, и капитану Долгову тоже, а обстрелянных бойцов мне потом приведешь, им особая задача будет. – Где расположить ложную батарею? – А вот бы где ты её расположил? – Я бы, – Магазинщиков аж покраснел от такого доверия, – метрах в ста от крайней правой пушки. – Правильно мыслишь, лейтенант, только сто – это мало, метров двести. – Разрешите выполнять! – Действуй, я думаю до утра у нас время есть. Лейтенант направился к своему взводу, но его вновь тормознул Буратино: – Товарищ лейтенант, разрешите обратиться. – Я слушаю. – Если выживем и до конца войны протянем, то я вам все ж таки настоятельно рекомендую попробовать себя по коммерческой части. Извините, но с такой фамилией… – Ефрейтор Деревянко, ко мне, бегом, – Бабыня разозлился не на шутку, а Леха Макар с Шуркой – Шухратом присели со смеху, держась за животы. Минут через пять Саня вернулся: – Ребята, что-то мне командир не нравится сегодня. – А он тебе сейчас и не должен нравиться, он же тебя только что «поблагодарил за службу», – со смехом сказал Леха. – Не в этом дело, покричал он, конечно, для виду, а глаза грустные такие. Опять же форму надел новую, белье поменял, подшился, ордена надел все свои, как будто на парад или… – Да сплюнь ты, балабол, – одернул Леха, хотя перемены во взводном и сам заметил. Прибежал вестовой: – Лейтенанта Бабыню в штаб полка. В штабе полка его ждал офицер связи штаба армии: – Генерал-майор Ермолаев приказал вас доставить, садитесь в виллис. Когда прибыли на наблюдательный пункт армии, у Бабыни от звезд зарябило в глазах, но у него на груди были такие ордена, что курившие на входе подполковники уважительно расступились. Совещание шло полным ходом. Возле карты стоял начальник разведки армии: – Предположительно немцы ударят сегодня ночью, авиационная разведка доложила: танки выстроили в колонну в районе Секешфехервара, оттуда и следует ожидать удара, также мы располагаем сведениями, что на танках установлены новейшие приборы для вождения ночью, – молодой полковник указал на карту. – Вот здесь они начнут выстраиваться в боевые порядки, здесь будут выполнять боевой поворот. – Сколько танков засекла разведка? – спросил командующий армией. – Около восьмидесяти, товарищ генерал. – Кто еще хочет высказаться? Поднялся генерал, командир стрелковой дивизии: – Удар восьмидесяти танков наши гвардейцы выдержат, не сорок первый год. На правом фланге предлагаю разместить танковый полк Т-34. Если немцам все же удастся прорвать первую линию обороны, наши танки ударят в фланг. В этот момент генерал Ермолаев заметил Бабыню: – Товарищи, Алексей Бабыня, лучший истребитель танков в нашей армии. Мы с ним с самого начала вместе, только я все по штабам, так сказать, а он на передовой. Подходи ближе, Алексей, все слышал? Что скажешь? – Товарищ гене… – Ермолаев прервал, – давай без этого, времени нет. – Тогда вопрос к товарищу полковнику, начальнику разведки. – Задавайте, – кивнул генерал. – Когда авиаразведка обнаружила немецкие танки, они стояли или шли? Если они стояли, то какое расстояние было между ними? Третий вопрос: танки стояли случайно не на краю лесного массива? – Отвечайте, полковник, – произнес генерал. – Танки находились действительно на краю леса, они стояли, и расстояние между ними было около двухсот метров. Только мне это ни о чем не говорит. – Разрешите, товарищ генерал? – Говори, Алексей. – Это не колонна, немцы не дураки, чтобы вытягивать колонну на пятнадцать километров. Каждый танк, который засекла авиация, правофланговый, ночью из леса выйдут к нему еще по пять, а может, по шесть. То, что видела авиация, это уже построение в боевые порядки, и ударят они без всякого боевого поворота, на рассвете. Я закончил. Штаб загудел как улей. – Это возмутительно. – Паникерство. – Вы что хотите сказать, что разведка не обнаружила пятьсот танков противника? Генерал Ермолаев посмотрел на Алексея. Тот обратился к нему: – Товарищ генерал, я высказал свое мнение. Разрешите идти? – Идите, Бабыня, и дай Бог, чтобы вы ошиблись. И уже когда тот вышел, добавил: За всю войну я не помню, чтобы он хоть раз ошибся. Такой прием немцы уже применяли под Курском. В штабе воцарилась тишина… Уже через час, докладывая обстановку командующему фронтом, Ермолаев высказал свои опасения: – Возможен удар более чем пятистами танками противника. В основном это будут «тигры», «пантеры», а также новый «тигр-2». – Если это произойдет, генерал, как мы сможем их остановить? – Товарищ маршал, наша противотанковая артиллерия, вооруженная пятидесятисемимиллиметровыми пушками ЗИС-2, при лобовой атаке не сможет причинить особого вреда вышеперечисленным танкам. – Генерал, я спросил, как мы их остановим? – Никак, товарищ маршал. – То есть пусть они до Москвы едут? – Никак нет, товарищ маршал, я предлагаю дать танкам выработать ресурс топлива и снарядов, за это время мы подтянем дальнобойную артиллерию и несколько дивизионов «катюш» и накроем вторую волну, в которой будут заправщики и грузовики со снарядами для танков. – Хорошо, действуйте! – Товарищ маршал, если это все же произойдет, разрешите отвести армию хотя бы на десять километров? – Нет, не разрешаю, они солдаты, пускай дерутся! – Но ведь это верная смерть. – Генерал, я тоже человек и все прекрасно понимаю, но отвести организованно у вас не будет времени, а неорганизованное отступление называется бегством. Если вы побежите, то они сядут вам на плечи, и тогда, точно, не до Москвы, но до Будапешта добежите.Уснуть в ту ночь Леха Макар так толком и не смог, так, впадал в полузабытье и через несколько минут просыпался. Обстановка на батарее была гнетущая еще с вечера. Бойцы по примеру Бабыни надевали новую форму, конечно, у кого она была, подшивали свежие подворотнички, тщательно брились, писали письма, даже сапоги зачем-то чистили. «С ума все посходили, что ли?» Лехе казалось, что страшней того, что пережили за эти почти два года вместе со своими друзьями, просто быть не может: – Подумаешь, танковая атака, в первый раз что ли? Мы-то во второй линии обороны, сюда немцы могут и не дойти. В первой линии ребята тоже не лыком шиты. И позиция у батареи лучше не придумаешь. Пушки стоят на возвышенности, посередине склона, среди зарослей кустарника, впереди небольшой овражек, который танки сходу не проскочат. У Лехи в вещмешке тоже лежала новая форма, которую он получил месяц назад, но надевать он ее не стал. – Через месяц, другой в Берлине будем там и надену. Под утро вроде закемарил, проснулся от какого-то непонятного гула, еле слышного, как будто гудело в голове. Вылез из наскоро выкопанной, забросанной ветками землянки. Гул усиливался, никто уже не спал, бойцы растянулись по окопам, подошли автоматчики Магазинщикова. Все тревожно вглядывались в серую даль, а гул все нарастал и нарастал. Начало светать, и уже без бинокля стали видны маленькие черные коробочки. И теперь каждый из бойцов понял, что это за гул. Это многие и многие сотни тысячесильных танковых моторов. Леха Макар, как и все остальные бойцы батареи, находился на высоте и в стороне, на краю долины, которая простиралась на десятки километров. В этой ситуации они были зрителями огромного амфитеатра, а через час, может меньше, все события развернутся там внизу, на арене, там проходит первая линия обороны, да и их вторая тоже проходит там же, только на пять-семь километров южнее. Ожидаемо и все же неожиданно немецкая артиллерия начала артподготовку. Тридцать минут она утюжила наши передовые части. Тысячи разрывов наполнили долину грохотом, дымом и гарью. Отсюда сверху казалось, что там не осталось ни одного квадратного метра, куда бы ни упал снаряд или мина. Из-за этого дыма танки были не видны, а вести по ним огонь тем, кто остался в живых, там, в этом аду, было невозможно. Когда дым рассеялся, танки оказались рядом, почти на линии обороны. Ни Леха Макар, ни взводный Бабыня, ни комбат Кравченко, ни командир полка не знали, что немцы бросили в этот прорыв более восьмисот танков. Первыми шли сто двадцать новейших семидесятитрех тонных «королевских Тигра», затем более четырехсот «пантер». Завершали шествие этого зверинца множественные самоходки. С позиции батареи Кравченко они не казались танками, это было стадо огромных доисторических животных, которые величественно передвигались по долине, подминая под себя все живое, что оказалось на их пути, батальон за батальоном, полк за полком. И вот дрогнула пехота, не выдержала, побежала, и тут же десятки танковых пулеметов ударили ей в спину, выкашивая своими огненными струями все, что хоть немного возвышалось над землей: человеческие тела, кустарники, высокую траву. – Ложись, ложись, – почти шепотом говорил, вытирая слезы, лейтенант Магазинщиков, который стоял рядом с Лехой. – Ну что же вы, братцы! Нельзя бежать, никак нельзя! Немцы ударили не в лоб, относительно передовой линии, а, как и сказал генералу Ермолаеву Бабыня, вкось, слева направо. И теперь танки шли параллельно позиции их полка, пока далеко, километрах в трех, но они шли клином, и этот клин расширялся. Скоро он дойдет и до них, пятнадцатая, двадцатая шеренга обязательно подставит свои грязные пятнистые бока с белыми крестами, и тогда они посчитаются за всех, за тех, кто там внизу, за живых и за мертвых. А пока они просто стояли и ждали, не в силах, что-либо изменить. Леха Макар почувствовал солоноватый привкус во рту – кровь, он прикусил губу. Ярость клокотала у него внутри, страха смерти не было, было желание убивать, пожить бы еще день, полдня, хотя бы час, чтобы уничтожить еще одну мразь, еще одну нечисть, которая как саранча ползет, отнимая их с таким трудом завоеванные километры, отодвигая тот день, о котором все они мечтают. – Хорошо хоть без пехоты идут, – сказал Шурка-Шухрат, – у наших там больше шансов выжить! Меж тем, там, внизу, время от времени отмечаясь вспышкой пламени и черным дымом, стреляли наши пушки. Находясь среди танков, в полном окружении, они дрались до последнего, были видны подбитые немецкие машины. Но в этой лавине это выглядело мизером. Далеко впереди, справа из-за леска показались наши тридцатьчетверки, старые с маленькими башнями и семидесятишестимиллиметровыми пушками. – Куда, куда вы лезете, – с черным, как земля лицом, зарычал Бабыня. Он понимал, что такая тридцатьчетверка не могла нанести этим танкам ущерб более чем за четыреста метров. «Королевские тигры» начали расстреливать наши танки как на полигоне, как в тире, не останавливаясь, с ходу, с расстояния в два километра. Вот уже десять тридцатьчетверок горело. Двадцать. Уцелевшие начали отходить, а немцы все били и били по уже горящим танкам, разнося их башни и корпуса в куски бесформенного железа. Меж тем разрастающийся танковый клин начал достигать зоны поражения пушек батареи, и по полку прошла команда: – К бою! – Батарея к бою, – вторил ему Бабыня. – Орудие к бою, – кричал Леха Макар. Он припал к панораме прицела, руки сжимали рукоятки доводки, в голове была одна мысль: «Карать, карать»! Первой ударила батарея капитана Долгова, ведя беглый огонь, она привлекала на себя внимание. До первых выстрелов этой батареи танкисты чувствовали себя на этом фланге вольготно, их головы торчали из открытых люков, многие даже сидели на башнях, опустив ноги в открытые люки и в бинокли рассматривая окрестности. Это было совсем не «на руку» нашим бронебойщикам. После того, как немцы попрятались в танках, Бабыня слегка наклонился и начал говорить почти шепотом, будто боялся, что находящиеся не в одной сотне метров немцы могут услышать. Он в эти минуты был очень похож на хищника: – Леха, вон тот! Сейчас он зайдет в хороший градус, наводи между гусеницей и крылом, опережение половина корпуса, не торопись. Леха тщательно выцеливал, даже не дышал, ошибиться нельзя. Сейчас бок «королевского тигра» будет как раз под девяносто градусов, рикошета не будет: – Выстрел! И видавшая виды пушка ЗИС-2 слегка подпрыгнула и, вгрызаясь станинами в землю, влепила железному монстру кусок смертоносного металла. Танк встал, не загорелся, не задымил даже, просто встал. – Молодец, Леха! Как скальпелем сработал. Наверное, мотор повредил. Немцы их не обнаружили. Бабыня бегал от пушки к пушке. – Федотов, бей по ходовой, а как чинить вылезут, добавишь туда еще. В противотанковой артиллерии нет команды «Батарея, огонь!», каждый выстрел штучный, выверенный до сантиметра. – Леха, «пантера»! Этой под башню можно влепить! Давай родной, давай! Тело слилось с пушкой в единое целое, еще чуть-чуть, полградуса, еще миллиметр. – Выстрел! «Пантера» взорвалась, взрыв был изнутри, поэтому танк разорвало на части. – Батарея в укрытие! – Взвод в укрытие! – Орудие в укрытие! Посыпались команды, после чего пушки закатили в заранее подготовленные капониры. По ходу сообщения к ним пробрался комбат Кравченко: – Напротив, в позиции полка остановлено двадцать четыре танка, из них четырнадцать ремонтопригодные, десять безвозвратные, – сообщил капитан. – Сейчас они нас ищут, – горько усмехнулся Бабыня, – а потом как в детской считалочке «Кто не спрятался, я не виноват», а ремонтопригодные добивать надо, они вот сейчас вылезут, гусеницы перебитые починят и дальше поедут. Или нас заметят и в упор расстреляют. – Лейтенант, – обратился комбат к Магазинщикову, – поставьте своих людей наблюдать за танками, старайтесь уничтожить экипажи. – Есть, товарищ капитан, разрешите выполнять? – Выполняйте, – комбат посмотрел в след убегающему лейтенанту. – Мальчишка совсем. Из дальнего угла капонира подал голос старшина Фонарев: – Товарищ капитан, может, пересидим здесь, пока они нас не заметили. Ведь их же не остановить ни батареей, ни полком, даже армией целой не остановить, пусть себе едут, там может наши танки тяжелые их встретят?! – Куда едут? – за комбата ответил Бабыня. – В Москву, Фонарев, к тебе домой? Вот двадцать четыре остановили, глядишь, еще столько же остановим. А там если, как ты говоришь, наши тяжелые танки их встретят, им все же полегче будет. – Батарея на позицию! – Взвод на позицию! – Орудие на позицию! Танки, повертев командирскими башенками и не обнаружив, кто по ним стрелял, всю мощь огня направили на батарею капитана Долгова. По неписанной тактике Бабыни, Долгову бы сейчас самое время оставить пушки и уйти в укрытие, тем самым спасти людей и остаться в живых. Но у капитана Долгова, видимо, была своя тактика, и пушки продолжали огрызаться огнем. Леха Макар уже стрелял без команды, в прицеле самоходка «Элефант» – слон. – Выстрел! Самоходка, остановившись, покрылась черным густым дымом. – Еще одна, давай голубка моя, еще чуток!
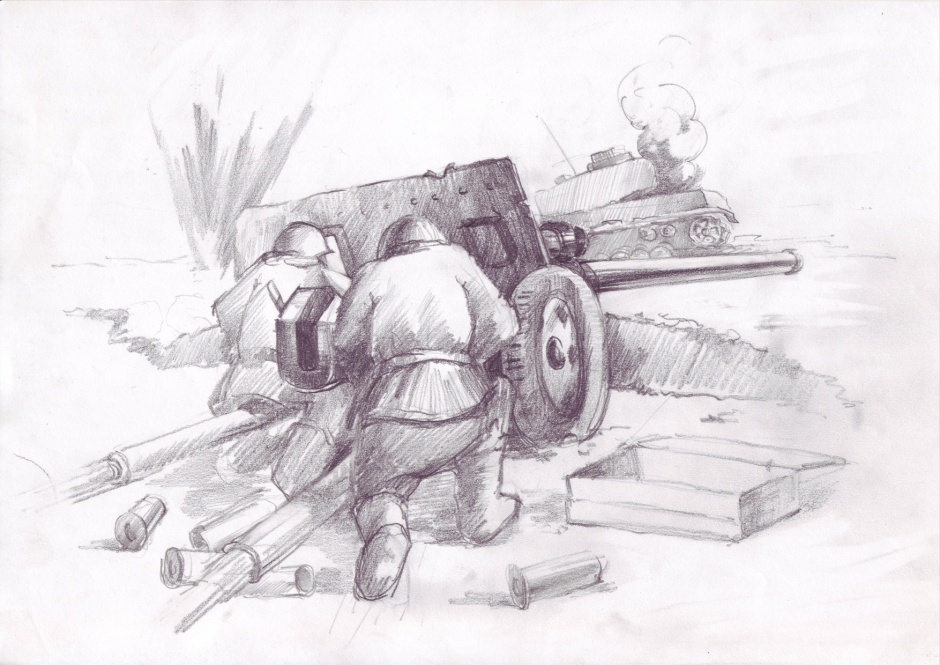 – Выстрел!
Перебита гусеница, машина крутанулась на месте и встала. Расправившись с батареей Долгова, немцы начали расстреливать ложную батарею, которую построили бойцы Магазинщикова. Засада, огонь из укрытия, дело конечно большое, но это не может длиться вечно. Танки обнаружили позиции полка и начали бить по ним. Огонь был настолько плотным, что земля издали казалась перепаханным полем.
Лехе мешал дым, который ветром неслос позиции полка. Вдруг в перекрестье прицела – «пантера». Совсем рядом, метров двести!
– Выстрел! Кажется, выбил передний каток, танк «разулся», немцы начали выскакивать из подбитой машины. Из винтовок и автоматов ударила наша пехота, положили всех. «Молодцы!» – подумал Леха. Подбитый танк начала объезжать немецкая самоходка, плоская как мыльница, с мощной лобовой броней и хорошей пушкой, но она была слабо защищена с боков. Сам того не замечая, Леха начал разговаривать с собой:
– Ну, такого Кузьму я и сам возьму! Выстрел!
Самоходку разорвало в клочья, возможно, снаряд попал в боекомплект.
– Ты чего там бормочешь? – спросил Буратино, вытирая пот. Леха на секунду обернулся. Тот стоял весь черный, закопченный от пороховой гари, а Шурка весь в грязи, упираясь ногами в землю, тащил ящик со снарядами. «Зато оба в новой форме», – подумал Леха. Снаряды начали рваться совсем рядом, справа.
– Взвод в укрытие! – скомандовал Бабыня.
– Орудие в укрытие! – повторил Леха. Пушки быстро скатили в капониры.
– Нас пока не обнаружили, – Бабыня подмигнул Лехе, – повоюем еще!
Появился комбат Кравченко:
– Третью батарею накрыли, полностью перепахали все, в живых, наверное, никого не осталось, – закурил, руки слегка тряслись. – Нашему второму взводу тоже досталось, в расчет Сойко прямое попадание, пятеро убитых.
Танки тем временем все шли и шли, не замечая подбитые и горящие, не помогая своим раненым. Они старались максимально использовать нелетную для авиации погоду. Еще минут пятнадцать-двадцать, и они пройдут, пройдут мимо, не заметив их, несколько пушек, оставшихся от полка, да десятка три бойцов, расположившихся в ста метрах окопов. Они сидели и смотрели друг на друга, усталый и немного подавленный капитан Кравченко, еще совсем мальчишка с длинными ресницами, лейтенант Магазинщиков, старшина Фонарев, кажущийся равнодушным ко всему подносчик снарядов узбек Шухрат Балтабоев, заряжающий Сашка Деревянко и он, Леха Макарычев. Никто из них не предлагал отсидеться. От взводного Бабыни исходила какая-то уверенность, она была в его глазах, в выражении лица, даже в его движениях. Он вопросительно посмотрел на комбата и произнес:
– Батарея к бою!
И эта его уверенность начала передаваться всем. Остановить хотя бы несколько, сжечь два, три, да хотя бы один немецкий танк, даже ценой собственной жизни!
– Орудия на позицию! – скомандовал комбат. И снова:
– Заряжай!
– Выстрел!
– Заряжай!
– Выстрел!
Леха четко видел, как задымилась «четверка», начал наводить на идущую следом «пантеру». Вдруг она повернулась и пошла прямо на него. Оторвав глаза от панорамы прицела, он понял, что их обнаружили. Восемь танков, не жалея снарядов, начали бить по батарее, двигаясь в их сторону.
– Покинуть позицию! – крикнул Бабыня.
Земля задрожала от множественных разрывов, воздух наполнился дымом, почти сразу оглушило, но команду Бабыни Леха расслышал четко. По этой команде они должны бежать влево, метров на сорок, туда, в приготовленный окопчик. Вся опасность сейчас исходила от пушки, немцы ее видели и били по ней. Макар как командир орудия бежал позади своего расчета, Бабыня должен бежать за ним, так было не раз. И уже спрыгнув в окоп, он обнаружил, что Бабыня с ним не побежал, взводный стоял возле их пушки на одном колене, прильнув к прицелу. Пушка выстрелила, и Леха увидел, что одна из «пантер» загорелась, а в следующую секунду снаряд другого танка ударил под основание пушки. Она взлетела на несколько метров, и, перевернувшись станинами вперед, завалилась набок. Разорвались еще несколько снарядов, и наступила относительная тишина, только гул танковых моторов. Немцы, видя, что пушки уничтожены, дружно повернулись и последовали дальше.
Бабыня лежал на спине, раскинув руки, будто пытался обнять небо. В его широко раскрытых глазах было удивление. На груди – большая дыра, наполненная кровью. Командир умер мгновенно, прихватив с собой пятерых фашистов, которые сейчас догорали в своем танке, и спасая жизнь своим бойцам, ставшим за последние годы его семьей.
– Эх, Бабыня, Бабыня, ну зачем ты так? – произнес Сашка Буратино, размазывая слезы по грязному лицу, Шухрат отвернулся, никто не должен видеть, как мужчина плачет, сжалось сердце у Лехи Макара, а нижняя губа предательски дрожала. Подошли лейтенант Магазинщиков и старшина Фонарев, сняли головные уборы:
– Из артиллеристов вы трое остались, – сказал старшина, – даже раненых нет, все убиты, и комбат Кравченко убит.
– Мои ребята сейчас воронку обровняют, там всех и похороним, – дрожащим голосом добавил лейтенант.
Как-то само собой получилось, что он, Леха Макарычев, сержант, стал здесь главным, хотя двое были старше его по званию, лейтенант, у которого был первый бой, и тыловой старшина в щеголеватой офицерской шинели. По должности Леха был командиром орудия, теперь все обращались к нему не по званию, а просто – товарищ командир. За те два года, что он был рядом с Бабыней, тот его многому научил, не только играть в шахматы, но и предвидеть опасность, анализировать ситуацию во время боя и управлять людьми в тяжелых условиях.
– Товарищ командир, – обратился Фонарев, – Бабыню со всеми вместе похороним?
– Нет, здесь погиб, здесь и похороним. Они положили своего взводного в выкопанный Шухратом для снарядов окоп, накрыли шинелью и присыпали землей.
– Прощай, командир!
– У вас какие потери, лейтенант? – обратился Леха к Магазинщикову.
– Потерь нет, четверых осколками зацепило, мы же в укрытии были, пока вы с танками дрались, – извиняющимся голосом ответил лейтенант.
– И правильно делали, не со штыками же на танки бежать, давайте сюда своих людей, нужно перевернуть орудие. Балтабоев, Деревянко, нужна хотя бы одна исправная пушка!
Примерно через час на них вышли человек тридцать штрафников с первой линии обороны. Разобраться с ними Леха отправил лейтенанта.
– Офицеры есть?
– Никак нет, все рядовые.
Один подошел к Магазинщикову, они о чем-то говорили, и тот подвел его к Алексею:
– Данилов я, до того, как стать штрафником, майором был, заместителем командира полка тяжелых танков, гражданин начальник.
Макарычев внимательно посмотрел на штрафника, тот был старше него года на два, может три.
– Еще раз назовешь гражданином начальником, не посмотрю, что ты бывший майор, морду набью! Ясно?
– Так точно! – штрафник широко улыбнулся, – товарищ командир, жду ваших приказаний!
– Какие тут приказания. Немец должен скоро пойти. Танки-то прорвались, теперь им тылы нужно подтягивать, горючее для танков, снаряды, продовольствие, ремонтники приедут танки, подбитые смотреть. Кстати, насчет продовольствия, – Алексей вспомнил, что со вчерашнего ничего не ел.
– Старшина Фонарев, что у нас на счет подхарчиться?
– Есть кое-что, каша, тушенка, водка есть, – Фонарев обрадовался от того, что он тоже нужный человек.
– Соберите всех и поделите поровну.
– Штрафникам тоже, что ли водку давать? Как я ее списывать буду?
– Вот бумажная душа, – улыбнулся Буратино, – у него топор над головой висит, а он прическу боится попортить.
Тут ему на глаза попался Магазинщиков:
– Товарищ лейтенант, разрешите обратиться?
– Что опять по коммерческой части?
– Никак нет, я просто хотел спросить, откуда вы родом?
– Из Москвы, – ответил лейтенант.
– Понятно, вон значит где, такие фамилии раздают, – и уже обращаясь к Шухрату: Александр, тут еще один твой земляк объявился!
Балтабоев слышал весь разговор:
– Я не Александр, я Шурик, а ты болтун, иди каши поешь, может ума прибавится.
Но тут сюрприз преподнес сам лейтенант:
– А я ведь действительно призывался из Ташкента, мы с родителями в эвакуации там были, родом-то я из Москвы, а все равно мы с вами земляки, рядовой Балтабоев.
«Вот, люди, – думал Алексей, – смерть только что прошла рядом, а они шутят, смеются».
– Отступать, как я понял, мы не собираемся? – прервал его мысли бывший майор Данилов.
– Не вижу смысла покидать выгодную позицию, – ответил Алексей, и приказа не было. Отступление без приказа, сами знаете.
– Да, знаю, как никто другой, знаю! Я к тебе с другим вопросом: танков вы богато здесь наколотили. Ты можешь указать танк, минимально поврежденный? Я же танкист, и еще двое у меня танкисты.
Алексей уловил задумку Данилова.
– Вон, «пантера», видишь? С перебитой гусеницей, они значит выскочили ее чинить, а Магазинщиков со своими ребятами их всех положили, там полный боекомплект, она ни разу выстрелить не успела.
– Разрешите действовать, командир?
– Действуйте! – ответил Алексей. – Да, у меня просьба одна есть личного характера. Вон тот «королевский тигр» видишь? Я его тоже «разул», обидно будет, если починят и дальше поедут, влепи-ка ты ему разочек в корму! Вон «фердинанд» стоит, такая же песня. В общем, ты танкист, майор, сам разберешься. Возьми с собой бойцов, человек пять, там немцы могут быть, из экипажей.
Примерно в пяти километрах впереди и справа разорвалось несколько мощных снарядов.
– Что это? – спросил Магазинщиков. – Там же нет никого, по кому они бьют?
– Я так думаю, это наши дальнобойщики пристреливаются, – ответил Алексей, – а это значит, не одни мы здесь, лейтенант. Доведите до своих бойцов, чтобы не чувствовали себя окруженцами, в ближайшее время этот танковый прорыв будет ликвидирован, сейчас не сорок первый год. А мы будем стоять здесь и бой дадим здесь, когда немец попрет.
Штрафники выполнили просьбу Макарычева: взрывались и горели недобитые батареей танки, а вскоре появился и Данилов со своими бойцами. Они как вьючные лошади были загружены мешками, сумками и ящиками, притащили несколько пулеметов, снятых с подбитых машин, множество патронов к ним, гранаты с длинными деревянными ручками, дымовые шашки, много продуктов питания.
– Не пропадать же добру, – пояснил бывший майор. – Карету ты мне подкатил – просто сказка, сиденья кожаные, внутри все белой краской покрашено, пороховых газов после выстрела внутри нет вообще, поворот башни с кнопочки, а уж прицел – просто мечта.
– А ты, Данилов, за что в штрафники-то попал? – спросил Алексей.
– Да вот за это самое и попал. Получали мы новые танки ИС-2, машина хорошая, но для экипажа условий никаких. Внутри башни сосульки железные висят, мои ребята потом неделю зубилом да напильником все в порядок приводили. Вот и сказал я в сердцах, думал мои слова на завод передадут, а их передали – «куда надо», и меня за восхваление немецкой техники…
– Что, наши танки плохие? – перебил его Алексей,
– Хороших вон сколько догорает. Того «тигра» видишь, – Данилов показал рукой, – вы ему в бок башни влепили, мы с ребятами туда заглянули, там фарш, пять трупов, вернее, четыре – один еще живой был, а ведь снаряд башню не пробил, их поубивало осколками собственной брони. Наша броня намного лучше, она вязкая, что ли, осколков не дает, моторы наши лучше, ходовая хорошая, а вот для экипажа условия гораздо хуже. Я сижу вот сейчас в «пантере» и выходить из нее не хочется, радиостанция, какой у нас в штабе дивизии нет, переговорное устройство, шепотом можно говорить, а оптика, я за вами наблюдал, так видел, как старшине муха на лоб села.
Стоявший рядом старшина Фонарев хлопнул себя по лбу ладонью, подумав, произнес:
– Так, холодно еще, мух-то нет!
Все рассмеялись, только Алексей был серьезен:
– Слушай, а восстановить ее нельзя, «пантеру» твою, ну чтоб она поехала?
– Нет нельзя, – ответил Данилов, – нет ни инструмента, ни запчастей. Это «СС» – они танки сами не ремонтируют.
– Все это потому, – заговорил давно молчащий Буратино, – что ихние танки делают для обыкновенных фашистов, а наши для героев-танкистов, которые умеют мужественно преодолевать все тяготы и лишения воинской службы в танковых войсках.
– Ладно, умник, – улыбнулся штрафник, – пойдем мы свою «пантеру» обживать. Слышишь? Вроде гул опять появился. Алексей прислушался – действительно, где-то очень далеко пока еще еле слышно гудели моторы.
– Если ориентироваться на их утреннюю скорость, то здесь они будут часа через полтора.
– Да, – согласился Данилов, – когда сверху все рассмотришь, связного мне пришли. Пойду пока музыку послушаю, Моцарта или Бетховена, – и уже немного отойдя, крикнул, – запомни, если выживешь, Данилов моя фамилия, майор Данилов!
«Не слишком ли тяжелую ношу, ты на себя взваливаешь, сержант Макарычев? – думал Леха. – Может сейчас самое время уйти? Вступив в бой, ты обрекаешь на верную смерть себя и еще почти пятьдесят бойцов. Какое ты имеешь право распоряжаться их жизнями? Ты же и так уничтожил много врагов. Тебя же еще и к ордену представят! Да, а заодно расскажешь, как ты вместе с расчетом с позиции убежал, оставив там командира одного! Эх, Бабыня, Бабыня, зачем ты так?
Немцы тем временем подошли настолько, что колонну можно было рассмотреть в бинокль. Вернее, это была не колонна, а три колонны, которые двигались параллельно друг другу. Две трети всей техники были грузовики и автоцистерны, остальное – бронетранспортеры с пехотой, танков было немного. Пока, по крайней мере, их было шесть. Они шли во главе колонны, потом стало видно еще два сбоку.
Алексей хотел собрать всех бойцов. Нет, не для того, чтоб огласить приказ, а просто поговорить, посмотреть в глаза. Обернувшись, увидел, что все и так уже были здесь. Он никогда не выступал ни на собраниях, ни на митингах, поэтому сейчас говорил просто:
– Мужики, кому не понятно, объясню. Колонна эта везет снаряды и топливо тем, которые прорвались раньше… – как когда-то Бабыня, теперь он, Леха Макар, внимательно вглядывался в лица людей, с которыми предстоит идти в бой. – Не можем мы спокойно сидеть и смотреть, как они проедут мимо нас. Мы должны их задержать. У нас нет сил, чтобы остановить колонну, но задержать мы ее сможем. Я лично обещаю вам такой фейерверк, которого даже в Париже не бывает! Если удастся задержать до темноты, то ночью они никуда не сунуться, а там глядишь, наша дальнобойная артиллерия ударит, или за ночь небо разъясниться, авиация прилетит.
В лицах бойцов не было ни явной трусости, ни ложного героизма. Все автоматчики Магазинщикова и освоившиеся с немецкими пулеметами штрафники внешне выглядели спокойно.
– Лейтенант, больше в укрытии отсидеться не получится, – попытался подшутить Буратино, – пехоты очень много.
– А мы готовы, товарищ рядовой по коммерческой части, – парировал тот. К Алексею подошли штрафники:
– Командир, мы к своим пойдем.
– Куда к своим? Где они свои?
– Ты не понял командир, к Данилову мы пойдем, шесть человек нас, три пулемета, под сгоревшими танками такие огневые точки устроим, что немцу мало не покажется. Ты на нас рассчитывай командир. А остальные с вами останутся, в подчинение к лейтенанту. Что Данилову передать?
– Передайте, пусть головные машины пропустит и бьет им в спину, для нас это будет сигналом, – и добавил: Спасибо, братцы. Поторапливайтесь, минут через двадцать колонна подойдет.
– Прощай, командир, увидимся ли еще?!
– Обязательно увидимся, нам бы до темноты продержаться. Потом отходите.
Леха осмотрел свою наскоро отремонтированную пушку. Буратино с Шуриком, пока суть да дело, поменяли на ней одну станину, колесо и искореженный взрывом щиток, все основные механизмы были целы. Приказал доставить на позицию как можно больше снарядов.
– Все, – сказал своим бойцам, – в прятки больше играть не будем.
– Орудие к бою!
– Взвод к бою! – командовал пехоте лейтенант Магазинщиков.
Колонна немцев была похожа на огромную змею, хвост которой уходил за горизонт, а голова подползала все ближе и ближе. Вот она поравнялась с танками Данилова. «Только бы у майора хватило выдержки», – подумал Макарычев, и в ту же минуту танк ожил и с близкого расстояния, метров с пятидесяти, всадил двум «пантерам» в их башни, в слабо защищенный зад, да еще с такого расстояния. Башни разлетелись как яичная скорлупа.
Наблюдать дальше у Лехи не было времени, он уже держал на прицеле грузовик:
– Выстрел! Заряжай!
– Готово!
– Выстрел! Заряжай!
– Готово!
Их видавшая виды ЗИС-2 посылала снаряд за снарядом. Немцы называли эту пушку шилом, рапирой за высокую точность и пробивную способность, и она оправдывала эти прозвища. Там внизу началось что-то трудновообразимое: горели бензовозы, вытекающее из них топливо растекалось по земле, в грузовиках рвались снаряды, огонь занимал все большую и большую площадь. Эсэсовцы выпрыгивали из бронетранспортеров и не в силах понять, что происходит, палили из автоматов куда ни попадя. Из-под сгоревших танков ударили пулеметы штрафников, теперь уже они выкашивали все на своем пути.
– Дохни, мразь, гори в этом адском огне, – Леха высаживал снаряд за снарядом, – таких «жирных карасей» можно бить и за два километра.
Голова колонны сгрудилась, смешалась, уходящие от огня грузовики сталкивались друг с другом.
– Все, командир, хватит, – черный от копоти пороховых газов Буратино присел на край станины, – а то пушку перегреем, да и снаряды заканчиваются.
Пушка, действительно, была как каменка в русской бане. Пот заливал Лехе глаза, он посмотрел на позицию без прицела. Танк Данилова горел, горели и разбитые им четыре «пантеры». Оставшиеся две успели сориентироваться, развернуться и, прикрываясь горящими машинами, расстреляли его, недвижимого, в упор. Затем немцы начали бить по сгоревшим танкам, под которыми были пулеметчики.
– Пушку прятать будем? – спросил Шухрат.
– Да они давно уже нас обнаружили, – ответил за Леху Буратино. – Сейчас там закончат и сюда рванут.
И действительно, от колонны вскоре отделились шесть бронетранспортеров и устремились в их сторону, на соединение с ними от головы шли два танка. Темнота предательски не наступала, даже сумерек не было. Лехе казалось, что бой длился уже долго, несколько часов, хотя с первого выстрела прошло не более часа. Долина горела, беспрестанно рвались боеприпасы в немецких грузовиках. «Что ж, молодец ты сержант Макарычев, – подумал он, – а что теперь? А теперь все, не будет больше ни момента неожиданности, ни укрытия, ни засады. Другие подставляли себя под огонь врага, отвлекая его на себя, и все это потому, что ты, Леха Макарычев, хороший наводчик, снайпер, а теперь никого больше нет: ни батареи Долгова, ни Данилова со своими штрафниками, которые тоже подарили тебе минут пятнадцать незамеченности, и за эти минуты ты успел послать в колонну три десятка снарядов. Так что в том горящем и рвущемся месиве, которое все больше разрастается там в долине, не только твоя заслуга, но и их тоже».
Он прекрасно понимал, что шансов нет никаких ни победить в этом бою, ни даже выжить. Одно дело бить из засады, через кусты, иногда сквозь кусты, оставаясь незамеченным, бить в борт, в корму. Совсем другое – встретиться с таким лоб в лоб. Немцы пока не стреляли, они не видели их пушку, но они четко знали направление, откуда велся огонь, и теперь неумолимо приближались к их позиции. Можно ли победить «пантеру»? Можно, но для этого нужно попасть в одну точку, которая размером с пачку папирос, чуть влево или вправо – и будет рикошет.
– Заряжай! – крикнул Леха и припал к прицелу.
– Готово! – ответил Буратино.
Немецкая пехота тем временем начала высыпаться из бронетранспортеров, как горох, и вытягиваться в цепь. Бойцы Магазинщикова открыли по ним огонь. Один танк слегка повернул и пошел на позицию взвода. Леха судорожно сжимал рукоятки доводки.
– Выстрел! – снаряд высек искры из брони танка и ушел в рикошет. В ответ выстрелила вторая, дальняя, наугад вслепую, снаряд разорвался где-то сзади.
«Спокойно, он тебя видит, наводчик танка, он тоже судорожно поворачивает башню и опускает ствол, у тебя один выстрел, больше не будет, ну что ж, пусть один, но он мой!»
– Выстрел!
Леха рванул спусковую рукоятку, и в следующую секунду где-то совсем рядом вспыхнула одновременно тысяча солнц. Кажется, его что-то ударило, и какая-то неведомая сила подхватила его тело и швырнула куда-то в неизвестность. Последнее, что мелькнуло в его голове – «Все, я убит!»
Леха лежал в окопе, метрах в десяти от своей покореженной пушки и разорванных тел своих друзей, Буратино и Шухрата, но он не был убит, он был без сознания и поэтому ничего не видел и не слышал. Не видел, как впереди горела подбитая им «пантера». Да, они выстрелили одновременно, да, он попал в самое яблочко, и теперь огонь с шумом вырывался из всех ее щелей, превращая в пепел все, что находится внутри. Второй танк, зайдя на их капонир, начал делать разворот, перемалывая своими гусеницами все в однородную массу – грязь, металл и человеческую плоть. Не видел он, и как старшина Фонарёв, перетянув своим офицерским, неположенным ему по уставу, ремнем шесть немецких гранат, кинулся с этой связкой на «пантеру», но был отброшен пулеметной очередью в грудь назад к своему окопу, и как эту связку подхватил лейтенант Магазинщиков и все же закинул ее наверх, туда, где идет тепло от двигателя. Рвануло хорошо, танк загорелся, но и сам лейтенант получил тяжелое ранение.
– Выстрел!
Перебита гусеница, машина крутанулась на месте и встала. Расправившись с батареей Долгова, немцы начали расстреливать ложную батарею, которую построили бойцы Магазинщикова. Засада, огонь из укрытия, дело конечно большое, но это не может длиться вечно. Танки обнаружили позиции полка и начали бить по ним. Огонь был настолько плотным, что земля издали казалась перепаханным полем.
Лехе мешал дым, который ветром неслос позиции полка. Вдруг в перекрестье прицела – «пантера». Совсем рядом, метров двести!
– Выстрел! Кажется, выбил передний каток, танк «разулся», немцы начали выскакивать из подбитой машины. Из винтовок и автоматов ударила наша пехота, положили всех. «Молодцы!» – подумал Леха. Подбитый танк начала объезжать немецкая самоходка, плоская как мыльница, с мощной лобовой броней и хорошей пушкой, но она была слабо защищена с боков. Сам того не замечая, Леха начал разговаривать с собой:
– Ну, такого Кузьму я и сам возьму! Выстрел!
Самоходку разорвало в клочья, возможно, снаряд попал в боекомплект.
– Ты чего там бормочешь? – спросил Буратино, вытирая пот. Леха на секунду обернулся. Тот стоял весь черный, закопченный от пороховой гари, а Шурка весь в грязи, упираясь ногами в землю, тащил ящик со снарядами. «Зато оба в новой форме», – подумал Леха. Снаряды начали рваться совсем рядом, справа.
– Взвод в укрытие! – скомандовал Бабыня.
– Орудие в укрытие! – повторил Леха. Пушки быстро скатили в капониры.
– Нас пока не обнаружили, – Бабыня подмигнул Лехе, – повоюем еще!
Появился комбат Кравченко:
– Третью батарею накрыли, полностью перепахали все, в живых, наверное, никого не осталось, – закурил, руки слегка тряслись. – Нашему второму взводу тоже досталось, в расчет Сойко прямое попадание, пятеро убитых.
Танки тем временем все шли и шли, не замечая подбитые и горящие, не помогая своим раненым. Они старались максимально использовать нелетную для авиации погоду. Еще минут пятнадцать-двадцать, и они пройдут, пройдут мимо, не заметив их, несколько пушек, оставшихся от полка, да десятка три бойцов, расположившихся в ста метрах окопов. Они сидели и смотрели друг на друга, усталый и немного подавленный капитан Кравченко, еще совсем мальчишка с длинными ресницами, лейтенант Магазинщиков, старшина Фонарев, кажущийся равнодушным ко всему подносчик снарядов узбек Шухрат Балтабоев, заряжающий Сашка Деревянко и он, Леха Макарычев. Никто из них не предлагал отсидеться. От взводного Бабыни исходила какая-то уверенность, она была в его глазах, в выражении лица, даже в его движениях. Он вопросительно посмотрел на комбата и произнес:
– Батарея к бою!
И эта его уверенность начала передаваться всем. Остановить хотя бы несколько, сжечь два, три, да хотя бы один немецкий танк, даже ценой собственной жизни!
– Орудия на позицию! – скомандовал комбат. И снова:
– Заряжай!
– Выстрел!
– Заряжай!
– Выстрел!
Леха четко видел, как задымилась «четверка», начал наводить на идущую следом «пантеру». Вдруг она повернулась и пошла прямо на него. Оторвав глаза от панорамы прицела, он понял, что их обнаружили. Восемь танков, не жалея снарядов, начали бить по батарее, двигаясь в их сторону.
– Покинуть позицию! – крикнул Бабыня.
Земля задрожала от множественных разрывов, воздух наполнился дымом, почти сразу оглушило, но команду Бабыни Леха расслышал четко. По этой команде они должны бежать влево, метров на сорок, туда, в приготовленный окопчик. Вся опасность сейчас исходила от пушки, немцы ее видели и били по ней. Макар как командир орудия бежал позади своего расчета, Бабыня должен бежать за ним, так было не раз. И уже спрыгнув в окоп, он обнаружил, что Бабыня с ним не побежал, взводный стоял возле их пушки на одном колене, прильнув к прицелу. Пушка выстрелила, и Леха увидел, что одна из «пантер» загорелась, а в следующую секунду снаряд другого танка ударил под основание пушки. Она взлетела на несколько метров, и, перевернувшись станинами вперед, завалилась набок. Разорвались еще несколько снарядов, и наступила относительная тишина, только гул танковых моторов. Немцы, видя, что пушки уничтожены, дружно повернулись и последовали дальше.
Бабыня лежал на спине, раскинув руки, будто пытался обнять небо. В его широко раскрытых глазах было удивление. На груди – большая дыра, наполненная кровью. Командир умер мгновенно, прихватив с собой пятерых фашистов, которые сейчас догорали в своем танке, и спасая жизнь своим бойцам, ставшим за последние годы его семьей.
– Эх, Бабыня, Бабыня, ну зачем ты так? – произнес Сашка Буратино, размазывая слезы по грязному лицу, Шухрат отвернулся, никто не должен видеть, как мужчина плачет, сжалось сердце у Лехи Макара, а нижняя губа предательски дрожала. Подошли лейтенант Магазинщиков и старшина Фонарев, сняли головные уборы:
– Из артиллеристов вы трое остались, – сказал старшина, – даже раненых нет, все убиты, и комбат Кравченко убит.
– Мои ребята сейчас воронку обровняют, там всех и похороним, – дрожащим голосом добавил лейтенант.
Как-то само собой получилось, что он, Леха Макарычев, сержант, стал здесь главным, хотя двое были старше его по званию, лейтенант, у которого был первый бой, и тыловой старшина в щеголеватой офицерской шинели. По должности Леха был командиром орудия, теперь все обращались к нему не по званию, а просто – товарищ командир. За те два года, что он был рядом с Бабыней, тот его многому научил, не только играть в шахматы, но и предвидеть опасность, анализировать ситуацию во время боя и управлять людьми в тяжелых условиях.
– Товарищ командир, – обратился Фонарев, – Бабыню со всеми вместе похороним?
– Нет, здесь погиб, здесь и похороним. Они положили своего взводного в выкопанный Шухратом для снарядов окоп, накрыли шинелью и присыпали землей.
– Прощай, командир!
– У вас какие потери, лейтенант? – обратился Леха к Магазинщикову.
– Потерь нет, четверых осколками зацепило, мы же в укрытии были, пока вы с танками дрались, – извиняющимся голосом ответил лейтенант.
– И правильно делали, не со штыками же на танки бежать, давайте сюда своих людей, нужно перевернуть орудие. Балтабоев, Деревянко, нужна хотя бы одна исправная пушка!
Примерно через час на них вышли человек тридцать штрафников с первой линии обороны. Разобраться с ними Леха отправил лейтенанта.
– Офицеры есть?
– Никак нет, все рядовые.
Один подошел к Магазинщикову, они о чем-то говорили, и тот подвел его к Алексею:
– Данилов я, до того, как стать штрафником, майором был, заместителем командира полка тяжелых танков, гражданин начальник.
Макарычев внимательно посмотрел на штрафника, тот был старше него года на два, может три.
– Еще раз назовешь гражданином начальником, не посмотрю, что ты бывший майор, морду набью! Ясно?
– Так точно! – штрафник широко улыбнулся, – товарищ командир, жду ваших приказаний!
– Какие тут приказания. Немец должен скоро пойти. Танки-то прорвались, теперь им тылы нужно подтягивать, горючее для танков, снаряды, продовольствие, ремонтники приедут танки, подбитые смотреть. Кстати, насчет продовольствия, – Алексей вспомнил, что со вчерашнего ничего не ел.
– Старшина Фонарев, что у нас на счет подхарчиться?
– Есть кое-что, каша, тушенка, водка есть, – Фонарев обрадовался от того, что он тоже нужный человек.
– Соберите всех и поделите поровну.
– Штрафникам тоже, что ли водку давать? Как я ее списывать буду?
– Вот бумажная душа, – улыбнулся Буратино, – у него топор над головой висит, а он прическу боится попортить.
Тут ему на глаза попался Магазинщиков:
– Товарищ лейтенант, разрешите обратиться?
– Что опять по коммерческой части?
– Никак нет, я просто хотел спросить, откуда вы родом?
– Из Москвы, – ответил лейтенант.
– Понятно, вон значит где, такие фамилии раздают, – и уже обращаясь к Шухрату: Александр, тут еще один твой земляк объявился!
Балтабоев слышал весь разговор:
– Я не Александр, я Шурик, а ты болтун, иди каши поешь, может ума прибавится.
Но тут сюрприз преподнес сам лейтенант:
– А я ведь действительно призывался из Ташкента, мы с родителями в эвакуации там были, родом-то я из Москвы, а все равно мы с вами земляки, рядовой Балтабоев.
«Вот, люди, – думал Алексей, – смерть только что прошла рядом, а они шутят, смеются».
– Отступать, как я понял, мы не собираемся? – прервал его мысли бывший майор Данилов.
– Не вижу смысла покидать выгодную позицию, – ответил Алексей, и приказа не было. Отступление без приказа, сами знаете.
– Да, знаю, как никто другой, знаю! Я к тебе с другим вопросом: танков вы богато здесь наколотили. Ты можешь указать танк, минимально поврежденный? Я же танкист, и еще двое у меня танкисты.
Алексей уловил задумку Данилова.
– Вон, «пантера», видишь? С перебитой гусеницей, они значит выскочили ее чинить, а Магазинщиков со своими ребятами их всех положили, там полный боекомплект, она ни разу выстрелить не успела.
– Разрешите действовать, командир?
– Действуйте! – ответил Алексей. – Да, у меня просьба одна есть личного характера. Вон тот «королевский тигр» видишь? Я его тоже «разул», обидно будет, если починят и дальше поедут, влепи-ка ты ему разочек в корму! Вон «фердинанд» стоит, такая же песня. В общем, ты танкист, майор, сам разберешься. Возьми с собой бойцов, человек пять, там немцы могут быть, из экипажей.
Примерно в пяти километрах впереди и справа разорвалось несколько мощных снарядов.
– Что это? – спросил Магазинщиков. – Там же нет никого, по кому они бьют?
– Я так думаю, это наши дальнобойщики пристреливаются, – ответил Алексей, – а это значит, не одни мы здесь, лейтенант. Доведите до своих бойцов, чтобы не чувствовали себя окруженцами, в ближайшее время этот танковый прорыв будет ликвидирован, сейчас не сорок первый год. А мы будем стоять здесь и бой дадим здесь, когда немец попрет.
Штрафники выполнили просьбу Макарычева: взрывались и горели недобитые батареей танки, а вскоре появился и Данилов со своими бойцами. Они как вьючные лошади были загружены мешками, сумками и ящиками, притащили несколько пулеметов, снятых с подбитых машин, множество патронов к ним, гранаты с длинными деревянными ручками, дымовые шашки, много продуктов питания.
– Не пропадать же добру, – пояснил бывший майор. – Карету ты мне подкатил – просто сказка, сиденья кожаные, внутри все белой краской покрашено, пороховых газов после выстрела внутри нет вообще, поворот башни с кнопочки, а уж прицел – просто мечта.
– А ты, Данилов, за что в штрафники-то попал? – спросил Алексей.
– Да вот за это самое и попал. Получали мы новые танки ИС-2, машина хорошая, но для экипажа условий никаких. Внутри башни сосульки железные висят, мои ребята потом неделю зубилом да напильником все в порядок приводили. Вот и сказал я в сердцах, думал мои слова на завод передадут, а их передали – «куда надо», и меня за восхваление немецкой техники…
– Что, наши танки плохие? – перебил его Алексей,
– Хороших вон сколько догорает. Того «тигра» видишь, – Данилов показал рукой, – вы ему в бок башни влепили, мы с ребятами туда заглянули, там фарш, пять трупов, вернее, четыре – один еще живой был, а ведь снаряд башню не пробил, их поубивало осколками собственной брони. Наша броня намного лучше, она вязкая, что ли, осколков не дает, моторы наши лучше, ходовая хорошая, а вот для экипажа условия гораздо хуже. Я сижу вот сейчас в «пантере» и выходить из нее не хочется, радиостанция, какой у нас в штабе дивизии нет, переговорное устройство, шепотом можно говорить, а оптика, я за вами наблюдал, так видел, как старшине муха на лоб села.
Стоявший рядом старшина Фонарев хлопнул себя по лбу ладонью, подумав, произнес:
– Так, холодно еще, мух-то нет!
Все рассмеялись, только Алексей был серьезен:
– Слушай, а восстановить ее нельзя, «пантеру» твою, ну чтоб она поехала?
– Нет нельзя, – ответил Данилов, – нет ни инструмента, ни запчастей. Это «СС» – они танки сами не ремонтируют.
– Все это потому, – заговорил давно молчащий Буратино, – что ихние танки делают для обыкновенных фашистов, а наши для героев-танкистов, которые умеют мужественно преодолевать все тяготы и лишения воинской службы в танковых войсках.
– Ладно, умник, – улыбнулся штрафник, – пойдем мы свою «пантеру» обживать. Слышишь? Вроде гул опять появился. Алексей прислушался – действительно, где-то очень далеко пока еще еле слышно гудели моторы.
– Если ориентироваться на их утреннюю скорость, то здесь они будут часа через полтора.
– Да, – согласился Данилов, – когда сверху все рассмотришь, связного мне пришли. Пойду пока музыку послушаю, Моцарта или Бетховена, – и уже немного отойдя, крикнул, – запомни, если выживешь, Данилов моя фамилия, майор Данилов!
«Не слишком ли тяжелую ношу, ты на себя взваливаешь, сержант Макарычев? – думал Леха. – Может сейчас самое время уйти? Вступив в бой, ты обрекаешь на верную смерть себя и еще почти пятьдесят бойцов. Какое ты имеешь право распоряжаться их жизнями? Ты же и так уничтожил много врагов. Тебя же еще и к ордену представят! Да, а заодно расскажешь, как ты вместе с расчетом с позиции убежал, оставив там командира одного! Эх, Бабыня, Бабыня, зачем ты так?
Немцы тем временем подошли настолько, что колонну можно было рассмотреть в бинокль. Вернее, это была не колонна, а три колонны, которые двигались параллельно друг другу. Две трети всей техники были грузовики и автоцистерны, остальное – бронетранспортеры с пехотой, танков было немного. Пока, по крайней мере, их было шесть. Они шли во главе колонны, потом стало видно еще два сбоку.
Алексей хотел собрать всех бойцов. Нет, не для того, чтоб огласить приказ, а просто поговорить, посмотреть в глаза. Обернувшись, увидел, что все и так уже были здесь. Он никогда не выступал ни на собраниях, ни на митингах, поэтому сейчас говорил просто:
– Мужики, кому не понятно, объясню. Колонна эта везет снаряды и топливо тем, которые прорвались раньше… – как когда-то Бабыня, теперь он, Леха Макар, внимательно вглядывался в лица людей, с которыми предстоит идти в бой. – Не можем мы спокойно сидеть и смотреть, как они проедут мимо нас. Мы должны их задержать. У нас нет сил, чтобы остановить колонну, но задержать мы ее сможем. Я лично обещаю вам такой фейерверк, которого даже в Париже не бывает! Если удастся задержать до темноты, то ночью они никуда не сунуться, а там глядишь, наша дальнобойная артиллерия ударит, или за ночь небо разъясниться, авиация прилетит.
В лицах бойцов не было ни явной трусости, ни ложного героизма. Все автоматчики Магазинщикова и освоившиеся с немецкими пулеметами штрафники внешне выглядели спокойно.
– Лейтенант, больше в укрытии отсидеться не получится, – попытался подшутить Буратино, – пехоты очень много.
– А мы готовы, товарищ рядовой по коммерческой части, – парировал тот. К Алексею подошли штрафники:
– Командир, мы к своим пойдем.
– Куда к своим? Где они свои?
– Ты не понял командир, к Данилову мы пойдем, шесть человек нас, три пулемета, под сгоревшими танками такие огневые точки устроим, что немцу мало не покажется. Ты на нас рассчитывай командир. А остальные с вами останутся, в подчинение к лейтенанту. Что Данилову передать?
– Передайте, пусть головные машины пропустит и бьет им в спину, для нас это будет сигналом, – и добавил: Спасибо, братцы. Поторапливайтесь, минут через двадцать колонна подойдет.
– Прощай, командир, увидимся ли еще?!
– Обязательно увидимся, нам бы до темноты продержаться. Потом отходите.
Леха осмотрел свою наскоро отремонтированную пушку. Буратино с Шуриком, пока суть да дело, поменяли на ней одну станину, колесо и искореженный взрывом щиток, все основные механизмы были целы. Приказал доставить на позицию как можно больше снарядов.
– Все, – сказал своим бойцам, – в прятки больше играть не будем.
– Орудие к бою!
– Взвод к бою! – командовал пехоте лейтенант Магазинщиков.
Колонна немцев была похожа на огромную змею, хвост которой уходил за горизонт, а голова подползала все ближе и ближе. Вот она поравнялась с танками Данилова. «Только бы у майора хватило выдержки», – подумал Макарычев, и в ту же минуту танк ожил и с близкого расстояния, метров с пятидесяти, всадил двум «пантерам» в их башни, в слабо защищенный зад, да еще с такого расстояния. Башни разлетелись как яичная скорлупа.
Наблюдать дальше у Лехи не было времени, он уже держал на прицеле грузовик:
– Выстрел! Заряжай!
– Готово!
– Выстрел! Заряжай!
– Готово!
Их видавшая виды ЗИС-2 посылала снаряд за снарядом. Немцы называли эту пушку шилом, рапирой за высокую точность и пробивную способность, и она оправдывала эти прозвища. Там внизу началось что-то трудновообразимое: горели бензовозы, вытекающее из них топливо растекалось по земле, в грузовиках рвались снаряды, огонь занимал все большую и большую площадь. Эсэсовцы выпрыгивали из бронетранспортеров и не в силах понять, что происходит, палили из автоматов куда ни попадя. Из-под сгоревших танков ударили пулеметы штрафников, теперь уже они выкашивали все на своем пути.
– Дохни, мразь, гори в этом адском огне, – Леха высаживал снаряд за снарядом, – таких «жирных карасей» можно бить и за два километра.
Голова колонны сгрудилась, смешалась, уходящие от огня грузовики сталкивались друг с другом.
– Все, командир, хватит, – черный от копоти пороховых газов Буратино присел на край станины, – а то пушку перегреем, да и снаряды заканчиваются.
Пушка, действительно, была как каменка в русской бане. Пот заливал Лехе глаза, он посмотрел на позицию без прицела. Танк Данилова горел, горели и разбитые им четыре «пантеры». Оставшиеся две успели сориентироваться, развернуться и, прикрываясь горящими машинами, расстреляли его, недвижимого, в упор. Затем немцы начали бить по сгоревшим танкам, под которыми были пулеметчики.
– Пушку прятать будем? – спросил Шухрат.
– Да они давно уже нас обнаружили, – ответил за Леху Буратино. – Сейчас там закончат и сюда рванут.
И действительно, от колонны вскоре отделились шесть бронетранспортеров и устремились в их сторону, на соединение с ними от головы шли два танка. Темнота предательски не наступала, даже сумерек не было. Лехе казалось, что бой длился уже долго, несколько часов, хотя с первого выстрела прошло не более часа. Долина горела, беспрестанно рвались боеприпасы в немецких грузовиках. «Что ж, молодец ты сержант Макарычев, – подумал он, – а что теперь? А теперь все, не будет больше ни момента неожиданности, ни укрытия, ни засады. Другие подставляли себя под огонь врага, отвлекая его на себя, и все это потому, что ты, Леха Макарычев, хороший наводчик, снайпер, а теперь никого больше нет: ни батареи Долгова, ни Данилова со своими штрафниками, которые тоже подарили тебе минут пятнадцать незамеченности, и за эти минуты ты успел послать в колонну три десятка снарядов. Так что в том горящем и рвущемся месиве, которое все больше разрастается там в долине, не только твоя заслуга, но и их тоже».
Он прекрасно понимал, что шансов нет никаких ни победить в этом бою, ни даже выжить. Одно дело бить из засады, через кусты, иногда сквозь кусты, оставаясь незамеченным, бить в борт, в корму. Совсем другое – встретиться с таким лоб в лоб. Немцы пока не стреляли, они не видели их пушку, но они четко знали направление, откуда велся огонь, и теперь неумолимо приближались к их позиции. Можно ли победить «пантеру»? Можно, но для этого нужно попасть в одну точку, которая размером с пачку папирос, чуть влево или вправо – и будет рикошет.
– Заряжай! – крикнул Леха и припал к прицелу.
– Готово! – ответил Буратино.
Немецкая пехота тем временем начала высыпаться из бронетранспортеров, как горох, и вытягиваться в цепь. Бойцы Магазинщикова открыли по ним огонь. Один танк слегка повернул и пошел на позицию взвода. Леха судорожно сжимал рукоятки доводки.
– Выстрел! – снаряд высек искры из брони танка и ушел в рикошет. В ответ выстрелила вторая, дальняя, наугад вслепую, снаряд разорвался где-то сзади.
«Спокойно, он тебя видит, наводчик танка, он тоже судорожно поворачивает башню и опускает ствол, у тебя один выстрел, больше не будет, ну что ж, пусть один, но он мой!»
– Выстрел!
Леха рванул спусковую рукоятку, и в следующую секунду где-то совсем рядом вспыхнула одновременно тысяча солнц. Кажется, его что-то ударило, и какая-то неведомая сила подхватила его тело и швырнула куда-то в неизвестность. Последнее, что мелькнуло в его голове – «Все, я убит!»
Леха лежал в окопе, метрах в десяти от своей покореженной пушки и разорванных тел своих друзей, Буратино и Шухрата, но он не был убит, он был без сознания и поэтому ничего не видел и не слышал. Не видел, как впереди горела подбитая им «пантера». Да, они выстрелили одновременно, да, он попал в самое яблочко, и теперь огонь с шумом вырывался из всех ее щелей, превращая в пепел все, что находится внутри. Второй танк, зайдя на их капонир, начал делать разворот, перемалывая своими гусеницами все в однородную массу – грязь, металл и человеческую плоть. Не видел он, и как старшина Фонарёв, перетянув своим офицерским, неположенным ему по уставу, ремнем шесть немецких гранат, кинулся с этой связкой на «пантеру», но был отброшен пулеметной очередью в грудь назад к своему окопу, и как эту связку подхватил лейтенант Магазинщиков и все же закинул ее наверх, туда, где идет тепло от двигателя. Рвануло хорошо, танк загорелся, но и сам лейтенант получил тяжелое ранение.
 Часть бойцов, пользуясь суматохой и наступающими сумерками, сумели добежать до ближайшего леска. Потом эсэсовцы ходили и добивали раненых, добили и Магазинщикова, а над лежащим в окопе Лехой остановился один, огромного роста, в камуфляжной куртке, поднял винтовку, но в последний момент передумал или пожалел патрон, перешагнул окоп и пошел дальше.
Часть бойцов, пользуясь суматохой и наступающими сумерками, сумели добежать до ближайшего леска. Потом эсэсовцы ходили и добивали раненых, добили и Магазинщикова, а над лежащим в окопе Лехой остановился один, огромного роста, в камуфляжной куртке, поднял винтовку, но в последний момент передумал или пожалел патрон, перешагнул окоп и пошел дальше.
Командующий фронтом не спал уже почти двое суток. Положение было тяжелым, но кажется, противник начал выдыхаться. Силами трех армий танки удалось остановить, но прорыв был глубоким, от десяти, местами до сорока километров. Фронт нес невосполнимые потери. Для того, чтобы локализовать этот прорыв, уйдет неделя, а может и больше, а ставка уже сейчас требует готовить наступление на Вену. Постучал адъютант. – Товарищ командующий, генерал Ермолаев прибыл. – Заходите, генерал! – Товарищ командующий, – докладывал Ермолаев, – в тылу у немцев, в районе высоты двенадцать тире ноль семь, в сорока километрах южнее города Секешфехервар, уже около двух часов идет ожесточенный бой. – Откуда стало известно? – Артиллерийская разведка доложила, множественные разрывы снарядов и огромное зарево. Командующий подошел к карте. – Видимо, какая-то часть оказалась в тылу у противника и теперь ведет бой. Хотя я с трудом представляю себе, как можно было уцелеть после такого стального утюга, который прошелся там. Кто там держал оборону, генерал? – Это позиции девятнадцать сорок седьмого ИПТАПа армейского подчинения, – ответил Ермолаев. – Ваши бойцы? – Так точно, многих знаю лично. Командующий прошелся по кабинету. – А знаете, что, генерал, орлы ваши похоже по обозникам бьют. Давайте-ка всю вашу дальнобойную артиллерию и еще два полка «катюш» из резерва фронта, я сейчас распоряжусь, и жахните так, чтоб к утру там ни то чтоб живого, чтоб мертвого никого не осталось. А зарево – это отличный ориентир! – Есть, товарищ командующий, – взял под козырек Ермолаев, – разрешите выполнять? – Действуйте, мне докладывать каждые полчаса.
ЛЕХА МАКАРЫЧЕВ
День Победы Леха Макар встретил в госпитале в Венгрии, нельзя сказать, что это событие стало неожиданностью. Все прекрасно понимали, что это наступит вот-вот. Каждый день слушали сводки Совинформбюро, да и «тряпочный» солдатский телефон работал на высшем уровне, телефонисты, шофёры, почтальоны были отличными разносчиками более-менее правдивой информации. И все-таки когда он настал, этот день, то оказалось, что люди к нему не были готовы. Сначала был шок, даже легкое оцепенение, потом началось ликование, безудержное, почти дикое, необузданное, такое, какое невозможно организовать или остановить. Стреляли вверх санитары из госпитальной команды и те, кто оказался на территории госпиталя по каким-либо делам, откуда-то появились пистолеты и у выздоравливающих офицеров. Люди обнимали друг друга, целовались. Потом было много спирта и венгерского вина, а еще были слезы, много слез. Плакали от радости, что закончились эти страшные четыре года, и от горя, потому что потеряли за эти годы самых дорогих для себя людей, отца или сына, боевых товарищей своих. Кто-то потерял семью и дом свой, а теперь ему некуда было возвращаться. Другие стали порождением войны, и кроме как воевать, ничего не умели. Их пугала неизвестность, их среда была здесь, им было хорошо и комфортно в мае сорок пятого. Леха планов никаких не строил, он просто знал, что будет делать. Его должны были уволить в ближайшее время, и не потому что он ранен или контужен, просто срочную службу, положенные три года, он отслужил еще до войны. Отсюда, из госпиталя, едва оклемавшись, Леха написал матери письмо, но было поздно, она уже получила похоронку и сразу слегла, а через десять дней умерла, не перенеся гибели единственного сына. Отец погиб еще в гражданскую. На его письмо ответила соседка, так что дома его никто не ждал. Да он туда и не поедет, разве что могиле матери поклониться. Это будет потом, а пока его никак не хотели выписывать из госпиталя. Раны его уже затянулись, а вот последствия контузии проходили медленно. Врач сказал, что нужно больше двигаться, имея в виду прогулки по парку. Леха понял по-своему, уходил к прачечной и рубил там дрова, до боли в спине, в руках, отдыхал и снова рубил, к великой радости приставленного к этому дому пожилого санитара. – Давай, давай, Ляксей, – попыхивал тот самокруткой, – кровь разгонять тебе надо, чтоб не застаивалась. Опосля контузии твои руки да ноги забыли, чего им делать надо, вот ты им и напоминай. И действительно, то ли физические нагрузки помогли, то ли молодой сильный организм брал свое, но со временем силы возвращались к нему, ломота и онемения отступали, руки становились цепкими, а походка твердой. Спустя две недели после Победы он все-таки получил на вещевом складе новое обмундирование и сапоги. В госпитале не могли полностью восстановить все его документы и поэтому выдали предписание отбыть в ту часть, где он проходил службу до ранения, снабдили сухим пайком на три дня, объяснили, что его полк находится в Вене. Проводить его вышли медсестры, санитары и даже сам начальник госпиталя: – Удачи тебе в мирной жизни, сержант! – Спасибо вам, товарищ майор медицинской службы, спасибо сестрички! – Леха помахал рукой. – Не попадай больше к нам! У девчонок на глазах были слезы, два месяца они мыли, переодевали, кормили с ложечки, меняли повязки на ранах, ставили уколы. Они выхаживали его, не зная – выживет или умрет. И вот теперь он уходит, и они никогда больше не встретятся. У него тоже ком подкатил к горлу, заволокло пленкой не до конца зажившие глаза, но он, крутнувшись на каблуке, твердой походкой зашагал прочь. «Господи, да что ж мы такие слезливые-то, – мелькнуло в голове, – радость – мы плачем, горе – мы плачем, нам хоть встреча, хоть расставание – все слезы подавай». До Вены он добрался на перекладных, то одна попутная машина подвезет, то другая. От словоохотливых шоферов разузнал почти все о дислокации своего полка. Нет, сначала они смотрели на него настороженно, ни одной награды, ни нашивки за ранения, форма опять же новая, но потом узнав, что он из госпиталя, давали волю своим языкам. Последний даже предложил подвезти до самой части, но Леха отказался, захотел посмотреть центр города, уж очень, как рассказывали те же шофёры, он был красивый.Штаб фронта располагался в центре Вены, в старинном особняке, крытом черепицей, с толстыми, шириной в метр, стенами, высокими застекленными разноцветным стеклом окнами. Видимо, когда-то это был замок. Командующий проводил совещание или, как его называли, военный совет фронта. Он заслушал всех командующих армиями, вопросы все были решены: – Пойдемте, товарищи генералы, на улицу, на площадь. Командующий встал, надел фуражку и направился к выходу, ему почему-то было неуютно в этом замке-особняке. – Всю войну по казематам просидели, а теперь все, нет войны, на улице весна цветет, а мы прячемся. Он вышел на площадь, а за ним вся кавалькада из генералов, полковников, адъютантов, офицеров связи и прочих штабных порученцев. Один из таких подошел к нему и протянул пакет. Командующий несколько минут изучал содержимое, все остальные усердно молчали. – Товарищи, в войска спущена директива, направить в Москву лучших из лучших, один батальон от нашего фронта, при этом они должны быть с правильной осанкой, приятным лицом и ростом не ниже ста семидесяти пяти сантиметров. – Несправедливо как-то, – возмутился небольшой росточком генерал с погонами танкиста. – Товарищ командующий, как воевать, так все вместе, а как на хорошее дело. так маленьких в сторону! Все дружно рассмеялись. – Да, пойми же ты, голова твоя садовая, – начал было отвечать командующий. В это время из-за угла широким шагом, что называется на полном ходу, вышел солдат под метр девяносто ростом. – Вот! – указал на него командующий. – Боец, ко мне! Тот остановился, ошарашенный таким количеством звезд, но быстро нашелся и, чеканя шаг, подошел, вскинув руку, доложил: – Гвардии сержант Макарычев, девятнадцать сорок седьмой ИПТАП, после излечения в госпитале направляюсь в свою часть для дальнейшего прохождения службы! Командующий не обратил особого внимания на его доклад, зато другие быстро отреагировали: кто-то кого-то подтянул, кому-то что-то сказал на ухо, и кто-то куда-то стремглав побежал. – Там же весь мир будет присутствовать, послы, корреспонденты, союзники, нейтралы. Мы должны показать нашего солдата, победителя. И каким он должен быть? Вот каким он должен быть, русским богатырем, – и указал на Леху, который понял, что его используют в качестве манекена. – Боец, из новобранцев? – Никак нет, после излечения в госпитале. – Награды имеются? Какие? – Так точно! Красная Звезда, Отечественная война, Боевого Красного Знамени и Славы третьей степени, – ответил Леха. – И еще орден Славы первой степени посмертно, – добавил генерал Ермолаев, которому уже принесли какие-то бумаги. – Почему посмертно, он же вот, живой стоит? – возмутился командующий. – Я с этим бойцом знаком лично, он из батареи капитана Кравченко, – отвечал Ермолаев – Батарея геройски погибла при Балатонской операции, сержант Макарычев тоже считался павшим смертью храбрых. – Да, я помню, – командующий призадумался. – Высота двенадцать ноль семь, под Секешфехерваром, – затем он пристально посмотрел на Леху, и в следующую секунду скомандовал: Товарищи генералы, смирно! Равнение на середину! – при этом сам вскинул руку к козырьку. Полтора десятка генералов стояли перед Лехой навытяжку, а командующий отдавал ему честь. Сержант Макарычев не до конца понимал суть происходящего. А они приветствовали его, прошедшего через смерть, и в его лице они отдавали дань его батарее, полку и еще тысячам и тысячам бойцам-фронтовикам, живым и мертвым. Вдруг Леха поднял руку, как школьник, которому нужно выйти из класса, а он стесняется и переживает. Нет, устав сержант Макарычев, конечно, знал, но чтобы обратиться к такому высокому чину, нужно получить разрешение у нескольких чинов рангом ниже, а потом получить разрешение у самого чина. Это было долго, к тому же он боялся что-нибудь перепутать, поэтому он просто поднял руку. Генералы заулыбались, улыбнулся и командующий: – Говори, солдат. – Бойцы из моего взвода героически погибли у меня на глазах, а числятся без вести пропавшими, – волновался Леха. – Не переживай, солдат, разберемся. Для того, чтоб начать разбираться, понадобилось несколько секунд. Кто-то уже что-то писал, а командующий снял со своей руки часы: – Это тебе от меня лично, сержант! И уже обращаясь к кому-то другому, добавил: Оформите должным образом, да, и еще, – он взял лист бумаги, написал на нем несколько строк и вручил Лехе. – Отдашь командиру части. – Разрешите идти? – Иди, солдат, удачи тебе! Свой полк сержант Макарычев нашел через пару часов и понял, что это уже не его полк. От его полка остался только номер. Не было привычных землянок и блиндажей, ровными рядами стояли новенькие палатки, возле них суетились новые люди, в новом обмундировании, невдалеке стояли зачехленные пушки, тоже новые, они были больше чем их ЗИС-2, стволы были еще длиннее. Он вспомнил горькую шутку Бабыни: «Чем длиннее ствол, тем короче жизнь»! Эх, Бабыня, Бабыня! Впереди стояла полевая кухня, бойцы выстроились с котелками в очередь. Повар весело размахивал черпаком. «Знакомое лицо, – подумал Макарычев, – Витренко кажется». – Первая батарея подходи! – кричал тот и вдруг увидел Леху, замер на секунду, – Леха! Леха Макар! Сунул черпак стоящему рядом сержанту – раскладывай, а сам устремился к нему. – Тебя же похоронили на Балатоне! – Живой, как видишь! Кто еще из наших остался? Может кто еще выжил? – Я и старшина Яремчук, больше никого, эти-то все зеленые из пополнения. Бойцы меж тем обступили их, кто-то протянул Лехе котелок с кашей и ложку. Слышно было, как кто-то говорил: – Сержант Макарычев, из тех, из старых. Подошел Яремчук, обнял Леху: – Вот видишь, как получилось-то, мы ведь про вас все время рассказываем и про Кравченко, и про Бабыню, и про тебя, а сами толком ничего и не знаем. Только что танков вы пожгли больше полка, и что сами погибли все. – Ничего, я потом расскажу, – ответил Леха, – командиру доложу о прибытии, потом встретимся, где комбата найти? – Вон та палатка, вторая от края, – указал рукой Яремчук. Леха направился к указанной палатке, но его обогнала легковая машина, из нее вышел подполковник, вошел в палатку. Леха подошел, но войти не посмел, однако услышал раздающиеся оттуда голоса: – Товарищ подполковник, ну нет у меня такого сержанта в списках батареи. Где же я его возьму-то? – А у меня капитан сейчас в штабе сидят два полковника из штаба армии и оба требуют предоставить им командира орудия первой батареи сержанта Макарычева. Тут Леха не выдержал: – Разрешите товарищ подполковник? – Тебе чего, боец? – Гвардии сержант Макарычев прибыл для дальнейшего прохождения службы. – Вот он, только прибыл, а мы почему-то ищем его в списках моей батареи, – возмутился молодой капитан. – А я не в списках вашей батареи, я в списках своей батареи, батареи капитана Кравченко, – сказал Леха и протянул подполковнику сложенный вчетверо лист бумаги. Тот пристально разглядывал Леху, пауза излишне затянулась, прервал ее капитан, который уже достал какую-то бумагу и теперь встал, поправил гимнастерку, портупею: – Извините сержант, вы числитесь выбывшим, или как здесь написано «Павшим смертью храбрых». Подполковник переключился на поданную Алексеем бумагу: – Кто писал? – Командующий фронтом, – ответил Леха. – Я думаю, после такой рекомендации любые проверки исключаются, – потом опять же, выдержав небольшую паузу, добавил: Знаете что, сержант Макарычев, садитесь за стол, капитан снабдит вас бумагой, и пишите подробный рапорт о гибели батареи, о гибели капитана Кравченко. Я хочу прочесть это раньше, чем те полковники из штаба армии. И еще, очень жаль, что послужить с вами не придется, в Москву поедете, на Парад Победы. Вы это заслужили.
ГОНЧАРУК
Начальник милиции подполковник Гончарук вечером того же дня, со свертком под мышкой, в котором были две бутылки армянского коньяка и палка колбасы, тщательно вытирал ноги о коврик, лежащий перед дверями квартиры старика Макарычева. Трудно сказать, что им двигало в эти минуты, конечно, ему было немного совестно, шутка сказать, такого заслуженного фронтовика чуть на принудительное лечение не отправил, но в основном это был страх за свои погоны. Военком Черняев сказал ему по секрету, что Макарычев этот был однополчанином самого товарища Ховченко, Героя Советского Союза, который находился на руководящей работе в краевом комитете партии, а до этого много лет возглавлял их район. Не дай бог до того дойдет, и тогда заканчивать службу Гончаруку придется ствольщиком в пожарной охране. – Здравствуйте, гостей принимаете?
– Заходите, – немного смутился Макарычев, он тоже неловко себя чувствовал после сцены в кабинете начальника милиции. Разговор не особо клеился, Гончарук рассказывал о своей службе в армии, о своих сослуживцах. Потом, видимо, выпитый коньяк начал делать свое дело, старик мало-помалу начал что-то говорить. Коньяк действовал и на подполковника тоже, и, не выдержав напряжения, он спросил в лоб: – Алексей Егорович, а правда, что вы с товарищем Ховченко воевали вместе? – Нет, неправда, – ответил тот, и когда Гончарук уже облегченно вздохнул, добавил: С Васей мы подружились на подготовке к параду, да и по Красной площади вместе шли. От этих слов начальник милиции сделался грустным, но расстались они хорошо, душевно: – Ты прости нас, отец, нехорошо получилось, – Гончарук говорил эти слова абсолютно искренне. – Да и ты прости меня, подполковник, я ведь все понимаю. Раньше бывало на работе вымотаешься, только до кровати доберешься и спишь без задних ног, а как на пенсию вышел, я ведь трезвый уснуть не могу. Только глаза закрою, прет она на меня «пантера» эта, башню поворачивает и пушку наводит прям на меня, а я рычаг спусковой рукой шарю и найти не могу, а от прицела не оторваться. И так каждую ночь. Уходя, Гончарук подумал, что неплохо бы похлопотать и отправить старика в госпиталь для ветеранов или в санаторий какой-нибудь. Потом эта мысль затерялась в ежедневной рутине. В санаторий поехал сам, через десять дней. В поездке этой не было ничего неожиданного, она была плановая. У Министерства внутренних дел были свои дома отдыха и пансионаты, и всему начальствующему составу через определенный промежуток времени такая возможность предоставлялась бесплатно. Купаясь в теплом море и греясь под крымским солнцем, забываешь все свои дела. Фрукты, вино, красавицы-горничные, комната на двоих, что еще нужно для полноценного отдыха. Соседом по комнате оказался высокий седой полковник из Ташкента. – Балтабоев Талгат Шухратович, – представился он. – На время отпуска можно Толя. – Гончарук Александр Леонидович, можно просто Саша. Толя–Талгат оказался приятным собеседником, интеллигентным и ненавязчивым, не рассказывал пошлых анекдотов и не цеплялся за каждую юбку, хотя там их было предостаточно. – Который день с тобой общаемся, я все удивляюсь тому, как ты чисто говоришь по-русски. – В Ташкенте очень много русских, особенно после землетрясения, вся страна город отстраивала, многие остались. Да и узбеком был мой отец, а мать у меня татарка, так что основной язык в семье русский. – И фамилия у тебя не совсем узбекская, – не унимался Гончарук. – «Балта» по-узбекски топор, – Талгат широко улыбнулся, – так что фамилия у меня самая что ни на есть узбекская, пойдем, философ, на море. Он и годами был старше, и по званию тоже, но ни разу, нигде об этом даже не намекнул. – Вот у тебя, Саня, фамилия украинская, а сам ты родом из Сибири. – А я не украинец, я хохол, – смеялся тот. – А в чем разница? – Украинцы живут на Украине, а хохлы где лучше, я вот сибирский хохол. Они посмеялись и вместе пошли на море. Как-то уже незадолго до окончания отпуска, встретив в столовой генерала, ветерана войны с множественными наградами, они даже заспорили: – Награды в санатории можно и не надевать, – доказывал Гончарук. – Он их заслужил, поэтому, где хочет, там пусть и носит, – стоял на своем Талгат. – Я вот с одним познакомился, у него и награды посерьезней будут, а он их не носит вообще, – он вспомнил старика Макарычева, но потом переключился на своего отца, – батя у меня в сорок первом ушел на фронт, а через полгода вернулся без руки и с осколком в животе. Ему в шестьдесят пятом первую медаль дали, юбилейную. До сих пор простить себе не могу, как после школы уехал, так даже ни разу и не поговорили по душам, то военное училище, то служба, бывало в отпуск приедешь на неделю, полчаса посидишь и бегом по друзьям да по подружкам. А то бывало и по два года не приезжал. Так он и умер без меня, боялся от службы меня оторвать, не вызывал. Они вернулись к себе в комнату, выпили немного вина. – А я своего отца не помню, – начал рассказывать Талгат, – забрали его в сорок третьем, а в сорок пятом извещение пришло «пропал без вести», потом месяца через три, после Победы уже похоронка пришла, что пал смертью храбрых и посмертно награжден Орденом Славы. Я, Саша, запомнил другого человека, на всю свою жизнь запомнил. Талгат задумался, закурил, было видно, что он волновался: Дядя Леша Солдат, так его все звали в округе. Появился он летом того же года. Я помню голодно тогда было, нас ведь четверо, мал мала меньше. Мамка нанималась белье стирать, руки себе в кровь сшаркивала, а все равно не хватало. Мы постоянно есть просили. Я старший, мне четыре года было. Соседка уговаривала мамку, чтоб она нас в детский дом сдала, а мамка все время плакала. Потом пришел дядя Леша, огромный, в военной форме, весь в орденах и с целым мешком продуктов: хлеб, колбаса, тушенка, конфеты. У меня, Саша, вкус этих конфет до сих пор во рту стоит. Они с матерью долго о чем-то разговаривали, ушел он уже по темну. Появился через месяц, матери деньги принес. Оказывается, он на работу устроился, туда же, где отец работал, молотобойцем в кузницу, а по вечерам еще вагоны грузил. Мать деньги брать не хотела, так он на нее накричал, что мол дети у тебя, их одевать и обувать надо. Глаза у Талгата заблестели, и он подошел к окну, как будто что-то высматривая. Никто не должен видеть слезы мужчины. – В общем, Саша, прожил он у нас в Ташкенте пятнадцать лет, и нас всех четверых на ноги поставил, и дом построил, сначала стройматериалы выбил в райисполкоме, потом собрал фронтовиков, и за месяц, по выходным да по вечерам, дело сделали. – Что-то я не пойму, Талгат, – прервал рассказ внимательно слушавший Гончарук, – он вам родственник был, или… – Никаких или, Саша! Моя мать восточная женщина. Однажды шла мимо базарчика, и ее там сильно оскорбили, даже один в нее камень кинул, ну из-за того, что он к нам ходит, потом половина базарчика с поломанными ребрами и носами ходила. Лютый он был на расправу. Леху Солдата вся округа знала. – Почему был-то, умер что ли? – Нет уехал в шестидесятом, он и раньше уезжал почти каждое лето, куда-то в Ростов, кажется. Помню, говорил, что, у Буратины матьприболела, надо съездить крышу починить. Мы с сестрами смеялись, у Буратино же только отец был – папа Карло. Потом мы узнали, что Буратино – это солдат. Вместе с ним и моим отцом воевал. – Слушай, ведь и правда, матери-то не было, – улыбнулся Гончарук, – только отец. – Вот и в тот раз, попрощаться он зашел, а мамка не хотела, чтоб он уезжал и сказала ему, что он еще не старый, и если хочет, то пускай любую из её дочерей в жены берет. Каждая из них счастлива будет стать его женой. – Вот так раз, – изумился Гончарук. – Восток, Саша, восток, – продолжил Талгат. – Только сильно осерчал дядя Леша на эти слова, мать мою назвал глупой женщиной, а еще сказал, что не для того Шухрат его от смерти своим телом закрыл, чтобы он потом на его дочери женился. И все! Повернулся и ушел. И больше я дядю Лешу Солдата не видел, не знаю даже, жив или нет. – Так это что ж получается, – произнес Гончарук, у которого от рассказа у самого мурашки по телу пошли, – он на своей жизни крест поставил, чтоб вас на ноги поднять? – Да, вот такой он был человек. – Что ты все был, да был, может жив еще! Искать пробовал? Ты же полковник милиции. Ты как домой приедешь, телеграммой мне на отдел скинь на него информацию, – Гончарук был до глубины души растроган этой историей. Отпуск подошел к концу, он попрощался со своим новым другом Талгатом, и отбыл, как говорится, к месту своего постоянного жительства, к семье, детям и к своей любимой работе. А ее накопилось много, пока он отдыхал. Сводки, отчеты, рапорты, другие бумаги, которых скопилось очень много на его столе. Постоянно заходили начальники различных служб, докладывали о проделанной работе. На третий день очередь дошла до объемного пакета из военкомата. Гончарук понял, что это за пакет, но раскрывать не стал, поднял трубку: – Дежурный, пригласи Жигалова на шестнадцать ноль-ноль. Вместе посмотрим. – Участковый явился в назначенный срок, доложил обстановку на участке, показал отчеты. – Хорошо, – сказал начальник милиции, – да, капитан, тут ответ на твой запрос из Министерства обороны по твоему Балатону, ты писал, тебе и открывать. Жигалов как-то замялся и после небольшой паузы произнес: – Так нету Балатона, умер он, неделю как похоронили. – Ну, дела! – Гончарук вспомнил, что хотел отправить старика подлечиться, – в сводках я что-то не видел? – Нет же ничего криминального, умер старик и умер, – Жигалов открыл свою папку и достал документы. –Вот паспорт, трудовая книжка, военный билет еще всякие документы. – Откуда он прибыл, родных искали? Жигалов открыл трудовую книжку. – Прибыл к нам из Ростовской области, до этого пятнадцать лет в Ташкенте жил. Молотобойцем на заводе работал. Гончарука как будто током ударило, на какие-то секунды парализовало. Перед его глазами встал молодой, здоровый и весь в орденах дядя Леша Солдат из рассказа Талгата: – А еще он по вечерам вагоны грузил, – произнес он вслух, – а в Ростов он уехал, потому что у Буратино мать болела и крышу ей надо починить. Жигалов смотрел с недоумением: какие вагоны? какая крыша? – Товарищ подполковник, – слегка возразил он, – вроде бы и не было матери у Буратино, только отец – папа Карло. – Нет, Жигалов, была мать, – стукнул кулаком по столу, – без матери капитан, нельзя, никак нельзя! Затем открыл военкоматский пакет. – И умер не дед Балатон, умер командир орудия первого взвода, первой батареи, гвардии сержант Макарычев Алексей Егорович, а еще умер дядя Леша Солдат. Подполковник встал, открыл сейф, достал бутылку коньяка и два стакана, разлил бутылку по стаканам: – Стоя, и не чокаясь! – один стакан, несмотря на возражения, протянул Жигалову, и уже выпив, спросил: Как умер? – Уснул и не проснулся, – ответил опорожнивший стакан Иван Егорович. – Значит «пантера» его все-таки достала, не успел дотянуться до спусковой рукоятки. Вот как война может нанести удар даже через сорок лет. Александр Леонидович замолчал, им овладело чувство тоски. Перед глазами появился отец, который жизнь положил, чтобы его – Сашку вывести в люди, а он даже похоронить его по-человечески не смог. Сердце сжалось, в ногах появилась слабость. Он присел, нет, не в свое начальничье кресло, а на стул, поодаль от Жигалова. Плечи его обвисли, опустил начинающую лысеть голову. Это был уже не бравый служака, это был просто человек со своими горестями и радостями. – А знаешь, Иван, – Гончарук впервые назвал так Жигалова, – «пантера» – это ведь не танк немецкий, это равнодушие людское, это и Романец, и Лариса Ивановна из Дома пионеров, это и мы с тобой, начальник милиции подполковник Гончарук и участковый Жигалов.

Последние комментарии
2 часов 9 минут назад
6 часов 28 минут назад
8 часов 15 минут назад
9 часов 29 минут назад
10 часов 35 минут назад
11 часов 44 минут назад