Борис Шергин
ГОСТИ С ДВИНЫ

Борис Викторович Шергин
(1893–1973)
Предисловие
Много древних сказаний содержат русские летописи. Из лета в лето, то есть из года в год, любознательные люди заносили в летописные книги то, что сами видели и о чём слышали от знающих людей.
Кроме письменных свидетельств, «преданья старины глубокой» без записей сохранялись в памяти народной. Памятливые старики изустно передавали детям сказания о старинных временах. И те, тоже изустно, без записей, пересказывали их внукам и правнукам.
Эта устная передача богато украшена сказочным вымыслом. Так продолжалось сотни лет.
Жизнь в старину была неспокойна. Московские князья, стремясь собрать русскую землю воедино, притесняли Новгородское государство. Предприимчивые новгородцы уходили на Север, обживали берега Белого моря, построили корабли, стали отменными мореходцами. Зимою отдыхали в своих беломорских деревнях и посадах, слушали стариков. А старики неизменно славили в былинах Киев — мать городов русских, великий вольный Новгород, державную Москву белокаменную.
И все эти былины о древнерусских городах сохранились на Севере в течение многих веков и дожили почти до нашего времени.
Я, автор этой книги, родился и половину жизни прожил в городе Архангельске. Наша семья принадлежала к морскому сословию. Весною ребята-ровесники шли на парусных судах в Белое море и на Мурман.
Лето на Севере — время наряда и час красоты. Стоит беззакатный день; полночь разнится от полдня только неизъяснимой тишиной. Небо сияет жемчужным светом, отражаясь в зеркале морских вод.
Мы, корабельные ребята, не спим, караулим тишину и красоту. Не спит и наш кормщик шкипер Пафнутий Анкудинов. Он поёт былину о морской ли глубине, о небесной ли высоте…
Чайки — большие, белые с голубым птицы — сидят рядами по бортам, по мачтам, по реям, слушают с нами. Но как только полуночное солнце начнёт пригревать, из-за края моря с гиканьем полетят лебеди. За ними — с воем, с причитанием — вереницы чёрных гагар.
Зимою морское сословие сидит в Архангельском городе, в кругу своих семейных.
В праздники оживала память о скоморохах. Даже старики надевали шёлковые маски и участвовали в торжественных представлениях…
Виденное и слышанное я донёс до теперешних дней.
Вы, мои юные читатели, записывайте рассказы ваших дедов и бабушек. Лет через тридцать, через сорок вы убедитесь, как интересны будут для всех ваши записи.
Б. Шергин.

Марья Дмитриевна Кривополенова

Родина сказительницы Марьи Дмитриевны Кривополеновой — река Пинега, приток Северной Двины. На Пинеге и в начале века двадцатого можно было увидеть деревянную Русь. Там во всём: в архитектуре, в одежде, в песнях, в домашнем быту — Русь, в лице граждан Великого Новгорода, освоила Север ещё в четырнадцатом веке.

Неграмотная, но любознательная Кривополенова рассказывала о продвижении Руси на Север так, как будто сама в тех походах участвовала:
«Прежде на Двине, на Пинеге, на Мезени чудь
[1] жила: народ смугл и глазки не такие, как у нас. Мы — новгородцы, у нас волос тонкий, как лён белый или как сноп жёлтый.
Мы, русские, ещё для похода на Пинегу и карбасов
[2] не смолили, и парусов не шили, а чудь знала, что русь идёт, — раньше здесь леса были только чёрные, а тут появилась берёзка белая, как свечка тоненькая.
Вот мы идём по Пинеге в карбасах. Мужи в кольчугах, луки тугие, стрелы перёные, а чудь молча, без спору давно ушла. Отступила с оленями, с чумами, в тундру провалилась. Только девки чудские остались.
Вот подошли мы под берег, где теперь Карпова гора. Дожжинушка ударил, и тут мы спрятались под берег. А чудские девки — они любопытные. Им охота посмотреть: что за русь? Похожа ли русь на людей? Они залезли на рябины и высматривают нас. За дождём они не увидели, что мы под берегом спрятались. Дождь перестал, девки подумали, что русь мимо пробежала:
— Ах мы дуры, прозевали!
Для увеселенья и запели свою песню. По сказкам-то, никому во вселенной чудских девок не перевизжать.
Было утро, и был день. Наши карбасы самосильно причалили к берегу. Старики сказали:
— Вот наш берег: здесь сорока кашу варила.
Тут мы стали лес ронить и хоромы ставить…
В эту пору здесь у водяного царя с лешим царём война была. Водяной царь со дна реки камни хватал и в лешего царя метал. Леший царь ёлки и сосны из земли с корнем выхватывал и в водяного царя шибал. Мы водяному царю помогали. И за это водяные царевны не топят ребятишек у нашего берега…
Это всё мой дедушка рассказывал. Он от своих прадедов слышал. От них и былины петь научился. Я у дедушкиных ног на скамеечке сидеть любила и с девяти лет возраста внялась
[3] в его былины и до вас донесла».
Имя шестидесятилетней сказительницы Кривополеновой известно стало науке ещё в конце прошлого столетия. Но записи её былин покоились в академических шкафах, а Марья Дмитриевна, всю жизнь тяжело работавшая, жила в большой бедности: «Не замогу работать, пойду побираться».
Побиралась, на свадьбах невестины речи пела, на похоронах вопила. Тем и кормилась до семидесяти двух лет!
В 1915 году отправилась на Север О. Э. Озаровская, московская артистка и талантливая собирательница народных сказаний. Вскоре она писала в Москву:
«Собирая словесный жемчуг на Пинеге, уловила я жемчужину редкой красоты. Везу её в Москву».
Так попала пинежская сказительница в Москву белокаменную. Не многоэтажные дома, не автомобили поразили Кривополенову. Московской старине радовалась по-детски она. Побывала в Кремле, посмотрела гробницу Ивана Грозного, нашла даже за Москвой-рекой дом Малюты Скуратова. Всё, о чём пела она всю жизнь в былинах, — всё оказалось правдой!
Если Кривополенова была жемчужиной редкой красоты, то Озаровская явилась для неё оправой червонного золота, — она открыла людям талант сказительницы. В Москве, в Петрограде, на Украине слушатели горячо принимали «бабушку Марью Дмитриевну». Шёл 1916 год.
Помню её выступление в большой аудитории Московского Политехнического музея.
Слушателей набралось до трёх тысяч: студенты, гимназисты, художники, учёные.
Марья Дмитриевна вышла на эстраду. Молодёжь приветствовала её рукоплесканиями и возгласами:
— Здравствуй, милая бабушка!
Кривополенова ответила тремя истовыми поясными поклонами на три стороны по старинному обычаю:
— Здравствуй многолетно и ты, Москва, юная и прекрасная!
И зазвучала странная, непривычная мелодия, несхожая с русской песней. Это был голос древней былины, и слушатели восприняли его сначала как некий аккомпанемент. Но тут же сразу вникли в слова, прониклись содержанием. Ведь былина из Киева, Новгорода, Москвы, давным-давно переселившаяся на Север, нерушимо сохраняла общерусскую родную речь.
Кривополенова, блестящая исполнительница былин, и сама по себе была каким-то чудом и счастьем для всех, кто видел и слышал её. Маленькая, худенькая, одетая в тёмный, старинного покроя сарафан, застёгнутый сверху донизу на серебряные пуговки, в тёмном вдовьем повойнике, она была похожа не то на девочку, не то на древнюю старуху. Приехав из дремучих лесов Севера, она не боялась многолюдной аудитории — наоборот, полюбила её, чувствовала себя непринуждённо и всегда и везде умела держать её в напряжённом внимании.
Слушатели воочию видели древних богатырей — Вольгу Святославича, Илью Муромца, Добрыню, — слышали тяжёлую поступь богатырских коней.
Сказительница рисует картину вражеского нашествия на Русь:
— В солнце знаменье страшное,
В полночь звёзды хвостатые,
Пред зарями земля тряслась,
Шла Орда на святую Русь.
На Руси петухи поют,
Не спит Рязань полуночная,
По стенам не спят караульщики,
По угольным башням дозорщики…
И два, и три часа пела Кривополенова, а бесчисленная аудитория воочию видела то, что внушала вещая старуха.
Не раз приезжала Кривополенова в Москву.
Посетила Марья Дмитриевна Третьяковскую галерею. Шла по залам усталая — день её начинался с четырёх часов утра. Но перед картиной Васнецова «Три богатыря» старуха оживилась, просияла.
— Глядите-ко, — обратилась она к окружавшим её посетителям. — Жили-были преславные богатыри. Не сказка-побаска, а жизнь бывала: Илья-то Муромец из-под ручки врага высматривает. На руке у него палица
[4] висит, свинцом налита, а ему как рукавичка.
И сказительница запела былину:
— Вздымет Илья палицу
Выше могутных плеч,
Жахнет палицей впереди себя,
Отмахнёт, отмахнёт созади себя,
Вправо, влево стал настёгивать,
Вражью силу обихаживать…
Взглянув на Добрыню, запела с улыбкой:
— Три года Добрынюшка стольничал
У князя Владимира в Киеве.
Три года Добрыня в послах живал
У неверных королей, у немецких.
У Добрынюшки вежество врождённое,
Хитрость-мудрость природная…
В 1921 году Кривополенова в последний раз была в Москве. Нарком Луначарский известил Озаровскую, что рад познакомиться с знаменитой сказительницей. Его ждали с часу на час. Луначарский приехал вечером. Озаровская зовёт:
— Бабушка, Анатолий Васильевич приехал!
Кривополенова сурово отвечает:
— Марья Митревна занята. Пусть подождёт.
Нарком ждал целый час. Марья Дмитриевна наконец вышла:
— Ты меня ждал один час, а я тебя ждала целый день. Вот тебе рукавички. Сама вязала с хитрым узором. Можешь в них дрова рубить и снег сгребать лопатой. Хватит на три зимы…
Марья Дмитриевна и наркома покорила умом и достоинством.
…Вернулась Марья Дмитриевна на Пинегу. Снова началась бродячая жизнь сказительницы.
В 1924 году на Пинеге был недород, бесхлебица. Опять старухе пришлось себе и внукам добывать хлеб в скитаниях по деревням.
Однажды отправилась она в дальнюю деревню. Возвращалась оттуда ночью. Снежные вихри сбивали с ног. Кто-то привёл старуху на постоялый двор. Изба была битком набита заезжим народом. Сказительницу узнали, опростали местечко на лавке.
Сидя на лавке, прямая, спокойная, Кривополенова сказала:
— Дайте свечу. Сейчас запоёт петух, и я отойду.
Сжимая в руках горящую свечку, Марья Дмитриевна произнесла:
— Прости меня, вся земля русская.
В сенях громко прокричал петух. Сказительница былин закрыла глаза навеки…
Русский Север — это был последний дом, последнее жилище былины. С уходом Кривополеновой совершился закат былины и на Севере. И закат этот был великолепен.
Вавило и скоморохи[5]
(былина М. Д. Кривополеновой)

У честной вдовицы у Ненилы было чадо.
Он поехал нивушку орати,
[6]А и белую пшеницу засевати.
Как по той по ниве, по дороге,
Шли Кузьма с Демьяном — скоморохи
[7]— А и здравствуешь, честной Вавило,
Соберёшь ты урожай великий.
— Вам спасибо, люди-скоморохи,
Вы куда идёте по дороге?
— Мы идём в безрадостное царство,
Переигрывать царя-собаку.
Он престрашно в свой гудок
[8] играет,
Род людской в печальный гроб сбивает.
Мы пошли в то царство песнь живую пети,
Род людской отманивать от смерти.
Ты пойдёшь, Вавило, с нами скоморошить? —
Говорит Вавило скоморохам:
— Я ведь песни пети не искусен,
Я в гудок играти не умею.—
Говорят Вавиле скоморохи:
— Заиграй, Вавило, во гудочек,
А во звончатый во переладец.
[9]Мы, Кузьма с Демьяном, припоможем. —
Заиграл Вавило во гудочек,
А во звончатый во переладец.
А в руках его ведь были вожжи,
А и стали шёлковые струны.
А в руках-то было понюгальце,
[10]А и стало тут ведь погудальце.
[11]И Вавило скоморохам поклонился:
— Я своей судьбине покоряюсь —
Скоморохом быти обещаюсь!
* * *
Вот заходят с матерью проститься.
Стала их вдова за стол садити
И несёт на блюде курицу варёну.
А из блюда курица взлетела,
На печной столб села да запела.
А и были хлебы те ржаные,
А и стали белые, пшеные.
И вдова Ненила ужаснулась:
— Государи, вы меня простите,
На худом на угощенье не взыщите. —
Говорят Нениле скоморохи:
— Знай, вдовица, что твой сын отныне
Всей земле послужит в скоморошьем чине. —
И Ненила сына обнимает,
Скоморохом быть благословляет.
* * *
Вот идут скоморохи по дороге.
На гумне мужик горох молотит.
Говорят ему Кузьма с Демьяном:
— С барышом тебе горох-от молотити! —
Отвечает им мужик сердито:
— Скоморохи, вы шатающие люди,
Вы куда идёте по дороге?
— Мы идём в безрадостное царство,
Переигрывать царя-собаку.
Мы идём в то царство песнь живую пети,
Род людской отманивать от смерти. —
Отвечает им мужик сердитый:
— Тот царище вам ума прибавит,
На живых на ваших струнах вас удавит. —
Говорят ему Кузьма с Демьяном:
— Коль добра-то нам не мог ты сдумать,
Так и лиха ты бы нам не молвил.
Заиграй, Вавило, во гудочек,
А во звончатый во переладец.—
Заиграл Вавило во гудочек,
А во звончатый во переладец:
Налетели голуби стадами,
Налетели голубята табунами.
Их ведь стал мужик цепом шибати.
Зашибал, он думал, голубяток —
Настегал ведь он своих ребяток.
А и тут мужик-то сокрушился:
— Скоморохи эти не простые,
Тяжко я пред ними провинился.
* * *
Вот идут скоморохи по дороге,
А навстречу им торговец едет,
Воз везёт с кувшинами, с горшками.
Говорят ему Кузьма с Демьяном:
— С барышом тебе посудой торговати! —
А и тут торговец заругался:
— Скоморохи, вы бездомные собаки,
А и тот дурак, кто любит ваши враки. —
Говорят ему Кузьма с Демьяном:
— Коль добра-то нам не мог ты сдумать,
Так и лиха ты бы нам не лаял.—
Заиграл Вавило во гудочек,
А во звончатый во переладец:
Налетели куропти с рябами,
Налетели утки с косачами.
На посуду стали тут садиться.
Начал их торговец палкой бити,
Битой птицы накидал возище
И на торг приехал в городище.
Тут над птицей диво сотворилось:
Оживали куропти с рябами,
Оживали утки с косачами,
Над базаром начали кружиться,
А базарный люд стоит дивится.
А торговец тяжко сокрушился:
— Скоморохи были не простые,
Тяжко я пред ними провинился.
* * *
Вот идут скоморохи по дороге,
На реке девица холст полощет.
Говорят же ей Кузьма с Демьяном:
— Набело тебе холсты-то полоскати! —
Отвечает добрая девица:
— Вам спасибо, люди-скоморохи.
Вы куда идёте по дороге?
— Мы идём в безрадостное царство,
Переигрывать царя-собаку.
Мы идём в то царство песнь живую пети. —
И девица встала, поклонилась:
— Вам желаю песнь живую сотворити,
Песней той всю землю обновити. —
Заиграл Вавило во гудочек,
А во звончатый во переладец.
А у той у доброй у девицы
Портна
[12] были деревенские, холщовы,
А и стали атласны и шелковы.
* * *
И приходит час, приходит время,
И Кузьма с Демьяном и Вавило
Подошли к безрадостному царству.
Их учуял грозный царь-собака,
В свой гудок престрашно стал играти.
От того от страшного игранья,
А и где там были нивы и дороги,
Протянулись тины и болота.
Заиграл Вавило во гудочек,
А во звончатый во переладец:
Накатилась туча огневая,
С молоньями туча и с громами.
И горит, горит безрадостное царство.
И сгорело с края и до края.
Заиграл Вавило во гудочек,
А во звончатый во переладец:
В небесах весенни зори заиграли,
Живоносные дожди на землю пали,
И несеяны хлеба заколосились,
Города и сёла взвеселились.
И Кузьму с Демьяном люди похваляют,
И Вавилу славят, величают,
Той землёю править наряжают.
Дед Пафнутий Анкудинов

Первый рассказ этой книжки посвящён Марье Дмитриевне Кривополеновой потому, что слава о ней прошла по всей России и пожилые люди с восхищением вспоминают эту сказочную старуху.
Но были на Севере талантливые рассказчики — мастера слова, которые никогда не выступали в театрах и клубах.
Умение говорить красноречиво, дары речи своей эти люди щедро рассыпали перед своими учениками и перед взрослыми при стройке корабля и в морских походах.
Таков был Пафнутий Осипович Анкудинов, друг и помощник моего отца.
Хвалил ли, бранил ли Анкудинов своих подручных, проходящие люди всегда остановятся и слушают серьёзно.
Помню упрёки, с которыми Анкудинов обращался к одному сонливому пареньку:
— Лёжа добра не добыть, лиха не избыть, сладкого куса не есть, красной одёжи не носить.
Молодёжь рада бывала, когда шкипером на судно назначался Анкудинов.
В свободный час Анкудинов сидит у середовой мачты и шьёт что-нибудь кожаное. На нём вязаная чёрная с белым узором рубаха, голенища у сапог стянуты серебряными пряжками. Седую бороду треплет лёгкий ветерок. Ребята-юнги усядутся вокруг старика.
Мерным древним напевом Анкудинов начинает сказывать былину:
— Не грозная туча накатилася,
Ударили на Русь злые вороги.
Города и сёла огнём сожгли,
Мужей и жён во полон свели…
Мимо нас стороной проходит встречное судно. Шкипер Анкудинов берёт корабельный рог-рупор и звонко кричит:
— Путём-дорогой здравствуйте, государи!
Шкипер встречного судна спрашивает:
— Далече ли путь держите, государи?
Анкудинов отвечает:
— От Архангельского города к датским берегам.
И встречное судёнышко потеряется в морских далях, как чайка, блеснув парусами.
И опять только ветер свистит в парусах да звучит размеренный напев былины:
— А и ехал Илья путями дальними.
Наехал три дороженьки нехоженых.
На росстани
[13] Алатырь — бел горюч камень,
На камени три подписи подписаны:
Прямо ехать — убиту быть,
Вправо поедешь — богату быть,
Влево ехать — женату быть.
Тут Илья призадумался:
— Не поеду я дорогой, где богату быть,
Богатство мне, старому, ненадобно.
Не поеду дорогой, где женату быть,
Жениться мне, старому, не к чему.
А поеду я дорогой, где убиту быть,
Любопытствую увидеть, как меня убивать будут. —
А и едет Илья прямой дорогою.
По дороге накрыла ночка тёмная.
Добрый конь идёт, не спотыкается;
Что по сбруе у коня камни-яхонты,
[14]На дорогу светят, как фонарики.
Подводит дорога к лесу к чёрному.
В том лесу застава зла, разбойничья,
На дубах сидят разбойники, как вороны,
Под корнями караулят, будто ястребы.
Разбойники Илью заприметили,
Со высоких дубов стали прядати,
[15]Из-под дубова коренья завыскакивали,
На Илью они стаями насунулись,
Ладят богатыря с коня снести.
От седла Илья отхватывает палицу,
А и весу в этой палице девяносто пуд.
Вздымет, вздымет палицу выше могутных плеч,
Ударит палицей впереди себя,
Отмахнёт, отмахнёт созади себя,
Вправо и влево стал нахаживать,
Разбойницкую силу стал настёгивать.
Что тут визгу, что тут писку, что тут скрежету!..
Валятся разбойники увалами,
[16]Увалами ложатся, перевалами.
Не осталося в живых ни единого.
А и эта ночь кромешная скороталася,
Утренние зори зарумянились,
Над зорями облака закудрявились.
Снимал Илья с головушки свой златой шелом,
На все стороны стал Илья отслушивать…
Тишина, тишина безглагольная.
Только слышно, край дороги ручеёк журчит.
На лету птичка утренняя посвистывает,
На болоте сера утица покрякивает…
Конечно, устное сказыванье пышным цветом цвело и в домашней обстановке. Люди морского сословия ходили друг к другу в гости целыми семьями. Молодёжь опять не даёт покоя Анкудинову:
— Дедушка, расскажи что-нибудь.
Старик иное и зацеремонится:
— Стар стал, наговорился сказок. А смолоду на полатях запою — под окнами хоровод заходит. Артели в море пойдут — мужики из-за меня плахами
[17] лупятся. За песни да за басни мне с восемнадцати годов имя было с отчеством. На промысле никакой работы задеть не давали. Кушанье с поварни, дрова с топора — знай пой да говори. Вечером промышленники в избу соберутся — я сказываю. Вечера не хватит — ночи прихватим. Дале один по одному засыпать начнут. Я спрошу:
— Спите, государи?
— Не спим, живём. Дале говори…
Рассказы свои Анкудинов начинал прибауткой: «С ворона не спою, а с чижа споётся».
И заканчивал: «Некому петь, что не курам; некому говорить, что не нам».

Любовь сильнее смерти

у Студёного моря, в богатой Двинской земле, жили два друга юных, два брата названых. Кирик да Олёша. И была у них дружба милая и любовь заединая.
Столь крепко братья названые друг друга любили — секли стрелою руку, кровь точили в землю и в море. Мать Сыру землю и Синее море призывали во свидетели. Кирик да Олёша — они одной водою умывались, одним полотенцем утирались, с одного блюда хлебы кушали, одну думу думали, один совет советали, — очи в очи, уста в уста.
Отцы их по любови морского лодьею
[18] владели и детям то же заповедали. Кирик, старший, стал покрут
[19] обряжать, на промысел ходить, а Олёша прилежал корабельному строению.
Пришло время, и обоим пала на ум одна и та же дева Моряшка. И дева Моряшка с обоими играет, от обоих гостинцы берёт. Перестали названые братья друг другу в очи глядеть.
В месяце феврале промышленники в море уходят на звериные ловы. Срядился Кирик с покрутом, а сам думает: «Останется дома Олёша, его Моряшка опутает». Он говорит брату:
— Олёшенька, у нас клятва положена друг друга слушати: сряжайся на промысел!
Олёша поперёк слова не молвил, живо справился. Якоря выкатали, паруса открыли… Праматерь морская — попутная поветерь
[20] — была до Кирика милостива. День да ночь — и Звериный остров в глазах. Круг острова лёд. На льдинах тюленьи полёжки. Соступились мужи-двиняне со зверем, учали бить.
Богато зверя упромыслили. Освежевали, стали сальное шкурьё в гору волочить. На море уже стемнело, и снег пошёл. А Олёша далеко от берега забежал. Со льдины на льдину прядает, знай копьё звенит, головы зверины долу клонятся. Задор овладел.
Старый кормщик и обеспокоился:
— Олёша далеко ушёл. Море на часу вздохнёт, вечерняя вода тороса от берега понесёт…
Побежал по Олёшу Кирик. Бежит по Олёшу, ладит его окликать, да и вздумал в своей-то голове: «Олёшу море возьмёт, девка Моряшка моя будет». И снова крикнуть хочет, и опять молчит: окаменила сердце женская любовь. И тут ветер с горы ударил. Льдина зашевелилась, заворотилась, уладилась шествовать в море, час её пробил.
И слышит Кирик вопль Олёшин:
— Кирик, погибаю! Вспомни дружбу-то милую и любовь заединую!..
Дрогнул Кирик, прибежал в стан:
— Мужики-двиняне, Олёша в относ попал!
Выбежали мужики. Просторно на море. Только взводень
[21] рыдает… Унесла Олёшу вечерняя вода.
Того же лета женился Кирик. Моряшка в бабах — как лодья соловецкая под парусом: расписана, разрисована. А у мужа радость потерялась: Олёшу зажалел.
Заказал Кирик бабам править по брате плачную причеть,
[22] а всё места не может прибрать.
[23]
В тёмную осеннюю ночь вышел Кирик на гору, на глядень
[24] морской, пал на песок, простонал:
— Ах, Олёша, Олёшенька!..
И тотчас ему с моря голос Олёшин донесло:
— Кирик! Вспомни дружбу-то милую и любовь заединую!
В тоске лютой, неутолимой прянул Кирик с вершины вниз на острые камни, сам горько взвопил:
— Мать-земля, меня упокой!
И будто кто его на ноги поставил. А земля провещилась:
[25]
— Живи, сыне! Взыщи брата: вы клятву творили, кровь точили, меня, Сыру землю, зарудили!
[26]
По исходе зимы, вместе с птицами, облетела поморье весть, что варяги-разбойники идут кораблём на Двину, а тулятся
[27] за льдиной, ожидают ухода поморов на промысел. Таков у них был собацкий обычай: нападать на деревню, когда дома одни жёны и дети.
И по этим вестям двиняне медлили с промыслом. Идёт разливная весна, а лодейки пустуют. Тогда отобралась дружина удалой молодёжи:
— Не станем сидеть, как гнус в подполье! Варяги придут или нет, а время терять непригоже!
Старики рассудили:
— Нам наших сынов, ушкуйных голов
[28] не уговорить и не постановить. Пущай разгуляются. А мы, бородатые, здесь ополчимся навстречу незваным гостям.
Тогда невесты и матери припадают к Кирику с воплем:
— Господине, ты поведи молодых на звериные ловы! Тебе за обычай.
Кирик тому делу рад: сидячи на берегу, изнемог в тосках по Олёше. Жена на него зубами скрипит:
— Чужих ребят печалуешь, а о своём доме нету печали!
Мужская сряда недолгая. На рассвете кричала гагара, плакали жёнки. Дружина взошла на корабль. У каждого лук со стрелами, копьё и оскорд — булатный топор. Кирик благословил путь. Отворили парусы, и пособная поветерь — праматерь морская — скорополучно направила путь.
Не доведя до Звериного острова, прабаба-поветерь заспорила с внуками — встречными ветерками. Зашумела волна. А молодая дружина доверчиво спит. Кирик сам у руля. И была назавтра Олёше година.
Студёное море на волнах стоит, по крутому взводню корабль летит. И Кирик запел:
Морская пучина,
Возьми мою
Тоску и кручину!
В том часе покрыла волну чёрная тень варяжской лодки. И варяги кричат из тумана:
[3]
— Куры фра? Куры фра?
[30]
Кирик струбил в корабельный рог грозно и жалобно. Дружина прянула на ноги. И тянут лук крепко, и стреляют метко. Поют стрелы, гремят долгомерные
[31] копья. Кирик забыл тоску и отдал сердце в руки веселью. Зовёт, величает дружину:
— Мужи-двиняне, не пустим варягов на Русь! Побьёмся! Потешим сердца!
Корабли сошлись борт о борт, и двиняне, как взводень морской, опрокинулись в варяжское судно. Песню радости поёт Кириково сердце. Блестит булатный оскорд. Как добрый косец траву, косит Кирик вражеские головы…
Но при последнем издыхании варяжский воевода пустил Кирику в сердце стрелу…
Красное солнце идёт к закату, варяжское трупьё плывёт к западу. Сколько двиняне празднуют о победе, о богатой добыче, друга столько тужат о Кирике. Он лежит со смертной стрелою в груди, весел и тих. На вечерней воде стал прощаться с дружиной:.
— Поспешайте на Русь, на Двину, с победною вестью. Оставьте меня и варяжское судно в благодарную жертву Студёному морю.
И дружина, затеплив по бортам жертвенной лодьи воскояровы свечи, с прощальною песней на своём корабле убежала на Русь.
В полночь вздохнуло море, затрепетало пламя свечей, послышался крик гусиный и голос Олёшин:
— Здрав буди, Кирик, брате и господине!
Ликует Кирик о смертном видении:
— Олёшенька, ты ли нарушил смертны оковы? Как восстал ты от вечного сна?
Снова пронзительно вскричали гуси, затрепетали жертвенные огни, прозвенел Олёшин голос:
— Я по тебя пришёл. Сильнее смерти дружная любовь.
Две тяжкие слезы выронил Кирик.
— Люто мне, люто! Я нарушил величество нашей любви…
В третий раз гуси вскричали, как трубы сгремели, колыхнулось пламя жертвенных свечей, и Кирик увидел названого брата. Глядят очи в очи, устами к устам. И голос Олёшин что весенний ручей и свирель:
— Кирик! Подвигом ратным стёрта твоя вина перед братом. Мы с тобой поплывём в светлый путь, в Гусиную белую землю. Там играют вечные сполохи, туда прилетают легкокрылые гуси беседовать с храбрыми. Там немолчно рокочут победные гусли, похваляя героев…
Завязалась праматерь морская — поветерь и взяла под крыло варяжский кораблик, где Кирик навек позабыл печаль и тоску человеческую…
О былина, о песня, веселье поморское! Проходят века, а Двинская земля поёт, поминает под гусли Олёшу и Кирика.
Смерть не всё возьмёт — только своё возьмёт.

Братанна

Гандвик — Студёное море,
Светлое, печальное раздолье,
Солнышко в море уходит,
Вечерняя заря догорает.
Маменька помирает,
Сына и дочь благословляет:
— Ухожу к заре подвосточной,
Ухожу к звезде полуночной.
Се тебе, милому сыну,
Промысел морской оставляю,
Отецкой лодьей благословляю.
Где руки отцовы трудились,
Туда и тебе, сыну, ходити.
Сестра тебе в материно место,
Вратанна в доме хозяйка…
Мир тебе, доченька родная,
Речь у тебя не людская,
Поживите, деточки, в совете.
А кто совет ваш нарушит,
Кляну того морем и землёю!
Земля на того и море!
Услышь меня, синее море!
Поблюди моего милого сына,
Подроди
[32] немую Братанну! —
И солнышко закатилось,
Вечерняя звезда восходила,
Маткины очи затворила.
И днём поют попы-дьяки,
Ночью брат с сестрой плачут.
Брат с сестрой зажили в совете.
Он в море пойдёт — простится,
С промысла придёт — доложится,
И брата Братанна хвалит,
По головушке его гладит.
Только речь у ней не постатейна,
[34]Говоря
[35] у Братанны непонятна.
А брата, как мать, жалеет,
День и ночь по дому радеет.
После этого быванья
Возрастные годы приходят.
Тут брат сестру не спросился,
Молодой женой оженился.
Глаза у ней с поволокой,
Роток у ней с позевотой.
Молодая жена Горожанка
Немую золовку
[36] невзлюбила.
Остуду в семье заводила.
Гарчит,
[37] что лихая собака:
— Ахти, безголосая рыба,
Ахти, камбала криворота,
Оборотень деревенский,
За что тебе ключи и пояс?
Я тебя, дуры, не меньше!
Тебе надо мной не смеяться!
В зимнюю безвременную пору
Грубость Горожанка согрубила:
Лодейные паруса сгноила,
Амбарному гнусу стравила, —
Подвела на немую Братанну.
И брат на сестру в кручине,
А жену от брани унимает:
— Не твоё дело, жена Горожанка,
Парусы — материны статки,
[38]Не твои, не мои нажитки!
Перед красным летечком смирится,
А людской-то злобе краю нету.
Злая жена Горожанка
В погодливо время, в распуту,
В глухую, безлюдную ночку
У Братанны ключи отвязала,
К лодейному прибегищу
[40] сходила,
Причальные цепи отомкнула.
Тут великая невзгода учинилась:
Лодью водой повернуло,
Заторными льдами зажало,
Якори рвало самосильно.
Беда на Братанну упала —
Подвела на неё Горожанка
Воровским своим поклёпом и подмётом.
И брат на сестру опалился,
Тяжко на Братанну оскорбился.
Перестал с сестрой говорити,
К столу сестры не стал звати.
Не так-то жили при матке,
За одним столом, в одном хлебе…
После этого быванья
Горожанка на Братанну, как пёс, гарчит,
А Братанна, как стена, молчит,
Знай горькие слёзы проливает,
Их правой ногою заступает,
Чтобы не было брату укоризны.
И в ту пору, в то время
Горожанка младеня породила,
А злобы своей не отложила.
Коль матери любы дети!
Горожанка и о том не умилилась,
Пуще на злобу устремилась.
О празднике было о вешнем,
Недельный день осветился,
С промыслу хозяин воротился,
Дома у ворот поколотился.
Брата сестра услыхала,
Поскорёшеньку отворяла,
На шею желанному напала,
Птичкой воронкой кричала,
Кукушицей куковала.
И брат на сестру умилился,
Что камень от сердца откатился.
Недолга немая беседа.
Горожанка в окно усмотрела,
Пуще лютой змеи освирепела,
Что ровня она бешеной собаке;
Душегубное дело учинила:
Младеня из зыбки схватила,
Золовкиным ножом заколола,
Шибла
[41] золовке на постелю.
Выбежала к мужу космата,
В ногах закаталась безобразно:
— Увы тебе! Люто, люто!
Сестра твоя лиходейка
[42]Убила нашего младеня!
И отец видит страшное дело.
Затрясся, кабыть
[43] от морозу,
Пришла на него озноба люта:
Сгорстал сестру за руки,
Ей руки отсек по запястья.
Повисли ручки, как рукавички.
Этого страху мало,
Этой смерти недостало,—
Своего убитого младеня
Брат сестре навязал на локти,
Выгонил сестру за ворота.
И почто с кручины смерть не придет,
С печали душу не вынет!
Боса, кровава, космата,
Без памяти Братанна ступает,
Светлого деничка не видит,
Не путём бредёт, не дорогой —
Чёрным лесом дремучим,
Белым мохом зыбучим.
Уж некуда Братание деваться,—
Ей бы заживо в землю закопаться!
Кабы мать-то земля расступилась,
Она живая бы в землю схоронилась.
И тут как свет осветило.
Как на волю двери отворило:
Возвеличилось отеческое море
От запада до востока!
Тут волны, как белые кони,
Тут шум, как конское ржанье.
К камню Братанна припадает,
К морю кричит и рыдает:
— Батюшко море, кормилец,
Матка у нас помирала,
Морю нас поручала!
Батюшко синее море,
С тобою живу, помираю,
В лютый день припадаю!
Услышь меня, синее море:
Нет на земле упокоя,
Некуда деться от злобы! —
В камень немая припадает,
В море младеня простирает.
Море убогую слышит,
Море убогую видит.
Страшно стало у моря:
Гром, и облак, и сумрак,
Трубные звуки, и буря!
В бурях гора затряслася,
В море Братанна урвалася.
И море Братанну подхватило,
В бездонных пучинах огрузило.
Ещё речью море говорило:
— Кто с морем в любви и совете,
Кому на земле управы нету,
Тому от моря управа.
Пригожается сердце морское
Ко всякой человеческой скорби!
И в ту пору, во то время
Диво славно и ужасно:
Пала Братанна в море,
Рученьки мёртвы висели,
Пала с мёртвым младенем.
Пала нема, полумёртва,—
Встала цела и здрава.
Волнами её подхватило,
В сердце морском переновило:
С костью кость сошлася,
С жилой жила свилася.
Руки целы и здравы.
Живой воды немая поглотила,
Запела и заговорила.
Выговаривает светло и внятно,
Поёт постатейно
[45] и красно:
— Мир тебе, синее море!
Слава морю до веку! —
А море, как лев, рыкает,
С младенем, как мать, играет.
И ожил дитя, засмеялся,
По-ребячьи в волнах заплескался.
Вышла Братанна из моря,
Как ново на свет родилась.
Она славу морю припевает,
На руках-то младенец играет.
Слава синему морю.
Мир тебе, сердце морское!
После этого быванья
Брата сестра вспомянула:
Птичка бы я была, воронка,
Домой бы я полетела,
На окошечке бы посидела,
Брата бы я поглядела!

Дойду я до братнева дома,
Покажусь вдовой-побирухой,
По речам меня не признати,
По рукам на меня не подумать:
Я ушла безъязыка, безрука. —
По-вдовьи Братанна повязалась.
Опоясалась по-старушьи,
Младенца в пазуху склала.
Сажей лицо замарала.
Солнце пришло на запад.
Белый день на закате.
К дому Братанна подходит.
В доме песня и плясня.
Говорит Братанна кухарке:
— Здравствуешь, тётенька-голубка!
Всё ли у вас по-здорову?
Что у вас за пир, за веселье? —
Статны и внятны вопросы,
Сладки и светлы разговоры,
И кухарка Братанну не узнала.
— Здравствуй и ты, сиротинка!
А пляшет и поёт Горожанка,
Этому дому лиходейка.
Брата с сестрой разлучила.
Нашу хозяюшку сгубила.
Ишь, собака, скачет да смеётся,
А ей золовкина слеза отольётся!
Уж Братанна ей не внимает,
Она в горницу гостину доступает.
Гости сидят за столами,
За яствами, за питьями.
Горожанка перед ними дробно ходит.
Золотым перстнем прищёлкнет,
Серебряным каблуком притопнет.
А хозяин выше всех посажен,
Пуще всех хозяин печален:
Без сестры у него пиру нету.
А сестра стоит, поклоны правит:
— Здравствуйте, хозяин с хозяйкой! —
Горожанка Братанну не признала:
— Уваливай, нищая коробка!
Здесь не монастырь, не поминки:
Господские песни да пляски!
Отвечает странница хозяйке:
— Тут-то меня и надо!
Я песни петь разумею.
Былинами душу питаю.—
Не туча с дождём прошумела,
Хозяин в углу отозвался:
— Садись-ка, тётка, на лавку,
Сказывай старину-былину,
Разгони мою тоску-кручину! —
В горнице говоря замолчала,
Странница младеня закачала,
Запела сама, заговорила:
— Маменька помирала,
Сына да дочь благословляла:
«Живите, деточки, в совете,
Сестра, обихаживай брата,
Будь ему в материно место.
Брателко, не обидь сестрицы.
К морю пойдёшь — простися,
С моря придёшь — доложися.
Клятвою вас заклинаю,
Во свидетели море призываю».
Тут вечерняя звезда восходила,
Маткины очи затворила.
И брат с сестрой зажили советно,
Однодумно они, однолично.
А сестра говорить не умела,
А горазда на всякое дело.
После этого быванья
Брат сестры не спросился,
Молодой женой оженился.
Молода жена Горожанка
Немую золовку невзлюбила,
Что дом приказан золовке,
А молодка у ней под началом.
Стало всё не в честь да не в радость,
Всё не в доброе слово.
Лихорадство
[46] Горожанка учинила:
Лодейные парусы сгноила,
Подвела под немую золовку…
Горожанка сделалась в лице переменна:
— Врака, врака, врака всё!
А брат слушает, дивится, а сам на сестру не подумал, что ушла нема и увечна; эта цела и здрава, в речах сладка и успешна.
А странница сидит, как свеча горит,
Слово говорит, что рублём дарит:
—… Да… парусы в зиму сгноила.
И этой напасти мало,
Этой беды недостало.
Молодая жена Горожанка
Мужневых трудов не пощадила,
Промысловую лодью погубила,
Подвела на немую золовку
Ябедой, поклёпом и подмётом…
Горожанка опять зубы явила:
— Враки, враки, враки! Ябеду сказывает
и врёт!
А муж говорит:
— Не сбивай, со врак пошлин не берут.
Странница эта опять поёт:
—… Да… промыслову лодью погубила.
И этой кручины мало,
Этого горя недостало.
Коль матери любы дети!
Горожанка дитя не пожалела:
Дитя своё заколола,
Золовкино сголовье зарудила,
Душегубством золовку уличила.
И брат сестре казнь придумал:
Без суда, без сыску, без управы
Руки сестре изувечил,
Навязал на локти младеня
И выгонил сестру за ворота…
Горожанка схватила со стены ловецкое копьё да шибла в певицу. Муж копьё перехватил на лету, бросил в угол, а сам заплакал:
— Правда правда! И у нас то!
И опять стала тишина, только странница поёт:
—… Да… выгонил сестру за ворота.
Побрела кровава, космата.
Шла, пришла на край моря
И к морю немая возопила.
Смерти себе запросила.
На море волны встали,
Как лист земля затряслася…
В море немая урвалася.
Как сноп, её море носило
И в сердце морском переновило:
Была нема и увечна,
Стала цела и здрава.
Запели уста, заговорили,
Руки младеня подхватили.
В живой воде дитя заплавал,
По-ребячьи дитятко заплакал…
Дивны у моря угодья!..
Я бабой-старухой срядилась,
К брату на праздник явилась.
Братанна платок-то сдёрнула да сажу стёрла. Больше слов не надо.
Брат сестру узнал, тут радость неудержимая. Упал сестре в ноги, целует ей руки, уста и очи, к сердцу жмёт своё детище. А Горожанка заскакала собакой да прянула в окно, только пыль свилась в след. Больше Горожанку здесь никто не видал. Да и кто её рад видеть!
И после этого быванья
Брат с сестрой зажили в совете.
Он в море пойдёт — простится,
С моря придёт — доложится.
А Братанна племянника хвалит.
По головушке его гладит.
Дивны у моря угодья!
Слава сердцу морскому!

Гнев

В двинском устье, на острове Кег, стоял некогда двор Лихослава и брата его Гореслава.
На Лихослава пал гнев Студёного моря. По той памяти место, где был «двор Лихославль», до сих пор называется Гневашево. Лихослав был старший брат, Гореслав — младший. Под рукою батьки своего, мореходца, оба возросли в добром промысле. Остарев, отец надёжно отпускал сыновей к Новой Земле. Так же неубыточно правили они торг у себя на Двине. Лихослава и Гореслава одна матерь спородила, да не одной участью-таланом наградила.
Гореслав скажет:
— В морском ходу любо, а в мирском торгу люто!
Лихослав зубы ощерит:
— Нет! В торгу любо, а в море люто.
Отец нахмурится и скажет Лихославу:
— Хотя ты голова делу, но блюдись морскому гневу.
По смерти отца Лихослав отпихнул брата от лодейного кормила. Перешерстил всю лодейную службу, ни в чём не стал с дружиною спрашиваться:
— Я-де на ваше горланство добыл приказ!
И лодейная дружина не любила Лихослава, но боялась его.
Люди ближние и дальние говорили Гореславу:
— Что ты молчишь брату? Зачем ты знание своё морское кинул ему под ногу? Разделись с братом. Батько дом оставил на двоих.
Эти речи Лихослав знает и зубами скрипит.
— Ай, братец! Костью ты мне в горле встал.
Таким побытом
[47] братья опять пришли на Новую Землю.
Добыли и ошкуя
[48] и песца. Ждали попутных ветров, чтобы подняться на Русь. А Гореслав с товарищем ещё побежал, на остатках, по медвежьему следу. И в этот час с горы пала поветерь, пособная ходу в русскую сторону.
Закружились белые мухи: снег лепит глаза. Гореслав и дружинник кинулись к берегу — берег потерялся из виду. И бежать грубо: в камне одну ногу сломишь, другую выставишь; и мешкать нельзя: знают, что в лодье их ждут и клянут.
А старший брат видит, что в берегах непогода, и скаредного своего веселья скрыть не может: «Я с тобой сегодня, братец, учиню раздел! Ты сам за своей погибелью пошёл».
И Лихослав начал взывать к дружине:
— Сами видите, друзья, какое лихорадство учинил мой братец. Нароком он гулять отправился, чтобы меня здесь удержать да уморить. А что вы домой торопитесь, на это он плюёт и сморкает.
Дружина смутилась. Некоторые сдались на эти речи. Но которые бывали в здешних берегах, те говорят:
— Непогода пала вдруг. Это здесь в обычай. Заблудиться может всякий. Надо в рог трубить и ждать. А не выйдут, надобно идти искать.
Кормщик затрубил в рог.
Лихослав освирепел:
— Ребята, у них затеяно с Гореславом против нас! Не поддадимся нашим супостатам!
[49]
Доброчестные дружинники говорят:
— Господине, это ты затеял что-то. А мы без хитрости. По уставу надобно искать потерянных до последнего изможения.
Лихослав кричит:
— Не слушайте, ребята! Они хотят вас под зимовку подвести. По уставу я ответчик за дружину. Не дам вас погубить. Они и в рог-то трубят — свои воровские знаки подают… Эй, выбирайте якоря! Эй, вздымайте паруса! Бежим на Русь!
В лодье вопль, мятеж. А погода унялась. Над землёй, над морем выяснило. Гореслав с товарищем выбежали на берег и смотрят это буйство в лодье…
Лихослав управил лодью к морю, кормщик отымает управленье и воротит к берегу. Одни вздымают паруса, другие не дают.
Гореслав и закричал:
— Братцы, не оставьте нас! Доброхоты, не покиньте!
Лихослава этот крик будто с ног срезал: чаял, потеряется да околеет там, а он стоит как милый.
В злобе Лихослав забыл всю смуту в лодье. Он хватает лук и пускает в брата одну за другой три стрелы. Первая стрела, пущенная Лихославом в брата, утонула в море. Вторая жогнула Гореслава в голенище у бахил.
[50] Третья стрела прошила рукавицу и ладонь, когда Гореслав в ужасе прикрыл глаза рукою.
Сказанье говорит, что, видя это злодеянье, оцепенели море и земля, окаменели люди в лодье. А Гореслав, добрый, кроткий, стал престрашен. Он грозно простёр окровавленные руки к морю и закричал с воплем крепким:
— Батюшко Океан, Студёное море! Сам и ныне рассуди меня с братом!
Будто гром, сгремел Океан в ответ Гореславу. Гнев учинил в море. Седой непомерный вал взвился над лодьей, подхватил Лихослава и унёс его в бездну.
Утолился гнев Студёного моря. Лодья опрямилась, и люди опамятовались. Дивно было дружине, что все они живы и целы.
Гореслав ждал их, сидя на камне, с перевязанной рукой. Дружинники, от мала до велика, сошли на берег, поклонились Гореславу в землю и сказали:
— Господине, ты видел суд праведного Моря. Теперь суди нас.
Гореслав встал, поклонился дружине тем же обычаем и сказал:
— Господо дружина! Все суды прошли, все суды кончились. А у меня с вами нету обиды.
С этой дружиной Гореслав и промышлял до старости. Дружина держала его в чести, а он их — в братстве.
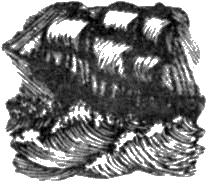
Сказка о дивном гудочке[51]

У отца у матери был сынок Романушко и дочка Осьмуха. Романушко настолько кроток, его хоть в воду пошли. У Осьмухи глаза завидущие, руки загребущие. Вкруг деревни, сколько глазом окинь, всё мох, серебряный мох. Летом Романушко с сестрой ходят по ягоды. Берут ягодки синие, ягодки красные. Им матерь однажды говорит:
— Кто сегодня больше принесёт, тому опояска лазорева, атласна.
Ступают брат и сестра по белым тем оленьим путищам, берут ягодки синие, ягодки красные. Брателко всё в коробок да в коробок, сеструха всё в рот да в рот.
Полдень. Жарко, солнечно. У брателка ягод класть больше некуда. У сеструхи две ягодичины по коробу катаются, гремят. Ей и пала на ум думка. Она говорит:
— Брателко, солнце уж на обеднике. Привались ко мне, отдохни, я у тя буду головушку учасывать частым гребешком.
Романушко привалился к сестре на колени, и только у него глазки сошлись, она нанесла нож…
Не пуховую постель брату постилала, не атласным одеяльцем укрывала, положила брателка в болотную жемь,
[52] заокутала оленьим белым мохом.
Домой прибежала, братневы ягодки явила.
— Вот вам ягодки синие, ягодки красные, пожалуйте мне-ка поясок лазоревый, атласный.
— А Романушко где-ка?!
— Не слушался, убежал, лесной царь его увёл.
Романушка заискали, в колоколы зазвонили. Романушко не услышал, на зов колокольный не вышел, только стала над ним расти на болотце тонка рябина кудревата.
Ходят по Руси скоморохи, утешают людей песнями да баснями, гудками да волынками. Идут по болотцу, где Романушко лежит, увидели рябинку, высекли тесинку. Сделали гудок с погудалом. Не успели погудальце на гудок наложить, из гудка голосок родился и запел:
— Скоморохи, потихоньку,
Весёлые, полегоньку…
Зла меня сестрица убила,
В белый меня мох положила
За ягодки за красны,
За поясок за атласный.
Скоморохи говорят:
— Эко, государи, диво какое! Гудок-от человеческим языком выговариват.
Вот идут скоморохи по дороге, да в ту деревню, где Романушкин-то дом.
— Государь хозяин, пусти весёлых людей ночь переночевать.
— Государи скоморохи, здесь не до веселья, сын потерялся. Ушёл по ягоды — не воротился.
Скоморох Вавило говорит:
— Возьми-ко, хозяин, погудальце. Не расскажет ли тебе гудок какого дива.
Не поспел отец погудальце на гудок наложить, запел из гудочка попечальный Романушкин голосок:
— Тятенька, потихоньку,
Миленькой, полегоньку…
Зла меня сестрица убила,
В белый меня мох положила
За ягодки за красны,
За поясок за атласный.
Мать-то услыхала:
— Дайте мне, дайте гудок-от!
Не поспела матерь погудальце на гудок наложить, запел с гудочка попечальный Романушкин голосок:
— Маменька, потихоньку,
Родненька, полегоньку…
Зла меня сестрица убила,
В белый меня мох положила
За ягодки за красны,
За поясок за атласный.
Не кипарисны деревца пошаталися, не изюмны ягодки посыпались, отец с матерью заплакали. Сошлась родня вся, порода.
[53] Собрались порядовные соседи.
[54] Девку Осьмуху имают и на суд перед собою ставят.
— Ha-ко ты играй!
Не поспела Осьмуха погудальце на гудок наложить, запел гудочек тонко, и грозно, и жалобно:
— Сестрица, потихоньку,
Родненька, полегоньку…
Ты меня убила,
В белый мох положила
За ягодки за красны,
За поясок за атласный.
Осьмуха сшибла от себя погудальце.
Скоморох Вавило погудальце перехватил и стегнул Осьмуху крест-накрест. Она и перекинулась сорокой; прострекотала три раза и слетела в тёмный лес.
Скоморохи поводят народ и родителей на болотце, где шумит над Романушком тонка рябина кудревата. Скоморохи отымают белый мох. Родители видят своё детище, мрут душой и телом. Скоморохи говорят:
— Не плачьте, родители, нынче время наряда и час красоте.
Заиграл Вавило во гудочек, а во звончатый во переладец. А народ и скоморохи запели:
— Грозная туча, накатися,
Светлые дожди, упадите,
Романушко, пробудися,
На белый свет воротися.
И летает погудальце по струнам, как синяя молния. Сгремел гром, и на болотце накатилось светлое облако и упало живым дождём на Романушка. И ожил Романушко. Из-под кустичка приходит серым заюшком, а из-под камешка приходит горностаюшком. Скоморохам-то на славу, родителям на радость, а народу-то на диво.

Об Авдотье Рязаночке

Зачинается доброе слово
Про Авдотью-жёнку, Рязанку.
Дунули буйные ветры,
Цветы на Руси увяли,
Орлы на дубах закричали,
Змеи на горах засвистали.
Деялось
[55] в стародавние годы.
Не от ветра плачет сине море,
Русская земля застонала.
Подымался царище татарский
Со своею Синею ордою,
[56]С пожарами, со смертями.
Города у нас на дым пускает,
Пепел конским хвостом разметает,
Мёртвой головой по земле катит.
И Русь с Ордой соступилась,
[57]И были великие сечи…
Кровавые реки пролилися,
Слёзные ручьи протекали.
Увы тебе, стольный Киев!
Увы, Москва со Рязанью!
В старой Рязани плач с рыданьем:
Носятся страшные вести.
И по тем вестям рязанцы успевают,
Город Рязань оберегают:
По стенам ставят крепкие караулы,
В наугольные башни — дозоры.
Тут приходит пора-кошенина.
[58]Житьё-то бытьё править надо.
Стрелецкий голова
[59] с женою толкует,
Жену Авдотью по сено сряжает:
— Охти мне, Дунюшка-голубка,
Одной тебе косить приведётся.
Не съездить тебе в три недели,
А мне нельзя от острога
[60] отлучиться,
Ни брата твоего пустить с тобою,
Чтобы город Рязань не обезлюдить.
И Авдотья в путь собралася,
В лодочку-ветлянку
[61] погрузилась.
Прощается с мужем, с братом,
Милого сына обнимает:
Миленький мой голубочёк,
Сизенький мой соколик,
Нельзя мне взять тебя с собою:
У меня работа будет денно-нощна,
Я на дело еду скороспешно. —
После этого быванья
Уплыла Авдотья Рязанка
За три леса тёмных,
За три поля великих.
Сказывать легко и скоро,
Дело править трудно и долго.
Сколько Авдотья сено ставит,
Умом-то плавает дома:
«Охти мне, мои светы,
Всё ли у вас по-здорову?»
А дни, как гуси, пролетают,
Тёмные ночи проходят.
Было в грозную ночку —
От сна Авдотья прохватилась,
В родимую сторонку взглянула:
Над стороной над рязанской
Трепещут пожарные зори…
Тут Авдотья испугалась:
— Охти мне, мои светы!
Не наша ли улица сгорела? —
А ведь сена бросить не посмела:
Сухое-то кучами сгребала,
Сучьём суковатым пригнетала,
Чтобы ветры-погоды не задели.
День да ночь работу хватала,
Не спала, не пила, не ела.
Тогда в лодчонку упала,
День да ночь гребла, не отдыхала,
Весла из рук не выпускала.
Сама себе говорила:
— Не дрожите, белые руки,
Не спешите, горючие слёзы! —
Как рукам не трястися,
Как слезам горючим не литься?
Несёт река головни горелы,
Плывут человеческие трупы.
На горах-то нет города Рязани,
Нету улиц широких,
Нету домовного порядка.
Дымом горы повиты,
Пеплом дороги покрыты.
И на пеплышко Авдотья выбредала.
Среди городового пепелища
Сидят три старые бабы,
По мёртвым кричат да воют,
Клянут с горя небо и землю.
Увидели старухи Авдотью:
— Горе нам, жёнка Авдотья!
Были немилые гости,
Приходил царище татарский
Со своею Синею ордою,
Наливал нам горькую чашу.
Страшен был день тот и грозен.
Стрелы дождём шумели,
Гремели долгомерные копья.
Крепко бились рязанцы,
А врагов не могли отбити,
Города Рязани отстояти.
Убитых река уносила,
Живых Орда уводила.
Увы тебе, жёнка Авдотья,
Увы, горегорькая кукуша!
Твоё тёплое гнёздышко погибло,
Домишечко твоё раскатилось,
По камешку печь развалилась.
Твоего-то мужа и брата,
Твоего-то милого сына
В полон увели постылый.
И в те поры Авдотья Рязанка
Зачала лицо своё бити,
Плачем лицо умывати,
Она три дня по пеплышку ходила,
Страшно, ужасно голосом водила,
В ладони Авдотьюшка плескала,
Мужа и брата кричала,
О сыне рыдала неутешно.
Выплакала все свои слёзы,
Высказала все причитанья.
И после этого быванья
Вздумала крепкую думу:
— Я пойду вслед Орды,
Пойду по костям по горелым,
По дорогам пойду разорённым.
Дойду до Орды до проклятой,
Найду и мужа и брата,
Найду своего милого сына!
Говорят Авдотье старухи:
— Не дойти тебе Орды за три года.
Пропадёшь ты, жёнка, дорогой,
Кости твои зверь растащит,
Птицы разнесут по белу свету.
Говорит Авдотья старухам:
— То и хорошо, то и ладно!
Дожди мои косточки умоют,
Буйные ветры приобсушат,
Красное солнце обогреет.
Говорят Авдотье старухи:
— В Орде тебе голову отымут,
Кнутом тебе перебьют спину.
— Двум смертям не бывати,
А одной никому не миновати! —
И пошла Авдотья с Рязани:
Держанный на плечах зипунишко,
[62]На ногах поношенны обутки.
И поминок
[63] добыла своим светам:
Пояса три да три рубахи.
— Найду их живых или мёртвых,
В чистые рубахи приодену.
Шла Авдотья с Рязани,
Суковатой клюкой подпиралась.
Шла она красное лето,
Брела она в грязную осень,
Подвигалась по снегу, по морозу.
Зимние погоды заносят.
Страшно дремучими лесами:
В лесах ни пути, ни дороги;
Тошно о лёд убиваться,
По голому льду подаваться.
Шла Авдотья с Рязани,
Шла к заре подвосточной,
Шла в полудённые страны,
Откуда солнце восходит,
Смену несла своим светам:
Три пояска да три рубахи.
Шла, дитя называла,
Мужа и брата поминала.
Тогда только их забывала,
Когда крепким сном засыпала.
Шла Авдотья близко году,
Ела гнилую колоду,
Пила болотную воду.
До песчаного моря доходила.
Идут песчаные реки,
Валится горючее каменье,
Не видать ни зверя, ни птицы;
Только лежат кости мёртвых,
Радуются вечному покою.
В тлящих
[65] полуденных ветрах,
В лютых ночных морозах
Отнимаются руки и ноги,
Уста запекаются кровью.
И после этого быванья
Веют тихие ветры,
Весна красна благоухает,
Земля цветами расцветает.
Жёночка Авдотья Рязанка
На высокую гору восходит,
Берега небывалые видит:
Видит синее широкое море,
А у моря Орда кочевала.
За синими кудрявыми дымами
Скачут кони табунами,
Ладят свои таборы-улусы.
[67]Тут-то Авдотью увидали,
Врассыпную от неё побежали:
— Алай-булай, яга-баба!
— Алай-булай, привиденье! —
Голосно Авдотья завопила:
— Не бегайте, мурзы-татаре!
Человек я русского роду.
Иду в Орду больше году,
Чтоб вашего царя видеть очи.—
И в ту пору, и в то время
Авдотью к царищу подводят.
Блестят шатры золотые,
Стоят мурзы на карачках,
Виньгают в трубы и в набаты,
Жалостно в роги играют,
Своего царища потешают.
Сидит царище татарский
На трёх перинах пуховых,
На трёх подушках парчовых.
Брови у царища совины,
Глаза у него ястребины.
Усмотрел Авдотью Рязанку,
Заговорил царище, забаял:
— Человек ты или привиденье?
По обличью ты русского роду.
Ты одна-то как сюда попала?
Ты не рыбою ли реки проплывала,
Не птицей ли горы пролетала?
Какое тебе до меня дело? —
И жёнка Авдотья Рязанка
Его страшного лица не убоялась:
— Ты гой еси,
[68] царище татарский,
Человек я русского роду,
Шла к тебе больше году,
Сквозь дремучие леса продиралась,
О голые льды убивалась,
Голод и жажду терпела,
От великой нужды землю ела.
Я шла к тебе своей волей,
У меня к тебе обидное дело:
Приходил ты на Русь со смертями,
С пожарами, с грабежами,
Ты разинул пасть от земли до неба,
Ты Рязань обвёл мёртвою рукою,
Катил по Рязани головнёю,
Теперь ты на радости пируешь…
Ей на то царище рассмехнулся:
— Смело ты, жёнка, рассуждаешь,
Всего меня заругала!
Не слыхал я такого сроду.
А не будем с тобою браниться.
Давай, Рязанка, мириться.
Какое тебе до меня дело? —
Ты увёл в полон моего мужа и брата,
Унёс моего милого сына.
Я ночью и днём их жалею,
Покажи их живых или мёртвых.
Я одену их в чистые рубахи,
Поясами их опояшу,
Покричу над ними, поплачу,
Про запас на них нагляжуся.
И царь на Авдотью дивится:
— Орда молодцов видала,
Такого образца не бывало!
Не князь, не посол, не воин —
Жёночка с Рязани, сиротинка,
Перешла леса и пустыни,
Толкучие горы перелезла,
Бесстрашно в Орду явилась…
Гой вы, мурзы-татаре,
Приведите полоняников рязанских,
Пущай Авдотья посмотрит,
Жив ли муж её с братом,
Тут ли её милое чадо!
И полон рязанский приводят,
И Авдотья видит мужа и брата.
Живого видит милого сына.
И не стрела с тугого лука спрянула,
Не волна о берег раскатилась,
С семьёй-то Авдотьюшка свидалась.
Напали друг другу на шею,
Глядят, и смеются, и плачут.
Говорит царище татарский:
— Жалую тебе, жёнка Авдотья,
За твоё годичное хожденье:
Из троих тебя жалую единым,
Одного с тобою на Русь отпущаю.
Хочешь, бери своего мужа,
Хочешь, бери себе сына,
А хочешь, отдам тебе брата.
Выбирай себе, Рязанка, любого.—
И в ту пору и в то время
Бубны, набаты замолчали,
Роги и жалейки перестали.
А жёнка Авдотья Рязанка
Горше чайцы морской возопила:
— Тошно мне, мои светы!
Тесно мне отовсюду!
Как без камешка синее море,
Как без кустышка чистое поле!
Как я тут буду выбирати,
Кого на смерть оставляти?!
Мужа ли я покину?
Дитя ли своё позабуду?
Брата ли я отступлюся?..
Слушай моё рассужденье,
Не гляди на мои горькие слёзы:
Я в другой раз могу замуж выйти,
Значит, мужа другого добуду.
Я в другой раз могу дитя родити,
Значит, сына другого добуду.
Только брата мне не добыта,
Брата человеку негде взята…
Челом тебе бью, царь татарский,
Отпусти на Русь со мною брата!
И в то время жёнка Рязанка
Умильно перед царищем стояла,
Рученьки к сердцу прижимала,
Не мигаючи царю в очи глядела,
Только слёзы до пят протекали.
Тут не на море волна прошумела,
Авдотью Орда пожалела,
Уму её подивилась.
И царище сидит тих и весел,
Ласково на Авдотью смотрит,
Говорит Авдотье умильно:

— Не плачь, Авдотья, не бойся,
Ладно ты сдумала думу,
Умела ты слово молвить.
Хвалю твоё рассужденье,
Славлю твоё умышленье.
Бери себе и брата и мужа,
Бери с собой и милого сына.
Воротися на Русь да хвастай,
Что в Орду не напрасно сходила,
На веках про Авдотью песню сложат.
Сказку про Рязанку расскажут…
А и мне, царищу, охота,
Чтобы и меня с Рязанкой похвалили,
Орду добром помянули.
Гей, рязанские мужи и жёны,
Что стоите, тоскою покрыты?
Что глядите на Авдотьину радость?
Я вас всех на Русь отпущаю.
Гей, жёнка Авдотья Рязанка!
Всю Рязань веди из полону,
И будь ты походу воевода.
И в те поры мурзы-татаре
Своего царища похваляют,
Виньгают в трубы и в роги,
Гудят в набаты, в бубны.
И тут полоняники-рязанцы
Как от тяжкого сна разбудились,
В пояс Орде поклонились,
Молвили ровным гласом:
— Мир тебе, ордынское сердце,
Мир вашим детям и внукам!
И не вешняя вода побежала,
Пошла Рязань из полону.
Понесли с собой невод и карбас
[69]Да сетей поплавных — перемётов,
Чем, в дороге идучи, питаться.
Впереди Авдотья Рязанка
С мужем, с братом и с сыном,
Наряжены в белые рубахи,
После этого быванья
Воротилась Рязань из полону
На старое своё пепелище,
Житьё своё управляют,
Улицы ново поставляют.
Были люди, миновались,
Званье, величанье забывалось.
Про Авдотью память осталась,
Что жёнка Авдотья Рязанка
Соколом в Орду налетала,
Под крылом Рязань уносила.

Емшан-трава

Емшан-трава благоухает,
Песню в уста мои влагает.
Деялось в стародавние годы:
Князь Владимир — грозные очи
[70]Дружил с половецкой ордою;
В гости звал князей половецких,
Братьев Отрока и Сырчана.
И на пиру братьев обидел —
Обнёс круговою чашей:
Почтил перво Юнду, чудина.
И Сырчан на князя оскорбился:
— У Владимира-князя правды нету,
В гости звал, величал сыновьями,
А чествовал ниже холопа.—
И Отрок Сырчана унимает:
— Не по делу крамолишься,
[71] брате.
Со всеми Володимир ровно грозен,
С боярином грозен и со смердом.
А мы не князю — мы Киеву дружим,
С Киевом у нас нету обиды.—
Сырчан на то рассмехнулся:
— Ты и наймися Киев караулить.
Повесь на бедро колотушку,
Ходи по улицам, стукай!
А моя голова не поклонна,
Я надвое сердце разбиваю:
Родимые степи покидаю,
А с Владимиром-князем мне тесно! —
И ушёл Сырчан на чужбину,
С родимою степью простился,
С травами, со цветами…
— Прости и ты, милый брате,
У меня с тобой нету обиды! —
И после этого быванья
Черкесские горы и долы
Родиной Сырчан называет,
Стоит за них честно и грозно,
Мечом и щитом обороняет.
И после этого быванья
За годами проходят годы,
И грозный Сырчан-воевода
Царём на горах учинился,
Надел золотую шайку,
Принял серебряный посох,
Сел на высоком троне.
Позабыл родимые степи
Со травами, со цветами,
С вешними ручейками…
И после этого быванья
За годами проходят годы.
Умер в Киеве князь Володимир,
Закрыл свои грозные очи…
И Отрок гонца снаряжает:
Поспешай в Черкесские горы,
Сказывай кончину Мономаха,
Домой зови брата Сырчана,
Пой ему половецкие песни.
А если не послушает песен,
Подай ему пучок травы-емшана,
Подай вот эту горсть травы душистой…
И гонец в дорогу напустился.
Горные дороги протяжны,
Емшан в пути завял и высох,
Но живёт его благоуханье,
Сладкое степей воспоминанье.
И после этого быванья
Гонец доступает до Сырчана.
Сырчан с дружиной пирует.
На челе золотая шапка,
В руках медвяная чаша.
Здравствуй, гонец половецкий!
Сказывай вести от брата.
И звенят половецкие гусли,
Под гусли гонец держит слово:
— Вернись домой, господине!
Умер грозный князь Володимир,
Закрылись орлиные очи.
Вернись домой, господине!
Новый князь любителей и ласков. —
Сырчан на то усмехнулся:
— Что мне до княжеской ласки!
Я царь над тремя городами,
Над всею Черкес-горою!
Я Киевского князя не меньше.—
Но звенят половецкие гусли
Перелётных птиц голосами,
Весенними ручейками:
— Вернись домой, господине!
Помяни половецкие степи.
У нас реки, озёра разлилися,
Лебеди и гуси — будто пена.—
И Сырчан хмурит грозные брови:
— Добро, игрец половецкий!
Мне мать певала эти песни.
Вспомнил я голоса степные…
Да мне домой не вернуться,
С золотою клеткой не расстаться,
Не сменить дворца на кибитки.
Тогда гонец половецкий
Подаёт царю пучок емшана,
Подаёт пучок травы душистой.
И царь берёт траву, дивяся,
И к лицу пучок травы степной подносит.
И стряслося дивное диво:
Грозный царь прикрыл глаза рукою
И, пучок степной травы целуя, плачет.
Жмёт к устам пучок травы душистой,
И по грозной бороде струятся слёзы…
Нежное травы благоуханье,
Сладкое степей воспоминанье…
И Сырчан не видит гор, теснин угрюмых.
Степь перед ним бескрайная сияет,
Половецкие кибитки вереницей,
Мать поёт, емшан-траву сбирает;
Та трава печали отымает…
И молчит разгульная дружина,
И дивит на слёзы господина…
А Сырчан встаёт тих и весел.
С головы сложил царскую шапку,
Царский посох в угол поставил;
Надевает сукман
[72] половецкий,
Пастушью шапку баранью,
Меч по бедре опоясал.
Сел на коня и молвил:
— Прощайте, живите, други!
Зовёт меня милая отчизна.
Ухожу в половецкие степи,
В родимую землю навеки!..
И после этого быванья
Два всадника правят дорогу,
Правят под северный ветер.
Сырчан и гонец половецкий
В милую едут отчизну,—
Едут денно и ночно,
Синие дали соглядают:
Не блеснут ли реки степные,
Не сбелеют ли шатры кочевые.


Примечания
1
Чудь — чудское, финское племя, в древности населявшее северную Русь. (
Здесь и далее примечания автора.)
(обратно)
2
Карбас — парусно-гребное судно древнерусского образна для речного и морского прибрежного плавания. Карбас лёгок, поворотлив на ходу; распространён на Севере до наших дней.
(обратно)
3
Внялась — вникла, поняла.
(обратно)
4
Палица — тяжёлая боевая дубина.
(обратно)
5
В моём изложении подчёркнута основная идея былины — могучая сила искусства.
(обратно)
6
Орати,
орать — пахать.
(обратно)
7
Скоморохи — бродячие актёры на Руси.
(обратно)
8
Гудок — древнерусский музыкальный инструмент, похожий на скрипку.
(обратно)
9
Переладец — набор колокольчиков, аккомпанирующих гудку.
(обратно)
10
Понюгальце — кнут.
(обратно)
11
Погудальце — смычок для игры на гудке.
(обратно)
12
Портна — холст, полотно.
(обратно)
13
Росстань — перекрёсток.
(обратно)
14
Яхонт — старинное название рубина и сапфира.
(обратно)
15
Прядати,
прядать — прыгать, скакать.
(обратно)
16
Увал — нагромождение.
(обратно)
17
Плахи — бревёшки.
(обратно)
18
Лодья — морское палубное трёхмачтовое судно. Древняя лодья подымала груз в 12 тысяч пудов.
(обратно)
19
Покрут — команда промыслового судна;
покрут обряжать — набирать, вербовать команду.
(обратно)
20
Поветерь — попутный ветер.
(обратно)
21
Взводень — крутая, большая волна.
(обратно)
22
Причеть — поэтические речи, распеваемые женщинами в торжественных случаях жизни.
(обратно)
23
Места не может прибрать — не находит себе места.
(обратно)
24
Глядень — возвышенная часть берега, гора на берегу, откуда открывается широкий вид на море.
(обратно)
25
Провещилась — высказалась; от слова «вещать».
(обратно)
26
Зарудили — окрасили кровью, окровавили.
(обратно)
27
Тулятся — прячутся, укрываются.
(обратно)
28
Ушкуйня — разбойная, отчаянная.
(обратно)
29
Гандвик — песенное название Белого моря.
(обратно)
30
Куры фра? — Кто идёт?
(обратно)
31
Долгомерный — долгий мерою, то есть длинный.
(обратно)
32
Подроди — прибавь силы, здоровья.
(обратно)
33
Быванье — событие, происшествие.
(обратно)
34
Не постатейна —
здесь: необычна для человека.
(обратно)
35
Говоря — речь.
(обратно)
36
Золовка — жена брата.
(обратно)
37
Гарчит — хрипло лает (о собаке).
(обратно)
38
Статки — остатки, наследство.
(обратно)
39
Окротеет — сделается более кроткой, мягкой.
(обратно)
40
Прибегище — пристань, причал для кораблей.
(обратно)
41
Шибла —
здесь: бросила.
(обратно)
42
Лиходейка — злодейка.
(обратно)
43
Кабыть — как будто.
(обратно)
44
Угодья — деянья.
(обратно)
45
Постатейно — статно, прямо, с достоинством; поёт постатейно — поёт так, как подобает.
(обратно)
46
Лихорадство — лиходейство, злой умысел, злой поступок.
(обратно)
47
Побыт — таким образом.
(обратно)
48
Ошкуй — белый медведь.
(обратно)
49
Супостат — враг, противник.
(обратно)
50
Бахилы — высокие кожаные сапоги на мягкой подошве, с круглыми носками, сшитые на прямую колодку, удобные для хождения по толстому льду и в летнее время; употребляются поморами на промыслах.
(обратно)
51
Здесь даю сказку о скоморохах в другом варианте, рассказанном моей матерью.
(обратно)
52
Жемь —
здесь: болотистое, сырое место.
(обратно)
53
Порода — родственники.
(обратно)
54
Порядовные соседи — жители соседних домов, расположенных по одну сторону улицы.
(обратно)
55
Деялось — происходило.
(обратно)
56
Синяя орда — прозвище одного из племён во времена нашествия монголо-татар на Русь.
(обратно)
57
Соступилась — сошлась.
(обратно)
58
Кошенина — время покоса, когда заготовляют сено.
(обратно)
59
Стрелецкий голова — начальник над отрядом стрельцов, охраняющих город или крепость.
(обратно)
60
Острог — деревянная крепость в городе.
(обратно)
61
Ветлянка — лодка, прошитая корнями ветлы — ивы. Такое крепление было прочнее железного.
(обратно)
62
Зипун — кафтан крестьянского сукна с большим воротником.
(обратно)
63
Поминок — памятный подарок.
(обратно)
64
Насекают — секут, стегают.
(обратно)
65
Тлящий — растлевающий, разрушающийся.
(обратно)
66
Мурзы,
мурзы-татаре,
мурзы-уланые — так называли русские монголо-татарских начальников.
(обратно)
67
Улусы — кочевые стойбища Орды.
(обратно)
68
Гой еси — это словосочетание употребляется в былинах как заздравный клич.
Гоить — жить, здравствовать
(обратно)
69
Карбас — Имеется в виду речной карбас — гребное, беспалубное, парусное судно.
(обратно)
70
Владимир Мономах (
XII век).
(обратно)
71
Крамолиться — бунтовать.
(обратно)
72
Сукман — суконный кафтан.
(обратно)
Оглавление
Предисловие
Марья Дмитриевна Кривополенова
Вавило и скоморохи[5]
(былина М. Д. Кривополеновой)
Дед Пафнутий Анкудинов
Любовь сильнее смерти
Братанна
Гнев
Сказка о дивном гудочке[51]
Об Авдотье Рязаночке
Емшан-трава
*** Примечания *** 

 Родина сказительницы Марьи Дмитриевны Кривополеновой — река Пинега, приток Северной Двины. На Пинеге и в начале века двадцатого можно было увидеть деревянную Русь. Там во всём: в архитектуре, в одежде, в песнях, в домашнем быту — Русь, в лице граждан Великого Новгорода, освоила Север ещё в четырнадцатом веке.
Родина сказительницы Марьи Дмитриевны Кривополеновой — река Пинега, приток Северной Двины. На Пинеге и в начале века двадцатого можно было увидеть деревянную Русь. Там во всём: в архитектуре, в одежде, в песнях, в домашнем быту — Русь, в лице граждан Великого Новгорода, освоила Север ещё в четырнадцатом веке.


 Первый рассказ этой книжки посвящён Марье Дмитриевне Кривополеновой потому, что слава о ней прошла по всей России и пожилые люди с восхищением вспоминают эту сказочную старуху.
Но были на Севере талантливые рассказчики — мастера слова, которые никогда не выступали в театрах и клубах.
Умение говорить красноречиво, дары речи своей эти люди щедро рассыпали перед своими учениками и перед взрослыми при стройке корабля и в морских походах.
Таков был Пафнутий Осипович Анкудинов, друг и помощник моего отца.
Хвалил ли, бранил ли Анкудинов своих подручных, проходящие люди всегда остановятся и слушают серьёзно.
Помню упрёки, с которыми Анкудинов обращался к одному сонливому пареньку:
— Лёжа добра не добыть, лиха не избыть, сладкого куса не есть, красной одёжи не носить.
Молодёжь рада бывала, когда шкипером на судно назначался Анкудинов.
В свободный час Анкудинов сидит у середовой мачты и шьёт что-нибудь кожаное. На нём вязаная чёрная с белым узором рубаха, голенища у сапог стянуты серебряными пряжками. Седую бороду треплет лёгкий ветерок. Ребята-юнги усядутся вокруг старика.
Мерным древним напевом Анкудинов начинает сказывать былину:
Первый рассказ этой книжки посвящён Марье Дмитриевне Кривополеновой потому, что слава о ней прошла по всей России и пожилые люди с восхищением вспоминают эту сказочную старуху.
Но были на Севере талантливые рассказчики — мастера слова, которые никогда не выступали в театрах и клубах.
Умение говорить красноречиво, дары речи своей эти люди щедро рассыпали перед своими учениками и перед взрослыми при стройке корабля и в морских походах.
Таков был Пафнутий Осипович Анкудинов, друг и помощник моего отца.
Хвалил ли, бранил ли Анкудинов своих подручных, проходящие люди всегда остановятся и слушают серьёзно.
Помню упрёки, с которыми Анкудинов обращался к одному сонливому пареньку:
— Лёжа добра не добыть, лиха не избыть, сладкого куса не есть, красной одёжи не носить.
Молодёжь рада бывала, когда шкипером на судно назначался Анкудинов.
В свободный час Анкудинов сидит у середовой мачты и шьёт что-нибудь кожаное. На нём вязаная чёрная с белым узором рубаха, голенища у сапог стянуты серебряными пряжками. Седую бороду треплет лёгкий ветерок. Ребята-юнги усядутся вокруг старика.
Мерным древним напевом Анкудинов начинает сказывать былину:

 у Студёного моря, в богатой Двинской земле, жили два друга юных, два брата названых. Кирик да Олёша. И была у них дружба милая и любовь заединая.
Столь крепко братья названые друг друга любили — секли стрелою руку, кровь точили в землю и в море. Мать Сыру землю и Синее море призывали во свидетели. Кирик да Олёша — они одной водою умывались, одним полотенцем утирались, с одного блюда хлебы кушали, одну думу думали, один совет советали, — очи в очи, уста в уста.
Отцы их по любови морского лодьею[18] владели и детям то же заповедали. Кирик, старший, стал покрут[19] обряжать, на промысел ходить, а Олёша прилежал корабельному строению.
Пришло время, и обоим пала на ум одна и та же дева Моряшка. И дева Моряшка с обоими играет, от обоих гостинцы берёт. Перестали названые братья друг другу в очи глядеть.
В месяце феврале промышленники в море уходят на звериные ловы. Срядился Кирик с покрутом, а сам думает: «Останется дома Олёша, его Моряшка опутает». Он говорит брату:
— Олёшенька, у нас клятва положена друг друга слушати: сряжайся на промысел!
Олёша поперёк слова не молвил, живо справился. Якоря выкатали, паруса открыли… Праматерь морская — попутная поветерь[20] — была до Кирика милостива. День да ночь — и Звериный остров в глазах. Круг острова лёд. На льдинах тюленьи полёжки. Соступились мужи-двиняне со зверем, учали бить.
Богато зверя упромыслили. Освежевали, стали сальное шкурьё в гору волочить. На море уже стемнело, и снег пошёл. А Олёша далеко от берега забежал. Со льдины на льдину прядает, знай копьё звенит, головы зверины долу клонятся. Задор овладел.
Старый кормщик и обеспокоился:
— Олёша далеко ушёл. Море на часу вздохнёт, вечерняя вода тороса от берега понесёт…
Побежал по Олёшу Кирик. Бежит по Олёшу, ладит его окликать, да и вздумал в своей-то голове: «Олёшу море возьмёт, девка Моряшка моя будет». И снова крикнуть хочет, и опять молчит: окаменила сердце женская любовь. И тут ветер с горы ударил. Льдина зашевелилась, заворотилась, уладилась шествовать в море, час её пробил.
И слышит Кирик вопль Олёшин:
— Кирик, погибаю! Вспомни дружбу-то милую и любовь заединую!..
Дрогнул Кирик, прибежал в стан:
— Мужики-двиняне, Олёша в относ попал!
Выбежали мужики. Просторно на море. Только взводень[21] рыдает… Унесла Олёшу вечерняя вода.
Того же лета женился Кирик. Моряшка в бабах — как лодья соловецкая под парусом: расписана, разрисована. А у мужа радость потерялась: Олёшу зажалел.
Заказал Кирик бабам править по брате плачную причеть,[22] а всё места не может прибрать.[23]
В тёмную осеннюю ночь вышел Кирик на гору, на глядень[24] морской, пал на песок, простонал:
— Ах, Олёша, Олёшенька!..
И тотчас ему с моря голос Олёшин донесло:
— Кирик! Вспомни дружбу-то милую и любовь заединую!
В тоске лютой, неутолимой прянул Кирик с вершины вниз на острые камни, сам горько взвопил:
— Мать-земля, меня упокой!
И будто кто его на ноги поставил. А земля провещилась:[25]
— Живи, сыне! Взыщи брата: вы клятву творили, кровь точили, меня, Сыру землю, зарудили![26]
По исходе зимы, вместе с птицами, облетела поморье весть, что варяги-разбойники идут кораблём на Двину, а тулятся[27] за льдиной, ожидают ухода поморов на промысел. Таков у них был собацкий обычай: нападать на деревню, когда дома одни жёны и дети.
И по этим вестям двиняне медлили с промыслом. Идёт разливная весна, а лодейки пустуют. Тогда отобралась дружина удалой молодёжи:
— Не станем сидеть, как гнус в подполье! Варяги придут или нет, а время терять непригоже!
Старики рассудили:
— Нам наших сынов, ушкуйных голов[28] не уговорить и не постановить. Пущай разгуляются. А мы, бородатые, здесь ополчимся навстречу незваным гостям.
Тогда невесты и матери припадают к Кирику с воплем:
— Господине, ты поведи молодых на звериные ловы! Тебе за обычай.
Кирик тому делу рад: сидячи на берегу, изнемог в тосках по Олёше. Жена на него зубами скрипит:
— Чужих ребят печалуешь, а о своём доме нету печали!
Мужская сряда недолгая. На рассвете кричала гагара, плакали жёнки. Дружина взошла на корабль. У каждого лук со стрелами, копьё и оскорд — булатный топор. Кирик благословил путь. Отворили парусы, и пособная поветерь — праматерь морская — скорополучно направила путь.
Не доведя до Звериного острова, прабаба-поветерь заспорила с внуками — встречными ветерками. Зашумела волна. А молодая дружина доверчиво спит. Кирик сам у руля. И была назавтра Олёше година.
Студёное море на волнах стоит, по крутому взводню корабль летит. И Кирик запел:
у Студёного моря, в богатой Двинской земле, жили два друга юных, два брата названых. Кирик да Олёша. И была у них дружба милая и любовь заединая.
Столь крепко братья названые друг друга любили — секли стрелою руку, кровь точили в землю и в море. Мать Сыру землю и Синее море призывали во свидетели. Кирик да Олёша — они одной водою умывались, одним полотенцем утирались, с одного блюда хлебы кушали, одну думу думали, один совет советали, — очи в очи, уста в уста.
Отцы их по любови морского лодьею[18] владели и детям то же заповедали. Кирик, старший, стал покрут[19] обряжать, на промысел ходить, а Олёша прилежал корабельному строению.
Пришло время, и обоим пала на ум одна и та же дева Моряшка. И дева Моряшка с обоими играет, от обоих гостинцы берёт. Перестали названые братья друг другу в очи глядеть.
В месяце феврале промышленники в море уходят на звериные ловы. Срядился Кирик с покрутом, а сам думает: «Останется дома Олёша, его Моряшка опутает». Он говорит брату:
— Олёшенька, у нас клятва положена друг друга слушати: сряжайся на промысел!
Олёша поперёк слова не молвил, живо справился. Якоря выкатали, паруса открыли… Праматерь морская — попутная поветерь[20] — была до Кирика милостива. День да ночь — и Звериный остров в глазах. Круг острова лёд. На льдинах тюленьи полёжки. Соступились мужи-двиняне со зверем, учали бить.
Богато зверя упромыслили. Освежевали, стали сальное шкурьё в гору волочить. На море уже стемнело, и снег пошёл. А Олёша далеко от берега забежал. Со льдины на льдину прядает, знай копьё звенит, головы зверины долу клонятся. Задор овладел.
Старый кормщик и обеспокоился:
— Олёша далеко ушёл. Море на часу вздохнёт, вечерняя вода тороса от берега понесёт…
Побежал по Олёшу Кирик. Бежит по Олёшу, ладит его окликать, да и вздумал в своей-то голове: «Олёшу море возьмёт, девка Моряшка моя будет». И снова крикнуть хочет, и опять молчит: окаменила сердце женская любовь. И тут ветер с горы ударил. Льдина зашевелилась, заворотилась, уладилась шествовать в море, час её пробил.
И слышит Кирик вопль Олёшин:
— Кирик, погибаю! Вспомни дружбу-то милую и любовь заединую!..
Дрогнул Кирик, прибежал в стан:
— Мужики-двиняне, Олёша в относ попал!
Выбежали мужики. Просторно на море. Только взводень[21] рыдает… Унесла Олёшу вечерняя вода.
Того же лета женился Кирик. Моряшка в бабах — как лодья соловецкая под парусом: расписана, разрисована. А у мужа радость потерялась: Олёшу зажалел.
Заказал Кирик бабам править по брате плачную причеть,[22] а всё места не может прибрать.[23]
В тёмную осеннюю ночь вышел Кирик на гору, на глядень[24] морской, пал на песок, простонал:
— Ах, Олёша, Олёшенька!..
И тотчас ему с моря голос Олёшин донесло:
— Кирик! Вспомни дружбу-то милую и любовь заединую!
В тоске лютой, неутолимой прянул Кирик с вершины вниз на острые камни, сам горько взвопил:
— Мать-земля, меня упокой!
И будто кто его на ноги поставил. А земля провещилась:[25]
— Живи, сыне! Взыщи брата: вы клятву творили, кровь точили, меня, Сыру землю, зарудили![26]
По исходе зимы, вместе с птицами, облетела поморье весть, что варяги-разбойники идут кораблём на Двину, а тулятся[27] за льдиной, ожидают ухода поморов на промысел. Таков у них был собацкий обычай: нападать на деревню, когда дома одни жёны и дети.
И по этим вестям двиняне медлили с промыслом. Идёт разливная весна, а лодейки пустуют. Тогда отобралась дружина удалой молодёжи:
— Не станем сидеть, как гнус в подполье! Варяги придут или нет, а время терять непригоже!
Старики рассудили:
— Нам наших сынов, ушкуйных голов[28] не уговорить и не постановить. Пущай разгуляются. А мы, бородатые, здесь ополчимся навстречу незваным гостям.
Тогда невесты и матери припадают к Кирику с воплем:
— Господине, ты поведи молодых на звериные ловы! Тебе за обычай.
Кирик тому делу рад: сидячи на берегу, изнемог в тосках по Олёше. Жена на него зубами скрипит:
— Чужих ребят печалуешь, а о своём доме нету печали!
Мужская сряда недолгая. На рассвете кричала гагара, плакали жёнки. Дружина взошла на корабль. У каждого лук со стрелами, копьё и оскорд — булатный топор. Кирик благословил путь. Отворили парусы, и пособная поветерь — праматерь морская — скорополучно направила путь.
Не доведя до Звериного острова, прабаба-поветерь заспорила с внуками — встречными ветерками. Зашумела волна. А молодая дружина доверчиво спит. Кирик сам у руля. И была назавтра Олёше година.
Студёное море на волнах стоит, по крутому взводню корабль летит. И Кирик запел:




 В двинском устье, на острове Кег, стоял некогда двор Лихослава и брата его Гореслава.
На Лихослава пал гнев Студёного моря. По той памяти место, где был «двор Лихославль», до сих пор называется Гневашево. Лихослав был старший брат, Гореслав — младший. Под рукою батьки своего, мореходца, оба возросли в добром промысле. Остарев, отец надёжно отпускал сыновей к Новой Земле. Так же неубыточно правили они торг у себя на Двине. Лихослава и Гореслава одна матерь спородила, да не одной участью-таланом наградила.
Гореслав скажет:
— В морском ходу любо, а в мирском торгу люто!
Лихослав зубы ощерит:
— Нет! В торгу любо, а в море люто.
Отец нахмурится и скажет Лихославу:
— Хотя ты голова делу, но блюдись морскому гневу.
По смерти отца Лихослав отпихнул брата от лодейного кормила. Перешерстил всю лодейную службу, ни в чём не стал с дружиною спрашиваться:
— Я-де на ваше горланство добыл приказ!
И лодейная дружина не любила Лихослава, но боялась его.
Люди ближние и дальние говорили Гореславу:
— Что ты молчишь брату? Зачем ты знание своё морское кинул ему под ногу? Разделись с братом. Батько дом оставил на двоих.
Эти речи Лихослав знает и зубами скрипит.
— Ай, братец! Костью ты мне в горле встал.
Таким побытом[47] братья опять пришли на Новую Землю.
Добыли и ошкуя[48] и песца. Ждали попутных ветров, чтобы подняться на Русь. А Гореслав с товарищем ещё побежал, на остатках, по медвежьему следу. И в этот час с горы пала поветерь, пособная ходу в русскую сторону.
Закружились белые мухи: снег лепит глаза. Гореслав и дружинник кинулись к берегу — берег потерялся из виду. И бежать грубо: в камне одну ногу сломишь, другую выставишь; и мешкать нельзя: знают, что в лодье их ждут и клянут.
А старший брат видит, что в берегах непогода, и скаредного своего веселья скрыть не может: «Я с тобой сегодня, братец, учиню раздел! Ты сам за своей погибелью пошёл».
И Лихослав начал взывать к дружине:
— Сами видите, друзья, какое лихорадство учинил мой братец. Нароком он гулять отправился, чтобы меня здесь удержать да уморить. А что вы домой торопитесь, на это он плюёт и сморкает.
Дружина смутилась. Некоторые сдались на эти речи. Но которые бывали в здешних берегах, те говорят:
— Непогода пала вдруг. Это здесь в обычай. Заблудиться может всякий. Надо в рог трубить и ждать. А не выйдут, надобно идти искать.
Кормщик затрубил в рог.
Лихослав освирепел:
— Ребята, у них затеяно с Гореславом против нас! Не поддадимся нашим супостатам![49]
Доброчестные дружинники говорят:
— Господине, это ты затеял что-то. А мы без хитрости. По уставу надобно искать потерянных до последнего изможения.
Лихослав кричит:
— Не слушайте, ребята! Они хотят вас под зимовку подвести. По уставу я ответчик за дружину. Не дам вас погубить. Они и в рог-то трубят — свои воровские знаки подают… Эй, выбирайте якоря! Эй, вздымайте паруса! Бежим на Русь!
В лодье вопль, мятеж. А погода унялась. Над землёй, над морем выяснило. Гореслав с товарищем выбежали на берег и смотрят это буйство в лодье…
Лихослав управил лодью к морю, кормщик отымает управленье и воротит к берегу. Одни вздымают паруса, другие не дают.
Гореслав и закричал:
— Братцы, не оставьте нас! Доброхоты, не покиньте!
Лихослава этот крик будто с ног срезал: чаял, потеряется да околеет там, а он стоит как милый.
В злобе Лихослав забыл всю смуту в лодье. Он хватает лук и пускает в брата одну за другой три стрелы. Первая стрела, пущенная Лихославом в брата, утонула в море. Вторая жогнула Гореслава в голенище у бахил.[50] Третья стрела прошила рукавицу и ладонь, когда Гореслав в ужасе прикрыл глаза рукою.
Сказанье говорит, что, видя это злодеянье, оцепенели море и земля, окаменели люди в лодье. А Гореслав, добрый, кроткий, стал престрашен. Он грозно простёр окровавленные руки к морю и закричал с воплем крепким:
— Батюшко Океан, Студёное море! Сам и ныне рассуди меня с братом!
Будто гром, сгремел Океан в ответ Гореславу. Гнев учинил в море. Седой непомерный вал взвился над лодьей, подхватил Лихослава и унёс его в бездну.
Утолился гнев Студёного моря. Лодья опрямилась, и люди опамятовались. Дивно было дружине, что все они живы и целы.
Гореслав ждал их, сидя на камне, с перевязанной рукой. Дружинники, от мала до велика, сошли на берег, поклонились Гореславу в землю и сказали:
— Господине, ты видел суд праведного Моря. Теперь суди нас.
Гореслав встал, поклонился дружине тем же обычаем и сказал:
— Господо дружина! Все суды прошли, все суды кончились. А у меня с вами нету обиды.
С этой дружиной Гореслав и промышлял до старости. Дружина держала его в чести, а он их — в братстве.
В двинском устье, на острове Кег, стоял некогда двор Лихослава и брата его Гореслава.
На Лихослава пал гнев Студёного моря. По той памяти место, где был «двор Лихославль», до сих пор называется Гневашево. Лихослав был старший брат, Гореслав — младший. Под рукою батьки своего, мореходца, оба возросли в добром промысле. Остарев, отец надёжно отпускал сыновей к Новой Земле. Так же неубыточно правили они торг у себя на Двине. Лихослава и Гореслава одна матерь спородила, да не одной участью-таланом наградила.
Гореслав скажет:
— В морском ходу любо, а в мирском торгу люто!
Лихослав зубы ощерит:
— Нет! В торгу любо, а в море люто.
Отец нахмурится и скажет Лихославу:
— Хотя ты голова делу, но блюдись морскому гневу.
По смерти отца Лихослав отпихнул брата от лодейного кормила. Перешерстил всю лодейную службу, ни в чём не стал с дружиною спрашиваться:
— Я-де на ваше горланство добыл приказ!
И лодейная дружина не любила Лихослава, но боялась его.
Люди ближние и дальние говорили Гореславу:
— Что ты молчишь брату? Зачем ты знание своё морское кинул ему под ногу? Разделись с братом. Батько дом оставил на двоих.
Эти речи Лихослав знает и зубами скрипит.
— Ай, братец! Костью ты мне в горле встал.
Таким побытом[47] братья опять пришли на Новую Землю.
Добыли и ошкуя[48] и песца. Ждали попутных ветров, чтобы подняться на Русь. А Гореслав с товарищем ещё побежал, на остатках, по медвежьему следу. И в этот час с горы пала поветерь, пособная ходу в русскую сторону.
Закружились белые мухи: снег лепит глаза. Гореслав и дружинник кинулись к берегу — берег потерялся из виду. И бежать грубо: в камне одну ногу сломишь, другую выставишь; и мешкать нельзя: знают, что в лодье их ждут и клянут.
А старший брат видит, что в берегах непогода, и скаредного своего веселья скрыть не может: «Я с тобой сегодня, братец, учиню раздел! Ты сам за своей погибелью пошёл».
И Лихослав начал взывать к дружине:
— Сами видите, друзья, какое лихорадство учинил мой братец. Нароком он гулять отправился, чтобы меня здесь удержать да уморить. А что вы домой торопитесь, на это он плюёт и сморкает.
Дружина смутилась. Некоторые сдались на эти речи. Но которые бывали в здешних берегах, те говорят:
— Непогода пала вдруг. Это здесь в обычай. Заблудиться может всякий. Надо в рог трубить и ждать. А не выйдут, надобно идти искать.
Кормщик затрубил в рог.
Лихослав освирепел:
— Ребята, у них затеяно с Гореславом против нас! Не поддадимся нашим супостатам![49]
Доброчестные дружинники говорят:
— Господине, это ты затеял что-то. А мы без хитрости. По уставу надобно искать потерянных до последнего изможения.
Лихослав кричит:
— Не слушайте, ребята! Они хотят вас под зимовку подвести. По уставу я ответчик за дружину. Не дам вас погубить. Они и в рог-то трубят — свои воровские знаки подают… Эй, выбирайте якоря! Эй, вздымайте паруса! Бежим на Русь!
В лодье вопль, мятеж. А погода унялась. Над землёй, над морем выяснило. Гореслав с товарищем выбежали на берег и смотрят это буйство в лодье…
Лихослав управил лодью к морю, кормщик отымает управленье и воротит к берегу. Одни вздымают паруса, другие не дают.
Гореслав и закричал:
— Братцы, не оставьте нас! Доброхоты, не покиньте!
Лихослава этот крик будто с ног срезал: чаял, потеряется да околеет там, а он стоит как милый.
В злобе Лихослав забыл всю смуту в лодье. Он хватает лук и пускает в брата одну за другой три стрелы. Первая стрела, пущенная Лихославом в брата, утонула в море. Вторая жогнула Гореслава в голенище у бахил.[50] Третья стрела прошила рукавицу и ладонь, когда Гореслав в ужасе прикрыл глаза рукою.
Сказанье говорит, что, видя это злодеянье, оцепенели море и земля, окаменели люди в лодье. А Гореслав, добрый, кроткий, стал престрашен. Он грозно простёр окровавленные руки к морю и закричал с воплем крепким:
— Батюшко Океан, Студёное море! Сам и ныне рассуди меня с братом!
Будто гром, сгремел Океан в ответ Гореславу. Гнев учинил в море. Седой непомерный вал взвился над лодьей, подхватил Лихослава и унёс его в бездну.
Утолился гнев Студёного моря. Лодья опрямилась, и люди опамятовались. Дивно было дружине, что все они живы и целы.
Гореслав ждал их, сидя на камне, с перевязанной рукой. Дружинники, от мала до велика, сошли на берег, поклонились Гореславу в землю и сказали:
— Господине, ты видел суд праведного Моря. Теперь суди нас.
Гореслав встал, поклонился дружине тем же обычаем и сказал:
— Господо дружина! Все суды прошли, все суды кончились. А у меня с вами нету обиды.
С этой дружиной Гореслав и промышлял до старости. Дружина держала его в чести, а он их — в братстве.
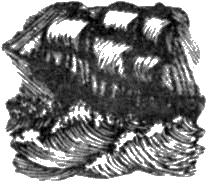
 У отца у матери был сынок Романушко и дочка Осьмуха. Романушко настолько кроток, его хоть в воду пошли. У Осьмухи глаза завидущие, руки загребущие. Вкруг деревни, сколько глазом окинь, всё мох, серебряный мох. Летом Романушко с сестрой ходят по ягоды. Берут ягодки синие, ягодки красные. Им матерь однажды говорит:
— Кто сегодня больше принесёт, тому опояска лазорева, атласна.
Ступают брат и сестра по белым тем оленьим путищам, берут ягодки синие, ягодки красные. Брателко всё в коробок да в коробок, сеструха всё в рот да в рот.
Полдень. Жарко, солнечно. У брателка ягод класть больше некуда. У сеструхи две ягодичины по коробу катаются, гремят. Ей и пала на ум думка. Она говорит:
— Брателко, солнце уж на обеднике. Привались ко мне, отдохни, я у тя буду головушку учасывать частым гребешком.
Романушко привалился к сестре на колени, и только у него глазки сошлись, она нанесла нож…
Не пуховую постель брату постилала, не атласным одеяльцем укрывала, положила брателка в болотную жемь,[52] заокутала оленьим белым мохом.
Домой прибежала, братневы ягодки явила.
— Вот вам ягодки синие, ягодки красные, пожалуйте мне-ка поясок лазоревый, атласный.
— А Романушко где-ка?!
— Не слушался, убежал, лесной царь его увёл.
Романушка заискали, в колоколы зазвонили. Романушко не услышал, на зов колокольный не вышел, только стала над ним расти на болотце тонка рябина кудревата.
Ходят по Руси скоморохи, утешают людей песнями да баснями, гудками да волынками. Идут по болотцу, где Романушко лежит, увидели рябинку, высекли тесинку. Сделали гудок с погудалом. Не успели погудальце на гудок наложить, из гудка голосок родился и запел:
У отца у матери был сынок Романушко и дочка Осьмуха. Романушко настолько кроток, его хоть в воду пошли. У Осьмухи глаза завидущие, руки загребущие. Вкруг деревни, сколько глазом окинь, всё мох, серебряный мох. Летом Романушко с сестрой ходят по ягоды. Берут ягодки синие, ягодки красные. Им матерь однажды говорит:
— Кто сегодня больше принесёт, тому опояска лазорева, атласна.
Ступают брат и сестра по белым тем оленьим путищам, берут ягодки синие, ягодки красные. Брателко всё в коробок да в коробок, сеструха всё в рот да в рот.
Полдень. Жарко, солнечно. У брателка ягод класть больше некуда. У сеструхи две ягодичины по коробу катаются, гремят. Ей и пала на ум думка. Она говорит:
— Брателко, солнце уж на обеднике. Привались ко мне, отдохни, я у тя буду головушку учасывать частым гребешком.
Романушко привалился к сестре на колени, и только у него глазки сошлись, она нанесла нож…
Не пуховую постель брату постилала, не атласным одеяльцем укрывала, положила брателка в болотную жемь,[52] заокутала оленьим белым мохом.
Домой прибежала, братневы ягодки явила.
— Вот вам ягодки синие, ягодки красные, пожалуйте мне-ка поясок лазоревый, атласный.
— А Романушко где-ка?!
— Не слушался, убежал, лесной царь его увёл.
Романушка заискали, в колоколы зазвонили. Романушко не услышал, на зов колокольный не вышел, только стала над ним расти на болотце тонка рябина кудревата.
Ходят по Руси скоморохи, утешают людей песнями да баснями, гудками да волынками. Идут по болотцу, где Романушко лежит, увидели рябинку, высекли тесинку. Сделали гудок с погудалом. Не успели погудальце на гудок наложить, из гудка голосок родился и запел:








Последние комментарии
2 часов 12 минут назад
6 часов 20 минут назад
6 часов 37 минут назад
6 часов 58 минут назад
9 часов 39 минут назад
17 часов 3 минут назад