Великие заговоры [Антонио Грациози] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Антонио Грациози
ВЕЛИКИЕ ЗАГОВОРЫ
против
• Александра Македонского
• Императора Августа
• Императора Тиберия
• Царя Ирода
• Императора Иоанна Ласкариса
• Царя Петра Великого
• Рода Медичи

*
Авторизованный перевод с итальянского А. И. Глебова-Богомолова
© А. И. Глебов-Богомолов перевод с итальянского, 1998 © Оформление, изд-во «Феникс», 1998
Венеция, 1778 год Его превосходительству действительному советнику счетной палаты императорского двора ее величества Марии-Терезии доктору Антонио Греппи нижайший, почтительнейший, всепокорнейший слуга его Антонио Грациози посвящает эти строки.
ПОСВЯЩЕНИЕ
Если бы государства, последовательно, одно за другим претерпевавшие удары ужасных заговоров, описанных в этой книге, имели счастье управляться в свои бедственные времена правителями столь же умеренными, милосердными и мудрыми, как Мария-Терезия, и если бы источники, из которых любое правительство черпает свою силу, были столь же упорядочены и организованы, как в наше время при вашем непосредственном участии, милостивый государь, можно с уверенностью сказать, что большая часть этих государств и правительств, несомненно, избежала бы долгой череды кровопролитных и опасных для них беспорядков и треволнений. Вы, — как никто другой, глубокоуважаемый синьер, достойны прочесть труд, который ныне я имею честь нам предложить. Из него Вы легко поймете, сколько заговоров находили свои корни в недрах дурно управляемого общества в результате неумелого применения средств, предназначенных служить лишь для увеличения всеобщего блага и величия обществ, их породивших. Познав столь драгоценный опыт прошлого, вы лучше сможете способствовать правлению нашей всемилостивейшей государыни, обеспечив тем самым благоденствием и ее подданных, мирно почивающих под сенью законов в лоне своих семей и непрестанно возносящих хвалу творцам своего благополучия. Следуя обычаю посвятительных писем, я должен был бы превозносить до небес и Ваши добродетели, но слишком хорошо зная истинную цену Вашего благоволения, не отважился на похвалу, могущую показаться кому-либо, не столь хорошо знающему Вас, нескромной. А потому просто прошу Вас, милостивый государь, принять со свойственной Вам природной добротой знаки моего искреннего и глубокого почтения и искреннего желания и впредь иметь честь быть в Ваших глазах самым верным и покорным слугой.Антонио Грациози
ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА
Важность предмета, рассматриваемого в этой книге, позволяет надеяться на то, что публика примет ее благосклонно. Знаменитые заговоры, восстания и революции, изменившие лицо истории и мира, будут здесь, на страницах этой книги, описаны с максимальной ясностью и последовательностью. Но не стоит искать в этом сборнике чего-либо особенного и оригинального, оставленного без внимания или позабытого другими авторами. Единственная цель его — собрать воедино разбросанные в исторических трудах свидетельства о различных заговорах и сохранить их, как хранят подлинную драгоценность. Не дело историка быть изобретателем басен, от него требуется тщательное и скрупулезное изучение источников, из которых черпает он свой материал. Некоторые из знаменитых авторов, недурно натренировав свое перо в описаниях заговоров, часто предпочитают растекаться мыслью по древу повествования в ущерб правде событий, сущности фактов и, наконец, самой форме своих произведений. Достойно украшать свои творения всеми цветами пышного стиля, но делать это нужно со всею возможной осмотрительностью, ибо при сооружении здания недостаточно использовать хорошие и прочные материалы, надо еще уметь правильно ими распорядиться. Автору не следует обманывать себя самого тем, что материал свободно поддается и легко ложится на бумагу, напротив, имея всегда перед глазами примеры классиков, пусть старается он им подражать, всегда помня, что легко можно простить недостаток формы при условии сохранения подлинного интереса к содержанию, особенно в предмете, столь важном и нужном, как тот, о коем повествует эта книга.
ГЛАВА 1
ЗАГОВОР ФИЛОТЫ
ПРОТИВ АЛЕКСАНДРА ВЕЛИКОГО


Место действия — персидская провинция Дрангиана. Время действия — 330 год до рождества Христова
Счастье и успехи военных походов заставили Александра так возгордиться, что он пожелал, чтобы все отныне почитали его богом. Тем не менее это смешное и пустое в глазах македонян тщеславие вызвало всеобщее недовольство, особенно, если учесть, что подданные Александра не привыкли с рабской покорностью следовать за всеми нововведениями царя. Опасности, которые поджидали македонян на каждом шагу, мысли о том, что им, быть может, никогда не суждено увидеть снова далекую родину, все чаще исторгали горькие вздохи из их груди и слезы из их глаз. Войско начинало роптать. Более того, честолюбивый монарх, подчинивший уже значительную часть известных македонянам и грекам земель, не имел наследника, которому мог оставить свое огромное царство. Вот, без сомнения, основные причины всех заговоров, которые устраивались против него. Об одном из них, самом важном, я и намерен теперь рассказать. Среди македонян был некто Димн, занимавший при дворе весьма малозаметное положение. Человек этот без памяти влюбился в порочного юношу Никомаха, благоразумие которого все же подчас способно было возобладать над его красотой. Вышеназванный Димн однажды встретил предмет своей позорной страсти и, увлекши юношу за собою в храм, с волнением сказал ему: «Никомах, открою тебе секрет необычайной важности, но прежде ты должен поклясться мне перед лицом богов, что отныне никогда не предашь человека, который так любит тебя». Никомах обещал ему это, и тогда Димн открыл ему, что на жизнь царя готовится покушение, что уже многие известные своим мужеством и подвигами македоняне вступили в заговор и уже через три дня все они будут наконец свободны от власти тирана. Никомах, услышав подобное признание, выразил сильнейшее негодование и заявил, что никакие клятвы его ни к чему не могут обязать, когда речь идет о жизни царя, повелителя всех македонян. Перепуганный Димн нежно-нежно обнял своего друга и заклинал его вновь со слезами на глазах присоединиться к отважным (так он говорил) мужам, затеявшим, по его словам, самое благородное и необходимое предприятие, которое каждому из участников даст почести и славу, а главам заговора царскую власть над различными областями обширного Александрова царства. Однако Никомах не позволил ослепить себя столь блестящими перспективами и упорно держался своего первоначального решения. Димн, видя, что он ничего не может добиться просьбами и уговорами, попытался сломить верность юноши царю угрозами: «Тебе все известно о нашем замысле, — промолвил он с печалью в голосе, — но вместо того чтобы так трепетать и бояться за Александра, трепещи за себя самого. Мне ясно видно, что придется избавиться от вероломного и упрямого глупца, который предаст всех нас, и если моя роковая страсть помешает мне исполнить мой долг и предать тебя смерти, подумай о том, позволят ли тебе жить другие заговорщики, которых ты можешь в одно мгновение погубить? Поверь мне, не стоит жертвовать своей жизнью во имя спасения жизни Александра». Никомах понял, что самое время притвориться и лицемерить. Он сделал вид, что не может более сопротивляться настойчивым уговорам своего друга, и спросил его, с кем он должен увидеться, чтобы также принять участие в общем деле. В восторге Димн назвал ему имена соратников, но ни словом не обмолвился о том, кто был душою всего предприятия и должен был занять место самого Александра. Опечаленный Никомах вернулся домой и поведал обо всем своему брату Кебалину. Тот обо всем решил предупредить Александра: он отправился во дворец и стал ждать, когда кто-либо из придворных представит его царю, однако в тот момент в приемных покоях не было никого, кроме Филоты, сына знаменитого македонского военачальника Пармениона. Именно к нему и обратился Кебалин: поведал о том, что стало ему известно, и просил незамедлительно рассказать обо всем Александру. Фило-та похвалил рвение верного подданного и обещал довести все услышанное до слуха того, кого в первую очередь касалось это дело, но, вернувшись к отдыхавшему в это время царю, начал говорить о чем угодно, кроме заговора, затронул самые разные обстоятельства похода, но ни единым словом не обмолвился об опасности, которая угрожала жизни повелителя македонян. Более того, на следующий день да и во все последующие, когда бы Кебалин ни являлся во дворец, он всякий раз сталкивался с Филотой и упорно спрашивал его, извещен ли царь, на что Филота с неизменной улыбкой отвечал, что все обстоит благополучно, но что до сих пор ему не удалось передать царю столь ценных известий — то не было времени, то случай был неподходящий. Время шло, а дело не сдвигалось с мертвой точки. Надо признать, такие ответы вовсе не удовлетворяли Кебалина, который начал подозревать, что начальник македонской конницы тоже замешан в преступном сговоре. Со дня на день заговорщики могли нанести царю смертельный удар, времени для промедлений не оставалось. Тогда брат Никомаха поторопился отыскать молодого спутника Александра — юного македонянина Метрона, которому и открыл все, о чем стало ему известно. Наконец спасительные сведения достигли слуха царя, и тот отдал приказ задержать Димна. Затем Александр вызвал Кебалина к себе и спросил, давно ли ему известен этот секрет. «Три дня», — отвечал верный македонянин. «Так, значит, ты предатель, — промолвил царь, — поскольку так долго медлил и хранил молчание». И в тот же миг велел заковать Кебалина в цепи. Чтобы как-то оправдать себя, несчастный стал кричать, что несколько дней тому назад явился во дворец, был встречен там Филотой и просил у последнего позволения говорить с царем. При упоминании имени Филоты на глазах Александра выступили слезы, он воздел руки к небу и стал горько сетовать на неблагодарность того, кого он так любил. Едва Димн увидел стражников, собирающихся его арестовать, он тотчас пронзил себя мечом, но умер не сразу. Прежде его принесли к Александру, который обратился к умирающему со следующими словами: «Что сделал тебе я такого, чтобы теперь отказывать мне в короне и власти, по праву доставшейся мне от моих предков. Как мог считать ты Филоту более достойным древнего венца македонских царей?..» Умирающий молчал и, отвернувшись, словно не имея сил переносить взгляд царя, испустил дух. Затем Филоте было приказано явиться во дворец, и, когда он пришел, Александр обратился к нему со словами: «Кебалин заслужил смерть лишь за то, что в течение двух дней скрывал правду о готовящемся покушении. Он обвиняет тебя в том, что именно ты вынудил его против желания хранить преступное молчание. Если теперь у тебя есть что сказать в свое оправдание, говори… В Александре ты найдешь милостивого и благосклонного судью. Нежная и преданная дружба, которую я всегда питал к тебе, позволит всем понять и почувствовать, сколь сильно хочу я обрести доказательства твоей невиновности». Казалось, что Фи-лота был совершенно спокоен, ибо отвечал негромким голосом следующее: «Правда, государь, то, что Кебалин слово в слово передал мне речь своего брата. Но возможно ли было поверить речам человека, который ни в ком не вызывал ни уважения, ни доверия и который в довершение всего сам лично не решался мне ничего рассказать. Только смерть Димна открыла мне глаза, заставила понять, какое я совершил зло, так ничего тебе и не сказав. Повелитель, — продолжал он, бросившись в ноги Александру, — припомни одно за другим все деяния моей жизни и ты не увидишь ничего, что хотя бы отчасти позволило бы меня в чем-либо подозревать. Уста мои, в этом я согласен, виновны в непредумышленном молчании, но сердце мое никогда не давало согласия на участие в чьих-либо заговорах. И должен ли я бояться чего-либо со стороны просвещенного монарха, на взгляд которого нечаянная неосторожность или неосмотрительность никогда не рассматривается как явная и доказанная вина?» Трудно сказать, что в это время творилось в душе царя, правда лишь то, что в конце концов он протянул Филоте руку в знак примирения. Вскоре был созван македонский военный совет, но сын Пармениона не был на него приглашен, хотя обыкновенно присутствовал всегда на всех подобных заседаниях. Напротив, пригласили юного Никомаха, который подтвердил все, переданное его братом. Так выяснилось, что среди высших военачальников-македонян существует опасный заговор против царя, но теперь требовалось узнать, был ли Филота одним из зачинщиков всего этого дела. Положение молодого царедворца и военачальника было слишком хорошим, чтобы не вызывать зависти у других спутников Александра. Он был слишком высокого мнения о самом себе и необычайно гордился не только своей службой царю Македонии, но и услугами, которые оказал его отец Парменион отцу Александра — Филиппу Македонскому. Подобное поведение никогда не нравится сиятельным особам, а сверх того Филота довольно чувствительно ранил самолюбие Александра, когда однажды насмешливо отозвался о нелепом тщеславии царя, желающего уверить окружающих в том, что он отныне считает себя сыном Зевса и Аммона. Упреки и порицания, последовавшие затем со стороны Александра в адрес Филоты, ясно доказывали, как сильно этот монарх был уязвлен столь открыто высказанным одним из его соратников пренебрежением. К тому же Филота пользовался очень большим уважением в войсках, хотя оно зиждилось не столько на его личной отваге, сколько на том глубоком уважении и почтении, которое все македоняне, и вельможи, и простые воины, испытывали к его отцу, старому Пармениону, лучшему из всех македонских полководцев, когда-либо рожденных на свет. Те из македонян, которые были заинтересованы в гибели Филоты, не могли упустить удобного случая, и друг и соратник Александра Кратер был среди них, всеми силами пытаясь избавиться от столь опасного соперника. Обратившись к совету, он произнес: «Повелитель, поскольку ты охотнее предпочел бы простить Филоту, тебе следует прежде всего убедиться в том, что тебе все известно о его замыслах. Мысль о казни, которая ему предстоит за государственное преступление, ничего, кроме ненависти, не вдохнет в душу этого человека, который непременно попытается отомстить за испытанные им страх и унижение новыми, еще более низкими замыслами. Милость угодна богам, но подчас она бывает гибельна! Ведь признательность за незаслуженное избавление от смерти превращается в невыносимое бремя, которое можно сбросить с себя лишь вместе с новым преступлением. Итак, я хочу, мой повелитель, чтобы Филота опять вернулся к военным делам, если ты считаешь, что его отец будет благодарен тебе за подобное отношение к его сыну. Я же полагаю, что он повсюду станет говорить, что ты лишь для того оказал милость его сыну, чтобы яснее дать понять степень его вины. Так твоя снисходительность будет рассматриваться как оскорбление, за которое Парменион захочет отомстить… И чего можно ожидать от человека, который сумел завоевать расположение твоих воинов и час от часу все более глумится над именем и властью своего государя?» Эти последние слова не могли не произвести на царя, столь гордого и ревниво относящегося ко всему, что касалось его власти и авторитета, глубокого впечатления. Все придворные и спутники Александра одобрили речь Кратера, и каждый горячо убеждал царя не доверять Филоте, доказывая, что невозможно ничем оправдать его поведения. Однако чтобы найти более веские причины для его опалы и ареста, главу заговорщиков требовалось предать пытке, заставив тем самым сознаться в преступлении и выдать сообщников. Царь распорядился, чтобы все сказанное на совете хранилось в тайне, а Филоту пригласил на званый обед. Остается изумляться поведению царя, такого могущественного и гордого, как Александр, прибегающего к помощи низких уловок и хитрости. А между тем осторожность обязывает подчас даже государей прибегать к притворству, которое даже простых смертных, их подданных, заставило бы покраснеть. Итак, Филота оказался на торжественном обеде, который должен был стать последним званым обедом в его жизни, и был уверен, что вполне вернул себе расположение государя. В течение некоторого времени несчастному фавориту было позволено весьма непринужденно беседовать с царем, а тем временем принимались меры к аресту заговорщиков; специальные конные разъезды были расположены в удобных местах, чтобы помешать кому-либо из них предупредить Пармениона, командующего мощным македонским войском, расквартированным в Мидии. Филота, поднявшись из-за стола, вернулся к себе и то ли потому, что душу его не терзали никакие угрызения совести, то ли потому, что он был уверен в добром расположении к нему царя, спокойно заснул. Но не долго довелось ему наслаждаться покоем — явились посланные Александром стражники, взломали двери, ворвались в покои, где он почивал, подняли его самого с ложа и тотчас же заковали руки и ноги в железа. Тогда-то увидел Филота, что гибель его совершилась, и воскликнул: «О! Государь мой и повелитель! Ненависть моих врагов возобладала над твоей добротой». Иных жалоб и сетований не вырвалось из его груди, и с закрытым лицом он был препровожден во дворец. На следующий день состоялся судебный процесс, проведенный по форме и всей строгости македонских законов. Собралось не менее 6 тыс. солдат, кроме того, множество слуг, маркитантов и обозной прислуги. Все, кто смог, наполнили царский шатер. Верные царю воины сторожили Филоту, закрывая его от собравшихся, чтобы толпа не увидела его прежде, чем царь обратится с речью к воинам. По древним македонским законам, приговор по уголовным и государственным преступлениям выносило войско, а в мирное время такое право принадлежало народному собранию, и цари ничего не могли решать, если раньше не было выявлено мнение народа или воинов. Итак, в данном случае судьбу Филоты решало войско: сначала вынесли тело Димна и выставили его на обозрение воинам; но никто из собравшихся македонян не знал, что именно он совершил и как погиб. Поэтому собравшиеся хранили гробовое молчание. После этого вышел Александр, лицо которого отображало глубокую печаль. Царь долгое время хранил молчание, опустив глаза долу, с видом человека, потрясенного горем. Стояла напряженная тишина, все ждали. Долее держать собравшихся в неведении было невозможно. Окровавленный труп, скорбь царя, смущение и подавленность его спутников и военачальников — все это в высшей степени поразило, потрясло македонян. И в этот момент Александр поднял взгляд и, обратившись к воинам, произнес: «Еще немного, и вы навсегда лишились бы своего царя, ибо группа нечестивцев готовила покушение на мою жизнь. Но благодарение богам, я еще жив и дышу. Взирая сейчас на ваше собрание, воины, я преисполняюсь еще большим гневом к предателям, ибо нет худшего несчастья для меня, чем, умерев от их рук, не иметь более возможности воздать вам по заслугам за ту службу, которую сослужили вы мне и моему отцу». Воины прервали его речь криками, у некоторых из них на глазах выступили слезы. Царь продолжил свою речь: «Каково будет ваше изумление, когда я назову вам имена зачинщиков столь великого преступления. Один из них тот, кого мой отец в свое время осыпал великими почестями и милостями. Имя его Парменион, старейший из наших друзей, именно он стал во главе заговора. Сын его Филота, оказавшись орудием в руках своего отца, сплотил вокруг себя Певколая и Деметрия и того самого Димна, тело которого сейчас вы можете видеть перед собой, сплотил он вокруг себя и многих других, не боящихся богов и подверженных точно такому же безумию». Крики негодования и скорби вторили скорбному голосу царя. Вскоре были приведены Никомах, Кебалин и Метрон. Они повторили то, что каждый из них до этого говорил. Однако, как это ни странно, ни один из них ни словом не обмолвился о Филоте. Воины молчали. Вновь заговорил Александр: «…что же сказать о человеке, который скрыл слова этих людей о столь важном деле? Смерть Димна доказывает, что сообщение их не было напрасным. Все оказалось правдой. Кебалин даже не убоялся пыток, а Метрон так спешил очистить свою душу и совесть, что буквально с боем прорвался в те покои, где я мылся. Как странно, выходило, один лишь мой друг Филота ничего не боялся и никому не верил. Какая необыкновенная стойкость духа, какая выдержка!.. Что для него угроза жизни царя. Другое заботит этого человека гораздо сильнее: как самому прикоснуться к царскому величию, надеть на голову царский венок, вступить на престол. Меньшее его не интересует. Отец его уже правит Мидией; сам он один из самых влиятельных среди моих полководцев и именно поэтому желает и домогается большего, чем может схватить и удержать в своих совсем не царских руках. Что ему жизнь царя, если он смеется даже над моей бездетностью. Все в моей личности вызывает его презрение, которое он прекрасно умеет скрывать. Но ошибается этот вероломный лицемер, ибо все вы мои дети, и до тех пор, пока я с вами, я не бездетен и не одинок». Затем царь прочитал перехваченное письмо Пармениона к его сыновьям Никанору и Филоте, которое, однако, не содержало прямых поводов к более серьезным подозрениям. Царь объяснил это тем, что только сыновьями Пармениона, посвященными в суть дела, оно будет понято правильно, люди же неосведомленные о заговоре ничего из него не поймут. Он продолжил свою речь так: «Скажут, что Димн перед смертью не назвал Филоту. Но разве это верный признак невиновности последнего? Напротив, это явное свидетельство той силы и того влияния, которые приобрел этот лицемер и лжец. Он был настолько силен, что о нем боялись даже говорить, дабы ненароком одним неудачно оброненным словом не вызвать его гнев. Но выдают его не люди, столь боявшиеся его, выдает сама его жизнь. Он присоединился к Аминте, моему двоюродному брату, составившему в Македонии заговор против меня, и выдал свою сестру замуж за злейшего моего врага Аттала. А когда я написал ему о том, что оракул в Египте провозгласил меня сыном Зевса-Аммона, он имел дерзость ответить в письме, что поздравляет меня с принятием в сонм богов, но горько оплакивает судьбу народов, принужденных жить под властью человека, слишком неосторожно уверовавшего в свое превосходство над остальными людьми. Уже тогда мне следовало бы наказать его за такую наглость, но я не осмеливался поднять руку на человека, к которому давно и сильно привязалась моя душа. Мне казалось, что я лишусь части самого себя, если допущу несправедливость в отношении одного из моих самых старых друзей. Однако теперь наказания требуют отнюдь не дерзкие речи, а низкие, предательские дела. Дерзость перешла со слов на мечи и тем самым навсегда развязала узы нашей былой дружбы. Вы часто убеждали меня позаботиться о моей жизни. Горе мне! Я гораздо менее страшился мечей варваров, чем отточенной стали клинков близких мне людей. Меня решили низвергнуть те, кого я обогатил и возвысил более всех других смертных. Его отца я поднял на такую высоту, на какую меня подняли вы. Я отдал ему Мидию, самую богатую из покоренных мною провинций Персидского царства. Но там, где я искал помощи и надежной защиты, возникла угроза. Избегнув опасности, которой я боялся, я паду жертвой той, которую не ожидал. Но вы, воины, можете сохранить мне жизнь, дав совет, что мне делать и как поступить в нынешних обстоятельствах. Сейчас я обращаюсь за спасением к вам и вашему оружию, ибо не хочу жить против воли друзей и вашей воли. Однако, если вы все со мной, я должен быть отомщен. Докажите же мне сейчас свою преданность. Вам известны мои враги, так будьте же моими друзьями, накажите их, отомстите им за меня». Наконец выводят собранию несчастного Фи-лоту со связанными за спиной руками, с головой, закутанной старым изношенным плащом. Какая перемена судьбы для того, кого еще вчера видели на пиру у царя в фаворе и величайшей милости. Так что те, кто взирал на него прежде завистливыми глазами, преисполнились, казалось, жалости к его судьбе. Не менее драматической и печальной казалась всем и судьба старого Пармениона, замечательного полководца, уважаемого гражданина, который уже потерял двоих сыновей, Гектора и Никанора, павших в последнем сражении, а теперь заочно будет судим вместе с последним своим сыном, оставленным ему злой судьбой. Неужели ему, столько раз проливавшему кровь за отечество и оказавшему ему столько важных услуг, предстоит на старости лет вкусить горестный плод всей своей славной жизни и завершить ее столь трагически? Присутствующие, представляя себе развязку драмы, не могли не испытывать к нему глубокого сострадания. Но тут Аминта, один из военачальников царя, заметив, что войско уже склоняется к милосердию, сказал македонянам, что их хотят предать варварам, ибо никогда не вернуться им домой без Александра, если, конечно, заговорщикам удастся исполнить задуманное. Речь Аминты была не так приятна царю, как тот на это надеялся, ибо, напомнив воинам об их семьях и давно оставленном отечестве, он мог ослабить их рвение в совершении предстоящих походов. Тогда Кен, женатый на сестре Филоты, ополчился с необычайной яростью на своего шурина и даже предложил побить его тотчас камнями и даже сам уже схватился за оные, но Александр вовремя удержал его руку. Позднее многие полагали, что на самом деле Кен хотел спасти Филоту от неминуемой пытки. Царь же, напротив, дабы продемонстрировать справедливость и беспристрастие в столь сложном деле, пожелал, чтобы хотя бы для видимости (ибо ярость его была подчас неукротима) были строго соблюдены все формальности, и сказал, что надо дать обвиняемому возможность высказаться. Тогда Филоте было позволено говорить, но тот, то ли потому, что был подавлен сознанием своей вины, то ли совершенно сраженный угрожающей ему смертельной опасностью, не осмеливался сначала ни поднять глаза, ни даже открыть рта и произнести хоть слово. В столь важную, в столь роковую для него минуту он не проявил ни должной смелости, ни необходимой твердости духа, подобающих воину. Едва открыв рот и произнеся несколько слов, он замолчал, залился слезами и пал бездыханным на руки охранявшего его воина, а когда его слезы были осушены и он вновь обрел дыхание и дар речи, только тогда он отважился говорить. Но прежде царь пристально посмотрел ему в лицо и промолвил: «Судить тебя, Филота, будут македоняне. Поэтому я спрашиваю, будешь ли ты говорить с ними на родном языке?» На что Филота отвечал: «Здесь очень много представителей других народов, которые, я надеюсь, гораздо лучше смогут понять меня, если я буду говорить на том же языке, что и ты, но цель моя состоит лишь в том, чтобы быть правильно понятым как можно большим числом людей…» Тогда Александр промолвил: «Все вы видите, какое отвращение у Филоты к его родному языку, к нашему македонскому наречию. Он даже не хочет говорить на нем. Но пусть говорит, что хочет и как хочет на каком угодно языке, помните лишь, что и нашими обычаями он пренебрегает так же точно, как нашим языком». После такого скорее хитроумного и коварного, чем благоразумного и справедливого, замечания, царь покинул собрание, а Филота такими словами начал свою речь: «Нелегко будет мне подобрать слова, способные меня защитить. Боюсь, что, пытаясь оправдаться, я не совладаю с собой… Меня подведут живость и острота речи, неловкость и неумелая защита, а это сделает меня еще более ненавистным для вас. Человеку, уже закованному в цепи, защищаться бывает не только излишне, но и опасно, ибо он уже почти осужден и выступает в таком положении против могущественного и уже победившего судьи. Однако теперь мне позволено говорить, и я воспользуюсь этой возможностью, чтобы никто здесь не подумал, что я осужден вдобавок ко всему и своею собственной совестью. Клянусь Зевсом и всеми богами Олимпа, клянусь подземными водами Стикса, македоняне, я не знаю, в чем меня можно обвинить. Кто из заговорщиков хоть раз упомянул обо мне? Даже Никомах ни разу не назвал моего имени. Да и Кебалин не мог знать ничего, кроме того, что услышал от Никомаха. Ничто не обвиняет меня, ничто не доказывает, что я глава заговорщиков. И все же царь в это верит. Но как могло случиться, что Димн пропустил имя того, за кем якобы следовал в столь ужасном, в столь преступном деле? Напротив, он должен был обязательно назвать меня среди участников и даже глав заговора чтобы легче убедить того, кто его испытывал. А теперь, прошу вас, македоняне, сказать, стоял бы я сегодня перед вашим судом, если бы всего лишь несколько дней тому назад Кебалин случайно не обратился со своею речью ко мне, на мою же беду и погибель?.. О, злая, злая судьба! Будь Димн жив, он непременно сейчас спас бы меня, сказав правду. На остальных не надеюсь. Кто захочет признаться в своей вине, тот, равнодушный к мукам другого, полагаю, ничего уже не скажет обо мне. Так это или нет, но никто не щадит обреченного на смерть, и тот в свою очередь не жалеет никого. Но вернусь к единственно верному и справедливому обвинению среди прочих, выдвинутых против меня, а именно — почему я умолчал о поведанном мне. Почему выслушал так беззаботно? Почему не отнесся всерьез и не поторопился донести? Все это, о горе, теперь мучает и меня. Почему я был так слеп и неосторожен? Но ведь я уже признал свою вину, говорил о ней с Александром, и он простил меня. В знак примирения он дал мне правую руку, и я был у него на пиру. Если царь поверил мне, то как он мог изменить свое решение? Что преступного совершил я прошлой ночью, когда ушел из его шатра? Какое новое преступление, мной совершенное после пира, заставило его так измениться? Быть может, он раскаялся в своей снисходительности и милосердии. Что мне остается сказать? Царь, молю тебя, не раскаивайся в том, что ты поверил мне, ведь все было рассказано мне простым юношей, который не мог представить ни одного свидетеля своих слов и который, несомненно, переполошил бы всех, если бы его стали слушать. На свою беду, я подумал, что речь идет о ссоре развратника с юным любовником, и мне показалось особенно подозрительным, что он не сам пришел ко мне, а послал своего брата. Поверьте, я боялся, что он станет отрицать данное им Кебалину поручение и я окажусь причиной опасности для многих друзей царя. Вы, собравшиеся здесь, в царском шатре, сейчас знаете, что смерть Димна подтверждает правоту слов Кебалина и Никомаха. Да! Это так. Димн покончил с собой!.. Но мог ли я это предугадать? Конечно, нет… Клянусь богами, если бы я был сообщником Димна по заговору, я не стал бы два дня скрывать от него, что нас предали, ведь ясно, сколь легко можно было убрать с дороги самого Кебалина. И наконец, после того как известие, от которого я должен погибнуть, было мне сообщено, я неоднократно входил в спальню царя с мечом в руках. Почему же я не совершил тогда преступления? Или я не осмеливался на него без помощи и участия Димна? Получается, что он, скорее, был главою заговора, а я, Филота, мечтающий о македонском троне, скрывался в его тени! И далее, кого из вас я лично или через друзей подкупил деньгами или дарами? Кому из вождей македонского войска оказал я особое внимание? А ведь меня обвиняют сейчас даже в том, что я, как раз напротив, всеми пренебрегаю и делаю это совершенно явно и открыто, презирая даже свой родной язык и обычаи Македонии. Вот и выходит, что я домогаюсь власти над теми, кого презираю! Но не это самое оскорбительное для меня. Мне вменяют в вину и дружбу с Аминтой, сыном Пердикки, который участвовал в заговоре против царя. Да, я дружил с ним. И не отказываюсь от этого. Или мне не следовало искать сближения с братом царя? Но возможно ли было выказывать пренебрежение человеку столь высокого положения? Так виноват ли я в том, что не угадал заранее его замыслов и не погиб вместе с ним как один из его друзей и соратников? В таком случае должны принимать смерть не только преступники, но и их друзья. Если это так и если это справедливо, почему же я до сих пор жив? Далее, я действительно писал, что мне жаль людей, вынужденных жить под властью человека, считающего себя сыном Зевса. Вера в дружбу внушила мне уверенность в том, что я имею право написать такие слова. Я высказал то, что думаю, и признаю, что написал это, но написал самому царю, а не о царе кому-либо другому. Я не желал возбудить ненависть к нему, как теперь он это говорит, нет… Напротив, я боялся за него. И вот к чему это привело. Мне казалось более достойным Александра молча признавать в себе дух и семя отеческого Зевса или египетского Аммона, чем объявлять об этом во всеуслышание. Но, как кажется мне теперь, все верят оракулу. Так спросите его, пусть бог будет свидетелем в моем деле. Вы можете держать меня в оковах, пока не узнаете истину у Аммона. И если вы считаете пытки более верным способом узнать истину, я не откажусь и от них! Конечно, воины, вам известно, что обвиненных в таких преступлениях обычно выводят на суд и своих родственников. Увы, я потерял обоих братьев, своего отца же я не могу сейчас привести и не смею даже обратиться к нему, раз и он обвинен в одном со мною преступлении. Неужели мало того, что он, бывши отцом стольких сыновей и имея теперь только одного, лишится и его, если, конечно, сам не бросится от отчаяния в мой погребальный костер? О неисповедимое горе, жесточайшая судьба, я, твой последний, недостойный сын, прерву прежде времени твои преклонные, но исполненные величия и достоинства годы. Видно, только затем породил ты меня, злосчастного, против воли богов, чтобы узнать по моей судьбе и об ожидающей тебя участи? И я не знаю, что более достойно сожаления: моя юность или твоя старость. Но упоминание о моем отце твердо убеждает меня, как нерешительно и робко следовало мне сообщить о том, что донес Кебалин. Ведь Парменион, узнав, что врач Филипп приготовил царю яд, написал ему письмо, чтобы предостеречь от употребления лекарства, которое придворный лекарь решил ему прописать. Вспомните, македоняне, разве тогда поверили моему отцу? Разве его письмо имело какое-либо значение? И я сам, часто сообщая о том, что слышал, подвергался насмешкам за свою доверчивость и легковерие. И если царь недоволен нами обоими, и моим отцом, и мной, когда мы предупреждаем, и подозревает нас, когда мы молчим, что же нам остается делать?» — «Не устраивать заговоров против своих благодетелей», — отвечал ему кто-то из присутствующих. На что Филота возразил: «Ты говоришь справедливо, кто бы ты ни был. Если я заговорщик и виновен, то готов претерпеть любую пытку и подвергнуться любому наказанию. Я кончаю свою речь, потому что вижу, сколь неприятны вам мои последние слова». Закончив в подобных выражениях свою речь, Филота умолк, и сторожившие его воины повели несчастного в тюрьму. До сих пор нелегко было решить, действительно ли Филота принимал участие в заговоре. Однако трудно было решиться выступить против человека такого высокого положения. В самом деле, почему даже Димн не отважился назвать его, перечислив имена всех заговорщиков? Но разве трудно обнаружить причину этого? Она, как ни странно, скрыта в речи самого сына Пармениона. Почувствуй он угрозу, ему ничего не стоило отделаться от Кебалина, когда тот явился сообщить Александру о готовящемся против него заговоре. Напротив, Филота именно благодаря здравому смыслу и осторожности оставил жить того, кто мог погубить все его дело в одно мгновение. Мог ли бояться человек, собиравшийся убить царя, поднять руку на никому не известного воина, если, конечно, он не был в достаточной мере благоразумен, чтобы не совершать напрасных и даже вредных для его дела поступков? Среди доказательств своей невиновности обвиняемый указал на одно, весьма интересное и показательное. Не было, по его словам, ничего проще, чем убить царя. «Я неоднократно входил в спальню царя с мечом в руках. Почему же тогда я не совершил преступления?»… Казалось бы, все выглядит логично, но приглядимся внимательнее. Суть и успех заговора заключался именно в том, чтобы не только умертвить самого царя, но при этом сохранить свою жизнь, а также честь и достоинство своего положения, чтобы в дальнейшем спокойно вкушать плоды коварного убийства. А все это требовало времени и тщательной организации. К осуществлению жестокого предприятия должны были быть приняты необходимые и, главное, своевременные меры. Упреки же, которые делались Фи-лоте в отношении предпочтения им греческого языка и пренебрежения языком своей страны, а также неодобрение им «божественного» происхождения Александра и, наконец, дружба с Аминтой ровно ничего не доказывают и его вины нисколько не подтверждают. Полагаю, на основании сказанного читателям трудно будет прийти к какому-либо суждению относительно степени его вины. Воины, собравшиеся в шатре, испытывали точно такое же затруднение и не знали, на чью сторону стать в столь деликатном деле. Однако неопределенность эта длилась недолго. Среди приближенных царя был некто Белон, храбрый воин, но человек совершенно не искушенный в гражданских обычаях мирного времени. Немолодой ветеран, он от простого солдата дослужился до своего нынешнего высокого положения. Видя, что все македоняне хранят молчание, лишь он один стал настойчиво им напоминать, сколько раз люди Филоты прогоняли его людей с занятых ими мест, из их уже установленных палаток только для того, чтобы дать своим слугам возможность либо разбить там свои шатры, либо свалить в тех местах, откуда согнали простых македонян, нечистоты рабов Филоты. Сколько раз этот изнеженный нечестивец и гордец даже стерпеть не мог кого-либо из простых воинов вблизи себя из страха, что те ненароком нарушат его покой. Но это не все… Белон вспомнил, как повозки Филоты, груженные золотом и серебром, стояли повсюду в городе, как никого из воинов не допускали в его помещение, как отгоняла их стража, поставленная специально охранять сон этого неженки не только от каких-либо звуков, но и от еле слышного шепота. «Он хочет, — добавил Белон, — справиться о своей участи у оракула Аммона, он, не так давно обвинявший этого бога во лжи, когда речь шла об Александре. Ясно, к чему Филота клонит, прося нас обратиться к оракулу: он хочет выиграть время, чтобы его отец Парменион, командующий войском в Мидии, успел собрать силы, напасть на войско царя и таким образом выполнить задуманное. Справедливости ради Филоту стоит отвести в храм, но лишь для того, чтобы возблагодарить бога за спасение своего сына от рук неверного гнусного подданного». Собрание заволновалось, и первыми стали кричать телохранители Александра, что предателя надо сейчас же разорвать в клочья: столь велика была охватившая их ярость. И Филоте это вовсе не было приятно — он опасался еще более жестоких пыток. Вскоре царь вернулся в собрание и велел перенести судебный процесс на следующий день и, хотя наступал вечер, все же созвал своих друзей. Почти все предлагали побить несчастного Филоту камнями, но Гефестион, Кратер и Кен настаивали, чтобы от него добились правды пытками, и большинство склонилось постепенно на их сторону. Совет был распущен, и Гефестион с Кеном и Кратером хотели уйти, чтобы приступить к допросу Филоты, но царь неожиданно подозвал Кратера и, что-то сказав ему на ухо, удалился в свои покои. Те же, кому поручено было пытать Филоту, разложили перед ним все необходимые для сего дела инструменты. При виде ужасных орудий сын Пармениона не смог сдержать крика: «Почему вы медлите убить меня, уже признавшегося в своем преступлении?! Я замыслил и собирался сделать это! Это я стоял во главе заговора!» Его тотчас же раздели, завязали глаза и подвергли самым изощренным истязаниям. Сначала, когда избивали и мучили его то бичом, то огнем, ничего не спрашивая, лишь для того, чтобы наказать, он не издавал ни звука. Но когда тело его, распухшее от множества ран, не могло больше выдерживать ударов бича по кровоточащим ранам и оголившимся костям, он не выдержал страданий и обещал сказать все, что от него хотят. Однако прежде просил, чтобы ему поклялись жизнью царя, что прекратят пытку и удалят палачей, — он желает сказать нечто важное. Ему уступили, и он произнес: «Кратер, ты более других ненавидишь меня, скажи мне теперь, что ты желаешь услышать?» Кратер, поняв, что Филота смеется над ним, велел палачам вновь браться за дело, и Филота стал умолять дать ему время хотя бы немного перевести дух. Между тем многие благородные македоняне, в особенности близкие родственники Пармениона, узнав о пытках, которым подвергается Филота, страшась (и не без оснований) древнего македонского закона, по которому родственники замыслившего убийство царя подлежали казни вместе с виновным или виновными родичами, частью покончили с собой, частью бежали в горы и пустыни. Лагерь македонян был охвачен ужасом, пока царь, узнав о волнениях, не объявил, что отменяет своей волей закон о казни родственников виновных. Хотел ли Филота прекратить свои мучения правдивыми показаниями или ложью, ибо одинакова была бы участь и солгавшего, и сознавшегося, во всяком случае он сказал: «Вам известно, что отец мой был очень дружен с Эгелбхом, убитым в последнем сражении. Именно он стал главным виновником нашего несчастья. От него пошли все наши беды. Узнав, что царь велел почитать себя сыном Зевса, он страшно разгневался и сказал: «Неужели мы будем признавать царем того, что отказался от своего отца Филиппа? Мы все погибнем, если допустим такое. Отныне будем считать, что у нас нет больше царя, мы потеряли его и живем под властью тирана, невыносимого ни нам, смертным, ни бессмертным богам. И неужели именно мы приложили руку к созданию бога, который теперь, пренебрегая нами, тяготится советами смертных? Опьяненный счастьем и успехами походов, он, безумец, думает лишь о том, чтобы возвеличить одного лишь себя, хотя и знает, что вся его божественность замешана и возвеличена на нашей крови. Не будем же ждать, подвергая себя еще большему риску и более тяжким унижениям. Освободимся от надменного и безумного владыки. Этим мы освободим и вселенную от тирана,угнетающего ее, и сами возведем себя в ранг богов. Эх! Да и кто смог бы жить долго под властью извращенного человека, сумевшего погубить своих самых близких родственников и так и не отомстившего за смерть своего отца?» Таковы были гневные речи Эгелоха на пиру. На заре же следующего дня меня позвал отец. Он был расстроен и заметил, что и я печален, ибо услышанное взволновало нас. Чтобы узнать, говорил ли Эгелох в опьянении или у него были более важные причины, мы решили встретиться с ним. Он вскоре пришел и еще раз повторил сказанное за обедом, добавив, что, если мы пожелаем возглавить заговор, он будет нашим самым верным сторонником; если же задумаем остаться в стороне, то и он больше никому не скажет о своем замысле. Отец мой Парменион дал себя соблазнить этим планам, но в тот момент они показались ему несвоевременными: Дарий был еще жив и нужно было подождать с исполнением намеченного. Нам же хотелось убить Александра не ради себя, а ради персидского царя, а приносить Дарию такой великий дар казалось безумием. Но если бы Дарий погиб, то в награду убийцам Александра досталась бы вся Азия, весь Восток. Таков был принятый нами план. Его одобрили и скрепили взаимными клятвами. О Димне же я ничего не знаю, но теперь мне уже не принесет пользы то, что я не участвовал в его преступных деяниях». Палачи снова приступили к пыткам и, ударяя копьями по лицу и глазам несчастного, заставили его сознаться и в сговоре с Димном. Он рассказал, что заговорщики опасались, как бы Александр не задержался в Бактрии, а семидесятилетний Парменион, возглавлявший армию и хранивший большую казну, неожиданно не умер и у Филоты больше не было бы ни повода, ни возможности убить царя. Поэтому он торопился осуществить свой план как можно скорее. Отец же его, Парменион, к замыслу сейчас не причастен, а если ему не верят, то он готов новыми пытками подтвердить правдивость своих слов. Допрашивавшие Филоту решили между собой, что сказанного вполне достаточно, и поспешили к царю. Александр велел назавтра Же огласить показания преступника, а самого его принести в свои покои: несчастный не мог ходить. Спустя короткое время ввели еще одного подозреваемого по имени Деметрий. Рядом с ним стоял тоже только что введенный молодой воин Калис, которому Филота кивнул и знаком просил подойти. Когда Калис, смутившись, отступил в тень, Филота еле слышно произнес: «Ты допустишь, чтобы Деметрий лгал, а меня вновь подвергли пытке?» Калис побледнел и молчал. Македоняне подумали, что сын Пармениона решил оклеветать невиновного, ведь имя юноши не назвал ни Никомах, ни сам Филота во время пытки. Однако вскоре Калис сам во всем сознался. Тогда все названные Никомахом были по данному царем знаку побиты камнями. Александр избавился от очень серьезной опасности, хотя Пармениона и Филоту, его первых друзей, можно было осудить только при явных уликах и ясных свидетельствах их виновности, иначе возмущение охватило бы все войско. Итак, впечатление от этого дела было двоякое: пока Филота отрицал свою вину, пытки казались верхом жестокости и немилосердия по отношению к другу царя, но после признания несчастным его вины он не вызвал сострадания даже среди своих близких. Но и царь македонян не снискал себе чести и славы завершив это важное дело. Он продемонстрировал явное желание погубить Филоту, безусловно замышлявшего заговор против него, но именно в это время и казавшегося всем, и бывшего в действительности в значительной мере более невиновным, чем преступным. Александр уподобился варварам, рассматривая подозрения в качестве веских доказательств и тем самым отступая от всех классических норм уголовного права, даже тех, которые существовали на его родине в те времена. Царь ничего не мог убедительно доказать своим воинам, и в самом деле, вина Филоты вплоть до самой пытки была совершенно недоказуема. Создается впечатление, что, воспользовавшись случаем, Александр решил избавиться от неугодного ему человека, который давно уже ему не нравился, потому что не сгибал колен перед «сыном Зевса». Какая преступная слабость в столь великом человеке! Но все же следует признать, действуй Александр Великий справедливей и великодушней, он непременно пал бы жертвой действительно постепенно развивавшегося и крепнущего заговора. Так что можно сказать, что явное беззаконие и несправедливость помогли ему нанести упреждающий удар и сохранить тем самым жизнь и власть. После смерти Филоты началось дознание в отношении его родственников и друзей — Аминты и Симмия. Александр считал их виновными и умело доказывал это. Аминте было позволено защищать себя, и тот обратился к нему: «Государь, ложно обвиняют меня в преступлении другого. Мне не позволено было даже искать защиты и покровительства у человека, который пользовался столь большим почетом и чье доверие всегда могло снабдить меня всеми выгодами и благами самой роскошной жизни. Скажу совершенно откровенно, государь, один ты виноват в опасности, которая угрожает нам. Кто другой, кроме тебя, заставлял всех обращаться не к тебе лично, а к Филоте за разрешением самых важных вопросов. Именно благодаря ему мы поднялись до такой высокой ступени твоей милости и дружбы. Он был твоим верным соратником, и именно его милости мы все добивались, его гнева боялись. И если сейчас ты хочешь наказать всех друзей Филоты, а также тех, кто желал ими стать, тебе придется наказать все войско. Немного в нем окажется невиновных, немного таких, кто не имел каких-либо встреч и бесед с твоим прежним любимцем. Твоя мать писала тебе, что я и мои братья были тебе враждебны. О, если бы она более заботилась о своем сыне и не создавала в душе своей поводов для пустых тревог. Почему же тогда она сразу не указала на причину своих подозрений? Почему не назвала того, кто донес ей на нас. С горечью в душе открою я причину ее ненависти к нам. Ты помнишь, как, посылая меня в Македонию набирать войско, ты сам сказал мне, что много здоровых юношей самого цветущего возраста скрываются в доме твоей матери. Ты предписал мне повиноваться только твоему приказу и привезти к тебе всех скрывавшихся от военной службы. Я исполнил это и исполнил решительнее и смелее, чем предписывали мои интересы и моя интуиция. Я привез из Македонии Горгия, Гекатея и Горгида, которые оказались на самом деле очень хорошими воинами и верными слугами. Но, честно выполнив твое поручение, я вызвал гнев и раздражение твоей матери, не знавшей, как еще отомстить, и излившей в письме всю горечь своего огорчения. Думаю, государь, у твоей матери Олимпиады нет другой причины преследовать нас, кроме той единственной, что мы предпочли ее женской милости твои интересы. Тебе хорошо известно, что я привел 6 тыс. македонской пехоты и еще 600 всадников, часть этих людей не последовала бы за мной, будь я более милостив и снисходителен ко всем скрывающимся от воинской службы или пренебрегающих ею. Поэтому успокой свою мать, она гневается и обвиняет нас в заговоре лишь по этой причине». Пока Аминта говорил, воины ввели его брата Полемона, бежавшего при известии, что Филоту повели на пытку. Едва можно было удержать негодующую толпу от того, чтобы она тотчас не побила несчастного камнями. Но тот, обратившись к собранию, без малейшего страха сказал: «Для себя я не прошу ни о чем, жизнь моя мало меня волнует, но пусть мое бегство не причинит вреда моим братьям. И если я совершил преступление, пусть оно будет только моим. И пусть ответственность падет только на меня одного». Слова юноши смягчили солдат. Казалось, что молодой Полемон в самом деле скорбит об участи братьев, виновником которой стал он. Амин-та, обратив на него разгневанный взор, воскликнул: «Подходящее же ты выбрал время для жалоб; в бегстве вдали от этих мест ты должен был лить свои запоздалые слезы. Посмотри, до чего ты меня довел… Я вынужден защищать себя тем, что обвиняю тебя». Теперь уже все окружающие их воины залились слезами и стали единогласно восклицать, что следует простить столь мужественных, столь достойных и благородных людей, которые к тому же еще и нисколько не виноваты. Даже приближенные Александра встали на их защиту и стали высказываться в их пользу; и Александр согласился даровать милость, о которой его просили с такой страстью. Когда умер Филота, те самые люди, которые лишили его жизни, постарались быстро позабыть о его задуманном, но не совершенном преступлении и вспоминали лишь его горестный и несчастный конец. Теперь их душ коснулось даже раскаяние в том, что они столь жестоко обошлись с человеком, достоинство и способности которого заслужили гораздо лучшей и более счастливой судьбы. Чувства эти не могли нравиться Александру, но этот государь весьма мало тревожился об этом и думал лишь о том, чтобы как можно скорее погубить отца того, чью злосчастную судьбу все оплакивали. Царь возложил исполнение этого серьезного дела на Полидаманта (Полидама), близкого друга Пармениона, сказав при этом: «Посмотрим, могу ли я довериться тебе в деле избавления от правителя Мидии: ведь мне хорошо известно о чувстве, которое ты питаешь к этому человеку, но даже дружба ничто, когда речь идет о служении своему государю. Отправляйся немедленно и доставь мне голову Пармениона». Полидамант обещал это царю, потому что слишком сильно желал завоевать расположение своего господина, хотя бы даже ценой низкого преступления. Он тотчас отправился в путь, прибыл в Мидию, встретился там с главными предводителями македонян и представил им письма, в которых содержался приказ Александра в отношении того, что требовалось совершить. А между тем Парменион узнал о приезде своего старого друга и с нетерпением ждал известий от царя. В оазисах той страны имеются обширные и приятные рощи; особенно наслаждались ими цари и сатрапы. Так и Парменион прогуливался в одной из таких рощ в окружении военачальников, уже получивших приказ царя убить его. Явился Полидамант, и Парменион едва не бросился бегом навстречу ему. Когда они обменялись взаимными приветствиями, Полидамант передал Пармениону два письма — одно написанное царем, и другое его сыном Филотой. Прочтя первое, Парменион сказал: «Царь готовит поход против арахосиев[1]. Деятельнейший человек, он никогда не знает отдыха и, достигнув столь высокой славы, должен подумать и о своей жизни и о возможности вдоволь насладиться плодами таких великих завоеваний». Затем он приступил к чтению письма, написанного от имени Филоты, и на лице его отразилась радость. В то время, как он его читал, Клеандр нанес ему удар кинжалом в сердце, а затем прочие военачальники обнажили мечи и уже мертвому нанесли множество ран. Оруженосцы и воины из охраны Пармениона, стоявшие у входа в рощу, бросились в лагерь и сообщили там ужасную новость. Воины, не знавшие, что произошло, мгновенно взялись за оружие и бросились туда, где совсем недавно разыгралась кровавая драма. Они требовали немедленно выдать им убийц их полководца, грозя в противном случае предать все огню и мечу. Чтобы успокоить жажду мщения воинов, им были показаны и зачитаны приказы Александра, а затем во всех подробностях объяснены причины самого убийства. Едва суть происходящего и воля монарха стали известны воинам, они более или менее успокоились, стараясь избежать мятежа и всяческих преступных крайностей, но все же продолжали явно и открыто демонстрировать свое негодование по поводу случившегося и категорически потребовали, чтобы им было выдано тело их военачальника для предания его праха земле и исполнения последних торжественных обрядов. Таков был трагический конец несчастного Пармениона, одного из самых великих людей, когда-либо родившихся под македонским небом. Мудрый и проницательный в принятии решений, отважный в исполнении повелений царя, счастливый во всех своих начинаниях, уважаемый знатными и обожаемый простыми людьми, примерный отец, заботливый и нежный друг не только в дни мира, но особенно во время войны, он был с избытком наделен всем, что из простого смертного создает подлинного героя, но, увы, ему недоставало малого — скромной верности простого подданного. Он пользовался самой задушевной близостью и расположением Филиппа, отца Александра, и самого Александра. Он был тем, кто первым из македонян вступил в земли Азии, разделял с царем самые тяжкие труды и самые блестящие успехи, но в свои 70 лет омрачил свою безукоризненную жизнь, полную самых блестящих деяний, низкой изменой.
ГЛАВА 2
ЗАГОВОР КАТИЛИНЫ


Место действия — Рим — Италия. Время действия — конец 63 года до н. э. 690 год от основания Города
Не раз Римская республика могла пасть под ударами недовольных граждан. Однако это государство никогда не было так близко к гибели, как во времена Луция Сергия Каталины, решившего стать хозяином Рима и уничтожить самых известных сенаторов. На этот раз столица мира была обязана своим спасением рвению и неусыпной бдительности консула. Но прежде чем перейти к описанию знаменитого события, нарисуем портрет того недостойного римлянина, который составил столь ужасный замысел. Уже первые деяния Луция Сергия Катилины можно с уверенностью отнести к гнусным преступлениям. Еще в юности он изнасиловал весталку, девственную, безупречную и не запятнанную никакими пороками и страстями жрицу богини Весты, а затем столь же позорно осквернил молодую римлянку очень знатного происхождения, от которой имел дочь, ставшую впоследствии его женой. К инцесту он присоединил убийство. Став любовником одной вдовы, горячо любившей своего единственного сына, он отравил несчастного и женился на его матери. Со временем к этим и им подобным злодеяниям присоединились проскрипции. Став одним из самых неумолимых и безжалостных подручных Суллы, Катилина с подлинным наслаждением проливал кровь самых благородных из римлян. Однако, и сам он был знатного происхождения, что позволяло недостойному желать и надеяться занять первое место в государстве. Сила его тела равнялась лишь величию его отваги, а извращенность души превосходила его природные способности и дарования. Не было никого искусней его в лести и притворстве, в особенности полезном всем вынашивающим преступные замыслы. Вынужденный общаться с людьми самого разного происхождения, нрава и характера, он всегда безошибочно умел приспосабливаться к любому из них, что делало его в одинаковой мере приятным каждому римскому гражданину, богатому и бедному, знатному и малоизвестному, достойному и порочному. Тайный помощник и товарищ самых отпетых, самых закоренелых злодеев, он никогда не появлялся на глаза римской публике на форуме иначе, как в сопровождении самых известных, влиятельных и добродетельных граждан. Владея несколькими домами и поместьями, он в одних из них учредил самые строгие, простые и древние римские порядки в то время, как в других царили явный разврат, сладострастие и изнеженность. Постоянно упражняясь в искусстве любви, не менее опытен он был и в военном деле и без всякого затруднения переходил от удовольствий города к трудам и тяготам лагерной жизни. Жестокий и коварный захватчик чужого имущества, он проматывал свое собственное, нисколько о нем не сожалея. Амбициозный до невероятности, он осмеливался претендовать на самые высокие почести и посты в государстве. И едва в его голове созрел замысел стереть с лица земли Римскую республику, как он тотчас же, стремясь всеми силами скрыть его, надел на себя личину совершенной добродетели. Таков был этот знаменитый человек, решившийся возвести здание своего величия и славы на руинах своего отечества. Но однажды задумав погубить Республику, Катилина в первую очередь должен был позаботиться о приобретении сообщников, найти которых в городе, погрязшем в роскоши и разврате всякого рода, было делом нехитрым. Люди без чести и совести, в особенности те, чей разврат довел их до края гибели и которым не оставалось другой надежды, кроме надежды на падение государства, жестокосердные злодеи, убийцы, желавшие избежать суровости закона, — словом, все подонки и отбросы из числа римских граждан, которыми в ту пору буквально кишел Рим, устремились под знамена Катилины, принимавшего их весьма радушно, снабжавшего деньгами и женщинами, окрылявшего их сердца надеждами на лучшее и совсем недалекое будущее, не открывая при этом всей правды о своих замыслах. Охотнее же всего принимал он в число своих друзей и спутников людей молодых, знатных, но безнадежно запутавшихся в долгах. Ему было хорошо известно, что молодость легко доступна любым сильным впечатлениям и что даже самые возвышенные чувства не могут устоять под напором дурных примеров. И в самом деле, среди этих молодых людей были немногие, чьи сердца еще не совсем затронула порча, однако под руководством такого учителя и наставника и они постепенно коснели в грехе и преступлении, становясь ближайшими подручными знатного злоумышленника. Все, однажды вступившие в заговор Катилины, были вовсе не низкого происхождения. Тем более не были лишены некоторой, и подчас весьма заметной, известности. К числу заговорщиков принадлежали и римские всадники, и выходцы из знатных римских фамилий, и даже некоторые сенаторы. Лентул, Кассий, Цетег и некоторые другие, не менее знатные и родовитые представители римских фамилий, не постыдились присоединиться к сборищу отпетых негодяев. Даже Красс и Цезарь, если верить молве, имели некоторое отношение к этой исподволь, незаметно развивающейся интриге, а последний, Цезарь, даже сознательно и специально способствовал тому, чтобы его имя прочно вошло в историю как имя одного из подозреваемых в тайном сочувствии и содействии планам катилинариев. Однако подозрение это так и осталось недоказанным и не было подтверждено никакими вескими уликами. Но можно сказать с уверенностью, что именно Цезарь всеми силами своего красноречия и страстности пытался спасти жизнь сообщникам Катилины в тот момент, когда заговор был уже раскрыт, а многие его участники схвачены. Полагали, что и Красс тоже был осведомлен о готовящемся перевороте, намереваясь встать во главе восстания в тот момент, когда станет совершенно ясно, что заговорщики взяли верх. Его целью было свержение власти и авторитета Помпея, к могуществу которого этот богач всегда испытывал нескрываемую зависть. Планы, которые вынашивал в своей голове Катилина, в скором времени совершенно лишили его сна. Страх быть преданным кем-либо из своих людей, опасности, на каждом шагу подстерегающие всякого заговорщика, ужас перед уже совершенными и грядущими преступлениями, которых невозможно было избежать, столь живо действовали на его воспаленный мозг, что напрочь лишили его спокойствия и былого хладнокровия. Во взгляде его безумных глаз, в выражении лица, наконец, в самих движениях чувствовалось глубочайшее волнение. Катилина, вообразивший, что его уже начали подозревать, поспешил с исполнением своего замысла. И казалось, сами обстоятельства благоприятствовали ему. Как раз в это время на территории Италии не было никаких войск. Помпей, в лице которого Рим нашел своего защитника, был занят войной на краю света; сенат, полагавший, что ему нечего опасаться, взирал на создавшееся положение политических и общественных дел в Италии сквозь пальцы, совершенно не беспокоясь за общественную безопасность; солдаты, служившие под знаменами Суллы, погрязшие в долгах, но поднаторевшие в грабеже, с нетерпением ожидали искры новой братоубийственной войны, готовые в любой момент вновь взяться за оружие. И Катилина, уверенный в том, что непременно достигнет консульства, радовался не столько тому, что достигнет столь высокого положения, но в гораздо большей мере тому, что открыто может организовать военные лагеря и рекрутировать под свое знамя множество новых сторонников. Однако еще прежде чем наступили выборы, он собрал своих приверженцев и обратился к ним с речью: «Сознание того, что в вашем лице я имею отважных и преданных мне людей, сегодня позволяет мне открыть вам мои истинные замыслы. Я уже осведомил каждого из вас в отдельности о том, чего желаю для вас и себя добиться, а сегодня собрал вас всех, чтобы узнать, каковы ваши чувства и мысли в отношении интересующего нас дела. Речь идет о самом благородном из дел, на которое способны лишь истинные враги всякого рабства. Сила в наших руках, а значит, мы можем овладеть и властью в угасающей Республике. Сможем ли мы найти более удобный случай? Хотите ли вы жить впредь под властью тирании нескольких частных лиц, овладевших кормилом нашего государства и обращающихся с нами, как с рабами? Сделаем же усилие — вырвемся из столь унизительного положения. Не должно ли предпочесть славную смерть презренной жизни? Но к чему говорить о смерти, когда никто, кроме нас, не сможет схватить и удержать в своих руках победу? Кто наши враги? Люди, расслабленные и изнеженные богатством, постоянно являющиеся нашим глазам, чтобы яснее показать, дать нам понять степень обрушившегося на нас несчастья. И эти так называемые римляне смогут оказать нам сопротивление?!.. Не позволим же, чтобы они и дальше продолжали оскорблять нас в нашем несчастье. Богатство, почести, слава ждут нас, если мы победим. Проиграем — и нищета, бесславие и позор станут нашим вечным уделом. Выбор за вами. Вы должны решить, что же желаете сделать. Если решите, в чем я не сомневаюсь, принять участие в общем деле, я стану вашим полководцем, а если понадобится, то и солдатом, простым воином, одним из вас. Консульское достоинство, которого я надеюсь добиться, позволит мне еще свободнее и решительнее действовать в нужном для нас направлении. Тогда согласованно мы примем меры, которые покажутся нам наиболее действенными и целесообразными для успешного осуществления нашего плана». Заговорщики, прежде чем связать себя обязательством и клятвой, которые им были предложены, начали наперебой спрашивать, каково будет вознаграждение. И освобождение от долгов, свобода грабить и убивать в новых проскрипциях были страшной платой, которая была обещана им за службу. Катилина, видя, что его единомышленники готовы пойти на любое преступление, решил прибегнуть к средству, которое окончательно должно было спаять воедино ряды его сторонников. Была принесена чаша, до краев наполненная человеческой кровью, которую, произнеся страшные магические заклинания, дали пригубить каждому из присутствующих. Все те, кто тайно готовит какое-либо великое дело, должны пристально изучать и наблюдать за людьми, которых желают допустить в свое окружение, уметь проникнуть в их сокровенные помыслы и желания. К счастью для Рима, Катилина не прибег к этим благоразумным мерам необходимой осторожности и предусмотрительности, так что замыслы его вскоре не замедлили раскрыться, и вот каким образом. Фульвия, женщина знатного происхождения, имела любовником одного из заговорщиков, которого звали Квинт Курий. Он был из тех, кто совершенно не способен хранить свои тайны, даже если от этого зависит их собственная жизнь, и находит подлинное удовольствие в рассказах обо всех своих дурных поступках, словно желая, чтобы те были узнаны и одобрены всеми. С легкой руки красавицы Фульвии он пустил по ветру большую часть своего состояния. Вместе с тем эта корыстолюбивая женщина, во всем похожая на особ, занимающихся подобным промыслом и извлекающих средства к существованию из своей чести и красоты, более не питала симпатии к человеку, потерявшему из-за нее свое богатство. Курий, возмущенный столь низменным поведением красавицы, угрожал своей возлюбленной смертью, если та не продолжит жить с ним, как прежде. Порядком испугав женщину подобными угрозами, он постарался затем смягчить ее сердце самыми пылкими признаниями в любви и обещаниями грядущих перемен. Он открыл ей, что в скором времени счастье и богатство ее во много раз превзойдут нынешние, поскольку у него есть верное средство не только для упрочения своего пошатнувшегося положения, но и для овладения баснословным состоянием, которое он охотно разделит со своей возлюбленной. Та, обладая недюжинным умом, сразу поняла смысл его слов. При каждом удобном случае, по тому, или иному поводу вступая с Курием в разговор, она всякий раз стремилась выведать его тайну и под конец все-таки узнала об опасности, угрожавшей Римской республике. Как видим, и среди самых бесстыдных ласк и наслаждений сохраняются подчас чувства высокие и благородные. Желая спасти отечество и своего возлюбленного, она сообщила многим людям о своем открытии, не называя того, кто столь подробно проинформировал ее о готовящемся деле. Таким образом, женщина самой скверной репутации сохранила Рим от наихудшего несчастья. Как только замыслы Катилины стали известны, было решено противопоставить главарю заговорщиков человека, способного расстроить все его планы. Для этого нужен был смелый и ревностный консул, решительный, бдительный, прозорливый и упорный. И все эти качества объединились в одном человеке — Цицероне. Имя этого великого человека обыкновенно ассоциируется с величайшим взлетом ораторского искусства, которое когда-либо знал Рим, но этим не ограничивались его таланты. Он был одним из самых светлых умов, когда-либо правивших Республикой, и руль государства не мог оказаться в лучших руках, особенно во время надвигающейся на Рим грозы. Возможно, кого-то удивит, что я включаю и храбрость в число многих других прекрасных достоинств Цицерона. Мне известно, что не всегда и не все, в особенности те, кто знал его лично, наделяли его этим качеством. Конечно, если он чем-то и прославился в жизни, то вовсе не воинскими подвигами. Но ведь существует и другое мужество, которое не связано с презрением к смерти среди ужасов войны. И разве не отважен человек, решившийся поначалу в одиночку вступить в бой с шайкой могущественных разбойников, не страшась при этом ни их мести, ни их угроз? Но, безусловно, римляне имели свое весьма отличное от нашего мнение относительно храбрости Цицерона, поскольку видели в нем подлинного освободителя. Его низкое происхождение долгое время было препятствием на пути к высоким государственным должностям, но едва Рим оказался в опасности, глаза всех обратились к нему, и именно он был избран консулом. Коллегой же его по консульству стал Гай Антоний, от природы наделенный полководческим дарованием, способный в решительный момент встретиться с заговорщиками лицом к лицу в открытом бою. Те же в свою очередь были в смятении — они совершенно не ожидали такого поворота событий, были совершенно уверены, что Цицерон пе победит на выборах! Катилина в равной степени с ними ощутил горечь разочарования, но от замыслов своих не отказался. Его сторонники всюду собирали оружие и отправляли его в лагерь к Манлию, который в это время стоял у города Фезул и должен был первым открыть военные действия. Катилина же, со своей стороны, набирал сторонников. Он допускал в ряды своих сообщников даже женщин, которые могли быть полезны ему своим талантом обольщать. Та же, что всех более нравилась ему, звалась Семпрония и соединяла в себе искренность, покорявшую любые сердца, и холодную расчетливость порока, заставлявшую многих ее ненавидеть. Высокое происхождение и положение в обществе, редкая красота и необыкновенная стойкость духа были качествами, помогавшими этой женщине завоевывать сердца. Между тем она уже была в том возрасте, который не принято называть весною человеческой жизни, хотя и сгорала от желания пленять мужские сердца и сама способна была зажечь многих огнем юношеского желания. Ей не было равных в танцах и игре на музыкальных инструментах. Даже языком греков владела она столь же свободно, как и языком своей родины. Помимо этого Семпрония писала стихи и пела, и беседа с ней не могла не доставить подлинного наслаждения самому взыскательному из римлян. В соответствии с обстоятельствами умела она говорить то языком подлинной нежности, то языком грубого распутства, и оба эти языка в ее устах звучали необычайно пленительно. Не было другой женщины, которая с таким нескрываемым удовольствием наслаждалась бы окончательной гибелью своей репутации, открыто пренебрегая и презирая собственное достоинство и стыдливость своего пола, и как только кто-либо изобретал новое упражнение сладострастия, она без колебаний первой следовала ему. Расточительная до умопомрачения, она была к тому же совсем не щепетильна в отношении средств к достижению богатства и считала всего лишь простой и милой шалостью запустить свою очаровательную ручку в отданные ей на сохранение деньги. Подозревали, что она была причастна ко многим убийствам, мнение это возникло не на пустом месте. Короче, она была способна на поступки, которые оледенили бы кровь самого отважного мужчины. Такая женщина не могла не бросаться в глаза и сразу обращала на себя внимание в пестрой по своему социальному и психологическому составу толпе заговорщиков. Катилина, завершив тайные приготовления, имел смелость домогаться консульства следующего 63-го года, с полным основанием полагая, что с переходом Гая Антония, коллеги Цицерона, на его сторону, его шансы на успех неизмеримо возросли. В отношении же самого Цицерона, непримиримого недруга большинства заговорщиков, было решено принять самые крутые меры. Его решили лишить жизни. Но трудно было достичь этого в отношении человека, не в меньшей мере озабоченного собственной безопасностью, чем безопасностью всей Римской республики. Осторожного и предусмотрительного консула всегда сопровождали друзья и клиенты, так что поймать его в западню было делом достаточно трудным. Видя, что он не может добиться консульства и еще менее справиться исподтишка с Цицероном, Катилина решил прибегнуть к открытой силе. Его многочисленные сторонники отправились по его приказу в различные города Италии, чтобы постараться там поднять народ на борьбу, однако сам глава заговора посчитал нецелесообразным оставлять Город, в котором он задумал разжечь огонь, способный спалить дотла само сердце Римской республики, — и выражение это не пустая метафора. Катилина намеревался поджечь город, дабы во всепожирающем пламени с большей легкостью осуществить задуманное. Своих соратников он хотел распределить по кварталам, в которых им предстояло занять заранее намеченные дома и улицы и готовиться к нападению на дома противников Катилины и врагов их общего дела. Но вопреки всем своим надеждам и постоянно принимаемым мерам, у Катилины так и не возникло убеждения в успехе своего предприятия. Он по-прежнему не был уверен в смелости своих соратников. Поэтому в одну из ночей заговорщики получили приказ вновь явиться на тайную сходку, где глава заговора горько упрекнул их за равнодушие, апатию и нерешительность. Узнав подробности о приготовлениях, проводимых его соратниками за стенами Рима в городах Италии, он не скрыл от собравшихся, что нельзя приступить, а тем более завершить с успехом всего дела, если будет жив Цицерон. Тотчас же Корнелий, римский всадник, и Варгунтей, сенатор, сами возложили на себя обязанность убить консула. Однако Фульвия, которой стало известно об этом черном предательстве, не замедлила уведомить того, кто должен был стать первой жертвой готовящегося переворота. Цицерон держался настороже и обеспечил себя надежной охраной. Между тем Манлий прилагал все усилия к восстанию народа Этрурии, сильно пострадавшего при тирании Суллы и требовавшего ни много ни мало — всего лишь отмщения за былые обиды и возрождения пришедшей в упадок экономики этого некогда цветущего края. Вся Этрурия была полна нищих и бродяг, лишенных имущества и земли и потому все свои надежды возлагавших на обещанные в самом скором времени проскрипции. Среди этих бродяг были солдаты, которые сами готовы были предложить свои руки для дела разрушения и уничтожения Города, покорившего и укротившего самые свирепые и воинственные народы на земле. Когда Цицерону сообщили о состоянии дел в Этрурии, он выступил с речью в сенате. Лишь в этот критический момент это высокое собрание дало свое согласие на максимальное расширение полномочий обоих консулов, которое могло быть допущено лишь в самые суровые и трудные времена и при обстоятельствах самых серьезных. Тем временем из Фезул (Фьезоле) было прислано донесение о том, что Манлий уже открыто ищет войны, находясь во главе довольно значительного числа бунтовщиков. Тотчас были посланы четыре полководца, каждый в отведенную ему ту область Италии, за которую более всего следовало опасаться. Им предстояло принять все необходимые меры. Трудно представить, но еще труднее выразить словами смятение и ужас, охватившие римлян при первых слухах об опасности, угрожающей их отечеству. Веселью и удовольствиям на смену пришли печаль и уныние. Все, не доверяя более друг другу, не отваживались даже делиться с близкими и друзьями обуревавшими их чувствами. Прежде всего женщины, робкие по натуре, живее мужчин почувствовали всю тяжесть зла, которое им предстояло испытать в самом скором времени. Они представляли себе Катилину, с мечом в руках мечущегося во главе шайки разбойников по городу и наполняющего его тем самым ужасом и насилием. В страхе воздевали они руки к небу, заранее оплакивая горькую судьбу своих родных и близких. Таковы были чувства, которые один человек сумел возбудить в душе своих соотечественников. Выть может, покажется удивительным то, что римляне разом, одним махом не положили конец своему беспокойству, изгнав из числа живущих на этом свете творца и автора подстерегающего их зла. Справедливости ради признаем, это тоже было сопряжено с немалыми трудностями: Катилину окружали люди, всегда готовые пролить за него свою кровь. А сверх того, точно о заговоре ничего не было известно, ибо все, чем располагал сенат, заключалось в свидетельстве, не вызывающем особого доверия и исходящем от женщины, известной своей дурной репутацией. Достаточно ли было такого свидетеля, чтобы погубить человека столь высокого положения? Вспомним, если бы не несдержанность Курия, против него не возникло бы даже тени подозрения, ибо, несмотря на все обещания щедро награждать добровольных доносчиков и осведомителей, способных хоть что-нибудь выведать и сообщить о готовящемся перевороте, таковых совсем не оказалось. Никто не спешил воспользоваться щедростью сената в столь темном и опасном деле. Вместе с тем убеждение, крепнущее в правящих кругах Римской республики, что ей угрожает неминуемая опасность, так или иначе вынуждало собирать силы и готовить войска для отражения угрозы. Напряжение в городе росло. Всем было ясно, что скоро разразится гроза. Тем временем Катилина имел неосторожность не только не покидать Рима, но и явиться на собрание сенаторов, чтобы лично оправдаться перед ними. Тогда-то Цицерон и произнес свою речь, хорошо нам известную под названием «Второй речи против Катилины». Когда оратор закончил ее, Катилина со сдержанным смирением и видимой покорностью умолял сенаторов не верить клевете, которой недруги хотят очернить его славу. Произнеся в свою очередь хвалебную речь в защиту своего рода и деяний, он высказал немало резких обвинений против Цицерона, которому ставил в вину низкое происхождение и неуважение интересов старинных аристократических родов Рима. Некоторые члены сената не смогли стерпеть такого обращения с защитником отечества, выступили против Катилины, назвав его всеми мыслимыми и немыслимыми именами, которые он заслуживал. Тогда этот недостойный гражданин в ярости от встреченного им отпора воскликнул: «Поскольку враги ясно показали мне, сколь сильно ненавидят меня, пусть даст им отпор моя месть!» После такого заключения, ясно отдавая себе отчет в идее, что далее оставаться ему в Риме нельзя, он не замедлил направиться в лагерь к Манлию. Но прежде чем уехать, он горячо советовал Цетегу и Лентулу как можно скорее разделаться с Цицероном и не откладывать с исполнением намеченных убийств и поджогов, — словом, со всеми теми гнусностями, которые были уготованы Республике. В то же время он обещал всем своим сообщникам в скором времени явиться к ним на помощь во главе мощной армии. Сенат направил Марция Рекса в Фезулы (Фьезоле), чтобы там на месте воспрепятствовать действиям Манлия, который, понимая, что еще не время идти на Рим и желая хоть чем-то объяснить и оправдать свой мятеж, в свою очередь выслал нескольких своих людей навстречу Марцию, и те заявили ему, что берутся за оружие вовсе не из дурных побуждений. «Мы не надеемся более на могущество Республики и хотим всего лишь быть свободными, а значит, избавиться от бремени невыносимых и несправедливых долгов и жестокости ростовщиков, скупивших уже за бесценок наше имущество, а теперь стремящихся в довершение всему грабительски взять последнее, полученное нами от жизни — свободу![2] Обращаемся к тебе, сиятельный Марций, и заклинаем быть более чувствительным к нашему несчастью. Не допусти нашей гибели в равной степени, как и нашей мести, если гибель наша станет неизбежной». Римский полководец, к которому были обращены эти пламенные слова, отвечал им, что не подобает просить о милости с оружием в руках, что скорее им следовало бы предстать перед сенаторами в положении молящих, объяснить причины столь горьких жалоб и спокойно ожидать решения священной ассамблеи — собрания римского сената, которая всегда благоволила и защищала несчастных и невинно оскорбленных. Увы, это разумное предложение было холодно встречено заговорщиками. Не таковы были их намерения. Глава заговора, который, как мы уже знаем, оставил Рим, написал письма самым видным сенаторам. В этих посланиях он заявил, что лишь гонения врагов вынудили его покинуть место своего рождения и удалиться в Массилию, где он приложил все силы и средства к тому, чтобы смыть с себя даже тень подозрения в государственной измене. В то же самое время, пока Катилина всеми силами старался выгородить себя, в сенате при полном собрании отцов-сенаторов было прочитано письмо, адресованное им Квинту Катулу и открыто изобличавшее истинные замыслы злоумышленников. Стало известно, что письмо это было доставлено из лагеря Манлия, который самочинно и явно противозаконно принял фасции и другие знаки консульской власти и консульского достоинства. С этого момента сенату все было совершенно очевидно. С Катили-ной больше не церемонились — он был объявлен врагом отечества. Обоим консулам поручалось собрать войска, командовать которыми должен был Гай Антоний, в то время как Цицерон оставался бы в городе, чтобы защищать в его стенах дело Республики. Заговорщики, оставшиеся в Риме, всеми силами пытались привлечь на свою сторону аллоброгов, одно из племен Южной Галлии (ныне савойцы и те, кто обитает в провинции Дофинэ). Народ этот, как и многие другие, испытавшие на себе тяжесть римского владычества, был не слишком счастлив под властью покорителей мира. Уже давно их жалобы, касавшиеся тиранического способа правления наместников Рима, поступали в сенат, но зачастую оставались без ответа. С разрешением вопроса аллоброгов никогда не спешили. Послы этого народа всегда производили на простых римлян самое скорбное впечатление. Умбран, один из заговорщиков, между прочим не раз занимавшийся делами Галлии и имевший в них опыт, а кроме того, хорошо знавший эту страну, ее нравы, а главное многих вождей племени аллоброгов, однажды повстречал на Римском форуме в очередной раз прибывших в Рим посланцев этого народа. Осведомившись об их нынешнем положении, он горячо посочувствовал их несчастной судьбе и спросил, какое лекарство знают они для врачевания подобного зла. «Смерть», — ответили аллоброги. «А ведь освободить вас от бед было бы просто, — возразил Умбран, — и я научу вас этому средству, если в вас и в самом деле достанет отваги». Галлы, изумленные словами римлянина, вдохнувшего в них надежду и даже решившегося стать защитником интересов их народа, заявили, что готовы на любую крайность, способную вывести их из нищеты и несчастья, до которых довела их Римская республика. Умбран тотчас повел их в дом Брута, в то время отсутствовавшего, и открыл им в подробностях цели и задачи заговора. Аллоброги были изумлены, и когда остались одни, начали всерьез обдумывать уготованную им участь в деле, которое должны были исполнить. Тираническая власть римлян, испытываемая ими, их природная воинственность, выгоды, которые надеялись они получить в результате победы Катилины, — все это сначала заставило их склониться на сторону заговорщиков. Но когда они ясно представили себе опасность подобного предприятия, вечный позор, которым покроют себя и свой народ, а сверх того вознаграждение, которое они заслужат в качестве спасителей Рима, они сразу изменили свое решение. С целью избавить Республику от опасности они отправились к Фабию Сайге, официальному представителю интересов их народа в столице, и рассказали обо всем, что было им предложено. Санга известил об этом Цицерона, который посоветовал аллоброгам высказать видимое рвение к делам заговора, чтобы тем легче проникнуть во все тайны и секреты катилинариев. В результате такого поворота событий план этого страшного заговора не замедлил раскрыться. Вот в чем он состоял. Едва Катилина принял командование армией, стоявшей в Фезулах, трибун Бестия собрал народное собрание, на котором со слезами на глазах должен был пожаловаться на поведение Цицерона и обвинить его в том, что лишь он один является виновником готовой вот-вот разразиться гражданской войны. Представив римскому народу дело таким образом, он с наступлением ночи должен был перейти к исполнению намеченного плана. Было решено в двенадцати местах одновременно поджечь город и посреди всеобщего последовавшего затем смятения лишить жизни консула и некоторых видных сенаторов. Предполагалось дойти до крайней степени жестокости. Детям не следовало щадить своих родителей, избавляя их от горестной смерти. По завершении резни заговорщикам приказывалось оставить Рим и идти на соединение с армией Катилины, которому во главе своего совсем недавно набранного войска и предстояло довершить разрушение и уничтожение Города. Цетег, один из самых ярых заговорщиков, не переставая жаловаться на презренную трусость своих товарищей, заявил, что если они сами не желают отбросить свою неуверенность и стряхнуть с себя дремоту, он один ворвется в сенат и расправится со всеми неугоднымичленами этого священного собрания. А пока время шло в подобных препирательствах, аллоброги в соответствии с приказами, полученными ими от Цицерона, продолжали вводить в заблуждение сообщников Катилины. Лентул, Цетег, Статилий и Кассий — люди, по-своему надежные и верные, поставили свои подписи под письмом, которое вручили галльским послам. Письмо это следовало прочитать перед собранием племени аллоброгов в качестве открытого призыва к восстанию. После этого аллоброги заторопились в путь, сделав вид, что намереваются по дороге заехать в лагерь Катилины для получения лично от него последних распоряжений. Наступила ночь отъезда галльских послов, и Цицерон, осведомленный обо всем происходящем, отдал приказ двум преторам, на верность которых можно было положиться, блокировать Мульвиев мост и задержать аллоброгов и всех следовавших с ними римлян. Преторы, на которых консул возложил это важное поручение, исполнили его в точности. Послы галлов были задержаны и арестованы так же, словно ни о чем не были предупреждены заранее. Волтурий, сопровождавший их, сначала хотел оказать сопротивление, но видя, что аллоброги не поддерживают его, и поняв, что он предан, отдался в руки преторов, сообщивших консулу об удачном окончании дела. Известие это поначалу доставило ему много радости, но манера, с какой обращались с заговорщиками, вскоре вызвала немалую тревогу. Ввиду того, что большая часть преступников состояла из людей очень высокого и знатного происхождения, консул не без основания ожидал немалых трудностей в осуждении их, понимая, что привлечет на себе гнев и ненависть многочисленных друзей и родственников государственных преступников, а также их клиентов. С другой стороны, он не мог простить им столь тяжелого преступления, могущего повлечь для Республики роковые последствия. Признаем, Цицерон обладал великодушной и благородной душой, свои интересы он охотно принес в жертву интересам своих сограждан. Когда было принято решение вести судебное дело с максимальной строгостью и суровостью, он велел вызвать Лентула, Цетега, Статилия, Габиния и Цепария. Но этот последний обратился в бегство, вместо того чтобы подчиниться, остальные, даже не подозревавшие о том, что их замыслы раскрыты, без колебаний направились в дом консула. Цицерон из уважения к достоинству претора, судебной властью которой был облечен Лентул, взял последнего за руку и повел его в храм Согласия, куда стража уже сводила других заговорщиков. Именно в храме Согласия решено было провести чрезвычайное заседание сената, на котором присутствовали не только сенаторы и задержанные катилинарии, но и свидетели, готовые дать показания. Весть о происходящем вскоре разнеслась по городу. На голову Катилины и катилинариев посыпались проклятия. Все превозносили до небес и благословляли Цицерона, которого каждый гражданин сейчас рассматривал как своего спасителя. Один из свидетелей среди имен прочих заговорщиков назвал имя Красса, которому высокое рождение и богатство придавали немало авторитета, а главное, доверия в глазах сенаторов, поэтому многие из них с возмущением закричали, что те, кто имеет наглость чернить славу и доброе имя столь уважаемого человека, заслуживают имя лжецов и клеветников. Такова была слабость и нерешительность сената в вопросе, касающемся спасения Республики. Вольноотпущенники Лентула и некоторых других катилинариев выступили в защиту своих патронов, но мудрая предусмотрительность консула помешала любым беспорядкам, могущим последовать за этой процессией свидетелей защиты и обвинения. Сенат был собран и во второй раз, чтобы принять окончательное решение в отношении преступников. В народе стали широко известны речи, произнесенные по сему случаю Цезарем и Катоном. Но прежде чем передать здесь их содержание, самое время поближе познакомиться с этими двумя персонажами, равно знаменитыми своим красноречием и деяниями. Марк Порций Катон был одним из тех людей, которые, казалось бы, никогда не должны рождаться в самые развращенные и испорченные времена, эпохи и века или появляться разве что для того, чтобы служить примером для подражания своим согражданам. Непогрешимые в своей частной и общественной жизни, такие люди с глубокой горечью взирают на разложение и гибель своего века, не имея возможности и времени ни для излечения его язв, ни для исправления его пороков. Скромность, простота, умеренность, мудрость, отвага, невинность — вот основные качества таких людей, которым гораздо более пристало украшать своим рождением давно минувшие времена основания Города. Добродетель Марка Порция Катона состояла вовсе не в показной чопорности и строгости, кичащихся собой и стремящихся выдать желаемое за действительное, а чисто внешнее за внутреннюю и подлинную суть. Суровый в первую очередь к самому себе, он не обладал даром снисходить к слабостям, а тем более порокам, других. Твердо держась раз принятых им принципов, он никогда не позволял себе отступаться от них или поступаться ими, когда речь заходила о справедливости. Его ревностное служение Республике могло сравниться лишь с ревностным служением ей древних римлян, всегда готовых жертвовать собою во имя блага родины… Но среди стольких добродетелей следует заметить и обратить особое внимание на два заметных недостатка, за которые Марка Катона всегда упрекали, — излишнюю суровость нрава и определенную негибкость, зачастую мешавшую ему находить согласие с другими людьми, прислушиваться к мнению других. Одним словом, возвышенные и благородные качества его души скорее вызывали восхищение, нежели любовь. Марк Порций Катон не был другом Гая Юлия Цезаря. Что касается последнего (обладавшего даром покорять любые сердца), не было никого, кто сравнился бы в добросердечии, искренности и щедрости. Свое богатство он целиком посвятил делу удовлетворения потребностей и желаний собственных друзей, сопровождая дары всей силой природного обаяния и любезности. Но не только дела близких волновали его превыше собственных. Он всегда был надежным прибежищем для несчастных и нуждающихся не столько, быть может, из принципа человеколюбия, сколько из желания постоянно создавать и иметь подле себя креатуры — сторонников, а если нужно, и ставленников для каких угодно дел. Увы, не был он лишен и досадных слабостей, и недостатков более постыдных и именно благодаря этому охотно прощал недостатки и слабости других людей. В высшей степени честолюбивый, он мечтал о военных походах и сражениях и всюду искал только повод для приобретения славы. Великий полководец и не менее великий оратор, он не мог не представлять собою личность более чем примечательную на ярком небосклоне Римской республики, в которой отвага и красноречие служили самыми надежными средствами для достижения высших постов в государстве. Наконец, в Цезаре было мало действительной Катоновой добродетели, но много мнимой, работающей на публику, той, которая особенно опасна в опытных и умных демагогах. Нарисовав оба портрета, я намерен перейти к речам, произнесенным обоими в сенате по вопросу о заговорщиках, и начну с речи Цезаря: «Судьям, отцы-сенаторы, следовало бы быть свободными от всяких страстей, тем более от чувства ненависти, дружбы, гнева, а также жалости, когда приходится обсуждать столь важное дело. Ум человека нелегко видит правду, когда ему препятствуют эти чувства. Сколь многие монархи и народы впадали в тяжкие ошибки под влиянием гнева или жалости, но лучше привести примеры, когда предки наши вопреки сильному гневу поступали разумно и справедливо, почитая за подлинное величие человеческого духа умение скорее прощать, чем мстить. Какой пример это являет нам в нынешних обстоятельствах! Вспомним… Во время македонской войны, которую мы вели против царя Персея, большое и богатое родосское государство, ставшее могущественным благодаря помощи римского народа, было нам не только неверно, но даже враждебно. Но когда по окончании войны в сенате было принято решение о родосцах, предки наши, дабы никто не мог сказать, что они начали войну не столько ради отмщения, сколько ради обогащения, отпустили жителей Родоса, не покарав их. На протяжении всех Пунических войн, хотя пунийцы и во время мира, и во время перемирия не переставали совершать нечестивые и враждебные поступки, предки наши никогда не делали того же, несмотря на постоянно представлявшиеся случаи: они думали больше о том, что достойно их, нежели о том, как следует по справедливости покарать карфагенян. Также и ныне, отцы-сенаторы, следует вам иметь в виду одно: преступление Публия Лентула и других не должно в ваших глазах значить больше, чем забота о вашем высоком авторитете, вы не должны руководствоваться чувством гнева больше, чем заботой о своем добром имени. Вместе с тем я не осуждаю и суровых мер в отношении заговорщиков. Но какое наказание достойно вменяемой им вины? Если можно найти кару, соответствующую их преступлениям, то я готов одобрить ее. Большинство сенаторов, вносивших предложения до меня, перечисляли ужасы войны: как похищают девушек и мальчиков, как вырывают детей из объятий родителей, как женщины страдают от произвола победителей, как грабят храмы и дома граждан, устраивают резню и поджоги. Но — во имя бессмертных богов! — к чему клонятся их речи? К тому ли, чтобы настроить вас против заговора? Разумеется, кого не взволновало бы тяжкое и жестокое преступление, того должна воспламенить живая речь! Но то, что у простых людей называется вспыльчивостью, то у облеченных властью именуют высокомерием и жестокостью. Сам же я, отцы-сенаторы, считаю так: никакая казнь не искупит преступления, но большинство людей помнит только развязку и по отношению к нечестивцам, забыв об их злодеяниях, подробно и с немалым сочувствием рассуждает только о постигшей их каре, если она была суровей обычной. Со своей стороны я уверен: то, что сказал Децим Силан[3], муж храбрый и решительный, он сказал, руководствуясь своей необыкновенной преданностью государству, и все же предложения его мне кажутся не столько жестокими, сколько чуждыми самому духу нашего государственного строя. Это, конечно, либо страх, либо гнев на противозаконные действия заговорщиков вынудили тебя подать голос за неслыханную кару. Но о страхе говорить излишне — всем известна твоя испытанная отвага. Значит, остается справедливое негодование, которое ты, как человек выдержанный и волевой, всегда способен унять. О сути же наказания я скажу следующее: смерть — последнее прибежище страдальца, отдохновение от всех трудов и бед жизни, а вовсе не мука, она избавляет человека от всяческих зол: по ту сторону жизни ни для радости, ни для печали нет места… Мне скажут, что никто не станет порицать решения относительно жестокой казни подлинных убийц государства. Но обстоятельства и фортуна по своему произволу правят народами. И вы, судьи, должны подумать о последствиях своего решения. Все дурные дела порождались благими намерениями. Но когда власть оказывается в руках у людей неискушенных или не особенно честных, то исключительная мера переносится с людей, ее заслуживающих, на вовсе не заслуживающих ее и ей ни в какой мере не подлежащих. Вспомните: разгромив афинян, лакедемоняне назначили тридцать мужей для управления государством. Это они считали мерой умеренной и в высшей степени справедливой. Вначале тридцать правителей без суда казнили самых преступных и всеми явно ненавидимых людей. Народ радовался и говорил, что это справедливо. Увы, впоследствии своеволие тридцати усилилось, они стали по своему произволу казнить и честных и дурных, и правых и виноватых, а остальных запугивать. Так порабощенный народ горько поплатился за свою недавнюю радость. Когда на нашей памяти Луций Корнелий Сулла приказал удавить преступного римского претора Дамасиппа и других ему подобных людей, возвысившихся лишь благодаря несчастьям государства, кто не восхвалял его поступка? Все говорили, что преступные и мятежные люди, потрясшие своими деяниями основы государства, казнены заслуженно. Но именно это стало началом всеобщих бедствий: стоило кому-то пожелать чей-то дом, богатство, а зачастую и простую утварь, как он уже старался, чтобы владелец всего этого оказался в проскрипционном списке. И вот уже тех, кого обрадовала смерть Дамасиппа, вскоре самих начали хватать, и казни на этот раз прекратились только после того, как Сулла щедро вознаградил имуществом римских граждан всех своих участвующих в этих бесчинствах сторонников. Конечно, ничего подобного я не опасаюсь ни со стороны Марка Туллия[4], ни вообще от государства во времена, подобные нынешним, но ведь нельзя забывать и о том, что в нашем обширном государстве умов много и все они могут придерживаться самых различных мнений. В другое время, при другом консуле, опирающемся на войско, любой лжи могут поверить как истине. И если консул на основании постановления сената обнажит меч, кто тогда укажет ему предел и сможет его унять? Предки наши, судьи, никогда не испытывали недостатка ни в рассудительности, ни в отваге, и гордость никогда не мешала им перенимать чужие установления, если те были полезны. И в то же время они, подражая обычаю Греции, подвергали граждан порке, а к осужденным применяли высшую кару. Когда государство увеличилось и с ростом числа граждан возникли и усилились противоборствующие группировки, тогда начали часто преследовать невинных. Тогда-то и были приняты Порциев и другие законы, допустившие лишь изгнание осужденных. Такова, на мой взгляд, отцы-сенаторы, главная причина, не позволяющая нам принять беспримерное решение. Так каково же мое мнение: уж не отпустить ли злоумышленников на волю, чтобы они тотчас же примкнули к войску Катилины? Отнюдь нет! Я предлагаю: конфисковать их имущество, а самих, заковав в цепи, разослать под строжайшей охраной по муниципиям, и чтобы в дальнейшем никто даже не осмеливался докладывать о них сенату или народу. И пусть всякого, кто поступит иначе, сенат признает врагом государства и общественного блага». Искусное красноречие Цезаря склонило на его сторону некоторых сенаторов, но большинство встали на сторону Марка Катона, произнесшего весьма пылкую и очень сильную речь приблизительно вот какого содержания. «Колебания ваши, судьи, удивляют меня, — начал свою речь суровый римлянин, — ведь речь идет о вашей свободе и о самой жизни, а вы все еще колеблетесь, не зная какое решение принять. Быть может, вы ожидаете того момента, когда благословенные планы Катилины осуществятся, чтобы тогда с тем большим правом и основам выковать и направить против него свою месть? Может статься, лишь тогда вы вознамеритесь обрушить на заговорщиков всю тяжесть наших законов, когда они станут подлинными хозяевами Рима? Я не стану говорить о том зле, которое угрожает нашей родине, скажу лишь о том, что касается ваших собственных интересов. Вспомните о них, стряхните дремоту и сохраните то, что считаете самым священным! Не раз уже и не два сокрушался я в этом собрании о порче и развращенности наших нравов, и речи мои так и не возымели действия, на которое я рассчитывал. Более того, наверняка в ваших глазах я впаду в немилость за то, что всегда призывал и учил вас вовсе не тому, на чем нынче зиждется общественная жизнь нашего нынешнего государства, а за то, быть может, что стремился внушить вам чувства, вовсе не соответствующие теперешнему положению дел в обществе. Думаю, и сейчас вы уже не довольны моими словами. Что ж, пусть раньше вам вполне позволительно было не придавать им никакого значения и даже гневаться на меня, ибо тогда положение в государстве было прочным, и его могущество допускало и даже извиняло вашу беспечность. Но теперь речь идет не о том, хороши или плохи наши нравы, и не о величии и могуществе державы римского народа, а о том, будут ли вообще эти блага нашими или же они вместе с нашими жизнями достанутся врагу. И в этот момент мне убедительнейше говорят о мягкости и великодушии! Прекрасно и достойно построив свою речь, Гай Цезарь рассуждал здесь до меня о жизни и смерти, считая вымыслом то, что обыкновенно рассказывают о подземном царстве — будто дурные люди пребывают там далеко от честных, в местах мрачных, диких, ужасных и вызывающих страх. Он предложил забрать в казну имущество заговорщиков, а их самих содержать под стражей в муниципиях[5], очевидно, опасаясь, что здесь, в Риме, их силой освободят из тюрьмы соратники или подкупленная толпа, как будто дурные и преступные люди находятся только в Городе, а не по всей Италии, как будто дерзость их не сильнее там, где защита слабее. Следовательно, его соображения бесполезны, если он все же испытывает некоторые опасения в отношении заговорщиков; если же при таком всеобщем страхе он один не боится, то тем больше у меня оснований страшиться и за себя, и за вас. Поэтому, когда вы будете принимать решение относительно Публия Лентула и остальных, помните: вы одновременно выносите приговор войску Катилины и всем заговорщикам независимо от того, где они сейчас находятся — в тюрьме или на свободе. Чем тверже, решительнее и непреклоннее будете вы действовать, тем сильнее падут они духом, тем более сильный ощутят удар. Но если в один прекрасный день по тем или иным причинам они заметят хотя бы малейший признак вашей слабости, знайте, в самом непродолжительном времени они все, преисполненные дерзости и злобы, окажутся здесь. Не думайте, что предки наши лишь с помощью оружия сделали это государство из малого великим. Будь это так, оно было бы у нас гораздо прекраснее, так как сейчас союзников и граждан, а кроме того, оружия, лошадей и всего необходимого для войны у нас гораздо больше, чем было у них. Но они обладали другими качествами, возвеличившими их и отсутствующими у нас: на родине — трудолюбие, за рубежом — справедливая власть, в советах — свобода духа, не отягощенная ни совершенными проступками, ни пристрастием. У нас вместо этого — развращенность и алчность, зависть и злоба, в государстве — бедность, в частном быту — роскошь, мы восхваляем богатство и склонны к праздности; между добрыми и дурными людьми различия нет; все награды за доблесть присваивает честолюбие. И в этом нет ничего удивительного: так как каждый из вас в отдельности думает только о себе, так как в частной жизни вы рабы наслаждений, а здесь, в сенате, — денег и влияния немногих, но хорошо известных вам корыстолюбивых и могущественных людей. Именно поэтому государство, оставшееся один на один перед лицом подобных обстоятельств без какой-либо защиты, подвергается угрозе скорой гибели. Но что долго говорить об этом. Всем известно о том, что заговор устроили знатнейшие граждане, именно они решили предать отечество огню, галльское племя, яростно ненавидящее все, что именуется римским, они склоняют к войне; вражеский полководец с войском у нас на плечах. А что же вы? Даже теперь медлите и не знаете, как поступать с могущественными и жестокими врагами, схваченными внутри городских стен? Тогда я предлагаю вам: пощадите их; преступление ведь совершили юнцы из честолюбия. Пусть уходят, унося с собой даже оружие. Но берегитесь, как бы ваши мягкость и сострадание не обернулись несчастьем! Конечно, положение в любом случае очень трудное, но вы, я вижу, совсем не страшитесь его?.. Так нет же, напротив, страх, сильный страх читается на ваших лицах, но вы по трусости или вялости своей медлите, целиком полагаясь на бессмертных богов. Но помогут ли боги трусам, выпустившим оружие из своих рук и почти передавшим его в руки врагов. Тогда с легким сердцем, если сможете, если вам не помешает страх, снизойдите к высокому положению Лентула, простите Цетега по молодости лет, хотя он уже во второй раз идет войной на Республику. Стоит ли мне говорить о Габинии, Статилии, Цепарии, именитых заговорщиках? Если бы для них когда-нибудь хоть что-нибудь в этой жизни имело значение, они не вынашивали бы таких позорных и гнусных замыслов в отношении государства. И, наконец, самое главное, отцы-сенаторы, будь у нас еще в распоряжении время, чтобы медлить с решением и допускать ошибки, я, клянусь Геркулесом, первый охотно бы примирился с тем, что вас поправили бы сами обстоятельства, раз слова и предостережения ничего для вас не значат. Но мы уже давно окружены со всех сторон. Катилина с войсками держит нас в буквальном смысле за горло внутри наших стен, и притом — о горе и позор! — в самом центре Города находятся другие враги, и тайно от них мы даже ничего не можем ни подготовить, ни обсудить. Тем более нам надо торопиться. В таких условиях нам нельзя терять ни минуты. Поэтому предлагаю: так как вследствие нечестивого замысла некоторых преступных граждан государство оказалось в крайней опасности и так как они, изобличенные показаниями Тита Вольтурция и послов аллоброгов, сознались в том, что готовили против своих сограждан и отечества резню, поджоги и другие злодеяния, сознавшихся в этих гнусных намерениях, как схваченных с поличным на месте преступления, надлежит незамедлительно казнить по обычаю предков». Мнение Катона возобладало в сенате. Тотчас виновных под стражей отвели в Мамертинскую тюрьму, где они были задушены рукою палача. В то время как в Риме предавали казни его сторонников, Катилина прилагал последние усилия, формируя и укрепляя свои легионы. Он не хотел принимать в их ряды рабов из страха оттолкнуть от себя и своего дела всех родовитых и знатных, вступивших в заговор одними из первых. Недостатка в воинах он не испытывал, но почти все они были вооружены чем попало, кого как вооружил случай: одни носили дротики или копья, другие — заостренные колья. Лишь четвертая часть войска Катилины, по численности достигавшего количества двух легионов, была снабжена настоящим оружием римских легионеров. Но когда Антоний, коллега Цицерона по консульству, стал приближаться со своими войсками, Катилина, желая избежать сражения, двинулся по горам то в сторону Города, то в сторону Галлии, не давая врагам сражения: он надеялся, что вскоре в его распоряжении будут крупные силы, если в Риме заговорщики осуществят свои намерения. Когда же в его лагере узнали, что в Риме заговор уже раскрыт, что Лентул, Цетег и другие заговорщики казнены, большинство солдат Катилины, которых на путь войны толкнула надежда на грабежи и страсть к перевороту, стали разбегаться и лишь немногих оставшихся он большими и очень утомительными переходами перевел через труднодоступные горы в районы Пистории, намереваясь затем тайными тропами незаметно уйти в Трансальпийскую Галлию, однако не смог осуществить этого плана, поскольку Квинт Метелл Целер с тремя легионами преградил ему дорогу в Пиценской области. Оказавшись в отчаянном положении, Катилина рассудил за лучшее и более достойное искать спасения в битве, от исхода которой теперь зависела судьба его самого и всех бывших с ним людей. Собрав все свое небольшое войско, он произнес перед ним речь: «Мне хорошо известно, солдаты, что слова не прибавляют доблести, а трусы не делаются героями под влиянием речей полководца. Какая отвага свойственна каждому из нас от природы и воспитания, та и будет проявлена им на войне! Кого не воодушевляют ни слава, ни опасность, того и уговаривать бесполезно. Но сейчас я созвал вас для того, чтобы дать несколько наставлений и объяснить причины принятого мною решения. Вы, воины, знаете, какое огромное бедствие принесли нам и Лентулу его беспечность и трусость и почему я, ожидая подкреплений из Города, так и не смог повести вас в Галлию. Теперь все вы так же хорошо, как и я, понимаете, в каком отчаянном оказались мы положении. Два вражеских войска, одно со стороны Рима, другое со стороны Галлии, преградили нам дорогу. Находиться в этой местности, даже если бы мы очень этого желали, не позволяет нам недостаток зерна и других припасов. Куда бы мы ни пожелали направиться, нам всюду придется пролагать себе путь мечом. Поэтому призываю вас быть храбрыми и решительными и, вступив в бой, помнить: богатство, почести и слава — в ваших руках. Если мы победим, нам достанется все. Продовольствия будет в изобилии, муниципии и колонии откроют перед нами ворота. Если мы в страхе отступим, это обернется против нас, и ничто — ни местность, ни друг, ни брат не защитят того, кого не защитило его собственное оружие. Проиграем — и нас ждет смерть, которая, безусловно, предпочтительнее любого позорного бегства. Знайте же, воины, противник наш сейчас находится в гораздо более выгодном положении, чем мы: мы боремся за отечество, за свободу, за жизнь, для них же нет никакой необходимости сражаться за тех немногих, что захватили власть в Риме. Тем смелее, решительнее, отважнее нападайте, помня о своей прежней доблести. Искать спасения в бегстве, бросив оружие, защищающее сейчас наше тело, — подлинное безумие, ибо в сражении наибольшая опасность грозит именно тому, кто больше всего боится смерти. Отвага же всегда заменяет доблестному и смелому крепостную стену. Когда я смотрю на вас, воины, то думаю о ваших подвигах, и меня охватывает великая надежда на победу. Ваше присутствие духа, молодость, доблесть воодушевляют меня, да к тому же и сознание неизбежной судьбы даже трусов делает храбрыми. Ведь враг, несмотря на свое численное преимущество, окружить нас не может: ему для этого не достанет места. Но пусть даже, во что я не верю и о чем даже не хочу думать, — ваша доблесть не устоит перед Фортуной, пусть гак, все же не позволяйте врагам с легкостью нанести вам поражение и перебить, сражайтесь, как подобает мужчинам. Если же враги все-таки одержат над вами победу, пусть для них она будет кровавой и горестной». Сказав это, Катилина велит дать сигнал к бою и выводит войско на равнину, расположенную между горами, среди отвесных скал. Затем он спешивает всех всадников с лошадей и расставляет войско сообразно с местностью. Правое крыло он поручает Манлию, левое — некоему фезуланцу; сам же вместе со своими вольноотпущенниками и старыми лично ему преданными сулланцами, ветеранами и их слугами, и конюхами становится в самом центре рядом с орлом, символом легиона, по преданию за много лет до того находившимся в войске Гая Мария во время его войны с кимврами. В рядах противника Гай Антоний, который должен был атаковать катилинариев, но не смог этого сделать из-за жестокого приступа подагры, вверил командование своему легату Марку Пет-рею. Тот выдвинул вперед когорты ветеранов, которые были призваны ввиду угрожающего положения, а за ними поставил все остальное войско. Марк Петрей был заслуженным военачальником, тридцать лет не расстававшимся с мечом и щитом. Ему пришлось пройти все ступени воинской службы, испытать на себе все воинские звания римской армии, и потому он пользовался заслуженным авторитетом среди воинов. Большую часть их он знал лично, поэтому, объезжая ряды, он обращался к каждому солдату по имени, ободряя и напоминая, что им предстоит с вооруженными разбойниками сражаться за отечество, за своих детей, за алтари и очаги. Прослужив в войсках трибуном, префектом, легатом, претором, он не только знал в лицо большинство солдат, но и их подвиги, упоминая которые, он в очередной раз вселял в них мужество. Произведя смотр, Петрей велел дать сигнал трубой, и когорты медленно пошли навстречу друг другу, сблизившись так, чтобы легковооруженные могли завязать сражение; противники с яростными криками сошлись в рукопашной схватке. Воины сломали копья о щиты и панцири врагов и перешли на мечи. В это время Катилина с легковооруженным бился в первых рядах, поддерживал и убеждал колеблющихся, помогал заменять раненых бойцов свежими, заботился буквально обо всем, зачастую бился сам, очень часто поражал врага. Он был одновременно и стойким солдатом и доблестным полководцем. Петрей, видя, что сторонники Катилины вопреки ожиданиям яростно и успешно сопротивляются, бросил преторскую когорту, состоявшую из отборных бойцов, против центра вражеского строя и перебил солдат, беспорядочно и в разных местах дававших в одиночку героический отпор. Затем он напал на основную сплоченную, но поредевшую массу воинов Катилины с флангов. Манлий и неизвестный фезуланец пали, сражаясь в первых рядах, не отступив ни на шаг. Заметив, что его войско рассеяно и он остался с кучкой солдат, Катилина, помня о своем высоком происхождении и славе своего рода, бросился в самую гущу врагов и пал в жестокой схватке. Только когда битва завершилась, можно было увидеть, сколь велики были отвага и мужество в войске Катилины. Едва ли не каждый павший катилинарий, испустив дух, лежал на том месте, какое занял в начале сражения. Несколько человек в центре, которых рассеяла и истребила преторская когорта, лежали чуть поодаль, все, однако, раненные в грудь. Самого Катилину нашли далеко от его солдат, среди трупов врагов. Он еще дышал, и его лицо сохраняло печать той же неукротимости духа, которой человек этот был славен при жизни. Из всего войска катилинариев ни один полноправный гражданин не был взят в плен, так мало щадили они жизнь — как свою, так и неприятеля. И эта победа, одержанная войском римского народа над римлянами, не была ни радостной, ни бескровной, ибо все самые стойкие бойцы либо пали, либо остались на поле боя тяжело раненными. Многие воины, вышедшие из лагеря осмотреть поле боя, находили, переворачивая многочисленные тела врагов, один — близкого друга, другой —’ гостеприимца или родственника, а некоторые узнавали и своих недругов, с которыми бились в этом ужасном и братоубийственном сражении. Так в этот скорбный день все войско испытывало смешанные чувства — ликование перемежалось со скорбью, а горе затмевало радость победы. Да, в жестоком сражении Республика потеряла многих своих сыновей. Но сколь ни велико было кровопролитие, оно уберегло Рим от пламени губительных и страшных пожаров и жуткого кровавого потока, могущего затопить собою не только весь Город, но и всю Италию. Трудно даже представить себе, до каких пределов могла дойти ярость негодяев, мечтавших о восстановлении собственного благополучия на руинах своей страны и крови своих соотечественников. Благоразумие и бдительность Цицерона спасли республику от тяжкой опасности. Однако римляне были не слишком признательны ему за это, так что короткое время спустя изгнание стало единственным ощутимым вознаграждением великодушному и благородному консулу. Родственники и друзья заговорщиков нашли средство возбудить к нему в народе подозрительность, сплетя вокруг отважного консула паутину интриг, жертвой которых он пал. Однако вскоре Рим был наказан за свою неблагодарность: столица мира в Цезаре нашла того дурного гражданина, который, оказавшись много счастливее Катилины, разрушил здание общественной свободы и стал тираном собственного отечества.
ГЛАВА 3
ЗАГОВОР ЦИННЫ
ПРОТИВ ИМПЕРАТОРА АВГУСТА[6]


Место действия — Рим. Время действия — 4 год н. э. год 757 от основания Города
Рим, избежавший ярости Катилины, вскоре принужден был защищаться от происков другого гражданина, быть может, менее порочного, но во всяком случае столь же честолюбивого и во много раз более опытного в искусстве войны. Я говорю о Гае Юлии Цезаре. Он начал с покорения других народов, бывших врагами Республики, а кончил покорением и уничтожением ее самой. Победа, одержанная им при Фарсале, вознесла его высоко надо всеми римлянами, и народ, столь ревниво относящийся к своей свободе, принужден был подчиниться единовластию этого человека. Верно, конечно, и то, что Цезарь сумел повести дела так, чтобы тяжесть нового ига народ Рима почти не почувствовал. Он сумел завоевать расположение своих сограждан силою многих прекрасных благодеяний, и все-таки не все римляне смирились с его властью, и лучшие друзья и спутники убили его на глазах у потрясенного Сената. Увы, смерть тирана не восстановила спокойствия. Высшая власть перешла в руки Антония, а чуть позже была разделена им с Августом и Лепидом. Последний не обладал качествами, необходимыми, чтобы удержаться на посту, на который возвела его судьба, и был принужден впоследствии отказаться от своих претензий на верховное владычество, в то время как два других всеми силами оспаривали друг у друга пальму первенства. Марк Антоний как никто другой после Цезаря был наделен способностью и желанием довершить разрушение Республики и упрочение единовластия. Незаурядное полководческое дарование, доверие к нему войска, давняя дружба с Гаем Юлием Цезарем, память которого была очень дорога солдатам, — все это давало ему огромное преимущество перед соперником, однако роковая страсть привела его к несчастью — из-за своей пламенной, безумной любви к Клеопатре он потерял все, даже саму жизнь. Из претендующих на высшую власть в Римском государстве не осталось никого, кроме Октавиана Августа. Он возвысился скорее хитростью и интригой, чем мужеством, и сумел в конечном счете утвердить свое единовластие над народом, столько раз успешно сражавшимся за свою свободу. Немало пролилось крови, прежде чем новый император сумел укрепить свою власть. Казалось, в Риме не осталось семьи, не оплакивающей смерти кого-либо из близких или друзей. Во время проскрипций нередки были случаи леденящей кровь жестокости. Были забыты и на время угасли все дружеские или родственные чувства. Известны были примеры, когда дети убивали родителей ради вознаграждения. Подобные злодеяния обещали в недалеком будущем пришествие царства зла. И вместе с тем даже в самые благословенные времена Республики Рим не был так счастлив, как во времена правления Августа. Этот принцепс, будучи поначалу бичом своей родины, стал в один прекрасный день ее подлинным благодетелем. Цезарь не ограничился верховной властью, ему требовались и явно бросающиеся в глаза внешние признаки и атрибуты ее. Монархия была его заветной мечтой, и эта мечта стоила ему жизни. Август, более осторожный и благоразумный, чем его предшественник, сумел с гораздо большим успехом избежать прямого оскорбления чувств римлян, не приняв титула царя, но в действительности добившись всей полноты царской власти. Он взошел на царский трон постепенно, шаг за шагом, сумев мало-помалу объединить в своих руках гражданскую, религиозную и военную власть, а между тем при всяком удобном случае он стремился продемонстрировать народу свое глубокое почтение, показывая себя самым сдержанным, скромным и простым гражданином республики. Однако римляне чувствовали, что отныне у них есть хозяин, и утрата старинной свободы время от времени вырывала из их груди вздохи глубоко затаенной скорби. Рим все порождал в своей среде отважных граждан, которые по примеру Брута и Кассия горели желанием разделаться с тираном, Цепион, Мурена и юный Лепид, исполнив это рискованное предприятие, ничего не добились, но из всех заговоров, когда-либо замышлявшихся на жизнь императора Августа, самым важным и самым серьезным был заговор, инициатором и главой которого стал Гней Корнелий Цинна. Поведение императора в отношении заговорщиков навсегда избавило его от повторения подобных попыток в будущем. На этом историческом примере легко будет убедиться в том, что жестокость не всегда служит надежным средством для удержания подданных в повиновении. Дочь Помпея Великого была матерью Корнелия Цинны[7], и уже по одному этому он не мог благоволить к тирании. С младенчества воспитывался он в духе глубокого уважения к канувшим в прошлое республиканским свободам и к теням великих римлян, павших за дело свободы, и не мог не взирать на Цезаря как на губителя своей семьи. То же чувство испытывал молодой Корнелий и к Октавиану Августу, хорошо понимая, что показные умеренность и скромность того лишь вернее способствуют обращению римлян в покорных и бессловесных рабов тирана. Настойчивые просьбы матери прославить себя и свой род каким-либо героическим поступком, в дальнейшем позволяющим занять место узурпатора и тирана, были основными причинами, побудившими Цинну устроить заговор против Августа. Дело было за малым, следовало лишь надлежащим образом организовать опасное предприятие. Молодой римлянин не обладал качествами, необходимыми для осуществления подобного дела. Он не отличался никакими великими достоинствами и смог войти в историю, лишь предоставив Августу возможность в данном случае продемонстрировать свое милосердие. Цинна довольно скоро нашел средство объединить вокруг себя группу единомышленников, с которыми проводил тайные совещания, излагая на них свой план с тою же прямотою и презрением к намеченной жертве, что и много лет назад убийцы Цезаря. Было условлено время и место и решено, что убийство императора произойдет на Капитолии во время принесения им жертвоприношений. Август незамедлительно был осведомлен о заговоре и уже на следующий день собрал на совет всех ближайших друзей. Ему нужно было решить, каких мер держаться в отношении Цинны и других заговорщиков. Если даже законные монархи подчас испытывают страх за свою жизнь и власть, то что должен был испытывать принцепс, довольно давно наслаждавшийся властью узурпированной, захваченной откровенным насилием? Август видел себя уже властителем мира и все-таки не был счастлив. Он вынужден был всегда опасаться за свою жизнь, подчас завидуя участи простых смертных, незаметное и скромное общественное положение которых всегда гарантировало им счастье спокойной жизни, о которой даже не мечтал император. Мысль эта подчас будила в нем страстное желание отречься от престола, дав тем самым всему миру пример истинной умеренности и благородства. Именно в тот момент, когда встал вопрос о проведении следствия и судебного процесса по делу Цинны, Октавиан Август понял, сколь плачевно и достойно сожаления положение узурпатора и тирана, погубившего свободу своего отечества. Речь шла о том, чтобы предать смерти человека самого благородного происхождения, которого нельзя было обвинить ни в чем ином, кроме горячего желания лишить жизни правителя, которого все римляне должны были считать не иначе как тираном. Однако в любом случае императору следовало вершить правосудие, а он, как никто другой, хорошо знал, что добился власти беззаконными средствами. В чем же в таком случае был виноват Цинна? В том, что он готовил справедливое отмщение погубителю своей семьи, хотел поднять руку на человека, свергнувшего Республику и не имевшего другого права властвовать, кроме права, дарованного ему силой оружия и открытым насилием. Имел ли Август право и привилегию губить граждан ради удовлетворения своих амбиций или под влиянием чувства мести? Таковы были горькие размышления императора. Он больше уже не был тем Августом, который в былые годы за обеденным столом развлекался тем, что диктовал секретарям приговоры, обрекавшие людей на смерть! Сейчас он думал иначе: «Доколе же придется мне приносить в жертву собственной безопасности новых и новых представителей самых славных и известных римских семей? Неужели я и дальше с целью сохранения в моих руках верховной власти буду прибегать к средствам, с помощью которых добился ее? Хватит делать в глазах народа ненавистными принципы моего правления. Что ж, если моя смерть столь желанна такому большому числу римских граждан, что они уже приносят за нее обеты в храмах и молят бессмертных богов даровать им избавление от тирана, зачем медлить и тем лишать их столь выстраданного и заслуженного удовлетворения, о котором они так мечтают? Первые из римлян хотят лишить меня жизни; и чтобы помешать им в осуществлении задуманного плана, следовало бы уничтожить всю аристократическую молодежь Рима. Но жизнь Августа не такая уж великая ценность, чтобы приносить ради нее подобные жертвы. Сколь мудр был Сулла, отказавшийся от верховного владычества. И почему бы мне не последовать его примеру? Стоит ли мне сегодня страшиться козней Цинны, неблагодарного, осыпанного мною всевозможными благодеяниями. Да как же посмел он дойти до такой крайней степени неблагодарности: и я еще оставляю его жить в полном покое!.. Неужели я вышел невредимым из стольких битв только затем, чтобы пасть под ударами шайки убийц? Не станем и мы щадить тех, кто тайно готовит нам гибель! Под властью более сурового властелина в большей степени расположенного скорее карать, чем щадить, никому не пришло бы в голову задумывать подобные планы. Трепещи, Цинна, Август готовится выказать свою былую ярость». Слова эти, услышанные Ливией, супругой Августа, заставили ее заключить, что речь идет о новом заговоре. Императрица не могла без содрогания слышать эти мысли, произнесенные вслух. Речи супруга необычайно ее взволновали, ибо ей первой стало известно о тайном намерении мужа отречься от престола, и властная и честолюбивая женщина, вовсе не желавшая вновь снизойти до положения римской простолюдинки, решила позаботиться о своем будущем и о будущем своего сына от первого брака[8]. Видя, что супруг ее пребывает в нерешительности, она, выбрав удобный момент, обратилась к нему с речью. «Государь, — сказала она, — подлинные причины вашего настроения мне хорошо известны, хотя вы и стараетесь их скрыть. Но неужели я могу оставаться равнодушной к тому, что волнует вас, далекой от ваших тревог и забот? Я хорошо вижу, в каком подавленном вы пребываете состоянии. Неужели какой-то Цинна вызвал в вас такие сильные страхи? Разве не оберегает ваш покой верная стража и, даже если бы нашлись люди, готовые совершить на вас покушение, разве не защитят вас преданные вам войска? Угодно ли вам выслушать совет женщины? Я страшусь одного, не раскаетесь ли вы в последствиях вашего сегодняшнего малодушия? Август, до сих пор ни одно из покушений на вашу жизнь не увенчалось успехом — они все были отомщены — преступники понесли суровое наказание. Но к чему, к какому результату привела однажды пролитая кровь? Один преступный заговор, угаснув со смертью его творцов, служил, так сказать, семенем для нового. Суровость была бесполезна. Воспользуйтесь же отныне милосердием. Уподобьтесь врачу, который, напрасно прибегнув к средствам насильственным и жестоким, вслед за ними принужден употреблять для исцеления больного средства мягкие и сладостные для исстрадавшегося тела. Простите Цинну, быть может,будет гораздо выгоднее привязать его милостью, чем пытаться сломить наказанием, которое он и в самом деле заслужил». Августу совет пришелся по душе, тем более, что и сам склонялся к такому решению проблемы. Он велел вызвать Цинну и, оставшись с ним наедине, произнес речь приблизительно следующего содержания: «Послушай меня, Цинна, и воздержись от того, чтобы перебивать, прежде чем я завершу свою речь. Еще во времена гражданской войны ты боролся против меня с оружием в руках, и одного этого было достаточно, чтобы поступить с тобой, как со злейшим врагом. Но я восстановил тебя в правах наследования имуществом твоего деда, и состояние твое сегодня столь велико, что внушает зависть даже тем, кому я обязан самой искренней и глубокой признательностью. Ты желал добиться высокого жреческого сана, и я тотчас предоставил его тебе, хотя весьма многим был обязан другим соискателям, твоим противникам. Такого поведения придерживался я всегда в отношении тебя; и после стольких благодеяний ты хочешь меня убить!» «Я, государь?!» — воскликнул Цинна. «Да, ты, — продолжал Август, — но ты нарушил мое повеление хранить молчание: слушай же меня внимательно. Мне хорошо известны все твои сообщники, знаю я и о приготовлениях, предпринятых тобой с целью лишить меня жизни. В храме во время церемонии торжественного жертвоприношения вы решили меня убить. Что такое?!.. Ты изумлен, растерян? Ты изменился в лице? Не можешь скрыть своего преступления? Но по какой причине дошел ты до такой низости? Может быть, потому, что возмечтал занять мое место? Конечно, римляне заслуживают сострадания, если такой, как ты, собирается пробраться наверх. И в самом деле! Ты, не способный даже управлять делами своего дома и собственной семьи, хочешь править миром? И ты полагаешь, что такого правителя потерпят римляне, во много раз превосходящие тебя достоинством и талантами? Не отвечай, Цинна, тебе все равно нечего мне сказать. И не жди от меня столь горячо желаемого тобой смертного приговора. Сейчас я намерен тебя наказать способом, гораздо более достойным моего имени и звания. Я прощаю тебя и не требую другой благодарности, кроме твоей дружбы. Если у тебя великодушное сердце, лучшего наказания, чем новые благодеяния, я не смогу подобрать. И знай, чтобы слова мои вполне согласовались с моими чувствами, я поступлю так: назначу тебя консулом следующего года». После такого завершения дела Цинна почувствовал, что вся ненависть, какую он испытывал к Августу, угасает. Из тайного врага он стал явным и преданным другом принцепса, которому дважды был обязан жизнью[9]; и Август этим актом милосердия завершил завоевание душ знатных и простых римлян, так что после этого случая никто уже не замышлял против него никаких заговоров.
ГЛАВА 4
ЗАГОВОР СЕЯНА, СОСТАВЛЕННЫЙ С ЦЕЛЬЮ СВЕРЖЕНИЯ ИМПЕРАТОРА ТИБЕРИЯ, НАСЛЕДОВАВШЕГО ОКТАВИАНУ АВГУСТУ


Место действия — Рим, остров Капри, Италия. Время действия — 31 год н. э.[10]
Подчас бывает весьма опасным для верховного правителя делать своих министров слишком могущественными. И императору Тиберию, вступившему на престол по смерти императора Августа, выпало на долю убедиться на собственном опыте в справедливости этой истины. Да и кто бы поверил, что принцепс, столь опытный в делах правления и ревнивый ко всему, что касалось его власти и авторитета, мог слепо довериться фавориту и даже в каком-то смысле разделить с ним верховную власть. Пришло нам время узнать о том, как же повел себя Тиберий в отношении коварного Сеяна. Но прежде чем приступить к описанию заговора, следует познакомиться поближе с главою всего дела, а также с тем, кто должен был стать его жертвой. Разом нарисуем портреты двух людей, нравы которых делали их похожими друг на друга. И тот, и другой были очень умны, и оба обращали ум свой во зло. Не было того, кто мог сравниться с ними в искусстве притворяться, никого, кто так ловко сумел бы скрывать одни и те же пороки за личиной весьма сходных добродетелей. Император всегда казался задумчивым и погруженным в себя; фаворит же был всегда серьезен и рассудителен, но такая внешность скрывала в глубине их душ замыслы самые черные и беззаконные. Первый, прежде чем добиться власти, умел приноравливать свой характер к самым различным обстоятельствам; так же поднялся наверх и вошел в доверие к государю и второй. Оба жестокие и кровожадные, они подчас умели продемонстрировать видимую умеренность и милосердие. Оба обладали всеми качествами, необходимыми, чтобы управлять государством и стать постепенно, именно в силу этого, подлинными бичами огромной Империи. Можно было подумать, что сама судьба дала Тиберию Сеяна, словно находя обоих необыкновенно похожими и достойными друг друга и тем самым желая произвести невиданный доселе эффект. Однако, хотя сходство характеров и может на некоторое время объединить двух отпетых негодяев, но подобный союз, основанный на общности вины и преступления, никогда не бывает прочным. И история, которую мы намерены рассказать, послужит тому ярким примером. Этот заговор по самой сути своей и отдаленно не напоминал те бурные, опасные и яростные заговоры, которые обнаруживали и проявляли себя в войнах, пожарах, грабежах и насилии. Здесь нам предстоит столкнуться с примером политической хитрости и интриги, которые в деле исполнения тех или иных тайных проектов всегда много более эффективны, чем явное и прямое насилие и кровопролитные сражения. Приступим же к рассмотрению сути дела. Сеян, столь известный истории как своим чудесным возвышением, так и своим трагическим концом, происходил из маленького тосканского города Вольсиний и родился в семье простого римского всадника Сейя Страбона. Человек столь невысокого происхождения должен был в сильнейшей мере желать восхождения наверх, чтобы в один прекрасный день увидеть себя вторым по значению человеком в империи после принцепса. Но честолюбивый министр метил гораздо выше и решил занять трон цезарей, чего не мог добиться иначе, чем посредством уничтожения всего императорского семейства. Исполнение столь дерзкого плана было нелегко: у Тиберия был сын и несколько маленьких внучатых племянников. Эти последние были детьми его брата Германика, человека действительно великой души и прекрасных способностей, преждевременная смерть которого породила множество кривотолков. Поговаривали, что Германии был отравлен по тайному приказанию Тиберия. Так или иначе, но у Германика оставался сын, усыновленный вскоре (обычная процедура в императорских семьях Древнего Рима) императором. Одним словом, именно эти многочисленные наследники могли претендовать на императорский трон, но все эти препятствия ни в малейшей степени не могли остановить Сеяна, который уже давно вынашивал в груди преступный замысел и приступил к плетению интриги с неимоверной ловкостью и осторожностью, делавшими его малопохожим на заговорщиков других времен. Опасаясь, как бы его тайные уловки не были раскрыты ранее намеченного времени, он принял все необходимые меры предосторожности, должные предохранить его от нелепых случайностей, которыми обычно столь богата окружающая нас жизнь. Должность префекта преторианской гвардии, которою он обладал, давала ему в действительности весьма мало реальной власти и влияния, поскольку войска, находившиеся под его непосредственным командованием, были разбросаны по разным районам и кварталам Рима и даже квартировались в близлежащих к Риму городах. Следовательно, речь шла об объединении всех этих солдат, создание из них его личной охраны, сопровождающей префекта претория внутри города и за его пределами и в любой момент готовой, если потребуется, пожертвовать ради него своей кровью и жизнью. Хитрый фаворит императора доложил своему повелителю, что десять преторианских когорт могут быть необычайно полезны лишь в том случае, если в них будет установлена самая суровая воинская дисциплина. Но, прибавил он, если их не свести воедино и не объединить, разместив в общих казармах, ничего путного не выйдет — солдаты продолжат на свободе предаваться всем наслаждениям и порокам города. Тиберий, несмотря на всю свою изощренность в вопросах интриги, не усмотрел в этом предложении никакого подвоха и вполне благосклонно отнесся к предложению своего министра, а тот, не упуская времени и воспользовавшись случаем, ему представившимся, тотчас начал завоевывать расположение солдат то увеличением преторианского жалованья, то частыми подарками, пирами и угощениями за свой счет. Сделав тем самым первый шаг на пути к наивысшему могуществу, Сеян вознамерился преодолеть и другие трудности, стоявшие на его пути и препятствующие стремительному восхождению на-верх. Прежде всего ему требовалось удалить от трона того молодого человека, который и имел, собственно, все права на императорскую корону. Я говорю о Друзе, единственном сыне Тиберия; и поскольку порядок наследования еще не был установлен, было вполне вероятно, что римляне, не желая искать другого наследника, доверят власть самому ближайшему прямому и непосредственному наследнику императора. Друз уже успел завоевать расположение народа тем, как вел себя во время своего консульства. Однако правдой было и то, что его можно было упрекнуть в некоторой резкости, вспыльчивости, даже необузданности и огромной склонности к распутству. Пороки эти приписывали возрасту, целиком полагаясь на природную доброту его сердца, проявленную юношей на множестве ярких примеров. Друз был близок с Германиком, которого Тиберий в свое время усыновил и объявил своим наследником. Подобное предпочтение должно было вызвать ревность и вражду между двумя молодыми принцепсами[11], поскольку никто не станет спокойно наблюдать, как его лишают надежды на корону. И все же Друз в итоге не высказал ни малейшего неудовольствия, напротив, он первый отдал должное Германику, открыто признав в нем человека, бесконечно превосходящего его самого умом и характером. Казалось, он даже был счастлив тем, что римляне наконец насладятся владычеством такого достойного и добродетельного принцепса, и после безвременной кончины Германика горько оплакивал смерть брата, оставившего теперь и ему надежду однажды овладеть огромнейшим наследством. Столь благородные чувства делали Друза достойным власти. Не мог юный и великодушный принцепс подпасть под влияние Сеяна, которому не раз и придворными и самим Тиберием давалось понять, что не подобает выходцу из провинциальной Тосканы равняться с сыном императора. Увы, надменный фаворит никому не позволял оскорблять себя безнаказанно. Смерть Друза была предрешена. Погубив юношу, Сеян разом удовлетворял как свои амбиции, так и чувство мести. Речь шла лишь о том, чтобы как можно осторожней и аккуратней избавиться от наследника престола. Поэтому убийцу, исполнителя замысла, Сеян нашел в доме самого Друза. На свою беду сын Тиберия был женат на Ливилле, сестре Германика. Женщина эта отличалась редкой красотой. Но как часто внешность не имеет ничего общего с подлинными свойствами души человека. Сеян, которому, разумеется, был хорошо известен характер Ливиллы, решил вовлечь ее в свое дело, сделав исполнительницей и соучастницей его бесчинств: он притворился, а может, и в самом деле загорелся к ней самой пылкой и нежной страстью. Признание в любви было выслушано благосклонно, и когда Сеян заручился доказательствами ее взаимности, он обещал жениться на ней и вместе с собой возвести на престол. «Но есть одно маленькое обстоятельство, которое препятствует нашему союзу, — сказал он своей возлюбленной, — если вы примете мое предложение, Друз должен будет умереть. Выбирайте же между мужем и любовником». Теперь стало ясно, на что способна женщина, ослепленная страстью. Ливилла без всяких колебаний готова была принести в жертву свое доброе имя, славу и интересы семьи. Более того, рискуя покрыть себя вечным, несмываемым позором, она должна была полагаться на лживые обещания коварного интригана, практически ничего не получая взамен. Друз должен был в скором времени стать императором, а Сеян мог лишиться жизни в результате подобных замыслов. Гораздо надежней и достойней для Ливиллы было взойти на престол честным путем, нежели устремляться к нему через пропасти преступления. Однако любовь победила разум. «Я готова совершить, что угодно, — отвечала женщина своему соблазнителю, — но требую от вас клятвы: поклянитесь же, что и вы во имя упрочения нашего союза разведетесь со своей женой, навсегда став моим». Сеян согласился и на это, и чтобы достойно вознаградить его за любовную привязанность, Ливилла обещала не допустить, чтобы несчастный Друз слишком долго оставался на этом свете. Вместе с тем, когда пришло время приступать к исполнению задуманного, она не выказала ни решимости, ни быстроты, которых можно было ожидать от страстно влюбленной женщины. Запятнать свои руки кровью супруга, отнять трон у семейства Цезарей и, быть может, подвергнуться угрозе жестокого наказания и праведного осуждения и гнева всего народа Рима в случае неудачи — вот мысли, которые приходили ей в голову, заставляя пребывать в нерешительности и бездействии, которые не могла превозмочь вся сила ее страсти. Сеян удвоил посещения Ливиллы с целью вынудить ее исполнить обещанное, и это вскоре стало заметно Друзу, теперь имевшему все основания несколько раз грубо говорить с Сеяном, который пожелал тотчас же отомстить. Через несколько дней, тайно увидевшись с Ливиллой, он прямо сказал ей, что все открыто, что мужу ее обо всем известно и дальнейшие колебания не только бесполезны, но, главное, очень опасны; и та, более не колеблясь, приступила к делу. Сеяну был представлен греческий медик по имени Евдем, поверенный тайн как самой Ливиллы, так и всего семейства Цезаря. Ему было велено приготовить яд, способный вызвать длительную болезнь, неминуемо ведущую к смерти. Когда питье было готово, евнух Лигид поднес его своему хозяину, который умер несколько дней спустя. Казалось, что на Тиберия не произвело совершенно никакого впечатления это страшное событие. Но чтобы оправдать свое столь странное поведение, он появился в сенате и произнес речь приблизительно следующего содержания: «Без сомнения, все вы удивлены тем, что я, потрясенный горем, не заперся в стенах своего дворца, чтобы там предаться вволю охватившей меня скорби. Да, потрясенные горем обычно ищут утешения в одиночестве; однако в такой момент глава государства лишен свободы, которой наслаждаются простые граждане. И лишь в таком собрании, как ваше, отцы-сенаторы, он может найти утешение своему горю, ведь только ваши советы помогают ему переносить несчастья. О! До какой крайности я доведен несправедливой судьбой! Моя горячо любимая мать Ливия, чьи советы были всегда так мне полезны, оставила земные пределы. Нет больше моего сына Друза, а дети, которых он мне оставил, еще не способны нести на своих плечах тяжкое бремя государственной власти. Я старею, и если Парка не замедлит раньше времени прервать нить моей жизни, не знаю, смогут ли дети Германика стать моими наследниками. Вам, отцы-сенаторы, вручаю я этих юных принцепсов, возьмите же их под свою опеку, заботьтесь о них, служите им приемными отцами вместо родного отца. Это потомки Августа, отпрыски Августова древа, в них течет самая чистая римская кровь. Республика должна быть заинтересована в их сохранении. А вы, внуки мои, приблизьтесь. Вы видите вот этих почтенных сенаторов. Они будут вашими наставниками. Под их неусыпным надзором, под их постоянной опекой вы посвятите себя служению государству». С самого начала речь эта вызвала слезы на глазах у сенаторов, но вскоре они заметили, что речь Тиберия не во всем соответствовала его чувствам, и весь сенат так и остался при своем глубоком убеждении, что в действительности смерть сына совсем не тронула императора. И прежде чем добиться окончательного успеха в исполнении своих честолюбивых замыслов, Сеяну предстояло еще убить многих. Маленькие внуки Тиберия, Друз-младший и Нерон, дети Германика, были уже достаточно взрослыми, чтобы наследовать императору. Я не говорю о Гае, их брате, который потом вступит на престол, получив прозвище Калигула (Башмачок). Он был в это время слишком мал. Итак, родной сын Тиберия Тиберий Друз был мертв, и маленькие сыновья Германика были единственными, способными помешать осуществлению планов и надежд коварного Сеяна. Тот понял, что от них ему не так просто будет избавиться; ибо обоих охраняли слуги самой испытанной верности, а мать их Агриппину невозможно было соблазнить. Во всем достойная такого мужа, как Германии, она в течение всей жизни была верна ему и своим материнским обязанностям, в особенности после смерти супруга. Единственный упрек, который ей можно было сделать, заключался в излишней надменности и гордости этой добродетельной римлянки. И именно эти недостатки помогли Сеяну погубить ее. Коварный негодяй, он нашел способ поссорить ее с императором и его двором. Искусный фаворит представил Агриппину как женщину, необычайно любящую властвовать и стремящуюся заслужить любовь римлян лишь затем, чтобы тем вернее самой прийти к власти, возведя как можно скорее на престол своих детей. Более того, за поведением Агриппины все время наблюдали шпионы и добровольные подручные Сеяна, тут же доносившие ему обо всех ее поступках и словах. Желая задеть ее за живое, он затеял судебный процесс против Клавдии Пульхры, бывшей близкой подругой вдовы Германика. Когда Агриппина узнала, что несправедливый и беззаконный суд готовится против одной из ее лучших подруг, она отправилась прямо во дворец к императору, вошла в его покои и нашла там Тиберия, воскуряющего фимиам перед статуей божественного Августа. При виде всего этого Агриппина не смогла сдержать слез негодования: «По какой причине преследуется потомство того, кому воскуряется ныне фимиам и кто уже давно причислен к сонму богов? Почему же во мне не уважают кровь этого бога, которому обязана я своим рождением? Позволите ли вы Тиберию и дальше бессовестному клеветнику порочить доброе имя внучки Августа; ведь, нападая на Клавдию Пульхру, метят в меня. Ведь все ее преступления состоят лишь в ее сердечной дружбе с несчастной внучкой божественного Августа, и если вы хотите ее осудить, то именно я стану невольной причиной ее несчастья и опалы». Сердце всякого другого легко склонилось бы к милосердию перед подобными упреками, но только не сердце Тиберия, оно было вовсе не чувствительно к жалобам добродетельной женщины: «Вы в столь дурном расположении духа лишь потому, — сказал он Агриппине, — что не являетесь сами владычицей Империи». После неудачно закончившейся аудиенции процесс против Клавдии Пульхры продолжался, и эта римская матрона, ложно обвиненная в супружеской измене, была приговорена к обычному наказанию, назначаемому всем виновным в подобном преступлении. Агриппина проводила дни в слезах и безутешных жалобах. Подчас с губ ее срывались гневные упреки в адрес Тиберия и его министра, а тот торжествовал, видя, как знатная римлянка губит себя собственной неосторожностью. Каждый день в дом Сеяна поступали все новые жалобы на Агриппину и двух ее старших сыновей. Для рассмотрения их Сеян назначил всего лишь одного верного ему судью, а чтобы лучше замаскировать свои происки, он надел на себя личину самого полного и хладнокровного беспристрастия, даже оправдывая на людях поведение Агриппины и двух ее сыновей и тем вернее губя потомков Германика. Один из сыновей последнего, а именно Нерон, уже рассматривался как вполне вероятный преемник императора Тиберия. Его клиенты и вольноотпущенники постоянно твердили ему, что пришло время напомнить и заставить уважать свои права на престол, что ему будет очень просто захватить место немощного старика, уже давно ставшего противником всякой войны и погрязшего в одних лишь низких наслаждениях, и армия, мол, и сенат, и римский народ, все единодушно будут рады видеть юношу на троне, надо всего лишь проявить немного твердости и решимости, которые лишь украшают молодого правителя, а тем более человека, стремящегося претендовать на верховную власть. Речи эти произвели сильное впечатление на душу и сердце мальчика. Юный Нерон более не хотел медлить с исполнением того, что считал своим первейшим долгом, и ничего не скрывал от своей матери. Шпионы же, продолжавшие неотступно следить за ним, тотчас обо всем проинформировали императорский двор. Так своей неосторожностью оба, и мать и сын, вызвали гнев Тиберия. Прошло совсем немного времени, и Нерон понял, что находится в опале. Все верховные сановники правительства Тиберия и видные сенаторы старались его избегать, люди, любившие его прежде и горячо высказывавшие свою симпатию и расположение, умерили свой пыл, а то и вовсе куда-то исчезли. Такой поворот событий не мог не вызывать у юноши вздохов горького сожаления: судьба отвернулась от него. Юлия, дочь Друза и Ливиллы и его жена, тотчас известила об этом мать, а та в свою очередь обо всем сообщила Сеяну. Могущественный префект претория и вдова Друза получили подлинное удовольствие при виде того, как в душе юного принцепса медленно, но верно зарождается страх. Но Нерон был не единственной жертвой, которую Сеян хотел принести на алтарь собственного честолюбия. Оставались и другие наследники. И ведь и Друз-младший не стал бы спокойно наблюдать за тем, как императорский венец перейдет с головы законного наследника дома Цезарей на голову узурпатора. И так как второй юный сын Агриппины обладал характером гордым, пылким и решительным, ничего не стоило убедить его, что именно он должен претендовать на трон. Между братьями была посеяна вражда, а Сеяну оставалось лишь ждать, когда один из них погубит другого. Коварный министр безо всякой меры льстил Друзу и осыпал его ласками и дарами, постоянно повторяя одно и то же — что именно его, а не Нерона он считает наиболее достойным власти. Речи эти произвели свое действие, и Сеян уже готовился пожать плоды гнусной, варварской и преступной политики, как вдруг вмешательство Тиберия разом разрушило все его планы. Однако не станем опережать события. Всесильный министр, совершенно уверенный в том, что всецело владеет душою и телом своего господина, имел неосторожность просить руки Ливиллы, полагая, что теперь ему ни в чем не будет отказа. «Государь, — обратился он к Тиберию, — ваш предшественник Август, желая выдать замуж свою дочь, выбрал ей в мужья римского всадника. Если вы вознамеритесь дать супруга вдове Друза, удостоите ли вы своим взглядом человека, уже осыпанного вами всеми благодеяниями и, чтобы ему уже не о чем было мечтать, не смешаете ли его кровь со священной кровью семейства Цезарей? Что касается меня, то я не столько стремлюсь к выгодам этого родства, сколько к великой и прочной славе такого прекрасного союза. Честь всегда быть вблизи вас придаст мне новые силы для перенесения тяжкого бремени государственных дел и забот, на меня возложенных. Только тогда смогу я надежно обезопасить как своих собственных детей, так и детей Ливиллы от несправедливых домогательств Агриппины. Обезопасив же свою семью, я с радостью посвящу остаток своих дней служению моему благодетелю и господину». Такая просьба ни в коей мере не могла понравиться Тиберию. «Если бы с подобными речами ко мне обратился простой смертный, я бы не колебался, но человек, столь любимый мною, не должен был бы вынуждать меня давать ему отрицательный ответ. Ведь ему, как никому другому, известно, кем являюсь я в этом государстве. И все же я обязан ответить ему открыто и искренно, что думаю по поводу только что испрошенного у меня позволения. Хорошо ли знаете вы ту, чьей руки домогаетесь? Неужели вы думаете, что после моей смерти вдова Друза и в самом деле позволит наслаждаться всеми благами супружества вам, простому римскому всаднику? Нет… Полагаю, такое унижение лишь больнее уязвит ее гордость, и тогда какими словами, какими поступками сможете вы угасить гнев надменной патрицианки, принадлежащей происхождением своим к древнему императорскому семейству, считающей, если не ошибаюсь, именно вас разрушителем своего семейного счастья?!.. Вы говорите, что надеетесь найти в браке с Ли-виллой надежный оплот против Агриппины; но если ревность уже сейчас распаляет гневом сердца двух женщин, что произойдет тогда, когда ваш брак еще сильнее возбудит их взаимное недоверие? Полагаю, вы не хотите стать источником и причиной новых тревог и беспорядков в государстве, жертвой которых в первую очередь падете вы сами. Но боюсь, проиграл бы и я, уступив вашей просьбе, возбудив негодование многих римлян, намного превосходящих вас знатностью своего рода. Ваше стремительное восхождение к вершинам могущества вызвало бы жесточайшую зависть, а мне вменили бы в вину желание самых известных и родовитых из граждан поставить под власть человека низкого происхождения. Итак, Сеян, не требуйте от меня милости, могущей стать для вас роковой. Может быть, Август и дал в мужья своей дочери римского всадника, — были причины, вынуждавшие его желать зятя, не способного плести против своего тестя сеть дерзких интриг и заговоров. Но в конечном счете то же самое желание сейчас мешает мне, Сеян, уступить вашей настоятельной просьбе. Знайте, лишь самая нежная и искренняя любовь к вам вынуждает меня к этому. Однако я благодарю вас за усердие, проявленное вами в отношении меня на государственной службе, и позабочусь о том, чтобы и впредь ваша преданность не оставалась без достойного ее вознаграждения». Никогда не ожидал фаворит столь явного и решительного отказа, завуалированного к тому же столь льстивой речью. Он был близок к отчаянию, ибо понял, что сделал шаг, способный вызвать в душе такого проницательного и опытного в интригах принцепса, как Тиберий, самые тяжкие и серьезные подозрения. В течение нескольких дней страхи и сомнения попеременно терзали его, но, будучи от природы наделен духом беспокойным и умом коварным и изощренным, Сеян вскоре решил, что есть средство избавиться от императора. Тот и в самом деле быстро дряхлел, и груз забот государственной власти все сильнее и сильнее тяготил его старые плечи. Казалось, императору давно уже не доставляет ни малейшего удовлетворения постоянное связанное с бременем власти пребывание в Риме и он мечтает лишь о досуге и покое в кругу любимых его сердцу удовольствий. Сеян, тотчас поняв, какие выгоды сулят ему подобные настроения императора, посоветовал своему патрону удалиться в какое-нибудь уединенное и труднодоступное место, в котором тот мог бы начать жизнь, целиком согласную с его тайными склонностями и страстями. Тиберий воспользовался этим советом и не преминул последовать ему. Удалившись на остров Капри, он поселился там в окружении небольшого числа верных ему лиц. Именно отсюда теперь он управлял государством, предавая суду и смерти самых известных и именитых граждан Рима и Италии. Сеян же остался в Риме и нашел способ препятствовать тому, чтобы письма, отосланные императору и направленные против него, когда-либо попали в руки Тиберия. Таким образом, жестокий министр был волен совершенно безнаказанно творить любые угодные ему злодеяния. Очень скоро он был совершенно удовлетворен: ему удалось поймать в ловушку Агриппину. Эта несчастная матрона на свою беду доверилась некоторым коварным эмиссарам Сеяна, убедившим ее, что император задумал ее отравить. Сидя как-то за пиршественным столом подле Тиберия, Агриппина не прикоснулась к еде, поставленной перед ней по распоряжению принцепса. Заметив это, тот взял великолепное сочное яблоко и подал его Агриппине, при этом похвалив его чудный вкус. Та приняла яблоко из рук императора, но тотчас отдала рабу, прислуживающему гостям. Этого Тиберий уже снести не мог, в ярости он воскликнул: «У кого будет основание изумляться тому, что я должным образом поступаю с женщиной, считающей меня отравителем?!» Слова эти заставили весь Рим трепетать за судьбу вдовы и детей Германика. Случай, упомянутый мною, произошел прежде добровольного удаления Тиберия из Рима. А несколько месяцев спустя, поселившись на Капри, он написал сенату пространное письмо, в котором желчно и горько укорял Агриппину за нестерпимую надменность и неукротимую гордость и обвинял Нерона в самом позорном распутстве. Сенат был в затруднении, не зная, какое решение принять: желания и намерения императора были выражены недостаточно ясно, а потому и мнения сенаторов разделились. Народ толпился возле здания сената, пока слушалось это дело. Граждане, трепещущие за участь Агриппины и ее сына, обращались с мольбой к императору, полагая, что у того достанет ума и сострадания, чтобы не допустить гибели собственного семейства. Сенаторы не решили ничего. Сеян писал патрону, что его приказы остались невыполненными и преданы забвению, что в Риме слышатся крамольные речи и что последствия всего этого могут быть самыми серьезными. Тогда, понимая, что дело затягивается, Тиберий написал второе письмо, полное гневных угроз в адрес Агриппины. Он горько упрекал народ и сенат Рима за публичное оскорбление величия римского народа и его повелителя. Вместе с тем император опять ничем не выдал своего истинного намерения, ни словом не обмолвившись о желательном для него исходе дела. К сожалению, сейчас нам неизвестно в подробностях завершение этого злосчастного процесса. Известно только, что в следующем году Агриппина была сослана на остров Пандатерию, а Нерон и Друз объявлены врагами римского народа. Первого отправили в изгнание, второму тюрьмой служили поначалу апартаменты дворца, которые ему под страхом смерти запрещено было покидать. И мать, и ее опальные сыновья находились под строгим и неусыпным надзором стражи Тиберия. Эти несчастные окончили свою жизнь самым горестным, достойным жалости и сожаления образом: Нерон — на острове Понтии, лежащем у берегов Лация, а Друз — в подземелье Палатинского дворца. Предполагают, что Нерон был вынужден сам покончить с собой, когда якобы по воле сената к нему явился палач с петлей и крючьями и предложил избрать либо жестокую пытку и казнь либо добровольную смерть. Друза же голод и жестокое обращение (при полной изоляции несчастного от внешнего мира) измучили до такой степени, что он пытался грызть солому из своего тюфяка. Говорят, кости обоих, когда за ними пришли, были так разметаны, что их лишь с великим трудом удалось впоследствии собрать. Смерть Агриппины была не менее ужасна. Сосланная на остров Пандатерию, далеко от своих сыновей, она, подвергшись побоям центуриона, лишилась глаза. Тогда мученица решила умереть от голода, но по приказу императора ее кормили насильно, побоями раскрывая ей рот и таким образом вкладывая пищу. И даже когда она, упорствуя, погибла, император продолжал ее злобно преследовать: самый день ее рождения Тиберий велел отныне считать несчастливым, себе же в заслугу вменив даже то, что он не велел палачу задушить ее, а тело сбросить в Гемонии[12]. За подобное «милосердие» он принял от сената декрет с выражением благодарности и даже подношения в виде золотых чаш, помещенных им затем в храме Юпитера Капитолийского. Но мы немного отвлеклись в сторону от основного нашего повествования. Ведь и Агриппина, и Друз погибли вскоре после гибели Сеяна, источника их зол и творца их смерти. Лишь Нерон окончил свои дни волею судьбы прежде падения могущественного фаворита. Я сознательно немного опередил события, чтобы теперь всецело сосредоточиться на рассказе о последних месяцах жизни Сеяна[13]. Итак, последнему в буквальном смысле слова уже не о чем было молить богов — просто не оставалось конкурентов, способных оспаривать у него верховную власть над империей. Могущество и авторитет негодяя росли день ото дня, а вместе с ними возрастало и доверие к нему императора, которое престарелый тиран решил выказать вот каким образом: отныне в день рождения Сеяна должны были справляться и роскошные общественные игры, его фортуной и именем должны были произноситься клятвы, точно так же как делалось это именем и фортуной самого императора. Почти во всех районах города были воздвигнуты статуи нового полубога, пред которыми надлежало возносить мольбы и воскурять фимиам, а также приносить положенные в таких случаях жертвоприношения. Одним словом, фавориту не хватало лишь титула императора, чтобы сравняться буквально во всем со своим господином. Но Тиберий, эта старая змея с медленными, как сказал о нем Август, челюстями, наконец проснулся, открыл глаза и понял, что задумал против него столь могущественный слуга. Решение было принято мгновенно. Следовало действовать не только с немалой решительностью и неумолимостью, но и с не меньшей осторожностью. Врага, подобного Сеяну, нельзя пожелать никому, ведь он теперь уже не только знал и исполнял все замыслы и приказы правителя, но и сам от лица императора отдавал приказы, назначал и даровал должности и звания в государстве и армии. Тиберий даже сделал его своим коллегой по консульству, тем самым сделав Сеяна совершенно ненавистным подавляющему большинству римлян, потерявших из-за него самого и его ставленников возможность самим занимать почетные должности в государстве. Но так как именно это и было тайной и подлинной целью императора, теперь держащего все нити империи в своих руках, он продолжал охотно возлагать на всесильного министра исполнение самых жестоких и несправедливых распоряжений императорского двора — таким образом сознательно превращая фаворита в мишень для все возрастающей общественной ненависти. А Сеян рассматривал как лишнее подтверждение императорского доверия то, что было на самом деле всецело направлено на его скорейшую гибель. Хозяин обыгрывал зарвавшегося, обнаглевшего и совершенно ослепленного успехами слугу. Сладостные имена друга и коллеги, которыми наградил его Тиберий, лишь еще сильнее распалили гордое тщеславие министра. И подобно тем жертвам, которых украшают великолепными венками прежде чем убить, Сеян был возведен опытной рукой жестокого кукловода на самые вершины власти, могущества и славы лишь за тем, чтобы пожать плоды собственных трудов и низринуться в пучины глубочайшего позора и презрения. Конечно, до поры до времени не все замыслы Сеяна были известны старому Тиберию, но однажды он узнал о том, что теперь на его жизнь готовится покушение. Об этом сообщила ему Антония, мать Германика. Узнав об этом, император сначала хотел тотчас обрушить на фаворита свой гнев. Однако действовать таким образом против человека, имеющего в своем распоряжении преторианскую гвардию, было в высшей степени неосмотрительно. К тому же, сколь ни плох, несправедлив и гнусен был министр, все же он не мог не иметь верных сторонников и приверженцев как в армии, так и среди гражданского населения Рима и Италии. И если его ненавидели добродетельные граждане, то, уж конечно, любили и боготворили отпетые, а зачастую и подкупленные им негодяи. Более того, римляне, давно страдавшие под гнетом императора и префекта претория, с одинаковым безразличием должны были взирать на внезапную трагическую кончину одного из тиранов. Тиберий в глубине души не мог не сознавать, что не может ни в каком случае положиться на любовь своих сограждан. И именно поэтому он пожелал основательно прощупать, обдумать и взвесить настроение римлян, чтобы доподлинно узнать, насколько привязаны они к личности и «политическому гению» его министра. Для достижения своей цели он повел себя весьма хитро в отношении Сеяна. Иногда в присутствии придворных или прибывших из Рима сенаторов он услаждал их слух похвалами в его адрес, а иногда вдруг некоторое время спустя ругал и жестоко корил. Все ставленники фаворита как заочно, так и открыто испытывали на себе то же разнообразие мнений старика. И поначалу немногие, а потом все большее и большее число людей начинали подозревать Тиберия в неискренности, а главное, в том, что и с Сеяном он хочет, как по нотам, разыграть шутку, однажды уже сыгранную с Агриппиной. Заметил это и Сеян. И чувства, обуревавшие его, были весьма противоречивы: то считал себя совершенно и безвозвратно погибшим, то вновь окрылялся надеждой, забывая всякие страхи. Народ не понимал, что происходит, чьей стороны и какого мнения держаться в этом деле. В одинаковой мере казалось опасным ухаживать за фаворитом и оставлять его совсем без внимания. Тиберий мог с полным правом аплодировать успеху собственной хитрости. И пока время шло, и римляне колебались в нерешительности, не зная, что ж произойдет и можно ли доверять императору, тот нанес своему тайному сопернику неожиданный и смертельный удар и одним махом уничтожил человека, давно уже ставшего ему подозрительным и взошедшего к самым ступеням трона его по горам трупов. По своему обыкновению Тиберий написал сенату довольно пространное письмо, в первых строках которого ровно ничего не говорилось о Сеяне: речь шла о совершенно посторонних государственных делах. Потом было лишь несколько легких выпадов против министра, потом речь вновь шла о государственных делах. Так исподволь, страшась прежде времени спугнуть жертву, император в своем письме кругами ходил вокруг интересующего его предмета, то приближаясь к сути дела, то удаляясь от нее. Он то переходил к вещам посторонним, то незаметно возвращался к Сеяну, делая в адрес его не слишком последовательные, а тем более серьезные замечания. В конце концов, довольно неожиданно для всех присутствующих, прозвучал вывод, содержащийся в конце письма и заставивший всех вздрогнуть от изумленного недоумения и испуга: двух сенаторов, самых верных сторонников Сеяна, и его самого следовало (так гласило окончание послания императора) незамедлительно препроводить в тюрьму. Удар был нанесен. Но уже тогда, когда Тиберий диктовал на Капри послание сенату, он отправил специальные предписания обоим консулам, доставленные в Рим Невием Серторием Макроном[14]. Этот последний в награду за оказанную услугу и безусловную преданность был назначен командующим преторианской гвардии — префектом претория — взамен Сеяна и отбыл с Капри в Рим, к месту своего назначения, с подробным перечнем действий, которые ему надлежало совершить. И все же, несмотря на такие меры предосторожности, встревоженный Тиберий до конца не был уверен в благополучном завершении такого важного дела. Поэтому он повелел Макрону в случае открытого восстания в столице немедленно выпустить на свободу юного Друза, до сих пор заточенного в подвалах дворца, показать этого юношу в случае необходимости народу как будущего принцепса, судьба которого вдруг круто переменилась. Были срочно снаряжены триеры, на которые moi’ взойти вместе со своим двором император, в случае если бы его план провалился. В данном случае старец демонстрировал больше осторожности и предусмотрительности, чем отваги. Макрон, тайно явившись ночью в Рим, направился в дом к консулу Регулу и передал ему письменные приказы императора. А на следующее утро, направляясь в Палатинский дворец императора, он встретил Сеяна, казалось, весьма удивленного тем, что Макрон не привез ему никакого письма от Его Императорского величества. «Не удивляйтесь, друг мой, — отвечал на его расспросы Макрон, — и для вас найдутся у меня добрые новости. Тиберий горит желанием назначить вас своим коллегой по трибунату, почетнейшей и древнейшей должности в нашем государстве. Через мгновение весь Рим будет осведомлен о замыслах, которые принцепс взлелеял в отношении вас». И Сеян, окрыленный надеждой и преисполненный восторга, вошел в сенат. Макрон же тем временем, не тратя его понапрасну, объявил, что именно он отныне является командующим преторианцев, и приказал охране Сеяна удалиться, а всем преторианским когортам либо вернуться в лагерь, либо в обычном порядке несения службы, заняв свои посты, выполнять высший долг. Лишь затем появился он в собрании сенаторов. Письма Тиберия были вручены второму консулу и нескольким сенаторам, что и произвело ожидаемый Тиберием эффект. Ведь знай Сеян, к чему клонится дело и что его ожидает, он мог стремительно бежать из сената и легко смог бы возбудить в городе опасные беспорядки. Но поскольку обычные для ушей сенаторов жалобы Тиберия, все свои последние письма изливавшего в подобных стенаниях, касались вещей маловажных, никто, и в первую очередь сам Сеян, не обратил на них никакого внимания. Кроме того, всесильный министр, услышав то, чего всего более желал услышать — о своем назначении трибуном, — ни в малой степени не думал чего-либо опасаться со стороны своего господина. И такая уверенность стоила ему жизни. Едва последний, основной, пункт означенного письма был оглашен сенатором, консулы единогласно повелели взять Сеяна под стражу, тогда лишь ясно увидел он превратность всех людских дел и забот. Человек этот, перед которым трепетала вселенная, всевластный судья жизни и смерти своих соотечественников, всегда окруженный толпами льстецов и обожателей, вдруг испытал на себе всю тяжесть колеса Фортуны, нежданно сбросившего его с небес на землю и вдавившего в грязь. Разом постиг он, что означает стать предметом общей ненависти и отвращения, всеобщей мести и злобы. Насмешки, побои, ярость и гнев толпы обрушились на него. Люди, еще несколько минут назад демонстрировавшие ему свое почтение, вдруг в ярости обрушивались на поверженного. Фаворит, казалось, словно громом пораженный, не замечал, что творится вокруг него, не понимал значения даже слов консула, повелевающего сойти ему с сенаторского места. Когда ему несколько раз повторили это повеление, он будто пробудился ото сна и произнес едва слышно: «Мне ли… мне ли вы все это говорите?..» Он встает, вновь овладевает собой и его уводят в тюрьму. По дороге тысячи и тысячи насилий, оскорблений и издевательств преследуют его со всех сторон. Римляне, воздававшие ему лживые хвалы, на этот раз втаптывали в грязь достоинство этого человека. Все несправедливо, нечестиво содеянное им сторицей возвращается к нему — все преступления, все жестокости, все злодейства. Его статуи сброшены с пьедесталов и разбиваются в прах. Желая прикрыть клочком изодранной тоги свой позор, он закрывает ею свое лицо, но его побоями принуждают удовлетворить сладострастное любопытство толпы. В тот же день сенат собирается вхраме Согласия, чтобы судить столь знаменитого и влиятельного преступника. Все единогласно приговаривают его к смерти, и казнь происходит незамедлительно[15], сразу по произнесении сенаторами слов приговора. Тело казненного, после того как народ достаточно насладился глумлением над ним, сбросили в Тибр. Все семейство Сеяна испытало на себе участь отца — дети его были казнены. Этой участи не избежала даже маленькая дочь Сеяна, не понимавшая, что происходит, всей глубины своего несчастья и все время со слезами на глазах спрашивавшая, за что ее, не совершившую никакого проступка, свойственного детям ее возраста, собираются наказать. «Если я виновата, — со всей силой детской искренности и непосредственности повторяла она, — обещаю никогда больше не совершать таких ошибок». Но никто не обратил внимания ни на слезы, ни на ее невинный возраст и, хотя это и было беспримерным по жестокости наказанием, девочка, не достигшая еще зрелого возраста, была подвергнута смертной казни, так что палачу, как полагали многие, пришлось сначала лишить ее девственности, чтобы потом с полным основанием задушить. Под властью императора Тиберия судьям даже в голову не приходило, произнося слова подобных приговоров, считать их жестокими или варварскими. Правда, сенаторы воспротивились смерти Апикаты, бывшей супруги Сеяна, уже несколько лет как изгнанной мужем из дома; однако судьба родных детей так глубоко потрясла ее, что несчастная в отчаянии сама наложила на себя руки. Память Сеяна была предана проклятию самыми позорными, бесчестными и низменными декретами. И поскольку все его честолюбивые замыслы были приписаны тем необычным почестям и необыкновенному авторитету, которым он пользовался в дни своего могущества, специальным декретом сената было строго запрещено когда-либо и кому-либо из граждан даровать подобные. Клясться же отныне можно было лишь именем императора и его Гением. Ужасный конец Сеяна должен служить уроком тем честолюбцам, которые добиваются высших постов одними лишь извилистыми и не всегда честными путями и обращают доверие, которым облекает их повелитель, во зло, желая не только однажды предать его самого, но и сделать его подданных самыми несчастными из смертных.
ГЛАВА 5
ЗАГОВОР АНТИПАТРА
ПРОТИВ ЦАРЯ ИРОДА


Место действия — Иудея — Рим. Время действия — 5 год до н. э.
Рождение Ирода не позволяло ему надеяться на царский венец; однако услуги, оказанные им римлянам, обеспечили ему трон Иудеи. Этот царь всегда был в высшей степени привязан к своим благодетелям как в силу природной хитрости, так и в силу искренней признательности. Когда же между Антонием и Октавианом разразилась война, он принял сторону Антония[16]. Увы, Октавиан оказался победителем, и Ирод поспешил к нему, но не пал до низкой мольбы и просьб, а напротив, желая в выгодном свете представить свое поведение, повел речь в очень серьезном тоне, высказав при этом много искренности и душевного благородства. «Я любил Марка Антония, — сказал он Октавиану, — и делал все от меня зависящее, чтобы помочь ему сохранить верховную власть: именно я снабжал его войско деньгами и всеми необходимыми припасами, а теперь не будь я занят войной с арабами, охотно посвятил бы все свое время и все мои богатства, а также и свою жизнь, служению вашему сопернику. Итак, не считайте, что я предал его в годину несчастий. Когда же мне стало совершенно ясно, что страсть влечет его к гибели, я советовал Антонию либо избавиться от Клеопатры, либо даже погубить ее любой ценой, и таким образом, вновь овладев собой и став хозяином положения, заключить с вами выгодный и почетный мир. И последуй он моему совету, его гибель никогда не омрачила бы небосклона Великой империи. Увы, он не воспользовался им, и вы ныне пожали плоды его неосторожности. Итак, из всего, что я вам говорю, вы можете заключить, сколь искренней и верной была и остается моя дружба с этим человеком, отошедшим уже в царство теней. И если сегодня вы сочтете меня достойным вашей дружбы, подвергните ее самым суровым испытаниям». Разумеется, Август не мог устоять перед подобной речью, и поэтому сразу объявил себя покровителем Ирода, повелев тому вновь надеть на голову царский венец и утвердив его царем иудейским особым для сего случая принятым декретом сената. Но в то время как правитель иудеев вызывал удивление и восхищение у иноземцев, его соотечественники и подданные горели к нему непримиримой враждой. И правда, чего только не принуждены были переносить люди под властью алчного, скупого, подозрительного и жестокого царя. Таким был, а скорее таким стал Ирод, прозванный Иродом Великим[17], получивший титул, нередко даруемый историей самым дурным правителям, ведь подобным монархам никогда не следовало бы не то что править, взойдя на престол, но даже видеть света божьего дня. Ирод заставил народы и племена трепетать под властью своих законов, но и сам никогда не испытывал покоя, вечно терзаясь страхами и опасениями за свою жизнь и власть. Его семья, члены которой как никто другой должны дать ему успокоение и утешение от государственных забот, служила основным источником его смертельных страхов. Он взял в жены принцессу царской крови, столь добродетельную, сколь и прекрасную, — знаменитую Мариамну[18], внучку иудейского царя Аристобула. И вскоре ревность ядовитой змеей вползла и поселилась в сердце Ирода, и не было такого оскорбления и дурного обхождения, которые не испытала бы на себе женщина, прежде обожавшая его. Мариамна, от природы гордая и обладавшая умом сильным и незаурядным, не могла спокойно переносить дерзкие капризы царя и испытывать почтение и уважение к тому, кого имела все основания возненавидеть[19]. В конце концов все более и более разгоравшаяся вражда обнаружилась по следующему поводу. Когда однажды Ирод в полдень отправился в опочивальню, чтобы отдохнуть от жары, он позвал к себе Мариамну, побуждаемый большой любовью к ней. Царица явилась, но отказалась разделить с ним ложе и стала укорять и поносить за убийство ее отца и брата. Царь с трудом снес это оскорбление и готов был сразу решиться на крайние меры, но в это время услышавшая шум ссоры сестра царя Саломея послала к нему виночерпия, которому было приказано сказать, будто Мариамна просила снабдить ее каким-то любовным питьем для царя. Этот виночерпий уверенно и свободно явился к царю с заявлением, что Мариамна дала ему подарки и уговорила предложить царю любовный напиток. Ирод крайне испугался и спросил его, что это за питье, и виночерпий отвечал, что Мариамна дала ему нечто такое, содержание чего он и сам не знает. Поэтому-то он так спешно и объявляет об этом царю. Услышав это, Ирод от страха переходит к гневу и велит пытать одного из евнухов, прислужников царицы, наиболее преданного Мариамне. Начался судебный процесс, в результате которого несколько царедворцев поплатились головой за сочувствие жене тирана, а судьи, словно угадав настроение царя, и Ма-риамну приговорили к смерти, хотя, кроме явной ненависти к своему супругу и так и не найденного зелья, ей ничего нельзя было инкриминировать. По произнесении приговора как сам царь, так и некоторые из судей решили не сразу приводить его в исполнение, но пока посадить царицу в одну из темниц при дворце. Однако настойчивые просьбы Саломеи и на этот раз решили дело — вскоре под предлогом возможности народных волнений, если станет известно, что царица жива, Мариамну тайно отвели на казнь. Вот каким образом умерла Мариамна, этот высочайший идеал женского целомудрия и великодушия. Ей недоставало умения сдерживать свои порывы, и в характере ее в слишком сильной степени проявлялась некоторая неуживчивость. Красотой своей и умением с достоинством держать себя она превосходила всех своих современниц; это и было главной причиной того, что она подчас недостаточно любезно встречала царя и относилась к нему с недостаточной предупредительностью, ибо, пользуясь всегда любовью со стороны царя и не имея повода предполагать с его стороны какой-нибудь неприятности, она позволяла себе с ним слишком много. А так как ее угнетала судьба, постигшая близких ей людей, и она нисколько не стеснялась высказывать ему это прямо, то в конце концов не могла не навлечь на себя вражду его матери и сестры, да и самого Ирода. После казни Мариамны любовь царя к ней возросла еще больше. Дело в том, что любовь эта вовсе не была временной или ослабела вследствие привычки, — нет, напротив, с самого начала она отличалась страстным порывом и не ослабевала впоследствии даже при длительном сожительстве. Теперь же казалось, что в виде наказания за смерть Мариамны любовь к ней, мертвой, охватила его еще с большей силой, так что теперь он часто громко призывал ее по имени к себе, предаваясь несдержанным слезам, и кончил тем, что, не имея сил забыть несчастную, утопил горе в бесконечных попойках и кутежах. Впрочем, и это отнюдь не помогало, так что Ирод запустил даже государственные дела, а ближайшим слугам велел все время громко звать Мариамну по имени, как будто она была жива и могла услышать их и явиться. В то время как царь находился в таком состоянии, в стране распространилась чума, погубившая не только массу простого люда, но даже многих из друзей царя; и все в один голос утверждали, что это кара ему и всей Иудее за Мариамну. Все это так сильно расстраивало его, что он под предлогом охоты удалился в пустынное, дикое и безлюдное место. Но и здесь ему не довелось насладиться покоем, ибо через несколько дней он впал в опасную болезнь. Страшные боли поразили его затылочную часть головы, за которыми последовало и полное расстройство умственных способностей. Лекари, вызванные к нему, оказались бессильны. И так как все попытки излечить его лекарствами оказались тщетными, врачи согласились более не мучить несчастного снадобьями и диетами, а решили давать ему все, чего бы он ни пожелал, предоставив случаю его выздоровление, на которое, к сожалению, было мало надежды. А между тем как подобные трагические события будоражили Иудею и повсюду распространялся слух о скорой кончине царя Ирода, в Риме проживали и получали образование два сына трагически погибшей царицы Мариамны[20] Александр и Аристобул. Раскаявшийся в содеянном, царь, горько переживавший все преступления, просил их вернуться на родину, которая радостно встретит двух прекрасных отпрысков царского дома. Всюду юношей встречали с необычайным ликованием. Их красота, представительность и достоинство, даже некоторая величественность облика делали их во всем похожими на мать и одним этим возбуждали общую благосклонность народа, надеявшегося после кончины тирана отдохнуть в правление гораздо более достойных, чем он, преемников. Вот почему Саломея, а также и другие лица, непосредственно виновные в смерти прекрасной Мариамны, испугались того, что случится, если юноши приобретут влияние в государстве и однажды пожелают отомстить за мать. Не дожидаясь дальнейшего развития событий и не желая вечно пребывать в страхе за свое будущее, эти люди во главе с Саломеей нашли способ настроить царя против молодых людей, и без того не выказывавших к нему ни малейшего почтения и даже не стремящихся скрыть своих подлинных чувств. При каждом удобном и неудобном случае проливали они слезы, жалуясь на то, что принуждены жить с убийцами своей матери под одним кровом. Да будет читателю известно, что у Ирода от первой его жены Дориды был сын по имени Антипатр. Тщеславие и непомерное честолюбие были подлинными страстями молодого царевича, способного ради них на любое, даже самое тяжкое, преступление. Помимо этого, как это часто бывает, владел он и искусством притворяться и лицемерить в такой степени, что трудно было найти ему в этом равного, то есть умел как никто другой длительное время обдумывать и готовить самые изощренные и коварные планы, при этом никоим образом никогда и никому не выдавая их. Он долгое время жил при дворе, ничем не проявляя своего тайного и страстного желания в один прекрасный день завладеть короной. А царь, желавший примерно наказать дерзость сыновей Мариамны, именно его, Антипатра, противопоставлял им, приблизив к себе и беспрестанно осыпая милостями и, казалось, всецело одаряя высокой честью своего царского доверия. Намерения Ирода были вполне понятны: ему было нужно, являя подлинно отеческую нежность к Антипатру, тем самым уязвить гордость Александра и Аристобула, поставив их лицом к лицу с соперником, имеющим все необходимые шансы однажды стать их господином. Сложившееся положение в общем удовлетворяло Антипатра, достигшего без всяких усилий самых высоких почестей при дворе подозрительного царя. Однако боясь, как бы ветер перемен не унес с собой и расположения к нему и дети Мариамны вновь не одержали бы верх, он придумал средство, как избавиться навсегда от братьев, которых считал очень опасными соперниками, и провел эту коварную интригу с большим мастерством. Никогда сам ни единым словом не обмолвившись при царе о своих чувствах к обоим царевичам, он подговорил всех близких ему людей при всяком удобном случае в нужном ему тоне затрагивать эту тему. Так при помощи тайных помощников и добровольных науськивателей он постоянно и очень упорно разжигал недоверие царя к царевичам, а те со всей свойственной им беспечностью и неосторожностью подавали все новые и новые поводы к подозрению. В конце концов, описав снова их поступки и даже мысли в самых мрачных, самых черных тонах, он до такой степени разъярил царя, что тот решил наказать ослушников и смутьянов самой жестокой карой. Однако же не пожелал дать им испить чашу своего гнева прежде, чем посоветовался по поводу столь важного дела с императором Августом. Антипатр должен был отправиться в Рим первым, а следом за ним туда должен был выехать Ирод в сопровождении двух намеченных жертв, уже обреченных на смерть. В Риме царь Иудеи обратился к императору со следующей речью: «Может ли кто-либо из смертных сказать, что в горестной участи своей превосходит меня мерой страданий? Я принужден быть обвинителем собственных сыновей, а ведь вы, о повелитель, дали мне обещание избрать из них того, качества характера и добродетели которого сделают достойным верховной власти и царской короны. До сих пор ни на одного из них не мог пасть мой выбор, поскольку неудержимое желание властвовать заставляло их все время злоумышлять против меня. Того ли должен был ожидать я от моих детей после стольких лет отцовской заботы и ласки, после стольких доказательств моей любви? Да, я мог умертвить этих неблагодарных, но пожелал, чтобы вы стали их судьей и моим заступником. Вы слишком справедливы, чтобы оставить безнаказанным подобное преступление. Не допускайте же, чтобы они, нарушив законы природы, попрали бы и величие царского достоинства». Александр и Аристобул с самого начала и не думали защищаться иначе, как одними лишь слезами, текущими из их потупленных глаз, да горестными вздохами; но когда они увидели, что императорский совет и сенат расположены в их пользу, желание защитить себя вновь вспыхнуло в юных сердцах с новой силой, и Александр произнес речь, суть которой мы имеем здесь возможность передать: Если уж выпала нам на долю тяжелая судьба быть обвиненными в чудовищном преступлении собственным отцом, все-таки не лишила нас судьба возможности открыто и гласно представить наше дело принце псу, прославившемуся защитой несчастных и угнетенных. Нас обвиняют в преступных цареубийственных замыслах, и надо признаться, что на детей несчастной Мариамны вполне может пасть такое подозрение. Правда то, что мы горькими слезами оплакиваем смерть нашей матери, но еще сильнее угнетает нас торжество людей, осмеливающихся в нашем присутствии чернить и предавать проклятию память о ней, добродетельной и безупречной царице и супруге. И не на царя жалуемся мы, нет, мы жалуемся на тех подлых придворных интриганов, которые всеми силами стараются ожесточить против нас душу нашего отца ложными наветами. Но где доказательства преступления, в котором нас обвиняют? Нас видели приготавливающими яд, тайно передающими его слугам, подкупающими верных царю людей, пишущими крамольные письма или призывающими к восстанию народ? Неужели же мы настолько преступны и испорчены, чтобы дойти до таких крайностей? Предположим, что так, что мы и в самом деле способны па ужасное злодеяние, — какую выгоду мы могли бы из него извлечь? Признал бы народ иудейский монархом над собою жестоких и противных богу отцеубийц? А справедливый Август стерпел, допустил бы, чтобы запятнавшие себя отцовской кровью злодеи воссели на отчий трон? Я мог бы привести многие другие доводы в защиту себя и своего брата, но пусть будет сказано всего лишь одно: если царь и теперь считает нас виновными, мы сами на ваших глазах, справедливые судьи, произнесем себе смертельный приговор, дабы избавить навсегда виновника нашего рождения и смерти от позорного обвинения в том, что он лишил жизни невинных. Но сохраним мы жизнь или потеряем ее, не столь уж важно, если при том и другом исходе пострадает доброе имя нашего отца». Речь юноши глубоко тронула всех присутствующих. Даже царь был глубоко ею взволнован, и это читалось на его лице; казалось, душою его овладевает раскаяние, и Август, так никогда и не бывши убежден, что молодые царевичи виновны, воспользовался случаем и положением, в котором оказался монарх, и убедил его помириться с сыновьями, казавшимися скорее неблагоразумными и неосторожными, чем преступными. Александр и Аристобул, видя, что родитель их склоняется к прощению, тотчас приблизились к нему. Ирод тоже бросился к ним навстречу, обнял и нежно расцеловал. Все присутствующие при столь душераздирающей сцене не могли сдержать слез, и даже Антипатр настолько владел собой, что изобразил на лице притворную радость, сердце же его в эти мгновения пожирало горькое разочарование. Вскоре Ирод с тремя сыновьями выехал из Рима в Иудею. Во время путешествия он объявил им порядок наследования каждого после его смерти: первым должен был вступить на престол Антипатр, за ним Александр и только потом Аристобул. Он посоветовал им жить в полном и нерушимом согласии, но едва путешественники прибыли на родину, в царском семействе вновь ожили старые распри. Среди слуг Ирода были три евнуха, которых он любил и услугами которых часто пользовался. Царю донесли, что царевич Александр подкупил их и что теперь евнухам доверять нельзя. Несчастных подвергли пытке и пытали так жестоко, что они признались, что царевич, как прежде, испытывает к отцу непримиримую ненависть, а потому горячо убеждал евнухов оставить старика, более не могущего быть им полезным, и перейти на его сторону. Такой поступок будет щедро вознагражден, когда царевич вступит на трон и приблизит к себе всех верных и полезных ему людей, однажды оказавших ему услугу. Признание евнухов зажгло в сердце Ирода яростный гнев, но на сей раз ему не хватило смелости: он боялся, что сторонники его сына в случае опасности решатся на крайнее средство. Он решил, что гораздо более уместно исподволь и тайно собрать информацию, что, впрочем, нисколько не мешало царю часто прибегать к пыткам для достижения столь желанной ему истины, буквально все бывшие под подозрением по причине близкой дружбы с Александром были повлечены на пытку. Их заставили испытать неслыханные страдания, и большая часть несчастных испустила дух посреди мучений, так ни в чем и не признавшись. Но молчание их, на взгляд Антипатра, было не столько верным признаком их невиновности, сколько служило доказательством любви и приверженности мятежным царевичам. При дворе Ирода все пребывали в постоянной тревоге: каждый боялся бросить на себя тень подозрения. Но не было ничего более ужасного, чем положение простого народа при подобных обстоятельствах. Наконец Александр был арестован и помещен в тюрьму, однако этот царевич, по натуре гордый и открытый, не пал духом и вовсе не думал защищаться и, словно желая еще больнее уязвить царя, писал ему из своего узилища письма приблизительно следующего содержания: «Я злоумышлял против вас, ничего нет надежнее этого честного и прямого утверждения. Так что бесполезно пытать стольких людей, чтобы у них вырвать признание в том, в чем я сам охотно сознаюсь. Ваш брат Ферора, ваша сестра Саломея, все ваши доверенные лица и верные слуги, все ваши друзья и даже друзья ваших друзей вступили в этот заговор. Нет среди ваших многочисленных подданных ни одного, кто бы не желал скорейшего избавления от вас в надежде обрести со смертью тирана спокойную жизнь». Подобное письмо не могло до крайности не встревожить Ирода. Теперь он не решался доверять никому. Беспрестанно, даже во сне, виделся ему сын, извлекающий меч из ножен и готовый поразить им своего отца, и от того и все чаще случались с ним приступы ярости и безумия, подобные тем, что случались после казни Мариамны. Доносы, пытки, толпы влекомых в тюрьму людей — все это наполняло Иудею ужасом и скорбью. Новое примирение царя с сыновьями было невозможно. Проживал в это время при дворе царя грек-лакедемонянин по имени Эврикл. Был он из породы людей ни во что не ставящих честность, верность и порядочность, когда речь заходит о большой выгоде. Коварный грек нашел способ втереться в доверие к Александру, и тот имел неосторожность открыть ему свое сердце. Он жаловался на жестокое обращение, которое принужден переносить каждый день, на несправедливость приговора, вынесенного в отношении его матери, на огромную власть и влияние, которыми пользуется Антипатр, и в конце концов сознался, что не может более спокойно сносить то, что они с братом Аристобулом стали невинными жертвами отцовской ненависти. Грек не преминул донести о содержании этих речей царю, на которого, как и следовало ожидать, они произвели страшное впечатление, что можно, представить и то, что Антипатр не мешал окончательной гибели своих братьев. Напротив, он охотно находил против них все новых и новых обвинителей, совершенно скрывая между тем собственные замыслы, должные в недалеком будущем привести его к власти, из страха, как бы не вскрылись прежде времени подлинные мотивы его побуждений и поступков. Ирод, страшившийся постоянно за свою корону и жизнь, решил наконец обезопасить себя ценой жизни двух несчастных, которых теперь вне всякого сомнения считал способными на цареубийство. Он велел арестовать и Аристобула и вынудит его написать письменное признание о готовящемся перевороте. Однако и в этом случае его ждало разочарование — вот как звучало это признание: я Никогда не было у нас в мыслях покушаться на жизнь царя; но если подозрения отца нашего лишают нас возможности жить с ним в мире и согласии и даже свет белого дня из-за этого сделался для наших глаз ненавистен, мы решили бежать, когда к тому представится удобный случай». В городе Берите (совр. Бейрут) был собран сонет, которому надлежало судить мнимых преступников. Ирод во второй раз выступил обвинителем и говорил против своих детей с таким жаром, что слушатели невольно поверили ему. Было ясно, что на этот раз он решил погубить своих детей, и судьи с позорной услужливостью почти единогласно вынесли смертный приговор, по произнесении которого Александр и Аристобул были задушены в Себасте[21], городе, в котором содержались во все время процесса, даже не получив разрешения прибыть в Верит и там лично защищать себя. Кажется в высшей степени сомнительным, чтобы несчастные царевичи были и в самом деле виновны в том, в чем их так определенно обвиняли. Поведение придворных, которого те держались в отношении молодых людей, часто вырывало у них невольные жалобы и горькие упреки в адрес царя, и всего этого было более чем достаточно Антипатру, чтобы их погубить, ибо совсем несложно ему было использовать в своих целях природную подозрительность и с годами возросшую жестокость тяжелобольного Ирода. Царь даже не замечал, что способствует замыслам настоящего преступника и если не сегодня, то завтра наверняка падет его жертвой. Теперь у Антипатра больше не было соперников, хотя и раньше порядок установленного Иродом наследования должен был всецело удовлетворять его. Оставалось лишь уповать на скорую кончину злополучного царя, старость и болезни которого в самом непродолжительном времени обещали очистить царский престол для его преемников. Но Антипатр день ото дня все сильнее горел желанием править и оттого решил как можно скорее преодолеть последнее препятствие, лежащее на пути его честолюбивых замыслов. Именно им был составлен заговор против царя, который наверняка должен был лишить того жизни. Всего лишь одно-единственное обстоятельство мешало преступному сыну в немедленном исполнении задуманного — его ненавидел простой народ и воины, а именно их расположение в первую очередь необходимо всякому намеревающемуся узурпировать верховную власть. Сознавая это, Антипатр постарался подкупить дарами и расположить к себе речами старых друзей своего отца и даже перетянул на свою сторону и заручился поддержкой Сатурнина, римского губернатора Сирии. Он попытался привлечь на свою сторону Саломею, сестру Ирода, но лживыми посулами и обещаниями было невозможно обмануть царевну столь коварную и хитрую, как она. Тогда он решил ее соблазнить. Ферора, брат Ирода, между тем тоже был тесно связан с Антипатром, и последний постепенно и незаметно приобрел довольно значительное число тайных сторонников, на содействие и поддержку которых в нужную минуту вполне мог рассчитывать. Отца же он продолжал обманывать всеми доступными ему средствами, и царь видел в мятежном сыне самого ревностного, надежного и верного своего подданного. Подобное ослепление могло стоить Ироду жизни, если бы Саломея не оказалась более ловкой и проницательной, чем ее брат, и не открыла царю всего происходящего. Она давно уже с недоверием наблюдала за всеми действиями Фероры и Антипатра. На людях всегда демонстрировавшие в отношении друг друга открытую враждебность, эти «враги» под покровом ночи и в глубокой тайне становились друзьями. Умной женщине это не могло не показаться странным, и она тотчас поделилась своими сомнениями с Иродом, посоветовав ему быть настороже: на его жизнь, по ее мнению, готовится очень серьезный заговор. Царь, хорошо знавший характер сестры, не сразу поверил ее словам, но стал более внимателен и осторожен, решив без лишнего шума узнать всю подноготную этого дела, бывшего для него делом необыкновенной важности. В свое время Ирод был обижен Феророй, отказавшимся жениться на одной из его дочерей и взявшим себе в супруги женщину низкого происхождения, бывшую служанкой в его доме. Монарх Иудеи желал заставить брата расторгнуть столь постыдный союз, но любовь победила разум; и Ферора так и не смог, да и не пожелал, расстаться с женщиной, бывшей для него источником подлинного семейного счастья. А она, неожиданно вознесенная из бездн нищеты к необычайному богатству, не могла надолго сохранить скромность и умеренность потребностей и желаний, к которым прежде вынуждали ее рабское положение и бедность, поведя себя с наглостью и надменностью, которые едва ли можно простить даже людям очень знатного происхождения. Совершенно не боясь негодования Ирода, она окружила себя фарисеями, отказавшимися принести присягу на верность царю и императору Августу, а те в свою очередь совершенно открыто и не таясь всячески выказывали ей свою признательность, заявляя, что самому богу угодно лишить трона Ирода и передать его Фероре. После того, как они были преданы казни, Ирод вызвал к себе брата и заклинал его развестись с женой, способной лишь сеять крамолу и смятение в семействе царя. На это требование Ферора заявил, что всегда был и остается верен своему брату, носителю верховной власти, но не может расстаться с женой, к которой испытывает самые нежные и глубокие чувства. Ирода оскорбил столь решительный ответ, и он запретил Антипатру вступать в какое-либо общение или переписку с Феророй. Однако приказы царя не были исполнены. Двум заговорщикам отныне пришлось использовать более строгие меры предосторожности, чтобы двор оставался в неведении относительно их связи, но вместе с тем Антипатр понял, как опасна даже тень подозрения в глазах столь мстительного монарха, и поспешил выехать в Рим, столицу мира, везя с собой завещание старого и больного царя, в котором последний называл именно его своим прямым и непосредственным наследником. Когда же царю стало ясно, что Ферора упорствует, не желая развода с женой, он повелел тому удалиться за пределы Иудеи. Ферора охотно покорился и поклялся никогда больше не возвращаться ко двору. Он в точности выполнил свое обещание и даже когда тяжелобольной Ирод послал за своим братом, чтобы доверить ему, прежде чем смерть унесет его, самые важные и насущные государственные секреты, тот отвечал, что страх совершить клятвопреступление запрещает ему снизойти к воле умирающего царя. А некоторое время спустя самого Ферору сразила смертельная болезнь, и Ирод, ни словом не обмолвившись о своей обиде, отправился к брату и даже явил ему пример самого пылкого братского чувства и расположения. Таков был характер Ирода, часто удивлявший и не менее часто возмущавший его покровителя в Риме — императора Августа. Повидавшись с братом и вернувшись домой, Ирод спустя несколько дней узнал о кончине Фероры, а вскоре стали известны и все подробности заговора Антипатра. Два вольноотпущенника умершего явились к Ироду и засвидетельствовали ему, что их хозяин был отравлен, и молили Ирода не оставлять без наказания столь явное злодейство. Были доставлены и улики, по которым многие женщины дома Фероры подверглись жестоким пыткам. Несчастные, терзаемые палачом, так ни в чем и не признались, но нашлась одна, не смогшая стерпеть дикой боли разрываемого тела и в полуобморочном состоянии чуть слышно прошептавшая сквозь рыдания: «Да, не допустит бог, чтобы мать Антипатра избегла общих мучений, единственной виновницей которых была она сама». Слова эти встревожили царя, и он велел привести в чувство и вновь пытать несчастную женщину, которая призналась, что Антипатр смертельно ненавидит отца и горячо желает ему смерти, чтобы как можно скорее овладеть короной — единственным предметом его мечтаний. Однако показания эти были чересчур расплывчаты и вырваны из груди истерзанной и полумертвой женщины: следовало найти им более серьезные подтверждения. Один из слуг Антипатра сознался[22], что вручил Фероре смертельный яд, которым тот должен был отравить царя. Яд этот был привезен из Египта Антифилом, одним из друзей Антипатра, а Фейдион, дядя Антипатра по матери его Дориде (сестре Фейдиона), лично вручил его Фероре, передавшего его своей жене. Ту привели для допроса, и она созналась, что действительно хранила яд, и тотчас пошла за ним. Но вместо того, чтобы принести его, она стремглав выбежала на одну из галерей дворца и бросилась вниз со стены, так, впрочем, и не найдя смерти. Несчастную привели в чувство, и сам царь обещал ей и ее семейству прощение, если она скажет правду. «Хорошо, я открою вам важную тайну, — промолвила Ироду вдова Фероры, — этот яд привез из Египта Антифил, ваш сын Антипатр купил его у него, чтобы использовать против вашего величества. Мой супруг обо всем знал и дал свое согласие на вашу смерть, потому что тогда навлек на себя ваш гнев, государь, и боялся его печальных последствий. Однако чувство братской любви и привязанности, которые вы ему явили во время его болезни, совершенно изменили его чувства и мысли. Однажды он позвал меня и сказал: «Я был введен в заблуждение Антипатром и оказался слишком слаб, чтобы не дать вовлечь себя в братоубийственное дело, которое нынче внушает мне отвращение. Я не хочу, чтобы душа моя перешла в иной мир запятнанной самым гнусным из злодеяний. А потому прошу вас бросить сейчас, в моем присутствии, в огонь этот яд». И я, повинуясь моему супругу, тотчас сожгла его, сократив лишь малую толику, чтобы самой воспользоваться, если вы пожелаете предать меня позорной казни после внезапной смерти моего супруга». Вдова Фероры затем показала Ироду тайник, в котором хранился яд, и самый флакон, его содержащий. А тем временем один из вольноотпущенников Антипатра вернулся из Рима и, подвергнутый пытке, тоже показал против своего патрона. На этот раз Ирод скрыл свой гнев, написав Антипатру, что неотложные дела в Иудее требуют срочного возвращения, но хотя письмо было полно самых нежных, самых душевных излияний и уверений в любви и отцовской привязанности, Антипатр им не поверил. Оскорбление, нанесенное его матери, изгнанной с позором из царского дворца, возбудило в его душе страшные подозрения, и он понял, что заговор открыт. Прибыв на Сицилию, он заколебался, стоит ли ему вообще продолжать путешествие. Мнения друзей разделились. Одни предлагали ему ждать, другие советовали поторопиться с отъездом, чтобы тем скорее и уже наверняка развеять подозрения отца и расстроить происки врагов. Некоторое время пребывая в нерешительности, он наконец согласился со вторыми и последовал их совету, решив продолжить путешествие. Он вновь вступил на корабль и достиг портового города Себасты. Но едва ступив ногой на родную землю, он понял, что впал в немилость: с кем бы ни встречался он по дороге, все бежали от него, осыпая проклятиями. Тогда он прибыл в Иерусалим и предстал перед воротами дворца, в который позволено было вступить ему одному, в то время как сопровождавшим его спутникам вход был строго воспрещен. Когда, приблизившись, он хотел обнять своего отца, Ирод с явным отвращением оттолкнул его и прямо заявил, что теперь не он его отец, а Квйнтилий Вар, наместник Сирии, который и будет ему судьей. Какой страшный, если не сказать сокрушительный, подобный грому среди ясного неба удар для Антипатра. Теперь и этот преступный царевич увидел себя один на один перед лицом разгневанного отца, похоже, не знающего даже слова «милосердие» и совершенно неспособного пощадить не только виновных, но и невинных. На следующий день Ирод созвал многолюдное собрание, на котором председательствовал Квинтилий Вар и присутствовала Саломея и почти все родственники царя, обвинители преступника и некоторые из слуг, взятых с поличным, захваченные с письмами, способными служить доказательством их преступления. Наконец Антипатр предстал перед этим трибуналом. Он бросился в ноги царю и просил не осуждать его, предварительно не выслушав. Ирод повелел ему встать, а потом сказал: «На себя ли мне жаловаться за то, что я произвел на свет божий неблагодарных детей? Благодеяния, которыми я осыпал Антипатра, не помешали ему покуситься на мою жизнь. Он захотел посредством преступления овладеть царским венцом, предназначенным ему самим рождением и волей любящего отца. Что за странная, нелепая судьба. И какие выгоды надеялся извлечь несчастный из своего отвратительного, гнусного замысла? Неужели он боялся того, что не взойдет на трон? Но ведь я сам назначил его своим преемником. Быть может, его терзали сомнения в отношении моей монаршей воли? Но ведь я разделил с ним власть. Сможет ли он упрекнуть меня в том, что я не снабжал его деньгами для поддержания на должной высоте его достоинства и даже штата его приближенных? Словом, во всем, буквально во всем сравнялся он могуществом, авторитетом и даже пышностью своего двора с самим царем! И, по-видимому, именно это всего более тревожило и распаляло его алчное сердце: возвысившись до меня, он по-прежнему продолжал быть подданным, принужден был повиноваться своему господину и повелителю. Но даже если это было для него невыносимо, до часа окончательного освобождения от меня и восхождения на отцовский престол оставался лишь миг. Неужели не мог он подождать смерти царя, которого старость и немощи поставили на край могилы? Но таков оказался этот царевич, выказавший столько рвения в осуждении моих верных подданных. Палач, осудивший и предавший смерти невинных, — таков мой сын, разве не под влиянием его злобных наветов я осудил его братьев?» В это мгновение Ирод не смог сдержать себя и залился слезами. И поскольку говорить он не мог, человек, всецело облеченный его доверием и очень хорошо знающий все дело, приступил к допросу свидетелей. Был вызван и Антипатр, который в таких словах выразил суть своего дела: «Мне известны, — промолвил он, — все мои обязательства перед царем. Я хорошо знаю, чем ему обязан, а также и то, чем обязан он мне. Уже одно перечисление этих услуг позволило бы доказать мою невиновность. Разве существовал когда-либо обычай осыпать милостями и награждать того, кем недовольны или тем более тайно ненавидят. Поэтому полагаю, если мой отец дал мне столь многие и убедительные свидетельства своей нежности и любви, разве не служат они верным доказательством моего исполненного перед ним долга? Вероятно ли, чтобы после спасения его жизни кто-то, а тем более я, возжелал отнять ее у него? Никто не готовится к совершению столь великого преступления, как покушение на жизнь и власть царя, без достаточных на то оснований. Но какая же причина могла подвигнуть меня на восстание и отцеубийство? Ирод назначил меня своим преемником и мне недоставало только титула царя, ибо авторитетом и властью я уже обладал. И, право же, уже почти владеющий царством стал бы я проливать хоть каплю невинной крови, могущей как раз-таки и лишить меня всякой надежды на уже почти принадлежащее мне по праву? Поведение же, которого я держался в отношении Александра и Аристобула, служит как раз вернейшим доказательством моей горячей любви, которую я всегда испытывал к отцу. Увидев, что жизнь его в опасности, я не побоялся стать обвинителем моих братьев и не раскаиваюсь, что разделил с ним ответственность за их гибель, поскольку только от нее зависело сохранение жизни царя. Это надежное свидетельство говорит в мою пользу. Но если вы не верите моим словам, ступайте в Рим, обратитесь к Августу: свидетельству этого принцепса, чья добродетель сделала его равным богам, вы вполне можете доверять. Я мог бы здесь представить вам все написанные мною письма, которым тоже следовало бы дать веру, ведь поверили же вы некоторым гнусным клеветникам, всеми силами стремящимся навредить мне во время моего отсутствия и горящим одним гнусным желанием — посеять раздор в семействе царя. Что касается показаний честных свидетелей, то они ни в чем не могут меня уличить, поскольку вырваны у них в бессознательном состоянии и под пыткой. И если вы считаете пытку надежнейшим средством раскрытия истины, то я сам прошу вас и меня ей подвергнуть, посмотрим, способна ли она вырвать из моих уст признания в преступлении, в котором меня обвиняют». Антипатр залился слезами и закрыл ладонями лицо. Спектакль произвел должное впечатление на присутствующих. Сам Ирод, казалось, был взволнован, но прилагал немалые усилия, чтобы не выдать того, что творилось в его душе. Теперь Николай Дамаскин начал свою речь, дабы продолжить и подкрепить обвинительную речь царя. Он подробно остановился на каждом пункте обвинения, привел свидетельские показания и в особенности обратил внимание слушателей на доброту Ирода к своим сыновьям: «Не вы ли обвиняли ваших братьев и приложили все силы, чтобы их приговорили к смерти? Не вам ли обязаны они немилостью, в которую попали благодаря своему неосторожному поведению, к которому, кстати, именно вы их подтолкнули? Так что, будучи главным виновником и творцом их несчастий, разве вы в свою очередь не должны были опасаться и на себя навлечь нечто подобное? Сегодня уже ясно видно, что вовсе не любовь к отцу была источником того ревностного желания угодить ему, которое вы демонстрировали в защите его интересов. Если бы и в самом деле вызывал в вас ужас замысел, стоивший жизни вашим братьям, едва ли вы стали им подражать. Но разве не очевидно, что лишь желание погубить соперников, способных оспаривать у вас право на корону, двигало всеми вашими поступками? А к первому преступлению — братоубийству — вы охотно присоединили бы и второе — самое гнусное — отцеубийство. Иначе, с какой стати стараться вам сократить и без того, возможно, короткую жизнь вашего больного отца, положившего столько трудов на ваше воспитание, любившего вас самой искренней и пылкой любовью, всегда относившегося на людях и в частных беседах с глубокой нежностью и заботой к своему старшему сыну. Должен ли был Ирод ожидать появления убийцы в образе его самого любимого, почтительного, да к тому же еще и осыпаемого благодеяниями сына? Вам нечего сказать в свое оправдание. Напрасно стараетесь вы на наших глазах вывернуть наизнанку законы, установленные против преступников, под тем предлогом, что показания свидетелей вырваны силой и под пыткой у ничего не сознающих людей. Если это и не безупречное средство для открытия истины, вбе же им часто и на законном основании пользуются при раскрытии тяжких преступлений. Ясно, что сами вы не боитесь пыток. Ваше упорство было бы похвально, если бы не было так преступно. Полагаете, молчание под пыткой будет служить надежным свидетельством вашей невиновности? Но и у последнего негодяя иногда хватает выдержки и силы, чтобы перенести самые жестокие страдания, ни словом не обмолвившись о своем преступлении и не выдав себя. Правда, что вы так и не осуществили своего варварского плана, но когда речь идет об отцеубийстве, достаточно одного преступного желания и воли, чтобы понести заслуженное наказание и испить чашу возмездия. Теперь очередь за вами, Квинтилий Вар, наместник сирийский, произнести приговор, заставящий трепетать всех тех, кто впоследствии и даже, быть может, в другие времена осмелится организовывать заговоры против родителя и благодетеля». Антипатр понял, к чему клонится завершение этой речи, и был не на шутку испуган, но ничто так не угнетало его, как укоры совести, напомнившей ему о преступлениях уже совершенных и тех, которые он намеревался совершить. «Можете говорить, если считаете себя невиновным. Мы вновь выслушаем вас», — обратился к нему Вар. Но Антипатр ничего не ответил, напротив, он склонил голову, прося бога стать его последним заступником. Судья, видя, что обвиняемый ничего неговорит в свою защиту, велел принести яд, о котором так много говорилось на этом процессе, чтобы испробовать его силу в действии. Яд дали одному из приговоренных к смерти, и тот тотчас же пал мертвым. Антипатра отвели в тюрьму, были захвачены и вскрыты письма, им написанные и могущие его уличить. Между тем Ирод был сражен одним из самых тяжких приступов старой и уже известной нам болезни. Медленный жар, подкрадываясь и распространяясь по его телу, постепенно охватил внутренние органы, подтачивая его последние силы. Его мучил нестерпимый голод, который никакая еда не могла унять. Желудок и другие внутренние органы были настолько изъязвлены и изъедены, что часто видели, как из тела царя выползают черви. Ему было трудно дышать, и дыхание несчастного стало столь зловонно, что никто не отваживался приблизиться к нему. Находясь в таком горестном и ужасном положении, он принужден был страдать от невыносимых болей. Видя, что болезнь его неизлечима, царь роздал деньги из своей казны воинам, сановникам, вельможам и друзьям. Но за этим актом подлинного великодушия последовал другой — ужасный, на который едва ли отваживался кто-либо другой прежде Ирода. Царь повелел самым знатным иудеям под страхом смертной казни ехать в Иерихон. Когда же они прибыли туда, им велели собраться на ипподроме. Затем он призвал к себе Саломею и Алексаса, супруга Саломеи, и сказал им: «Я чувствую, что смерть моя близка, но это долг, который каждый обязан платить природе, и я не смею роптать на ее законы. Другое огорчает меня, — я не смогу перенести того, что после смерти буду лишен почестей, которые оказывают всем монархам. Знаю, до какой степени иудеи ненавидят меня, ведь за всю мою жизнь я испытал от них много самых тяжких оскорблений, и сейчас они не упустят случая предаться с восторгом самой буйной, самой необузданной радости, едва закроются для света этой жизни глаза мои. Мысль эта, признаюсь вам, приводит меня в отчаяние, и я ожидаю от вас одного — что вы убережете мои бренные останки от такого позора. Если хотите почтить меня достойными похоронами, вот что вам надлежит сделать, вот что я требую от вашей любви ко мне: едва я испущу последний вздох, велите окружить ипподром воинами, не объявляя никому о моей смерти, и повелите им умертвить всех, кто будет там находиться. Таким образом вы принесете достойную жертву в мою честь, столь необыкновенную, которой никогда не бывало на похоронах других царей». Ирод заклинал Саломею и Алексаса всем святым, что есть на свете, выполнить его варварскую волю, должную стать достойным завершением его безумного царствования, но, прибавим к слову, воля его не была исполнена впоследствии. Саломея и ее супруг не решились на поступок, который разом сделал бы их ненавистными всему народу и мог стоить жизни. Между тем болезнь Ирода становилась все ужасней, от боли он хватался за меч, желая лишить себя жизни. Распространился слух, что Ирод покончил с собой, и слух этот достиг ушей Антипатра. Тогда царевич задумал выбраться из темницы и даже взойти на трон. Он постарался подкупить охрану царя, но тот, уже обо всем извещенный, приказал немедленно умертвить злодея, что и было исполнено. Таким-то образом закончил свою жизнь царевич, о котором можно дать верное представление, сказав, что он был еще хуже, чем его отец.
ГЛАВА 6
ЗАГОВОР АЙШИ,
ВДОВЫ ПРОРОКА МУХАММЕДА,
ПРОТИВ ХАЛИФА АЛИ


Середина VII века н. э.
Простой смертный сделался основателем новой религии и творцом ее законов, сумев с оружием в руках доказать не только ее превосходство, но заложить на ее основе огромную и могущественную империю. При жизни и после смерти считали его пророком, вдохновленным самим небом. Удивительное зрелище! Звали этого пророка Мухаммедом. И завел я здесь речь об этом самозванце лишь затем, чтобы рассказать об Айше, самой любимой его жене, представляющей собою ключевую фигуру в заговорах против нескольких первых халифов[23]. Абу-Бекр[24], отец Айши, был первым преемником Мухаммеда. Арабы имели основание радоваться подобному выбору, но не менее были счастливы и под властью следующего халифа — Омара[25]. Осман, правивший сразу вослед за ними, также ни в малой степени не злоупотреблял своей властью: его отличали непогрешимость нравов, уважение религии, забота о бедных и страждущих[26]. Все эти качества сделали его любимым в сердцах подданных. И, однако же, против него был составлен заговор, жертвой которого в конечном счете он пал. Айша, женщина, которой мусульмане дали прекрасное прозвище «Матери правоверных», решила низвергнуть добродетельного и достойного халифа, которого ненавидела смертельной ненавистью, и тем самым возложить корону на голову Абд-Аллаха ибн Зубейра. Складывалось впечатление, что последний имел с ней длительную и нежную связь. Повод к подозрениям подавало то обстоятельство, что Айша, когда речь зашла о выборе нового преемника главы правоверных, предпочла собственному брату человека, даже не состоявшего с ней в родстве. Самым заклятым врагом халифа был его секретарь Мерван. Человек этот, злоупотребивший доверием, которое к нему питали, от имени своего господина, но, разумеется, совершенно не уведомляя его об этом, всюду рассылал несправедливые и жестокие приказы и распоряжения, которые вскоре всколыхнули в народе бурю негодования. Произошло восстание, даже попыток подавить которое не было предпринято, так что народ ворвался во дворец халифа с оружием в руках. Осман, видя приближающихся к нему людей, взял в руки Коран и прижал его к груди. Он полагал, что эта столь почитаемая мусульманами книга спасет его от насилия. Однако предосторожность оказалась напрасной. Ему нанесли множество смертельных ударов и тем лишили жизни человека, так и не успевшего ею насладиться, поскольку смерть настигла его в неполных двадцать четыре года. После кончины Османа ему наследовал Али[27]. Между тем Талха ибн Аллах и Зубейр, личности весьма заслуженные и известные среди мусульман, также претендовали на верховную власть и не могли взирать на восшествие нового халифа иначе, как глазами, исполненными зависти. Именно это чувство заставило их решиться на новое низвержение правителя. Но любопытнее всего было то, что Айша вступила в этот заговор. Вдову Мухаммеда подозревали в измене мужу еще при его жизни. Али имел нескромность вмешаться в столь деликатное дело и даже представил весьма серьезные доказательства супружеской измены жены предполагаемого пророка. А ведь хорошо известно, сколь чувствительны женщины к такого рода обвинениям. И Айша, как и следовало ожидать, лишь ждала случая отомстить. Когда же он представился, она с радостью им воспользовалась. Талха и Зубейр, желая погубить халифа, посоветовали Али наказать виновников смерти Османа. Откажись Али даже под благовидным предлогом от этого предложения, и пятно преступления неминуемо легло бы и на него; покарай же он подлинных убийц, и число его нынешних врагов значительно возросло бы. Какое же решение следовало принять? Халиф, понявший, какую ему готовят ловушку, казалось, стремился отомстить за смерть несчастного Османа. «Позаботьтесь найти этих гнусных злодеев, — промолвил он, — а уж я сурово их покараю, но знайте, что поиски эти скорее возбудят всеобщее волнение и могут стать причиной гибели государства». Ответ этот был по-настоящему мудр, и если бы Али всегда вел себя с подобной осторожностью, он бы непременно избежал уготованных ему несчастий. Меры, приятые им в целях укрепления собственной власти и авторитета, к несчастью, возымели совершенно обратное действие и повели его к скорой гибели. Так, Али решил, что следует незамедлительно и в целях безопасности государства сменить всех наиболее подозрительных наместников областей и провинций необъятной арабской державы, запятнанных участием в заговоре против Османа или подозреваемых в сочувствии и тайном содействии заговорщикам, а также тех, кто вел себя чересчур независимо по отношению к центральной власти. Теперь он намерен был даровать посты наместников только верным ему людям. Кроме того, он запретил наместникам набирать большое число стражи и слуг — своеволия, никогда не одобряемого предыдущими халифами. Абд-Аллах ибн Аббас, с которым Али советовался по данному вопросу, предложил своему господину и повелителю избегать резких изменений в общественной жизни и в вопросах управления и прежде всего заклинал его не спешить снимать со своего поста Муавию, наместника Сирии, столь могущественного и пользующегося таким авторитетом, что его отстранение от должности, которое и сам бы он спокойно не потерпел, неминуемо повело бы ко всеобщему возмущению в Сирии и Аравии. Увы, совет этот, столь здравый и справедливый, не был исполнен. Муавия был смещен и на его место назначен некто иной, как сам мудрый советчик Абд-Аллах. Увы, его предшественник увез с собой все деньги из губернаторской казны и, прибыв в Мекку, вручил их в руки Айши, Талхи и Зубейра, выказав тем самым открытое неповиновение халифу. Двое последних были недовольны халифом гораздо больше, чем первая, поскольку получили от него на свое ходатайство о назначении их наместниками провинций отрицательный ответ. Али, посчитав неблагоразумным давать им в руки средство, способное навредить ему однажды, сказал тому и другому, что в нынешних обстоятельствах нуждается в их советах, почему и просит не отлучаться от его двора, обещав при этом, что услуги их не останутся без достойного вознаграждения. Подобный тон не понравился двум старым и опытным приближенным халифа. Талха ибн Убайдал-лаху и Зубейру не составляло труда понять, что отныне за каждым их шагом будут следить. Они, конечно, сделали вид, что не постигли намерений повелителя, и рассыпались в льстиво-хвалебных речах по поводу его мудрости и предусмотрительности, а некоторое время спустя все-таки смогли получить разрешение совершить паломничество в Мекку. Там, в сердце Аравии, ее древней столице, они при активном участии и содействии Айши составили заговор, стоивший жизни злосчастному халифу. Сначала пламя мятежа охватило Сирию. Жители этой провинции нашли средство раздобыть одежду Османа, которая была на нем в момент убийства, и воспользовались ею как знаменем восстания, способным зажечь праведным гневом сердце народа. И в самом деле, зрелище это не могло не оказать сильнейшего впечатления на сирийцев, тотчас же взявших в руки оружие, чтобы отомстить за смерть Османа, своего благодетеля. Узнав о происходящем, Али тотчас написал Муавию, дабы убедить его незамедлительно проявить знаки прежней дружбы и верности. Письмо халифа было написано в выражениях вполне мягких и умеренных, ответ же на него оказался крайне оскорбителен. Губернатор Сирии направил халифу послание, которое содержало всего лишь два слова: «Муавия — Али». Последний был в высшей степени чувствителен к подобным дерзостям, однако сдержал готовое прорваться наружу негодование и спросил у гонца, что происходит в Сирии. Тот в подробностях изложил ему суть происходящего, на что халиф воскликнул: «Почему вы желаете сделать меня ответственным за смерть Османа? Небо свидетель моей невиновности: к нему я обращаюсь за защитой и покровительством». И в то время, как в дальних провинциях разгоралось восстание против халифа, в самом сердце халифата зрел еще более ужасный заговор, душою и главным инициатором которого была знаменитая Айша. В доме пылающей жаждой власти жены пророка собирались главные враги халифа, чтобы условиться о средствах и путях достижения своих целей. Омейяды, то есть те, кто составлял род Османа, горели тайной ненавистью к Али, ибо считали, что тот принес их родича в жертву своему честолюбию. Увы, тот, кого в этом обвиняли, не имел никакого отношения к жестокому убийству, гораздо вероятнее было то, что Айша, Талха и Зубейр были подлинными зачинщиками и соучастниками злодеяния. И, однако, именно эти трое публично объявляли себя мстителями за смерть Османа, до такой степени гнусность их превосходила самую жестокость преступления. Заговорщики, тщательно обдумав и взвесив меры, которые надлежало принять в целях исполнения их планов, решили в конечном счете осадить город Басру, будущий опорный пункт их движения, о чем заблаговременно были оповещены все враги правящего халифа посредством специальных летучих писем, составленных в следующих выражениях: «Мать всех правоверных мусульман, а с нею вместе Талха и Зубейр лично направляются в Басру. Все, горящие желанием ценой своей крови и жизни защитить религию и отомстить за смерть Османа, должны ехать туда же и сделать все возможное во исполнение этого святого и благочестивого дела». Сколько раз в истории обращались к религиозным мотивам, чтобы заставить народы восстать против своих суверенов! Когда были собраны войска, Айша, сев на верблюда, первой тронулась в путь по дороге на Басру. Когда она проезжала через селения и стоянки бедуинов и маленькие города, все видели, как сотни собак, собравшихся неизвестно по какой причине в стаи, кружили вокруг ее шатра, не переставая лаять на эту жестокую женщину. Столь простое событие легко могло расстроить все планы восставших, ибо вдова Мухаммеда вспомнила, что покойный супруг несколько раз предсказывал ей неудачу в подобном предприятии. К чему только не склонит душу фанатичной женщины суеверие? Чего только оно не заставит ее сделать? И Айша не захотела продолжать путешествие и пришлось прибегнуть к хитрости, чтобы заставить ее переменить решение. Военачальники договорились со своими воинами, и те, неожиданно появившись у шатров лагеря, разом и изо всех сил принялись кричать: «Внимание! Тревога! Тревога! Неподалеку Али вместе со всеми своими войсками!» Внезапная угроза разом изгнала все суеверные страхи, опасения и угрызения совести из души немолодой и волевой женщины. Стремительно сев на своего любимого верблюда, Айша стремительно тронулась в путь и вскоре была вблизи Басры. Началась осада города. Гарнизон его мужественно защищался, но мятежники в конце концов им овладели. Поскольку жители Медины более жителей других городов Аравийского полуострова способствовали избранию Али халифом, именно к ним обратился он за помощью против мятежников. Он горячо убеждал мединцев поддержать его дело, ставшее отныне и их делом, и развеять в прах дерзкие замыслы врагов. Речь, которую произнес он по этому поводу, возымела действие, на которое он и рассчитывал. Один из знатных жителей города, видя явную холодность своих соотечественников к интересам государя, приблизился к халифу и сказал ему: «Повелитель, да будут прокляты те, кто с отвагой в сердце не поддержат дела своего законного владыки! Что касается меня, то прямо заявляю вам, что вы всегда найдете меня исполненным желания и рвения вам служить». Шаг этот, предпринятый человеком весьма уважаемым в своем городе, произвел сильное впечатление на прочих мединцев, которые более не колебались, сразу приняв решение, и каждый из них продемонстрировал горячее желание выступать на защиту дела халифа. В то же время Али послал гонцов к жителям Куфы, но с первого раза ничего не добился. Однако он не терял надежды и поручил исполнение важной миссии своему сыну Хасану. Сын Али предстал перед собранием горожан Куфы и сказал им: «Ваш повелитель сегодня обращается к вам за помощью. Он в долгу перед вами и в ваших интересах не отказывать ему впредь. И какие причины, право, могли побудить вас изменить своему господину? Религия ли ваша чужда ему? Или вы считаете его бесславным захватчиком чужого трона? Мятежники говорят о мести за смерть Османа, но все эти речи не более, чем предлог, чтобы оправдать их поведение. Единственная тщеславная мечта Талхи и Зубейра заключена в том, чтобы зажечь пламя братоубийственной войны; но даже если большая часть подданных моего отца восстанет против него, у меня есть все основания верить, что вы все-таки останетесь ему верны». Эта речь произвела чудесное впечатление на жителей Куфы. Казалось, беды халифа горячо их тронули и в них воскресло вновь горячее желание служить его интересам. Почти 9 тыс. его сторонников направились в лагерь законного владыки. Когда они прибыли, Али встретил их словами: «Вы будете свидетелями того, как поступаю я с жителями Басры, ибо я буду использовать мягкость, чтобы вернуть их в лоно моей власти, заставив вспомнить о долге, а потому, насколько это возможно, я буду воздерживаться от пролития крови моего народа. Я прошу тех из вас, кому верят в этом городе[28] или кто имеет в нем каких-либо родственников и знакомых, присоединиться ко мне во имя успешного завершения задуманного. Я предпочитаю мир любым выгодам войны, если таковые вообще могут быть найдены, и я не хочу без надобности рисковать жизнями даже тех моих подданных, которые так несправедливо и безбожно желают лишить меня моей». Ответом халифу стали крики радостного одобрения. Видя, как расположен к нему народ, он, не медля ни минуты, тотчас выступил в поход и вскоре стал лагерем у стен Басры; Талха и Зубейр, боясь, что стены совсем недавно выстроенной крепости, служившей военным форпостом арабских завоевателей в Ираке и Иране, не смогут выдержать штурма армии халифа, сделали попытку примириться со своим господином. Они добились позволения предстать перед повелителем, который горько укорял их за неверность и мятеж. «Помните ли вы, — обратился он к Зубейру, — о том разговоре, когда пророк спросил вас о чувствах, которые вы ко мне испытываете, и вы ответили, что любите меня, а он тотчас же возразил: «И все-таки вы восстанете против Али и станете причиной несчастий для мусульман». «Я припоминаю это, — отвечал Зубейр, — а если бы вспомнил раньше, никогда не поднял бы оружия против моего господина и повелителя». Затем он удалился, поклявшись никогда больше не становиться на сторону восставших; но Айша скоро заставила его переменить решение. Напрасно использовал халиф пути мягкосердечия и милосердия для приведения к покорности восставших подданных. Пришлось ему прибегнуть к оружию, и последствия этого были самыми кровавыми. Айша, как всегда, вновь взобравшись на верблюда, убеждала воинов мужественно сражаться. Ее присутствие и речи, наконец, ее гордый и прекрасный облик не могли не воодушевить войска, и одно это было причиной того, что победа долгое время не давалась ни той, ни другой стороне. И все же под конец чаша весов склонилась на сторону Али, который в конечном счете остался победителем. Талха и Зубейр погибли в битве. Талха, уже смертельно раненный, подозвал одного из военачальников халифа и сказал ему: «Сегодня я вновь готов повторить клятву верности моему господину, которую принес ему накануне; и в отчаянии от того, что оказался неверен своим обязательствам». Другой глава заговорщиков был убит арабским военачальником по имени Амр. Полагая, что его достойно вознаградят за это, он принес халифу голову главы мятежных мусульман. Али, которому никогда не были чужды чувства гуманности и сострадания, не смог сдержать слез при виде такого печального зрелища и горько упрекнул Амра за ненужную жестокость, проявленную убийством несчастного Зубейра. Тот, не ожидая такого приема, преисполнился гневом, позднее проявленным им при более удобном случае. Айша, видя себя во власти победителей, разумеется, опасалась за собственную жизнь, но те и теперь относились к вдове Мухаммеда с должным почтением. Халиф отослал ее в Медину, посоветовав отныне вести себя скромнее, мудрее и благоразумнее. Но смерть главных заговорщиков не положила конец треволнениям государства. Муавия по-прежнему жаждал высшей власти и перетянул на свою сторону Амра Ибн-аль-Аса, наместника Египта, а этот человек соединял в себе одном множество дарований с великой храбростью и слыл самым знаменитым воином своего народа. Он был достаточно могущественен, чтобы тоже претендовать на власть, но предпочел более удобным и благоразумным для себя возложить корону на голову Муавии, чем добывать ее для себя самого. Он отбыл из Египта с мощной армией и быстро достиг Дамаска, выказав знаки глубокого почтения Муавии, наместнику Сирии, и публично, при войсках и толпах народа, признав его своим повелителем. Узнав об этих сирийских новостях, Али попытался защитить свои законные права от посягательств узурпатора. Между двумя враждующими партиями разразилась война, и чтобы положить конец бессмысленному кровопролитию, обе стороны приняли решение прибегнуть к решению двух беспристрастных судей, избранных из среды самых авторитетных и знатных арабов. Для разрешения спора был приглашен Абу Муса аль-Алькари, мусульманин, известный своей честностью и неподкупностью. Ему в товарищи был дан знаменитый Амр, наместник Египта, имевший бесконечно больше ума и хитрости, нежели его коллега. Али даже ожидать не мог благоприятного для себя решения вопроса, и несмотря на это, все же дал письменные гарантии безоговорочно выполнить все, что бы ни решили арбитры. Те прибыли в специально назначенное для суда место. Амр злоупотребил излишней доверчивостью своего коллеги и убедил его в том, что в нынешних обстоятельствах нет ничего лучше, как разом низложить обоих халифов и на их место избрать нового, действительно дорогого сердцам арабов! Едва дело это было решено между ними, каждый отправился в свой лагерь. Две враждующие армии приблизились друг к другу, был сооружен высокий помост, на который первым был выведен Абу-Муса, который произнес громким голосом: «Я низлагаю Али и Муавию и лишаю их знаков былого высшего достоинства». Сказав это, он сошел с возвышения, на которое следом за ним поднялся Амр, произнесший: «Вы слышали слова моего предшественника. Я полностью поддерживаю ту часть его решения, которая касается халифа Али, и передаю власть Муа-нии». Эти слова поразили Абу-Мусу. В присутствии двух армий пожаловался он на низкий обман ннместника Египта, назвавшего халифа лишь при помощи коварства и против воли своего коллеги. Лли, обязанный подчиниться решению двух судей, увидев, что даже между ними нет ни малейшего согласия, посчитал себя совершенно свободным от данного слова и решил продолжать войну. Сторонники Муавии вновь готовились поддержать претензии своего вождя на власть с оружием в руках, и враждебность обеих партий была настолько сильна, что даже повела к рождению двух враждебных сект, по сей день разделяющих мусульман[29]. А пока Али и Муавия[30] оспаривали власть друг у друга, созрел новый заговор против вождей враждующих партий. Трое фанатиков, как это часто случается во всех религиях, решили убить Али, Муавию и Амра под предлогом освобождения страны от несчастий, в которые эти трое ее ввергли. Каждый из заговорщиков выбрал себе жертву. И хотя каждая из них проживала далеко одна от другой, в совершенно различных местах решено было лишить их жизни в одно и то же время, в один день и час. Задумавшие отмщение поторопились с исполнением задуманного. Тот, на кого возлагалась ответственность за убийство Муавии, ранил свою жертву мечом, но был схвачен, выказав перед судьями то неустрашимое упорство, которое всегда вдохновляет фанатизм. Рана Муавии была не смертельна, и он вскоре поправился. Правитель Египта был еще счастливее. Али же не повезло — случай на этот раз не помог ему избежать смерти, дни жизни несчастного халифа были пресечены рукою фанатичного убийцы, и верховная власть досталась Муавии, честолюбие которого еще сильнее разожгло пламя гражданской войны. История арабов легко может снабдить нас сведениями и о некоторых других заговорах. Позднее сын халифа Мутаваккиля Мунтассир организовал убийство своего отца. Можно понять, когда правитель становится ненавистен из-за своей жестокости и несправедливостей, им творимых, но как понять сына, способного поднять меч на отца, не запятнавшего себя никаким преступлением? Об этом и говорить трудно. Мунтассир, послушавшись зова природы, соединился с несколькими недовольными арабами и дал согласие на смерть своего родителя, правителя правоверных. Заговорщики лишь ожидали благоприятного случая, который вскоре и представился. Однажды, когда халиф обедал с несколькими из своих придворных, в пиршественный зал вошли заговорщики и умертвили Мутаваккиля, его визиря Фаттаха и всех тех из присутствующих, кто оказал сопротивление. Когда жестокосердного Мунтас-сира принесли в паланкине на место кровавой трагедии, разыгравшейся там всего лишь несколько минут назад, он спросил, на сколько частей разрубили тело его отца[31], и холодно прибавил, что все случившееся должно отнести на счет справедливой божьей кары. Безбожный выродок всего лишь один год пользовался плодами злодейского отцеубийства[32]. Один из лучших халифов, когда-либо правивших арабами, был Мутадис (около 869 года нашей эры). Но даже прекрасные качества этого халифа не уберегли его от покушений и заговоров. Стойкость духа лишь ускорила его низвержение с престола. Банкиаль, один из главных военачальников тюркской гвардии, совершил тяжкое уголовное преступление, караемое смертной казнью. Мутадис велел его арестовать и решил предать суровому наказанию, дабы удержать в повиновении готовые взбунтоваться войска. Но едва тюркам стало известно, что ожидает их командующего, они явились ко дворцу и потребовали немедленно выпустить преступника на свободу. Этот мятеж лишь ускорил смерть Банкиа-ля — ему отрубили голову, бросив ее в толпу возмущенных воинов. Это привело их в ярость, и они решили идти до конца, руками выломав ворота дворца халифа и двери его покоев. Отважный халиф, повесив себе на шею коран, с мечом в руках без страха бросился навстречу мятежникам, но несмотря на проявленную отвагу был пленен восставшими и претерпел от них жестокие мучения. Ударами его вынуждали отречься от власти, но он предпочел потерять ее лишь вместе с жизнью. Удар кинжала наконец освободил халифа от мучений, творимых наглыми и преступными злодеями[33]. Я присоединил эти заговоры к заговору Айши лишь для того, чтобы не отводить им отдельных глав, и сделал это исключительно по причине недостатка материала. И в дальнейшем я надеюсь пользоваться таким же способом. Что же касается заговоров арабов, то здесь мною заключено все, что я нашел самого интересного по данному предмету в их истории.
ГЛАВА 7
ЗАГОВОР МИХАИЛА
ПРОТИВ ЛЬВА АРМЯНИНА


Место действия — Константинополь. Время действия — начало IX века
Когда государь правлением своим продолжает длинную череду венценосных предков, оставивших ему по наследству свой титул, ему нечего опасаться восстания своих подданных, если только он действительно не злоупотребляет своей властью. Народы неохотно повинуются тем, кто, родившись во мраке неизвестности был принужден самой судьбой влачить рабское существование и зависеть от великих мира сего, однако дерзостью и отвагой сам проложил себе дорогу к трону. После того, как римская армия присвоила себе право избирать императоров и стала находить их в самом низу, среди людей самого низкого достоинства и звания, именно тогда блеск императорской короны перестал внушать почтение, которое и сегодня еще заставляет нас взирать на государей как на живое воплощение божества. Когда почти непрерывно один за другим люди самого низкого ранга восходили на императорский трон, любой мог надеяться достичь этого высшего поста в государстве. Чтобы добиться его, следовало всего лишь применять в нужное время и в нужном месте подлость, коварство и убийство. Таковы были заговоры, потрясавшие в течение долгого времени Константинополь. Этот город был театром, постоянно ставящим на глазах у народа самые страшные зрелища и драмы. Редко, когда кто-либо из императоров оканчивал свои дни в покое, передавая власть законным наследникам. Пример этого видели мы уже во время восстания Фоки. Я не стану приводить других фактов, по выбору самые яркие и начну повествование с заговора Михаила. Лев Армянин[34], прозванный Апостатом (Отступником), пришел к власти при помощи коварства и предательства. Он командовал римскими[35] войсками еще в те времена, когда на троне сидел кесарь Михаил Рамбаг[36]. Империя вела войну против болгар, и императору, самому возглавившему войско, легко было одержать над ним победу, но Лев задумал помешать ему в этом и преуспел. После поражения Михаил Рамбаг уехал в Константинополь, оставив разгромленную армию в руках коварного Льва, в отношении которого у него не было ни малейшего подозрения. Византийский генерал решил немедленно воспользоваться удобным случаем. Он начал через своих людей распространять в войске слухи, что все поражения и несчастья его в этой войне порождены трусостью, слабостью и бездарностью императора, передавшего все бразды правления в руки императрицы. Затем, добившись ожидаемой реакции, он внушил солдатам, что только такой человек, как он, Лев, сможет достойно отплатить за оскорбление, нанесенное империи. Больше ничего говорить не пришлось — солдаты, разочарованные и огорченные поражением, были и без того настроены против императора и потому охотно стали под знамена Льва, даровав ему звание императора. Властолюбивый узурпатор притворялся, что вовсе не хочет возлагать на себя такое тяжкое бремя, и ожидал, чтобы его силой заставили сделать то, о чем он так долго мечтал, и некто Михаил, которому вскоре предстояло лишить его короны, оказался тогда в числе самых преданных сторонников узурпатора. Так Лев Армянин добился власти. Однако и при нем империи приходилось выдерживать тяжелые войны, которые и были не более удачны, чем при его предшественнике. Да и в самом деле, каких успехов, какого счастья можно было ждать от правления принце-пса суеверного, лживого и жестокого? Таким был Лев Армянин. Первой его заботой после восхождения на престол было смещение со своих постов всех чиновников, которых поставил его предшественник. В деле распределения наград милостью своей он не обошел и Михаила[37], которого уважал и высоко ценил как одного из самых верных своих слуг. Однако узурпатор никогда не должен доверять людям, способным предать своего законного государя. Ведь тот, кому он всецело доверял, был человеком без чести и принципов, даже о происхождении его никто не мог сказать ничего определенного. Поговаривали, что в молодости он разводил скот и служил подпаском. Образования этот Михаил не имел, не умел ни читать, ни писать, отчего и не мог переносить людей образованных. Ничего примечательного в нем не было, за исключением храбрости, которой он всегда находил самое худшее применение, потому что был коварен, бесстыден, жаден, жесток, неблагодарен, склонен к сквернословию и пьянству. Вот на кого возлагал император большую часть своей власти. Впрочем, такой государь, как Лев Армянин, вполне заслуживал подобного слугу. Михаил воспользовался доверием хозяина лишь для осуществления давно вынашиваемого плана. Некоторые монахи-иконоборцы убедили его, что в один прекрасный день и он, взойдя на трон, вкусит сладость власти. Именно этого дня он и ожидал, не забывая пускать в дело средства более надежные, чтобы не дать обмануть себя баснями предсказателей. Отличаясь немалым хладнокровием, он вел себя довольно осторожно и остерегался раньше времени обнаружить свои планы, однако, безмерно любя бахусовы возлияния, не смог на одном из пиров сдержаться и не выболтать своего секрета, когда винные пары совершенно завладели его сознанием. Так, он признался, что хочет свергнуть императора и жениться на императрице. Лев поначалу не придал его речам никакого значения, приписав их опьянению и глупости человека, открыто говорящего о столь важных и опасных вещах. И все же, поскольку его друзья постоянно твердили ему, что излишнее благодушие чревато подчас трагическими последствиями, все-таки решился наконец принять необходимые меры к сохранению короны и своей жизни. Он велел арестовать Михаила, который после краткого дознания, был приговорен к сожжению заживо. Ужасный приговор должен был исполниться в сочельник 820 года. Преступника уже вели на казнь, и сам император пожелал присутствовать при этом зрелище. Но императрица Феодосия заявила супругу, что не подобает лишать человека жизни в столь великий праздник. Лев не хотел уступать настоятельным просьбам супруги, но под конец все же велел отвести Михаила назад в темницу. Всю ночь император пропел в жестоких терзаниях. Ему снилось, что его враг пронзает мечом его сердце. Истерзанный кошмарами, он встал, велел везти себя в тюрьму и нашел Михаила спокойно спящим в собственной постели. Преступник на пороге смерти не мог почивать в совершенном покое, он никогда не мог бы вкусить сладости сна. Вот какая мысль пронеслась в голове императора. Он усомнился, в самом ли деле друг его предал, и вышел, не разбудив ни виновного, ни стражи, «неусыпно» за тем наблюдающей. Вскоре Михаила известили о происшедшим. Это сделали люди, связанные с ним узами заговора: они послали сказать ему, что если его вскоре не освободят, то и они погибнут вместе с ним. Оказалось, что многие из заговорщиков, боясь, как бы он перед смертью не назвал их имен, решили опередить события — они вошли в дворцовую часовню и набросились на императора, чтобы его убить. Лев бросился к алтарю, обнял его ступени, моля Бога о спасении. В то же время он громко звал на помощь своих слуг, никто из них так и не пришел на его призыв. Увы, ничто: ни храбрость, ни святость поста и заступничество Бога, ни громкий голос, — не могло спасти его от банды убийц, поклявшихся довести до конца свое дело. Потеряв руку, которой он пытался себя защитить, Лев пал на землю, и в тот же миг заговорщики отрубили ему голову[38]. Захватив дворец, они вытащили Михаила из тюрьмы и возвели на престол, а народ и солдаты единодушно признали императором того, кто должен был всего лишь несколько часов назад на их глазах погибнуть в пламени костра как преступник. Так с эшафота взошел он на трон[39], отправив в монастырь императрицу Феодосию, которой был столь многим обязан. Можно даже предположить, как предполагали это и древние историки, что эта государыня тоже принимала участие в заговоре. В таком случае нельзя не пожалеть о том, что она стала жертвою такой черной неблагодарности. У жителей Константинополя не было никаких оснований для счастья — новый государь был значительно хуже прежнего. Тиран оказался хуже тирана, с самого начала предавшись самым разнузданным страстям, именно ими, по-видимому, желая завоевать любовь и расположение подданных. Михаил, восстав против своего господина, вскоре сам испытал на себе его участь. Некий вельможа по имени Фома, узнав о том, что произошло в Константинополе, решил отомстить за смерть Льва Армянина, своего благодетеля. Он был в состоянии выполнить замысел, потому что стоял во главе всех восточных легионов. Однако не столько признательность Льву, сколько личное властолюбие заставило его восстать против узурпатора. Фома, командовавший мощной армией, без труда стал повелителем провинции Азии. Он сумел привлечь на свою сторону арабов, самых страшных врагов империи. Видя, что теперь он в состоянии бороться с соперником за власть, Фома короновался в Антиохии, разбил флот Михаила и осадил столицу, но потерпел под ее стенами решительное поражение. Такой поворот событий вынудил его отступить во Фракию, а оттуда в Адрианополь. Город не смог долго сопротивляться войскам императора, Фома был взят в плен и казнен. Прежде чем он испустил последний вздох, ему отрубили руки и ноги и только после этого голову, остальное тело было положено на осла, который долго таскал его на себе на потеху всему войску. Такие трагические спектакли были обычным делом в городе Константина, в котором частые восстания всегда вели либо к трону, либо на эшафот.
ГЛАВА 8
ЗАГОВОР АВДРОНИКА ПРОТИВ
ИМПЕРАТОРА АЛЕКСЕЯ II


Место действия — Византия — Константинополь. Время действия — 1182–1183 гг.
Иоанн Комнин, будучи при смерти, собрал всех родственников, друзей и видных военачальников и представил им Мануила, самого младшего из своих сыновей, объявив его своим преемником. Речь, которую при сем случае произнес император, была полна чувств неподдельной доброты и гуманности. Перед собравшимися предстал монарх, не только всю свою жизнь посвятивший счастью подданных, но и заботящийся о них даже на пороге смерти: «Природа, — промолвил он, — помогла мне породить единокровных сыновей, но, увы, не наградила их одним и тем же характером: старший из них подвержен недостатку, мешающему принцепсу в должной мере пользоваться своим рассудком, делающем его недоступным для мудрых и здравых советов, что непременно может ввергнуть народ в пучину бед. Недостаток, о котором я говорю, — гнев. Подобных упреков нельзя сделать Мануилу, младшему из моих сыновей. Его доброта и мягкость сделают его любимым всеми и более доступным и податливым для тех советов и предостережений, которые непременно будут ему давать. Поэтому именно его я выбрал своим преемником, по собственному опыту зная, что люди скорее предпочитают, чтобы ими управляли с умеренностью и милосердием, чем с бездушной строгостью и жестокосердием». Этот Мануил Комнин[40], ради которого был изменен обыкновенный порядок наследования трона, оказался на поверку тщеславен, властолюбив, коварен, расточителен и жесток. За исключением храбрости, действительно ему присущей, он не имел никаких других положительных качеств или явных добродетелей, которыми так восхищались в двух его предшественниках. Поэтому ему приходилось прилагать немало стараний, чтобы скрывать свои недостатки в молодости, и тем самым заставив своего отца совершить явную несправедливость по отношению к другим сыновьям, возведя именно его на императорский трон. Алексей и Иоанн, братья Мануила, были добродетельными принцами и, как и подобает таким людям, боялись коварства и измены со стороны своих подданных. Увы, Мануил не оправдал возлагаемых на него отцом надежд — он оказался тираном, что далеко не редкость в истории и, однако, замысел лишить его власти созрел в голове вовсе не родных его братьев, а у его двоюродного брата Андроника. Это был единственный заговор в правление автократора, даже не заслуживающего спокойного правления. Как и следовало ожидать, заговор раскрылся, зачинщик его был заточен в тюрьму, в которой томился очень долгое время, пока счастливый случай и судьба не помогли ему бежать. Но даже вырвавшись из рук стражей, он не перестал строить властолюбивых планов, но, напротив, ожидал, когда представится удобный случай, чтобы вновь попытаться претворить их в жизнь. Мануил умер, наследовавший ему Алексей II[41] (1181–1183) был еще в самом нежном возрасте, и его молодость облегчала исполнение замыслов коварного Андроника[42], который даже нашел средство вполне оправдать свои дерзкие шаги. Дворец юного императора был полон юными придворными, надушенными и разодетыми, как женщины. Двор дышал изнеженностью и сладострастием, еженощно предавался кутежам и всевозможным излишествам, и все эти беспорядки дали Андронику драгоценный предлог силой завладеть императорской властью. Кто бы подумал, что клятва верности, которую обычно приносят подданные своему государю, а государь — своему народу, послужит средством одобрения и узаконения восстания? Тем не менее именно это тогда и произошло. Андроник, поклявшись в верности государству и народу, говорил так: «Когда я вижу, что против вашей славы, сограждане, и против ваших интересов зреет заговор и плетутся сети, я всегда буду предупреждать вас об этом и сам воспротивлюсь злу всею своею властью и авторитетом». Ввиду того, что император-мальчик был окружен людьми, думающими только о том, чтобы наполнить каждый его день новыми развлечениями и удовольствиями, вместо того, чтобы учить его искусству управлять государством, Андроник клятвенно обещал изгнать этих гнусных развратителей и прежде всего самого протосеваста[43], распоряжавшегося своей верховной властью наихудшим образом. Андроник, обуреваемый жаждой мести, но не нашедший еще надежного способа обрести корону, писал письма императору, патриарху Константинополя и самым видным людям государства, высказывая им свою боль по поводу излишеств и недостатков двора, и утверждал, что совершенно необходимо положить предел не в меру выросшему влиянию регента и первого министра. Письма эти были написаны с большим искусством и казалось, что Андроник исполнен одним чувством — любовью к общественному благу, и думает лишь о том, как уврачевать зло, опустошающее империю. Итак, отправившись в Константинополь, он был встречен там с великой любовью. Не было другого такого человека, кто лучше Андроника владел искусством обольщать и придавать своим порокам вид совершенных добродетелей. Но еще прежде чем Андроник прибыл в столицу, при дворе созрел новый заговор. Мария Порфирородная, сестра отца молодого императора, решила присвоить себе плоды трудов Андроника. Принцесса перетянула на свою сторону лиц самого высокого звания и, обладая незаурядным умом, характером решительным и мужественным, сама обдумала план действий и встала в первых рядах самых активных заговорщиков. Конечно, нет нужды говорить о том, что заговор раскрыли, сообщников арестовали и бросили в темницу. Мария, страшась подобной же участи, бежала в храм святой Софии, крича повсюду, что пытается спастись отярости императрицы-регентши и происков ее любовника — первого министра. Народ был тронут ее стенаниями и проникся сочувствием к юной принцессе, на которую обрушились такие несчастья. Мария, видя, что ей сочувствуют и она может рассчитывать на помощь жителей Константинополя, повела себя с немалой надменностью по отношению к своим врагам. Теперь она уже не желала унижаться, прося у них прощения. Напротив, она потребовала чтобы были отпущены на свободу все ее сторонники. Но, диктуя условия, она не имела достаточно сил, чтобы их отстаивать, так что правительство не обратило никакого внимания на них и вознамерилось силой заставить выйти на свет божий из спасительных стен храма пылкую заговорщицу. Храм святой Софии окружила стража, угрозами пытавшаяся сломить упорство принцессы Марии Порфирородной. А между тем ее сторонники начали собирать силы для открытой схватки. Вскоре большая часть константинопольцев, вооружившись и склонив на свою сторону воинов, окружила место, служившее ей убежищем. Между повстанцами и верными правительству войсками вспыхнуло ожесточенное сражение, было пролито немало крови, с обеих сторон было много убитых и раненых. Вмешательство патриарха на некоторое время успокоило противников и было обещано, что принцессе не будет причинено никакого вреда и все ее сподвижники будут прощены. Кровопролитие прекратилось, и все поверили, что воцарилось полное спокойствие. Видимое примирение было достигнуто, но между императрицей-регентшей и ее падчерицей (принцессой Марией) взаимная ненависть не утихла, и каждая ждала лишь удобного случая, чтобы дать волю своим чувствам. Очень скоро Мария нашла удобный случай отомстить за себя. Под предлогом прогулки за город она покинула Константинополь и поехала навстречу Андронику, который уже находился в малоазийской провинции Пафлагонии и спешил в Константинополь. Андроник, привыкший скрывать свои истинные чувства и намерения, сначала вел себя осторожно, но, увидев искренность и благородство принцессы, смело открывшей ему свои планы, признал, что отныне они должны действовать заодно, дабы освободить молодого императора от тлетворного влияния императрицы-регентши и ее любовника, первого министра двора, истинных и главных виновников всех бед в государстве. Мария и Андроник заверили друг друга, что не имеют других помыслов, кроме освобождения императора, и даже пролили слезы по поводу горестной участи юного повелителя, которого они в свое время клялись предать смерти. Подобными ухищрениями Андроник привлекал на свою сторону жителей всех городов, лежащих на его пути, и подошел к Константинополю уже во главе большой армии. Протосеваст[44] выслал ему навстречу войска. Армии сошлись в бою, и Андроник одержал победу. Командующий императорской армией был обвинен в тайных сношениях с мятежниками, а также в том, что даже передал ему деньги, врученные ему на нужды войны. Полководец видел, что его намерены погубить, и, не дожидаясь дальнейшего развития событий, вместе с женой и детьми бежал в лагерь Андроника, который неуклонно продолжал наступать на Константинополь, жители которого не скрывали радости, видя его войска совсем недалеко от городских стен. Протосеваст принял меры, чтобы защитить себя от наступающего врага, от которого мог ожидать чего угодно. Пропонтиду бороздили десятки галер, не пропускавших в столицу иностранцев. Не надеясь на эти меры предосторожности, первый министр отправил посла к Андронику, обещавшему ему от лица императора высокий пост, почести и славу, если он откажется от своих планов. «Скажите государю, — отвечал Андроник, — что я готов сложить оружие, если он отправит в отставку своего фаворита, предварительно добившись у него отчета в делах управления. Я также требую, чтобы императрица-мать была немедленно пострижена в монахини и заключена в монастырь». Естественно, все полагали, что человек, осмеливающийся диктовать условия своему господину, в силах заставить его выполнить их силой оружия. И мнение это, распространившееся в народе, было на руку Андронику. Теперь многие военачальники Алексея И, сановники и вельможи двора спешили присоединиться к мятежнику, и среди них был Контостефан, адмирал императорского флота. Когда император Алексей увидел, что подданные один за другим его покидают, он решил наконец совершить то, чего от него так долго добивались — принести в жертву протосеваста. Тот был арестован и после жестоких пыток препровожден в лагерь Андроника, который велел вырвать ему глаза. Никто не оплакивал участи министра, который во все время своего правления думал лишь о том, как способствовать развитию самых дурных наклонностей своего юного воспитанника, и опустошал казну непомерными расходами на содержание собственного двора. У Андроника не было больше причин продолжать войну, но властолюбие и жестокость, а вовсе не любовь к общественному благу заставили его упорствовать в мятеже. Контостефан атаковал по его приказу константинопольский порт, и народ принял сторону восставших. Их глава вступил в город, направился в императорский дворец и, чтобы до конца быть верным самому себе и следовать собственному характеру, бросился в ноги Алексею, оросил их слезами и поклялся в нерушимой верности тому, кого уже намеревался погубить. Несколько дней спустя он посетил гробницу Мануила, отца молодого автократора, бывшего сейчас на троне. Прибыв туда, Андроник, опять пав на колени, начал проливать слезы. Со стороны могло показаться, что скорбь его безутешна, а сердце разрывается от неподдельной боли. Все присутствующие были до крайности взволнованы при виде плачущего командующего, от которого привыкли терпеть только самое суровое обращение. Его невозможно было даже оторвать от мраморных плит надгробия. «Оставьте меня, — говорил он, — оставьте же меня наедине с венценосным покойником, память о котором всегда будет дорога моему сердцу». Произнес он и еще какие-то слова, которые присутствующие не смогли расслышать. Некоторые из них, хорошо знавшие характер Андроника, не сомневались, что в тот момент он изрыгал проклятия в адрес Мануила. Люди же легковерные или простодушные, легко принимающие желаемое за действительное, верили, что он поступает от чистого сердца по причине горячей любви к покойному, и еще выше превозносили доброту узурпатора. Сцена эта произошла в присутствии Алексея, но тот не имел достаточно разума, чтобы понять подлинную суть происходящего и разоблачить коварные ухищрения обманщика, который лишь затем использовал их, чтобы всего вернее добиться исполнения желаемого. Андроник, заставив объявить себя опекуном Алексея, взял дела управления в свои руки и правил как тиран. Молодой император представлял собою лишь тень на троне, ибо ему не было оставлено никакой власти. И вновь, чтобы совсем отвратить его от государственных дел, в ход были пущены его дурные наклонности, которые постоянно поощрялись, при этом принимались все меры к тому, чтобы удалить от него людей достойных, способных вернуть законного и почти совершенно безвластного государя на путь добродетели и вновь вдохнуть в него желание заняться благом своих подданных. Яд, ссылка и смерть были мерами совершенно обычными против константинопольцев, демонстрирующих рвение в делах государства. Андроник только теперь проявил всю низость своей души и, не страшась мести, совершал любые преступления, способные помочь исполнению его замыслов. Такова была участь державы под властью человека, поднявшего оружие против своего отца якобы лишь для того, чтобы уничтожить тиранию. К жестокости Андроника прибавилась и самая черная неблагодарность. Мы знаем, сколь многим был он обязан Марии Порфирородной, но вместо того чтобы продемонстрировать ей свою благодарность и признательность, он решил тайно извести ее ядом. Способ этот был обычен для тех, кто хотел избавиться от соперника или неугодного соратника, не прибегая к услугам палача. В отношении матери Алексея он действовал еще откровеннее. Она была обвинена в заговоре против государства, и судьи тирана охотно приговорили ее к смерти, а император, ее сын, подписал этот гнусный приговор. Евнух, уже прославленный тем, что отравил Марию, своими руками задушил императрицу и сбросил ее труп в море. Все конкуренты были принесены в жертву. Оставался один лишь император, и Андроник решил одним махом разрушить преграду, отделяющую его от императорского трона. Его агенты явились к видным горожанам, уверяя, что для окончательного успокоения волнений, до сих пор потрясающих империю, надо дать императору в соправители опытного помощника, способного нести па своих плечах бремя власти. Речи эти сопровождались угрозами и посулами. Всем было ясно, сколь опасно противиться тому, что было предложено, и Андроника провозгласили императором; и, словно от его восхождения на престол зависело счастие всей империи, горожане на многие дни предались безудержной, совершенно несвоевременной радости. По окончании народных празднеств стало ясно, что новоиспеченный император на самом деле не намерен ни с кем делить верховной власти, ибо верные исполнители его воли поторопились оказать ему услугу, которой он от них ожидал. Алексей был задушен, и тело его доставлено Андронику, который сказал, с презрением его разглядывая: «Отец твой был лжецом, мать — развратницей, а сам ты — трусом». В течение нескольких дней он не расставался с головой Алексея, дабы досыта усладить взгляд столь приятным ему зрелищем. Потом ее выбросили в море вместе с прочими останками. Такова была судьба молодого правителя, который в течение трех лет своего властвования был рабом своей матери, своего первого министра, своего опекуна и своих удовольствий. Совершенно удовлетворив свое презренное властолюбие, Андроник некоторое время пребывал в покое, не делая никому никакого зла. Однако трудно тирану совсем отказаться от своих привычек, и вскоре он вернулся к прежней своей кровожадности. Народ, становящийся все более несчастным, наконец потерял терпение и восстал против него, провозгласив после властителя-демона императором Исаака Ангела[45]. Андроник, видя из окон своего дворца наступающие отряды вооруженных людей, посчитал более благоразумным искать спасения в бегстве. Он сбросил знаки императорского достоинства и тайно укрылся на галере. Разыгравшийся шторм помешал галере выйти в море и тем способствовал торжеству справедливости и судьбы, давно ожидавшей тирана и предавшей его гневу подданных. Злодея в цепях привели во дворец и привязали к столбу. После того, как ему выбили все зубы, вырвали волосы, отрубили кисть руки, вырвали глаз, несчастного страдальца, заслужившего ненависть и даже смерть, но не столь изощренные муки, повели по улицам, показывая народу с открытой для обозрения обезображенной головой и телом, едва прикрытым лоскутьями одежды. Какая-то женщина вылила ему на голову кипящей воды. Когда несчастный был уже при смерти, его позорно обезображенное тело подвесили за ноги на городской площади, вонзив в широко разинутый рот меч, глубоко проникший в самые внутренности. Наконец два стражника, нанеся ему множество более мелких ударов, которые Андроник уже не мог чувствовать, прекратили одновременно и его жизнь и мучения. Этот правитель, о котором мы имели возможность составить столь ужасное представление, имел среди прочих и некоторые замечательные качества. Он был подлинным бичом зарвавшихся банкиров и финансистов, снижал налоги, следил за строгим соблюдением законов (там, где они не пересекались с его интересами), запретил продажу с торгов имущества несостоятельных должников, допускал к чинам и званиям лишь в соответствии с делами и заслугами человека, украсил свой ум знанием литературы, а также отличался храбростью. Видя такой портрет, слыша о подобных чертах характера, можно предположить, что речь идет о наилучшем из правителей, а я поставил своей целью нарисовать портрет добродетельного человека. Увы, Андроник, отличаясь такими прекрасными качествами, все-таки был и остается в памяти потомков всего лишь тираном. Жажда власти сделала его жестоким, именно она заставила его совершить преступления, которые он, возможно, никогда бы не совершил, будучи рожден на троне, то есть обладая правом на него уже в силу одного лишь рождения. Исаак Ангел, преемник Андроника, был правителем вялым, трусливым, подлым, изнеженным и развращенным. Жизнь свою он проводил в обществе придворных дам и при этом повсюду носил на своей одежде образ девы Марии. Народ свой он угнетал всевозможными налогами и вновь выдуманными поборами вроде налога на милостыню и даже позволял себе запускать руку в церковную казну и грабить храмы. Правда, в данном случае оправдывало его то, что на вырученные деньги он строил больницы и странноприимные дома. На его взгляд, власть императора ничем не могла быть ограничена, а между тем он сам был в некотором роде рабом собственных министров. Совершенно не выделяясь храбростью, он одержал много побед, поскольку имел под рукой немало отважных полководцев, из которых следует рассказать о некоем Урании, хотевшем лишить его власти. Полководец, о котором идет речь, был направлен на войну с валахами, предками современных румын, расположил к себе императорское войско деньгами и подарками, после чего войско облачило его в пурпур и провозгласило императором и вместо того, чтобы идти на варваров, врагов государства, он вернулся в Константинополь. Однако, не сумев соблазнить воинов столичного гарнизона посулами и подарками, он решил прибегнуть к открытой силе. Но и это не помогло, тогда пришлось применить. против города длительную осаду. Перепуганный надвинувшейся опасностью, император велел выставить статую девы Марии на стены, чтобы хотя бы этим эфемерным средством попытаться остановить осаждающих город бунтовщиков. Во дворец из всех монастырей города и его окрестностей собрались монахи, день и ночь возносившие молитвы за скорейшее отвращение опасности и пленении Урания. Военачальники убеждали императора одуматься и противопоставить врагу воинов, я не монахов и святош, и Исаак внял их постоянным и настойчивым просьбам, проведя набор войск и собрав в городе около 180 тыс. человек. Вновь сформированные части горели желанием воевать, их двинули на врага, и они победой над ним в ужасной битве доказали свою преданность законному государю. Мятежники были разгромлены. Ураний, видя себя на краю гибели, почти что в руках победителей, предпочел более достойным умереть с оружием в руках, нежели от руки палача, после жестоких и позорных пыток. Он сражался отчаянно и нашел ту смерть, какую искал. Мертвому ему отрубили голову и отнесли ее императору, который недостойно отомстил своему недругу за былые страхи, которые из-за него испытал. Исаак послал голову супруге Урания и велел спросить, узнает ли она ее. «Скажите императору, — отвечала отважная женщина, — что я слишком хорошо знаю, чья эта голова, как бы ни была она обезображена, а сейчас тяжко страдаю и от того поношения, которое он заставляет переносить моего мужа даже после его смерти». Император готовился сурово наказать всех сообщников покойного Урания, но ему напомнили, что слишком суровая месть может иметь самые непредсказуемые и, возможно, самые трагические последствия. Тогда он отказался от своего замысла и простил всех мятежников. Несколько лет спустя кое-какие вельможи двора, не считающие себя в достаточной мере вознагражденными за услуги государю, который был им обязан своим восхождением на престол, удалились от Исаака и провозгласили императором его брата Алексея. И вновь высшие офицеры армии приняли участие в новом заговоре. Едва Исаак понял, чем грозит ему это событие, он совершенно потерял голову и вместо немедленного выступления в поход молился и все время осенял себя крестным знамением, целуя икону девы Марии. Таким образом сочетал он суеверную набожность и мнимое благочестие с крайним развратом, составлявшим его подлинное, но, увы, единственное дарование. Обратившись в постыдное бегство, он был задержан и после пыток ослеплен. Но на сей раз судьба смягчилась над правителем Византии. Исааку повезло: он дожил в тюрьме до того времени, когда его опять возвели на престол. Алексей III был всего лишь жалким подобием могучего автократора. Чтобы свободнее предаваться на досуге роскошным пиршеством и наслаждениям, он целиком передал заботы правления своей жене Евфросине. Эта женщина была очень умна и отважна. Но это и все, что можно было о ней сказать хорошего. Никогда еще не видели женщину ее звания и титула, более преданной столь откровенному, столь бесстыдному разврату, и только ее надменность и чрезвычайная гордость могли сравниться со степенью ее распутства. Одного взгляда на нее было довольно, чтобы понять, как могла управлять державой такая севаста[46]. Поэтому нет особых причин изумляться обилию заговоров, потрясших и омрачивших годы правления Алексея III[47], который не единожды был буквально на волосок от низвержения и гибели. Когда монарха не было в Константинополе, Иоанн Комнин вступил в храм святой Софии, снял императорский венец, висевший на большом алтаре, и велел провозгласить себя автократором в присутствии собранных им войск и сторонников. Потом он был доставлен во дворец и водворен на трон, сразу же начав раздавать должности сопровождавшим его сообщникам, в то время как остальные разбрелись по городу, предаваясь грабежу и насилию. Узнав о перевороте, Алексей послал гвардию, которая ночью ворвалась во дворец и, наголову разгромив мятежников, отослала голову Иоанна Комнина императору, который велел прибить ее к своду своей парадной залы, где занимался рассмотрением судебных дел. Труп Иоанна Комнина был выброшен за стены города, став там добычей собак и птиц. Частые восстания, которые одно за другим сотрясали это царствование, как правило, всегда оканчивались плачевно для их инициаторов, однако один из них, последний, низверг Алексея III с трона. Исаак Ангел, его брат и предшественник, нашел способ в недрах узилища подготовить себе новое восхождение на трон. По его приказу сын его Алексей отправился в Зару, приморский город в Далмации, и сумел расположить в пользу опального, слепого и молящегося в темнице отца правителей Европы, уже готовых отправиться в Святую землю[48]. Крестоносцы вышли в море и прибыли к стенам Константинополя. Город оказался беззащитен, у императора даже не было достаточного количества галер, чтобы охранять цепь, протянутую через Босфор и, таким образом, запиравшую пролив, преграждая доступ в Константинополь. Алексей, и без того от природы трусливый, а сейчас вообще потерявший всякое самообладание при виде мощной вражеской армии, тайно вместе с семьей и несколькими верными слугами погрузился на корабль и отплыл в один из прибрежных фракийских городов, оставив в столице жену-императрицу и свою дочь Ирину. После его отъезда народ освободил Исаака Ангела из тюрьмы, разбил его цепи и стремительно на руках отнес на императорский трон. Так во второй раз многострадальный Исаак Ангел был провозглашен императором, но теперь разделил бремя власти со своим сыном. Ему следовало благодарить за престол французов и венецианцев, оставивших свои страны ради бесполезных и тягостных завоеваний в Палестине. Алексей III сделал несколько попыток вновь взойти на престол, который так постыдно оставил, но, потерпев поражение, нашел тайное и никому не ведомое убежище, чтобы в нем скрыть свой позор, и желая хотя бы остаток своей жизни провести в покое и безопасности. А Исаак Ангел, несмотря на перемену судьбы, оказался несчастлив. Печаль, которая подтачивала его здоровье, вскоре свела его в могилу. Алексей IV, его сын и соправитель, навлек на себя гнев подданных, был свергнут, заключен в мрачной маленькой и сырой темнице и в конце концов казнен по приказу Алексея Дуки, получившего прозвище Мурзуфль. Теперь этот последний провозгласил себя императором, но не замедлил вскоре потерять власть. После падения этого узурпатора крестоносцы, став хозяевами Константинополя[49], возвели на престол Балдуина, графа Фландрского, правителя, чьи добродетели делали его вполне достойным императорской власти. Греки, не желавшие, чтобы ими правил иноземный, хотя и превосходный, государь, в свою очередь избрали императором Феодора Ласкариса; и эти два соперника, Балдуин и Ласкарис, и их потомки оспаривали друг у друга в течение пятидесяти семи лет трон Константина Великого[50]. Балдуин владел Константинополем, а Ласкарис основал в городе Никее столицу своего государства. Сделать эти краткие пояснения я счел необходимым для того, чтобы читателю легче было понять то, что будет рассказано ему о следующем заговоре.
ГЛАВА 9
ЗАГОВОР МИХАИЛА ПАЛЕОЛОГА
ПРОТИВ ИОАННА ЛАСКАРИСА


Место действия — город Никея. Время действия 1258–1261 гг.
Иоанну Ласкарису[51] не было и девяти лет, когда он пришел к власти. Феодор[52], его отец, отрекся от престола, желая надеть монашеское одеяние, сына своего поручив опеке Георгия Музалона, одного из вельмож двора. Пока Феодор был жив, никто не вносил никаких изменений в порядок управления государством, но едва глаза его закрылись, знать не пожелала считаться с властью вновь назначенного регента. Михаил Палеолог[53], мечтавший захватить императорскую корону, не замедлил речами подтвердить всюду носящиеся слухи и остался доволен тем, что войска, главнокомандующим которых он был, готовы служить его честолюбивым замыслам. Он исподтишка готовил их к восстанию и нашел верное средство возбудить в воинах ярость. Во время церемонии похорон императора Феодора солдаты смешались с толпой и стали кричать под окнами дворца, что Музалон изменник и негодяй, замысливший чудовищные планы. Они просили юного императора выдать им регента, дабы сурово наказать последнего. Музалон в это время находился в церкви, где отныне надлежало покоиться праху его повелителя Феодора Ласкариса, когда за ним прибежали с грозными известиями; но поскольку совесть его была чиста, он долго не хотел верить в то, что его неизвестно почему собираются убить. Убедившись, что известие верно и что угроза более чем реальна, он заперся в монастырской церкви городка Созандра, рядом с прахом императора, куда некоторое время спустя явились мятежники, всюду разыскивая намеченную жертву. При виде их Музалон спрятался за алтарь, но даже святость этого места не успокоила ярости ворвавшихся, крушащих все на своем пути; они убили регента и изрубили его тело на тысячи частей. Брат несчастного и друзья его, а также все его приверженцы и ставленники пали в кровавом побоище — все они были зверски уничтожены солдатами Михаила Палеолога, а тот, видя, как горько оплакивает жена Музалона безвременную кончину горячо любимого ею супруга, пригрозил, что она разделит его участь, если не перестанет лить слезы о безвременно погибшем супруге. Маленький городок Созандр, в котором произошли столь трагические события, был опустошен и разрушен солдатами, жадными до грабежа в той же мере, как и до прямого насилия и убийства. После смерти Музалона все первые вельможи царства как один выставили свои кандидатуры на вакантное место регента, но Палеолог одолел своих соперников и был назван опекуном юного монарха и блюстителем и защитником чистоты императорской власти и трона. Ему был дарован титул регента. И дабы новый регент был в состоянии с полным блеском выполнять возложенные на него (самим собой же) обязанности, на содержание его двора была отчислена значительная сумма денег из казны. Михаил происходил из знаменитой и очень знатной семьи, имевшей тесные родственные связи с правителями империи. С юности проявлял он незаурядные ум и мужество и, казалось, был самым ревностным защитником своей родины. Благодаря своим прекрасным качествам он был вполне достоин поста, который занял, к сожалению, путем преступления. Мужественный и опытный политик, он как никто другой мог поддержать государство, уже давно клонящееся к гибели. Если коварство и жестокость Палеолога не позволяют нам поставить его в один ряд с добрыми властителями, все же нельзя совершенно отрицать за ним права на место среди знаменитых монархов, прославившихся не только своим восхождением на престол, но и своими прекрасными деяниями и дарованиями. Регент, второй человек в государстве, был волен в выборе любых средств для исполнения своей воли. К его услугам были деньги казны, из которых он мог черпать сколько угодно, сообразуясь в первую очередь со своими личными интересами, надеясь при случае в один ненастный день и сам извлечь пользу из своих благодеяний. Расточив таким образом собственные средства и средства государства, он обратился к лицам, до сих пор обильно пользовавшимся его дарами, заявив, что не может отныне в полной безопасности пользоваться благами и авторитетом власти, но нуждается в их помощи и содействии, ибо видит себя в недалеком будущем подверженным той же угрозе, что и его предшественник Георгий Музалон, и опасается, что под влиянием постоянных страхов и опасений не сможет должным образом следить за молодым автократором и направлять его, а тем более должным образом заботиться о делах государства. Ему потребовались крупные денежные займы, которые и были вскоре получены. На эти деньги Палеолог приобрел расположение такого числа влиятельных сограждан, что уже на первом собрании своих сторонников удостоился от них необыкновенных похвал, после которых собравшиеся сановники и вельможи спросили, будет ли ему угодно принять титул «деспота»[54]. Все единогласно высказались за это и было постановлено, что Палеологу даруется право устраивать торжественные церемонии встреч посольств, давать аудиенции им и что отныне все гражданские и военные дела будут решаться им единовластно (было даже особо отмечено, что для всех военачальников византийской армии, вплоть до самых высших, не исключая и главнокомандующего, отныне будут действительны только приказы, исходящие от него лично). И все же, облеченный столь обширными полномочиями, Михаил Палеолог все еще не был императором, а значит, не были удовлетворены и t.-co необычайные амбиции. Хотя в его руках концентрировались все прерогативы императорской власти, титула императора у него не было. Регента надо было срочно как-то ублажить, а потому он был объявлен соправителем императора, на что давал право титул «деспота». Пока шли приготовления к церемонии, Михаил Палеолог позаботился о том, чтобы заверить каждого из своих друзей и сторонников, что они не раскаются, возведя его на престол и возложив ему на голову корону византийских императоров. Он обещал чтить и уважать интересы церкви и своих министров, но при этом назначать людей на должности, сообразуясь исключительно с их заслугами и ставя лишь на те посты, которые они и в самом деле имеют право занимать; далее он обещал неукоснительно и точно следовать букве закона, ни в чем не искажая и не нарушая его, покровительствовать свободным искусствам и наукам, проявлениям любого подлинного гения; защищать государство и щедро вознаграждать за услуги и службу тех, кто ему служил даже в лице их дальних потомков, не угнетать подданных тяжкими поборами и несправедливыми налогами, — словом, всецело, всеми своими способностями и силами радеть о счастье тех, кому на долю выпало быть его верными подданными, родившись в годы его счастливого правления. Само собою разумеется, давая такие благородные и прекрасные обещания, Михаил Палеолог клялся ничем и никогда не вредить словом, делом и даже мыслью Иоанну Ласкарису, своему сюзерену, со своей стороны тот тоже обязывался не вмешиваться в дела, мнения, решения и интересы того, кто должен был стать его коллегой и соправителем. По произнесении клятв и взаимных обязательств Палеолог был облачен в император скую мантию и торжественно провозглашен народом, войском и знатью императором Никеи. Новый правитель приложил все усилия к тому, чтобы заслужить расположение простых подданных, и прежде всего воинов. Он из собственных средств выплачивал долги многих частных лиц, открыл двери тюрем и выпустил на свободу заключенных, словом, шел на все уступки и соглашался на любые милости (охотно даруя все, что бы у него ни попросили). Преступление, которое он замыслил, стоило всех этих жертв. И вынашивал он его втайне очень долгое время. Именно оно было главной причиной прекрасных деяний, которые он ежедневно совершал на глазах восхищенных и покоренных его добротой подданных. Решив избавиться от соперника и в одиночку наслаждаться высшей властью, он дал знать в тайных посланиях прелатам церкви, что никоим образом не подобает, чтобы юный Ласкарис во время публичных и торжественных церемоний шел впереди своего коллеги, которому возраст и заслуги перед государством даруют некоторую степень превосходства. Церковники, много более других представителей знати получившие удовлетворение от щедрого могущественного деспота, не замедлили решить дело в угодном Михаилу Палеологу духе. Когда же речь зашла о торжественной коронации обоих императоров, друзья и сторонники Михаила открыто предложил короновать лишь его одного. Люди, привязанные к Иоанну Ласкарису, выступили против столь явного и вопиющего беззакония и заявили, что никогда не допустят, чтобы законный наследник был лишен своих прав на престол предков. Разгорелись жаркие дискуссии, переросшие повсеместно в яростные сражения на улицах столицы[55]. Молодой император, видя, как окружают его со всех сторон солдаты, готовясь лишить жизни, воскликнул жалобно, что сам никогда не желал и не домогался короны, а потому охотно готов уступить ее коллеге. Сторонники Палеолога были в большинстве, и потому им легко было добиться всего, чего они желали. Палеолог и его жена получили императорскую корону, а Ласкарис вернулся во дворец в обычной диадеме, украшенной жемчугом и другими драгоценными камнями. В свое время и в другом месте я уже говорил о том, что империя Константина Великого была разделена враждующими соперниками. После смерти Алексея Дуки, получившего прозвище Мурзуфль, латиняне оставались хозяевами Константинополя и имели императором над собой Балдуина II, в то время как греки подчинялись Михаилу Палеологу. Подданные Палеолога горели пламенным желанием отвоевать город, которым его предшественники так долго владели. Архистратиг (главнокомандующий) армии Михаила Палеолога[56] всячески пытался исполнить тайную и великую мечту императора и завладеть Константинополем, несмотря на строгий запрет императора предпринимать против латинян какие-либо враждебные действия. Он был уверен, что добьется прощения в том случае, если добьется успеха[57]. Обстоятельства не могли быть более благоприятны. Город слабо охранялся и имел малочисленный гарнизон. Эти соображения заставили архистратига нарушить приказ своего господина. Греческий генерал под покровом ночи ввел войска в Константинополь, а на рассвете 25 июня 1261 года атаковал гарнизон, поджег город с разных сторон, чтобы заставить жителей поскорее заняться спасением жен и детей и не думать о сопротивлении. Весь Константинополь был охвачен паникой. Все бежали, пытаясь спастись от огня и вражеских стрел и мечей. Император Балдуин при виде угрожающей опасности сбросил с плеч императорский пурпур, чтобы не быть узнанным, смешался с беглецами и спасся, вскочив в лодку. Греки все вокруг себя предавали огню и мечу, и франки[58], находящиеся в городе, были все до одного перебиты. Император Палеолог был в Нимфее, когда узнал о взятии Константинополя, и весть эта так его обрадовала, что он не только тотчас простил непокорного командующего, но и вознаградил его труды великолепными почестями и дарами. Немного времени спустя император совершил торжественный въезд в древнюю столицу Византии[59]. Я говорю «император» потому, что юного Ласкариса, совершенно незаметного в тени властолюбивого Палеолога, никто в расчет не брал. И все-таки Палеолог не мог перенести рядом с собой соправителя, наслаждающегося единственным, что ему еще осталось от императорской власти, — звучным, но ничего не значащим императорским титулом, а потому постоянно вел разговоры о трудностях, с которыми сталкивается государство, имеющее двух правителей. Разумеется, нетрудно было понять смысл его слов, однако охотника исполнить еще одну тайную волю Палеолога не находилось — никто не спешил исполнить преступное желание государя. Удивительно, что при константинопольском дворе оказалось трудно найти обыкновенного преступника и убийцу. А тем временем Палеолог, не желая откладывать далее устранение коллеги, решил не убивать его, а скромно ограничиться простым и не столь жестоким ослеплением конкурента посредством вращения у того перед глазами раскаленного железного щита. Как видим, несчастному Ласкарису была сохранена жизнь, но до самой смерти ему было уготовано судьбой пребывать во мраке собственной слепоты и заточения в мрачных стенах забытой богом и людьми унылой крепости на самом берегу вечно шумящего моря. Некоторое время спустя после этого варварского деяния в Малой Азии вспыхнуло восстание, вызвавшее у императора немалое беспокойство. Восставшие выдавали за Иоанна Ласкариса одного молодого человека, тоже слепого и очень похожего на императора, говоря, что он счастливо спасся от стражи Палеолога и бежал из тюрьмы. Нашлось много людей, поверивших в этот обман или делавших вид, что верят ему из желания отомстить императору, а также из ненависти к тирании. Восставшие облачили мнимого Ласкариса знаками императорского достоинства и признали его своим единственным и законным повелителем. Узнав об этом, Палеолог собрал войска, какие имел под рукой, и срочно послал их против бунтовщиков, которые, будучи всего лишь простыми крестьянами и не имея никакого представления об искусстве войны, сражались с необыкновенным мужеством и неизменным успехом, так что подавить восстание не представлялось возможным. Пришлось с ними договариваться. Восставших уверили, что Иоанн Ласкарис, за дело которого они сражаются, на самом деле до сих пор заточен в крепости и они, если захотят, легко смогут в этом убедиться. Кроме того, император был склонен не только даровать им всеобщую амнистию, но и наградить, осыпав всевозможными милостями, если они выдадут ему самозванца. Лишь некоторые из восставших позволили соблазнить себя обещаниями, большая же их часть не пожелала выдать своего предводителя. Между восставшими возникли разногласия, армия их распалась. Теперь они уже не могли вредить Палеологу, но это было далеко не единственное восстание в царствование основателя новой династии[60], который умер в очередном походе против врагов своей власти. И хотя страшные преступления всегда считались при константинопольском дворе грехом малозначительным, когда речь шла о захвате царской власти, не во всех сердцах угасли человечность и благородство. Преемник Михаила Палеолога по имени Андроник[61], нежно любя своего внучатого племянника, тоже носившего имя Андроник[62], с которым даже делил власть, вдруг сделался врагом и гонителем молодого человека. Он попытался лишить его короны, доведя вражду до крайних пределов, чем вынудил юного Андроника оставить двор и удалиться на безопасное расстояние от столицы. Несмотря на это, тот сумел завоевать симпатию народа и воинов и легко мог свергнуть своего деда, но не согласился на это и даже с ужасом отверг все сделанные ему в этой связи предложения. Напротив, он всячески искал примирения с подозрительным стариком, пытаясь излечить его от всяких необоснованных страхов. Подобное поведение делает честь характеру юного Андроника. Таким образом, когда пришло время ему целиком возложить весь груз империи на свои плечи, греки были счастливы под его властью. Правитель, ведущий себя столь благородным образом, вполне заслуживал быть господином и повелителем своего народа, склоняя на свою сторону сердца и завоевывая души подданных. Был он счастлив и в дружбе, явив собой весьма редкий пример среди правителей, и мог похвалиться тем, что всегда пользовался дружбой искренних и верных людей. Кроме того, он был единственным византийским императором, добровольно пожелавшим разделить власть и империю с Иоанном Кантакузином, который, впрочем, с благодарностью отверг его предложение, предпочтя оставаться простым, скромным и верным подданным[63]. Такие благородные поступки должны были казаться странными народу, в течение долгого времени не видевшему ничего другого, кроме заговоров и кровавых убийств своих сузеренов. С целью удалить на миг черные мысли, которые непременно должны были стеснить сердце и омрачить душу наших читателей, я привожу эти примеры подлинного благородства и умеренности, которые делают честь всему человеческому роду. Не часто доведется мне выводить на сцену добродетельных персонажей. Труд мой, увы, не более чем история знаменитых злодеев, и если я все-таки вывел на его страницы Андроника и Кантакузина, то только затем, чтобы сделать еще более ненавистными и отталкивающими тех недостойных граждан, которые всегда стремились возвыситься над себе подобными, нисколько не опасаясь при этом привести в смятение государство, опустошив его своей завистью, злобой и преступлением.
ГЛАВА 10
ЗАГОВОР АПОКАВКА ПРОТИВ
ИОАННА V ПАЛЕОЛОГА (1341–1391)
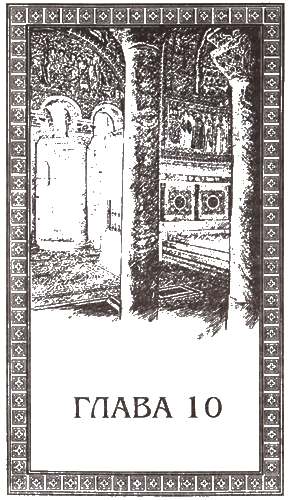

Место действия — Константинополь, Фессалоники. Время действия — 1341–1345 гг.
Иоанну Палеологу, наследнику Андроника Младшего[64], было не более девяти лет, когда он вступил на престол, и именно юность его стала причиной ряда преступных заговоров, направленных против молодого императора. Среди всех прочих недостойных придворных решил воспользоваться удобным случаем и некий Апокавк, человек низкого происхождения, умом и интригами добившийся высших постов в государстве. Впрочем, совершенно не удовлетворенный блестящими успехами своей карьеры и огромным, всеми правдами и неправдами приобретенным состоянием, он хотел большего — непременно самому взойти на трон или возвести на него кого-либо, кто в свою очередь всю полноту власти оставил бы в его руках. Еще до того как Андроник Младший испустил дух, Апокавк настойчиво убеждал и торопил Иоанна Кантакузина возложить на свои плечи императорскую порфиру, но тот в ужасе отверг его предложение, сказав: «Неужели вы считаете меня настолько низким и презренным, полагая, что я осмелюсь завладеть верховной властью еще при жизни императора или сразу после его смерти? Но могу ли я лишить жену и сына моего государя того, что принадлежит им по праву? Нет и еще раз нет, я не в силах так бессовестно нарушать священные обязательства и узы дружбы, порядочности и верности, которыми так тесно связан с Андроником». Кантакузин говорил искренне и доказал это на деле. Естественно, Апокавк стал смертельным врагом того, кого не смог соблазнить. Он явился к императрице и внушал ей тяжкие подозрения в верности того, кто был самым верным из ее подданных. Он представил Кантакузина как человека, стремящегося лишь пустить окружающим пыль в глаза, обманув своей показной честностью, а на самом деле мечтающего лишь об одном — как побыстрее да понадежней захватить власть с максимальной выгодой и безопасностью для себя. Эти коварные речи произвели впечатление на развращенные умы, которые и представить себе не могли, что можно отказаться от такого дара, как императорская власть, способная удовлетворить любое, даже самое изощренное и прихотливое человеческое честолюбие. Кантакузин отказался от верховной власти не из робости, поскольку всегда выказывал немалое постоянство и мужество в делах и начинаниях достойных. Но сейчас у него оспаривали право на регентство, врученное ему отцом молодого императора. Патриарх Константинополя просил по наущению Апокавка, чтобы именно этому последнему было передано ведение всех дел, но Кантакузин заявил, что он не допустит, чтобы его лишили власти, единственным законным правителем которого он остался. Войска выступили в его поддержку, громогласно провозгласив, что не признают никакого другого регента, кроме их полководца, который в прежние времена всегда спасал их, вел к победам благодаря своей мудрости и ободрял своим личным примером. Один из офицеров императорской гвардии, положив ладонь на рукоять меча, сказал Апокавку: «Пришло время окрасить эту сталь твоей кровью». И если бы тот благоразумно не обратился в бегство, воины наверняка умертвили бы его. Кантакузин спокойно и мудро управлял делами. Время шло, и когда однажды он был вынужден с войском выступить в поход, Апокавк решил претворить в жизнь свои черные замыслы: убить регента, ниспровергнуть и заточить императора, заставить императрицу даровать ему высший пост в государстве. Заговор был раскрыт внезапно, за несколько дней до выступления. Апокавк, боясь гнева императрицы и Кантакузина, удалился в знаменитую башню Эпибату[65], которую сам загодя велел построить и снабдить всей необходимой провизией. Регент послал спросить у мятежника, каковы причины его безумного поступка, на что Апокавк отвечал, что страх перед личными врагами заставил его принять необходимые меры предосторожности, и добавил, что, видя себя со всех сторон беззаконно и несправедливо осуждаемым, ни за что не выйдет из своего убежища. «Я очень хочу, — велел передать ему Еантакузин, — чтобы все распространяемые о вас слухи оказались ложью; но если вы и в самом деле изменилисвоему долгу, убеждаю вас, как можно скорее исправьте свою ошибку, ибо не стена, но одно лишь искреннее раскаяние спасет вас от немилости и заслуженной опалы». Апокавк отвечал на столь мудрые замечания и советы насмешкой и вовсе не думал сдаваться. Когда же императрице было предложено взять Эпибату штурмом, она ответила: «Достаточно того, что он до конца своих дней остается в тюрьме, в которую сам себя заточил. Он будет наказан уже тем, что не сможет принимать никакого участия в делах управления страной, а это непереносимая пытка для такого честолюбивого человека». И Апокавк так бы и сидел в своем добровольном заточении, если бы не вмешательство Кантакузина, добившегося для него прощения при условии, что того не будут видеть впредь в Константинополе. Гордый мятежник не выказал никакой радости при этом известии и отвечал, что не доверяет ни клятвам, ни обещаниям врагов, а потому сам позаботится о своем спасении, но короткое время спустя, сохранив те же мысли и чувства, переменил слова и даже сам просил позволения броситься к ногам императора и молить его о прощении, обещая быть всегда верным своему государю. Но едва оказавшись на свободе, он тотчас забыл все клятвы и обещания и стал искать новых средств и путей для исполнения своих преступных замыслов. Он хорошо понимал, что должен привлечь к себе людей высокого положения, и прежде всего обратился к константинопольскому патриарху. Человек этот сам мечтал о регентстве и даже безуспешно домогался его. К тому же светская власть ему была милее церковной, которую он получил тоже благодаря поддержке Кантакузина. Так или иначе, но на благополучие своего благодетеля человек этот взирал с огромной и к тому же плохо скрываемой завистью. Апокавк, хорошо знавший характер и подлинные чувства патриарха, без труда склонил его на свою сторону, открыл все свои тайные планы и даже заставил принять на себя роль презренного доносчика. «Вы имеете свободный доступ к императрице, — убеждал Апокавк презренного священника, — и нет никого, кто лучше вас смог бы внушить ей подозрения в отношении Кантакузина. Постарайтесь убедить государыню в том, что он задумал чудовищный план убить ее вместе с сыновьями и завладеть троном. Приложите все усилия, поднимите бурю, зароните ужас в сердце императрицы, чтобы под влиянием безумных страхов она тотчас велела убить нашего недруга». И если не знать пагубного действия честолюбия, трудно поверить в то, что священник высокого ранга дошел до такого низкого и преступного коварства. Но брак дочери Апокавка на сыне патриарха тесно связал между собой двух заговорщиков. Однако недостаточно было вступить в союз с патриархом, обретя себе в нем тайного единомышленника, — надо было найти еще многих других сторонников, и Апокавк их искал не только среди незнатных, но и среди людей очень высокого положения и происхождения, тайно и явно ненавидевших Кантакузина. Все заговорщики тайно собирались в доме патриарха, а для дискредитации противника открыто и поодиночке являлись к императрице и сообщали ей все новые и новые измышления относительно министра. Черный замысел был хорошо задуман, но пока не имел ожидаемого успеха. Императрица, хорошо знавшая верность своего министра, весьма неохотно слушала обвинителей и обращалась с ними так, что они сами вскоре раскаивались в том, что взялись за это дело. Апокавк между тем не терял надежды и убеждал своих сторонников в том, что после уже предпринятых шагов пути назад нет. «Ваша гибель не за горами, — говорил он им, — если сейчас, в самый роковой момент, вы отступитесь от нашего общего дела. Думаете, вам позволят спокойно жить после того, как вы приложили столько усилий с целью погубить человека, облеченного всей мощью и полнотой верховной власти? Поздно, нам уже некуда отступать. Попробуем же преуспеть. Это все, что нам остается в подобных обстоятельствах». Успокоив сторонников, Апокавк бросил в бой патриарха, до сих пор хранившего в отношении Кантакузина гробовое молчание, и глава константинопольской церкви направился во дворец с новым решительным обвинением. Азаний, тесть последнего, тоже готовился поддержать обвинение: так, оба явились к императрице, и патриарх заговорил в следующих выражениях: «Министр, которому вы так доверяете, мой старинный друг, а потому с глубокой печалью явился я обвинять человека, которому столь многим обязан. Однако даже признательность имеет свои границы и ее не следует причислять к добродетелям, когда речь идет о безопасности государя. Эта мысль и заставила меня предстать перед вами, чтобы открыто заявить, что Кантакузин очень коварен и опасен, задумав против вас и ваших детей преступление. Пора вам принять меры, которые подскажет ваша мудрость с тем, чтобы спасти себя, свое потомство и империю от гибели». Эта речь произвела на императрицу глубокое впечатление. Могла ли она подозревать самого патриарха Константинополя? Да и кто бы посмел предположить, что человек такого ранга способен на низкую клевету и притворство. Императрица отвечала священнику так: «До сих пор я не верила в виновность Кантакузина, но сейчас сомневаюсь в его невиновности, поскольку теперь именно вы стали его обвинителем. Но вам, как никому другому, хорошо известно, что я клятвенно обязалась никого не предавать казни, предварительно не выслушав его. Прежде всего я хочу, чтобы избранные мною судьи рассмотрели это дело, и если они сочтут Кантакузина виновным, я соглашусь на его наказание». «Но, — живо возразил священник, — если вы сейчас же не позволите вашим сторонникам среди знати взяться за оружие, скоро уже не будет времени обеспечить вашу безопасность, как и безопасность вашей семьи». Императрица не могла сдержать слез. Призывая небо в свидетели справедливости своих намерений, она предоставила патриарху полную свободу действий. Заговорщики не замедлили воспользоваться этой возможностью. Они не могли сразу и непосредственно ниспровергнуть Кантакузина: в это время он был слишком далеко от столицы, зато могли направить свою ярость на его ближайших родственников. Получив печальное известие из столицы, Кантакузин послал в Константинополь нескольких человек из числа своих друзей, поручив им открыто заявить императрице о его полной невиновности. Посланцам также велено было спросить, кто был избран судьями на предстоящем процессе и были ли соблюдены все законные формальности. Но несмотря на справедливость и разумность подобных вопросов, ответа на них не последовало, друзей Кантакузина даже не пропустили во дворец, тем самым вынудив его защищать свою честь силой оружия. Но прежде чем дойти до этой крайности, он хотел явиться ко двору и там лично доказать свою невиновность, но друзья помешали ему выполнить задуманное. Надо признать, Кантакузина всегда удовлетворял занимаемый им пост, который, на его взгляд, он вполне заслужил, поэтому он никогда не метил выше, но несправедливость и прямое насилие его врагов произвели действие, которое обычно порождает честолюбие. Ему оставалось либо пасть, либо прийти к власти. Эшафоту он предпочел корону. К тому же в этом его поддерживали и друзья, настойчиво советовавшие провозгласить себя императором. Он долго колебался и под конец уступил. Едва Кантакузин принял знаки императорской власти, как многие города сразу же встали на его сторону, да к тому же в его руках было и войско, прежде посланное против врагов империи. Так как ему хорошо были известны бедствия и крайности гражданской войны, он решил послать депутатов в Константинополь с предложением мира, но его послов подвергли самым тяжким оскорблениям и издевательствам. И именно тогда он решил применить силу против непримиримых врагов. Надо признать, что императрица начала уже раскаиваться в том, что так неосмотрительно принудила к восстанию человека, всегда неколебимо верного роду Андроника. Ее размышления, став известны заговорщикам, повергли их в ужас — они страшно боялись примирения императрицы со своим министром, что стало бы началом их конца. Явившись к ней на прием, они убеждали ее в том, что Кантакузин лжец и никакое примирение с ним невозможно. В особенности старался патриарх, и его словам верили, и императрица поклялась ничего не предпринимать без согласия и предварительно не узнав мнения Апокавка. Теперь Кантакузин потерял всякую надежду на примирение и решил в войне найти единственное средство спасения, но время и проволочки оттолкнули от него часть войска, так долго ждавшего от полководца решительных действий. Многие воины < го армии дезертировали, но и эти трудности не смогли сломить его мужественного и героического духа. Видя, в какой растерянности пребывают те, кто еще остался ему верен, он попытался вдохнуть в их сердца отвагу, которая никогда не покидала его. «Даже если, воины, вас осталось немного, — сказал он своим солдатам, — тому виной не мужество, но одно лишь коварство наших врагов. Однако никогда не доверял я численности там, где дело решает мужество, да и пристало ли вам бледнеть при виде опасностей. Разве не лучше и благородней погибнуть с оружием в руках, чем жить под властью «законов» Апокавка, во всем подчиняясь тирану? В лучшие, самые знаменитые дни Римской республики римляне всегда предпочитали смерть бесславию. Последуйте примеру ваших предков, пусть их пример возродит в вас отвагу и самые светлые надежды на скорую победу. Но не только этим проложим мы к ней дорогу. Нас поддержит и государь Сербии, на помощь которого я уповаю. Тогда мы сами заставим трепетать тех, кого ныне боимся. Вот какие меры я решил принять во имя полного успеха нашего дела. Если вы хотите предложить что-либо лучшее, я непременно и охотно приму его и последую вашему совету». Его речи аплодировали, и Кантакузин увидел с огромным удовлетворением, что оставшиеся воины ему верны и полны рвения и воинского пыла, словом, на них вполне можно положиться в трудную минуту. Он более не ждал, сразу направился к правителю Сербии, встретившего его с радостью и оказавшего торжественный прием. Переговоры шли успешно, однако в обмен на поддержку и союзнические обязательства государь Сербии просил Кантакузина после победы передать ему ряд приморских греческих городов, находящихся недалеко от Фессалоник, у самого моря. Казалось, Кантакузин, оказавшись в очень трудном положении, должен уступить, пожертвовав несколькими укрепленными городами и крепостями, когда речь идет об обладании обширной империей. Но он отказал, таким образом отказавшись и от помощи, ему предлагаемой, поскольку не мог принять ее на позорных, как ему справедливо казалось, условиях. Такое величие души удивило короля Сербии, но супруга последнего продемонстрировала еще большее благородство: она сумела склонить мужа на сторону Кантакузина настолько, что тот получил все, что хотел, безо всяких условий; и в то время как греки, народ образованный и культурный, были известны и даже прославлены своим постоянным коварством и вероломством, глава другого, варварского народа прославился благородством и верностью дружбе. Государь, о котором я говорю, был Амир, султан Лидии, который, узнав, в каком положении оказался его друг Кантакузин, вывел в Средиземное море флот, состоявший из 380 кораблей, и, подойдя к берегам Фракии, высадил на ее побережье десант численностью в 30 тыс. человек. Однако здесь не все разворачивалась так гладко, как на то можно было рассчитывать. Добрая воля и благородное намерение султана были очевидны, но вот слабая дисциплина его войск дважды принуждала его к отступлению на родину, в результате чего он так и не смог выполнить своих благородных замыслов. Не один раз совершались покушения на жизнь Кантакузина. Для того, чтобы погубить опасного праха, Апокавк прибегал к самым постыдным средствам, но прежде сам был умерщвлен рукою убийцы. Во время посещения одной из специально устроенных им тюрем, в которой томились те, кому Апокавк явно не доверял, один из заключенных ее, вооружившись палкой, набросился на Апокавка и схватил его за горло крича: «Несчастный, сегодня твои преступления закончатся и твоя смерть принесет успокоение всей стране!» Апокавк пробовал защищаться, но удары сыпались на него со всех сторон, а друзья и спутники и не думали ему помогать. Прочие заключенные тоже набросились на него, повалили на землю и задушили своими цепями. Труп Апокавка подвергся надругательствам. Ему отрубили голову и выставили ее на пике на крыше тюрьмы. Ниже, к стене, было прибито его тело. Его убийцы, страшась неминуемой кары за содеянное, овладели темницей, вооружившись оружием стражи, решив превратить каземат в крепость, подороже продать свои жизни, но не смогли избегнуть ярости жены покойного. Эта женщина, добившись от императрицы позволения отомстить по своему желанию, собрала самый презренный константинопольский сброд, раздала ему деньги, вооружила, напоила допьяна вином из своих и мужниных запасов и повела на штурм темницы, в которой был растерзан ее супруг, повелев ворваться в нее и умертвить всех, кого они встретят на пути. Приказ этот был выполнен в точности. Смерть Апокавка привела к окончанию междоусобной войны, мирным путем предав в руки Кантакузина венец византийских императоров. И если бы новый государь был так честолюбив, как то предполагали, он никогда бы не пожелал с кем-либо делить верховную власть и сразу сверг бы юного Палеолога с трона. Однако его поведение совсем не оправдало низких подозрении и злословий недругов. Став узурпатором под давлением обстоятельств, он не сверг юного императора, а стал лишь его соправителем[66], и, правив девять лет, отрекся от короны и постригся в монахи[67]. И хотя и у него были недостатки, все-таки этот государь вполне заслужил почетное место среди самых великих государей, которых когда-либо знала история. Нельзя сказать того же об Иоанне Палеологе, царствование которого было долгим и почти совершенно бесславным. На троне довелось испытать ему горькие несчастья и унижения, однажды увидев себя закованным в цепи по приказу своего собственного сына Андроника. Таковы основные заговоры, потрясавшие Константинополь вплоть до того времени, когда городом овладели турки, история которых была тоже полна трагических и кровавых сцен. Счастливы народы, живущие под властью правительств, способных избежать подобное. Но не было империй, королевств и республик, сумевших этого добиться. И все-таки осмелюсь утверждать, к чести моей родины Франции, в которой я по счастью родился, эта страна редко являла такие ужасающие картины непомерного человеческого честолюбия.
ГЛАВА 11
ЗАГОВОРЫ В РОССИИ ВРЕМЕН ПРАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРЯ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВИЧА


Место действия — Россия. Время действия — конец XVII— начало XVIII вв.
Рабство, в котором цари держали своих подданных, ввергло тех в состояние ни с чем не сравнимого варварства. Военное дело, мореплавание, торговля, науки и искусство были совершенно неведомы московитам, а неведение почти всегда мать преступлений, грехов и проступков, которые правили этим грубым и непросвещенным народом. Совершенно излишне рассказывать об их склонности ко лжи, бесстыдству и пьянству. Все эти пороки всегда считались ими самыми незначительными. Даже отпетых воров и убийц в стране этой наказывали лишь тогда, когда у виновного не оказывалось денег на подкуп своих судей. Жены не уважали своих мужей, ибо те и не думали заниматься их духовным и умственным развитием и воспитанием[68]. Рабство стало неотъемлемой частью жизни московитов. Отец мог продать собственного сына не менее четырех раз, а когда отцовское право с наступлением совершеннолетия прекращало действовать, сын сам мог продавать себя. Таким образом, простой народ был в рабстве у богатых и знатных, но и те и другие в одинаковой степени были в рабстве у своих царей. Они признавали царя господином и хозяином их имущества и жизни и верили, что лишь одна его воля является единственным для них правом и нормой всех их деяний и поступков. В стране, где науки и искусства не были развиты, было немалое число бесполезных, а подчас и прямо вредных и опасных людей. Таково было положение России к тому времени, когда Петр Алексеевич вступил на престол. Правитель этот, столь справедливо и заслуженно получивший прозвище Великого, родился в Москве 30 мая 1672 года. Он был единокровным сыном царя Алексея Михайловича Романова и царицы Натальи Кирилловны, происходившей из древнего и знатного княжеского рода Нарышкиных. Петр вступил на престол в возрасте десяти лет и разделил его с одним из своих братьев по имени Иван. Последний был очень слаб здоровьем, как раз настолько, чтобы позволить своим подданным жить спокойно в полной темноте собственного невежества, но царь Петр ставил совсем другие цели перед своим народом, желая вывести его во всей славе и блеске на сцену истории. Лишь воистину великий, возвышенный и благородный гений царя мог задумать и исполнить подобный проект. Однако скольких это стало трудов, какого великого терпения! Властолюбие женщины едва не разрушило эти прекрасные замыслы. Царевна Софья, сестра двух царей, Ивана и Петра, пожелала, чтобы Иван один и безраздельно владел престолом. Вся полнота власти в таком случае непременно перешла бы в руки царевны. Она начала интриговать против самого юного из двух братьев и была поддержана одним русским вельможей по фамилии Хованский, бывшим в то время главою стрелецкого приказа. Неверный подданный горел желанием сам взойти на царский трон, а позже возвести на него своего сына, женив его предварительно на сестре ныне правящих монархов. Тогда Софья не знала еще, сколь высоко метит ее сообщник, и решила использовать Хованского как человека весьма опытного в вопросах интриги и заговора. Глава стрелецкого приказа не прекращал волновать стрельцов против обоих государей и при всяком удобном случае обращался к ним с такими словами: «Это те самые, что погубили царя нашего и своего брата Федора Алексеевича[69]. Пора и вам, стрельцы, позадуматься и отомстить нехристям за его смерть». Чтобы еще сильнее возмутить стрельцов, Софья прибегла к одному весьма изощренному средству, показывающему, сколь лживым и порочным характером она обладала. Она пустила слух, что хотели отравить всех стрельцов, и позаботилась о том, чтобы слух этот выглядел убедительно[70]. Ярости стрельцов не было предела, они взялись за оружие, решив жестоко отомстить за себя. Простой народ встал на их сторону. В одночасье город был залит кровью. Народ бросился громить дома бояр, подвергая всех их страшному избиению. Царевна, боясь, как бы дело ни зашло слишком далеко и глава стрельцов не избавился и от нее самой в общей резне, постаралась успокоить восставших. Она велела привести к себе Хованского, похвалила его за рвение и усердие, поблагодарила за службу и просила прекратить погромы и убийства. Тот подчинился, его войска прекратили на некоторое время убийства и казни ненавистных им бояр. Пока все это происходило в Москве, оба царя заперлись в монастыре Святой Троицы, находящемся в нескольких верстах от столицы. Сторонники юных монархов придерживались мнения немедленно обратиться к немецким наемникам[71], чтобы с их помощью отразить нападение бунтовщиков, если те вознамерятся атаковать и осадить монастырь и напасть на царей-соправителей. Вскоре это было выполнено, и немцы заявили, что готовы ценой своей жизни стать на защиту законных государей. Едва до стрельцов дошло это известие, как они двинулись в предместье, в котором проживали немцы[72], чтобы на месте совершить месть над женами и детьми ненавистных иностранцев. Хованский не противился порыву своих войск; напротив, он еще сильнее подстрекал и распалял их быть неумолимо суровыми со всеми немцами, чье мужество и военный опыт могли весьма помешать ему в осуществлении его честолюбивых замыслов. Стрельцы уже были готовы осуществить свои варварские намерения, когда один из них, возрастом и седыми волосами, придававшими ему в их глазах больше авторитета, возвысил голос и произнес, обращаясь к соратникам: «Дорогие други мои, что же вы затеяли? Какие замыслы взлелеяли? Убить невиновных, не сделавших вам никакого зла. Побойтесь Бога и того, что однажды раскаетесь в содеянном варварстве. Но помните и то, что Швеция защищает этих иноземцев и отомстит за них». Речь эта подействовала на стрельцов, и они ограничились взятием в заложники жен и детей иноземцев, которых только что хотели умертвить. Между тем волнения в Москве продолжались; стрельцы как безумные носились по городу и убивали его жителей. В одном только из многих кварталов русской столицы было обнаружено около 5 тыс. трупов. Хованский убеждал мятежников отступить, но те слушались теперь лишь своей ярости и угрожали уничтожить и стереть в прах все и вся, если им немедленно не покажут самодержца Иоанна. Этот правитель, видя, что присутствие его необходимо, чтобы угасить пламя восстания, сразу отправился в Москву и предстал перед войском, которое провозгласило его царем. Друзья Петра в тот момент посчитали неблагоразумным противиться этому, глубоко убежденные в том, что очень скоро и Иван впадет в немилость у стрельцов и те его возненавидят, обнаружив на деле его полнейшую неспособность управлять государством; решили, что речь следует вести о царевне Софье, известной своим властолюбием и непомерными амбициями, настаивая на том, что подобная женщина во главе великой державы не меньшее бедствие, чем мор или война. В крайнем случае, если бы совершенно лишить Софью реальной власти не удалось, сторонники Петра готовы были уступить ей титул регентши, учредив при ее персоне совет, в обязанность которого вменялось бы следить за всеми решениями и поступками царевны и препятствовать тем ее действиям, которые могли быть сочтены противоречащими интересам обоих царей, ее братьев. Царевна была разгневана, видя, как пытаются учредить над ней разновидность опеки, и вновь обратилась к Хованскому. Тот во второй раз поднял своих стрельцов, и те убили главу[73] и всех членов регентского совета. После нового кровавого злодеяния Хованский посчитал, что пришло время ему самому воспользоваться плодами своих преступлений. Для достижения своей цели, ему нужно было убить обоих царей. Такое ужасное злодеяние, разумеется, не могло его остановить, но, хорошо зная, с какой любовью и почтением относятся московиты к семейству своих венценосных правителей, ясно понимал, что для облегчения своей задачи должен подумать о бракосочетании своего сына с одной из царевен царской крови. Хованский был убежден, что после смерти царей народ не преминет возвести на трон супруга царевны, чего очень легко было добиться с помощью стрельцов. Окрыленный надеждой, он встретился с Софьей и предложил ей этот спасительный и необходимый, как он убеждал ее, брак. К великому огорчению Хованского, расчет его оказался ошибочным. Софья с трудом сдержала готовое прорваться наружу негодование, и лишь для вида, великолепно владея искусством лжи и притворства, высказалась благожелательно относительно его матримониального проекта и даже обещала в отношении его свое полное содействие и покровительство. Само собою разумеется, и часа не прошло, как Софья сообщила обо всех сделанных ей предложениях князю Голицыну[74], своему фавориту и доверенному лицу. Этот князь, властолюбивый и тщеславный не менее Хованского, всегда поступал с гораздо большей осторожностью и осмотрительностью. Кроме того, он отличался изяществом и утонченностью манер, не был чужд литературе (вещь в те времена совершенно необыкновенная для московита). Он объяснил Софье, насколько может быть опасен Хованский, и убедил ее в том, что от него нужно избавиться немедленно. Несколько дней спустя справлялся праздник дня Святой Екатерины, и Софья вместе с Голицыным воспользовались этим случаем, чтобы погубить стрелецкого голову. Празднование проходило очень торжественно, и по сему случаю многие бояре были приглашены на пир. Хованский с сыном расценивали этот торжественный обед, на который, разумеется, и они были приглашены, как прелюдию к свадьбе. В одиннадцать часов вечера, когда они направлялись но дворец, их остановили какие-то ряженые, насильно вывезли за город и там отрубили им головы. На следующий день стрельцы, не дождавшись появления командующего, поняли, что с ним что-то случилось. Тотчас они собрались вместе, громко крича, чтобы предводитель их, мертвый или живой, был им немедленно выдан, в случае отказа угрожая предать всю Москву огню и мечу. Перепуганная Софья вместе с Василием Голицыным укрылась в Троицком монастыре, рядом с теми, кого ранее вынудили укрыться там ее интриги — Иваном и Петром. Стрельцы бесчинствовали в это время в Москве. Решено было выслать против разъяренных бунтовщиков немецкие войска, но этого не потребовалось, поскольку восставшие, видя себя оставшимися без руководителя, а с другой стороны, опасаясь столкновения с прекрасно обученными и гораздо более дисциплинированными наемными полками, решили скорее прибегнуть к царскому милосердию, чем подставлять себя под удар неминуемого и жестокого наказания, вполне ими заслуженного. К счастью для них, все складывалось удачно: прощение было получено, бунт прекратился. Четыре дня спустя цари вернулись в Москву и обнаружили в столице совершенное спокойствие. Царевна Софья, свободная от большей части своих врагов, начала действовать и править по-царски. Голицын был возведен в ранг первого министра, обласканного и осыпанного милостями своей госпожи. Все родственники и друзья царя Петра были удалены со своих постов, и в правительстве не осталось никого, кто бы встал на его сторону или защищал его интересы. Голицын думал свергнуть его с трона, чтобы самому занять его место. Софья содействовала и покровительствовала ему и даже настойчиво советовала не упускать такой шанс обрести царскую корону, разумеется, после смерти Петра Алексеевича. Голицын же, считавший, что не все надлежащие меры еще приняты, пока ограничивался тем, что окружал молодого царя только такими удовольствиями, которые могли привести в смятение и расстройство его дух, угасить разум, изгнать из сердца всякое желание править, согласуясь с принципами добра и справедливости. Так, Петру поставляли в большом количестве не какие-нибудь, но лишь крепкие вина и всевозможные алкогольные напитки, и питье их так вошло у него в привычку, что в дальнейшем он уже совершенно не мог от них воздерживаться и очень часто в кругу своих самых близких друзей и сподвижников злоупотреблял дарами Бахуса. В этом крылись начало и причина всех тех ужасных приступов гнева, почти безумного, в который впадал он впоследствии. И все-таки опасные удовольствия, к которым пристрастился царь, не могли совершенно угасить тех благородных чувств, которые вложила в него природа. Софья была в отчаянии и решилась на крайнее средство. Голицын, более осторожный, а может быть, и более трусливый и нерешительный, чем она, докладывал царевне, что царь Петр Алексеевич любим народом и следует опасаться восстания, если станет известно, что его намерены погубить. Первый министр предложил царевне другое средство, не менее извращенное и гнусное, которое, разумеется, было одобрено[75]; но небо, желавшее реформ в жизни этой страны, сберегло для нее единственного царя, способного их совершить. Однако партия сторонников молодого Петра, обеспокоенная постоянными происками Софьи и Голицына, пристально следила за их действиями, и когда представился удобный случай разделаться с первым министром, сразу воспользовалась им. Русским войскам, отправляющимся в Крымский поход, требовался опытный командующий, способный провести блестящий отвлекающий маневр и тем помочь императору германской «Священной Римской империи» в его войне против турок и венгерских мятежников. Василий Голицын не осмелился отказаться от столь важного назначения из опасения открыто скомпрометировать себя этим отказом. Лишние подозрения ему были ни к чему. С другой стороны, он хорошо понимал, что возложенное на него поручение до крайности затруднит осуществление его планов. Тем не менее он выступил в поход во главе войска и не выказал в этой кампании никаких военных талантов. После двухлетних бесславных походов в Крым он вернулся в Москву, получив от царя Петра жестокий нагоняй за столь малое усердие и радение на службе Их Величествам. Более того, Петр прямо пригрозил сурово его наказать, если русские войска не добьются решающих успехов в Крыму. Голицын в ярости покинул дворец и, направившись к Софье, тут же все ей рассказал. Царевна, давно уже ведущая себя как полновластная (а скорее даже как самовластная) царица, сначала не могла произнести даже слова от изумления, потом, придя в себя, воскликнула: «Это будет стоить ему жизни». Голицын просил ее объясниться, и она сказала ему следующее: «Царь Петр начал взрослеть, теперь он, кажется, понял, что является нашим законным повелителем. Ни к кому у него нет ни малейшего уважения, и способ, каким он обращается с дорогим мне человеком, ясно показывает, чего следует и мне опасаться от него в ближайшее время. Я совершенно убеждена, что замысел заключить меня в монастырь уже созрел в его голове. Вас же он непременно сошлет в Сибирь! Вы должны помешать этому, ибо падение и гибель ваша не может быть отделена от моей, да и мне ничего не остается, как похвалить и одобрить Петра за решительность. Следовательно, речь идет сегодня о том, чтобы преодолеть вашу неуверенность, ибо самое время нанести решительный удар, который избавит нас от всех страхов разом, одним словом, надо устроить так, чтобы Петр погиб. У меня есть стрельцы. Шаклобитов, которого я возвела в ранг их командира, человек отважный, всецело преданный мне и моим интересам. Наша с вами щедрость и доброта склонят на нашу сторону большое число окольничих[76], многих офицеров армии и даже дворян. Переворот не должен провалиться. Удар, нанесенный нами, не должен остаться без успеха, мне достаточно всего лишь повелеть моим сторонникам действовать». Голицын хотел что-то ей возразить, но Софья перебила его, сказав: «Вот вам моя рука, ее и корону я вручаю вам, примите и то и другое с благодарностью и предоставьте мне позаботиться об остальном. Пришла пора нам сделать выбор между троном, ссылкой и смертью; разве не ясно вам, что только убийство сможет надежнее всего спасти нас от угрожающих нам опасностей. Если царь Петр, по-прежнему находясь под так называемой опекой, уже сейчас осмеливается обращаться с нами так высокомерно, чего же ждать от него тогда, когда возраст придаст ему еще больше сил и отваги?» Голицын согласился, ибо просто не мог не согласиться, но действовать предоставил царевне, благословив ее на счастливое завершение начатого дела. Софья сразу же встретилась для тайного разговора с Федором Шакловитовым, новым главой стрельцов. Она рассыпалась в похвалах его усердию и преданности дому Романовых и ей лично, которые он проявлял при каждом удобном случае. «Мне недостает соответствующих полномочий и положения, — говорила она ему, — чтобы в полной мере и по справедливости выказать вам мою признательность, но будьте уверены, когда я стану самодержавной государыней, я всех заставлю позавидовать вашей судьбе». Шакловитов отвечал, что он всей душой предан царевне и готов хоть сейчас дать тому надежное подтверждение. «Федор, — продолжала Софья, — если правда то, что вы говорите, и вы совершенно искренни со мной, у вас будет случай сослужить мне очень важную службу и оказать услугу, воздаяние за которую сделает вас одним из самых богатых людей на Руси; но от вас в этом деле потребуется отвага, решимость и умение хранить тайну». Шакловитов принес самые страшные клятвы и ручательства в своей искренности и верности и обещал исполнить приказ Софьи, каков бы он ни был; и та, более не таясь, прямо объявила, что речь идет об убийстве царя Петра и всего семейства Нарышкиных. Глава стрелецкого приказа, казалось, нисколько не был удивлен подобным заявлением и обещал царевне скорейшее избавление от всех ее врагов. Вслед за тем он велел собраться самым смелым и решительным стрельцам и напомнил им о тех милостях и наградах, которыми их осыпали царевна Софья и князь Голицын. Более того, Шакловитов постарался изобразить царя Петра в самом невыгодном свете, представляя его государем, думающем лишь о том, как бы возвысить, обогатить и осчастливить немцев на руинах благополучия страны, благодаря окончательной гибели своих самых верных подданных. «Замысел его, — говорил Шакловитов, — заключается в том, чтобы уничтожить вас, а на ваше место поставить иноземцев, к которым он только и питает подлинную любовь, но если у вас достанет храбрости, вы сможете предотвратить подобное несчастье». Слов его было достаточно, чтобы возбудить стрельцов, дух которых всегда был склонен к бунту[77]. Все они дружно воскликнули: «Да здравствует царь Иоанн и царевна Софья, многие, многие им лета, и да падут все до единого проклятые Нарышкины!» Шакловитов, пользуясь столь удачным положением дел, не стал терять ни минуты, сразу направился в село Преображенское, где уже несколько дней находился царь. Прочие верные ему люди ночью заняли улицы, переулки и пригороды Москвы, в которых воцарилась гробовая тишина — обыватели прятались по домам, боясь выходить на улицу. Тем временем два стрельца, пришедшие в ужас от того преступления, которое им предстояло совершить, и не желавшие пятнать своих рук кровью своего монарха, отделились от толпы заговорщиков и бежали в Преображенское, чтобы предупредить Петра об опасности, ему угрожающей. Поначалу молодой царь не хотел верить тому, что ему доносили, но когда его все-таки убедили в верности полученных сведений, срочно велел запрягать карету, в которую сел со своей матерью и почти обнаженной беременной женой. Остальные его родственники, друзья, офицеры и министры, вскочив на коней, верхом последовали за своим господином, направившимся в монастырь Святой Троицы. Стрельцы обрушились со всех сторон на Преображенское и были страшно удивлены, не обнаружив там намеченные жертвы. Шакловитов понял, что его предали. В отчаянии от того, что переворот провалился, он хотел послать в погоню за бежавшими одного полковника, взявшего на себя обязанность убить Петра, но ему донесли, что и это бесполезно, поскольку царь уже слишком далеко. Пришлось возвращаться в Москву. В отчаянии от постигшей его неудачи Шакловитов явился к Софье и обо всем ей рассказал. Царевна приняла решение немедленно — участие в заговоре, как и самый заговор, следовало отрицать, упирая на то, что никаких веских улик, доказывающих его существование, не было[78]. Между тем по столице разнесся слух, что царь Петр и весь его двор, как и пять лет назад, бежали в монастырь Святой Троицы, а вскоре увидели и людей Петра, читающих его послание на улицах столицы с призывом ко всем боярам присоединиться к нему. Не были забыты и стрельцы, всем воинам этого военного корпуса, не вступившим и не участвующим в заговоре, надлежало идти на помощь своему государю. Шакловитов делал все возможное, чтобы удержать их, но на этот раз стрельцы предпочли не подчиниться своему командиру, дабы не навлечь на себя гнев царя. В Святотроицком монастыре держали совет, какие меры принять для безопасности юного монарха. Вот когда Софья начала опасаться за свою жизнь и теперь была принуждена молить о прощении за свое преступление. Не получив никакого ответа, она решила, что надежнейшее средство ее спасения — в немедленной выдаче Шакловитого в руки царя. Так приносят великие в жертву своим интересам тех, кто совершил или готов был совершить ради них самые опасные, а подчас и преступные деяния. Впрочем, царь не нуждался в согласии или помощи своей сестры, чтобы схватить Шакловитого. Его взяли в Москве и препроводили в Троицкий монастырь; туда же собралось множество бояр выслушать обвиняемого. Несчастного допрашивали четыре часа. Так как он отказался во всем сознаться, ничего не сказав о соучастниках своего преступления, его повели на пытку. Лишь жестокие мучения вырвали у него признание в организации заговора. Он заявил, что клялся убить царя, его мать и ближайших родственников. Сейчас несчастный не только раскрыл все планы, но назвал имена всех своих сообщников и лиц, которые его самого втянули в богопротивное дело силою многих посулов и обещаний. Немедленно были арестованы все им названные, и на решение их судьбы ушло два дня. Шакловитого признали достойным четвертования, и он претерпел эту жестокую казнь. Некоторые были впоследствии оправданы. Софья была виновнее прочих, но царь ограничился тем, что приговорил ее к пожизненному заключению в Новодевичий монастырь, выстроенный совсем недавно по ее приказу недалеко от Москвы. Наказание это, на первый взгляд легкое, должно было показаться царевне, привыкшей властвовать, а теперь потерявшую всякую надежду вступить на царский трон, необычайно жестоким. Великого Голицына должны были покарать смертью, как и многих других заговорщиков, если бы один из его двоюродных братьев, пользующихся доверием царя, не вымолил ему жизнь. Его привезли в Святотроицкий монастырь и, поставив у дверей в царские покои, зачитали указ: «Царь велит сказать, что тебе следует удалиться из Москвы в Каргу и там провести остаток своих дней в немилости у Его Величества, который по причине своей природной доброты все-таки желает даровать тебе по три копейки в день на пропитание. Все же добро твое будет конфисковано в казну царскую». Несчастный князь ничего не ответил, ему тяжело было оправдываться перед государем. Сын Голицына, взятый отцом в коллеги по делам Посольского приказа, последовал за ним в изгнание, как, впрочем, и все ближайшие его родственники, по обычаю Московии обязанные претерпеть единую участь с преступником. Когда все виновные были наказаны казнью или изгнанием, царь Петр направился в Москву, где все это время оставался его брат Иоанн, не принимавший, впрочем, никакого участия в происходящих событиях. Два государя обнялись и заверили друг друга в самой нежной братской привязанности и дружбе, однако фактически один лишь Петр обладал всей полнотой власти, более не обращая внимания в своих действиях и повелениях на царя Иоанна, который, как всегда, не выказывал по этому поводу ничего, кроме совершеннейшего тупого равнодушия. Именно с этого времени и начинается подлинное царствование, правление Петра Алексеевича[79], против которого подданные его еще не раз затевали заговоры. Царевну Софью охраняли так, что казалось совершенно невозможным, чтобы она смогла переписываться с кем-либо из-за стен своего монастыря. И все-таки она нашла средство обмануть бдительность стражей и еще раз восстановила стрельцов против царя. Какая-то старуха-нищенка имела обыкновение являться по вечерам под стены Новодевичьего монастыря, прося милостыню. Софья увидела ее случайно и дала несколько рублей серебром. Видя, что нищенка и в следующий раз появилась на том же месте, царевна попросила оказать ей услугу, но выполнить данное поручение в глубокой тайне и надлежащим образом — за это она получит хорошее вознаграждение. На следующий день Софья дала женщине хлебец, внутри которого были спрятаны письма княжны к ее сторонникам, а еще через несколько дней она получила ответ, полностью соответствующий ее желаниям. Многие командиры стрельцов, три боярина и один казачий полковник участвовали в этом заговоре. Меры, которые применил Петр для просвещения своих подданных, вскоре сделали его ненавистным народу, весьма привязанному к своему варварству[80]. Стрельцы давно уже знали обо всем этом и отдавали отчет в том, что царь однажды доберется и до них. Ревность, отчасти совершенно справедливая, сильнейшим образом возбуждала их против иностранцев, которым как никому в русских войсках давались самые ответственные посты и высокие звания. Увы, слишком темные и в массе своей малопросвещенные, они не знали и не могли постичь подлинного блага государства, ясно увидеть то, что в первую очередь было ему нужно, и с ненавистью и негодованием взирали на все новшества и перемены, которые вводил Петр. Неясность целей царя, не нуждавшегося в одобрении или понимании своего народа, толкала людей на восстание. Итак, заговорщики задумали возвести Софью на престол и убить царя-реформатора. Все было готово для исполнения этого плана. Было решено поджечь один из покоев дворца. В таких случаях царь всегда сам выбегал на улицу, смешивался с толпой и лично командовал тушением пожара, вот когда его должны были подкараулить убийцы, ибо ничего не было проще, как убить царя посреди общего смятения и беспорядка. Роковой день был близок, но двое из числа заговорщиков, терзаемые угрызениями совести, явились к царю и рассказали о надвигающейся угрозе. Петр их простил и даже спросил их мнения относительно мер, которые надлежало принять против виновных с целью их немедленного задержания. А вскоре те действительно были арестованы и наказаны смертью. Части их разрубленных тел были выставлены на всеобщее обозрение там, где они намеревались совершить свое преступление. Не осталась неведомой Петру и главная виновница заговора, и он мог и имел право сразу же и без зазрения совести пролить кровь своей сестры, однако пожелал скорее послушаться зова сердца, чем выгод и правил политики. Просто Софью отныне держали еще в большей строгости, следя за каждым ее шагом. Так как в намерениях у меня не было писать подробную историю жизни этого царя, я ограничусь здесь лишь рассказом о заговорах, которые против него готовились. Пока он путешествовал по Европе, московиты склонились еще к одному восстанию, гораздо более опасному, чем все предыдущие. Русский народ не мог спокойно видеть, как их законный государь, оставив дела правления страной, отправляется неведомо куда, бросив своих подданных на произвол судьбы. Среди них священным обычаем было непутешествовать и смертельным грехом почиталось оставлять пределы отечества в том случае, если речь не шла о войне. Таким образом, царь не мог не быть в их глазах отступником. Больше же всего возмутил его подданных слух, который распространился вскоре по его отъезде, что Петр набирает войска из иноземцев, чтобы вести их на Русь и силой заставить своих подданных следовать обычаям, нравам и моде других народов. Все говорило о том, что восстание близко и его не избежать, а отсутствие царя, казалось, лишь увеличивало шансы на успех. Но, к счастью, разумное поведение опытных в государственных делах регентов удержало в повиновении жителей Москвы, и ни один из них не осмелился возмутиться. Не то было в Смоленске. Софья в который раз нашла способ обойти строгий надзор и списаться со своими бывшими сподвижниками, которых просила напомнить стрельцам о том, кто виновник уничтожения их привилегий, которыми они пользовались в царствование ее отца Алексея Михайловича и в годы ее власти. Через верных людей она заверяла стрельцов, что хорошо знает обо всех замыслах царя, задумавшего не только совершенно лишить их исконных прав дворцовой гвардии, но и вообще распустить и всех отправить в ссылку (сослать подальше от столицы), заменив их иноземными полками. Стрельцам внушалось, что во избежание подобного несчастья им надо взяться за оружие — идти из Смоленска на Москву, освободить царевну Софью из монастыря и возвести ее на престол. Конечно, командиры стрельцов были к этому готовы, но нелегко было заручиться поддержкой простых солдат. Пришлось прибегнуть к помощи священников, чтобы зажечь пламя вражды и в их сердцах. Проповеди попов так возбудили стрельцов, что те поклялись не складывать оружия до тех пор, пока не отомстят царю за свои обиды. Восставшие числом свыше 12 тысяч человек прежде всего изгнали тех своих командиров, которых подозревали в старинной симпатии к дому Нарышкиных и царю Петру. Затем они повсюду разослали небольшие отряды поднимать народ на восстание, угрожая изрубить всякого, кто откажется следовать за ними или принять присягу в верности делу свержения преступного, на их взгляд, царя. Тревожные слухи скоро достигли Москвы, регенты, оставленные Петром в столице, приняли меры, чтобы остановить наступление восставших. Генералам Шеину и Гордону был отдал приказ срочно собрать все имеющиеся в столице войска и выступить против стрельцов. По счастливой случайности между восставшими возникли разногласия — каждый хотел командовать, — в которых они понапрасну теряли время, чем воспользовались Шеин и Гордон. Они выступили из Москвы с войском численностью от 13 до 14 тыс. человек и ускоренным маршем достигли и заняли стратегически важные для обороны и наступления позиции. Такой позицией стал Иерусалимский монастырь, названный так в честь того, что видом своим весьма напомнил храм Гроба Господня в Иерусалиме. Появились стрельцы и стали переправляться через Истру, довольно глубокую и широкую речку, протекавшую почти что под стенами монастыря и разделявшую собой обе армии. Верным царю войскам, уставшим после долгого и скорого перехода, трудно было им препятствовать, к сожалению, они не смогли оказать должного сопротивления. Видя, что положение его войск становится угрожающим, генерал Гордон отважно выехал вперед и обратился к мятежникам с речью: «Какие у вас замыслы и куда вы намерены идти? Может, на Москву? Подумайте о том, что надвигается ночь. Не лучше ли будет вам отдохнуть, а завтра здраво поразмышлять над тем, что вы намерены сделать? Поверьте мне, то, что вы затеяли, стоит того, чтобы все взвесить заново. Не торопитесь очертя голову броситься в опасное предприятие, ибо можете горько раскаяться в содеянном. Может быть, завтра вы сможете принять лучшее решение». Редко бывает, когда следуют совету врага. Вместе с тем стрельцы вняли этой речи и даже нашли ее разумной. Всю ночь они стояли в полном покое, и их промедление дало время Гордону занять удобные позиции и выстроить войска. На следующий день поутру зазвучали барабаны мятежников. Они вновь попытались форсировать реку Истру, и Гордон снова без страха предстал перед их рядами, спрашивая, по какой причине взяли они в руки оружие. «Его мы взяли, — отвечали ему, — чтобы себя защитить против тех, кто хочет нашей гибели». «Эх! Дети мои, — отвечал Гордон, — разве вы кому-нибудь до сих пор приносили свои жалобы законным порядком и вас отказались принять и выслушать? Конечно же, нет. На кого же вам жаловаться, на кого пенять, кроме самих себя? Последуйте моему совету, просите прощения за ваш неразумный поступок и возвращайтесь туда, откуда пришли и где находится ваш лагерь. Такой знак раскаяния позволит навеки позабыть о вашей вине, благодаря ему вы, несомненно, избегнете горчайшей немилости, которую сами готовы вот-вот навлечь на свои неразумные головы». Восставшие не пожелали слушать далее и заявили генералу Гордону, что отныне не признают ничьей власти и не намерены отступать, а хотят идти на Москву и, если им преградят дорогу, готовы с оружием в руках проложить ее себе. «Впрочем, — продолжали они, — если вам угодно, чтобы мы доказали, что нам и в голову не приходит просить о чьей-либо милости, предупреждаем, если вы сейчас же не отступите, ответом на ваши речи станут выстрелы из пищалей». Подобный комплимент легко позволял понять, до какой степени накалены страсти и что пути к примирению нет, — оставалось использовать средства более действенные. И все же была предпринята еще одна попытка образумить мятежников. Пушки зарядили одним порохом без ядер и картечи и выпалили по непокорным только, чтобы их испугать. Когда стрельцы, опомнившись после первого залпа, с удивлением заметили, что никто из них не убит и даже не ранен, они необыкновенно воодушевились, а примкнувшие к ним попы (так русские зовут священников) стали восклицать, обращаясь к воинам: «Не бойтесь больше ничего, братья, Святой Николай объявил себя вашим покровителем, он не допустит, чтобы пал хотя бы один из вас». Воодушевленные фанатической речью, стрельцы дали залп из ружей и нестройными рядами стали переправляться через реку, и тут первые ядра обрушились на них, причиняя ужасные потери. Тогда лишь, но уже слишком поздно, увидели они, что уязвимы, как и прочие смертные, а между тем артиллерия продолжала бить по непокорным, кровью которых окрасилась река Истра. Оказавшись в ужасном положении, не имея возможности ни наступать, ни отступать без жесточайших потерь, пытались эти несчастные вымолить себе спасение у победителей, громко взывая к их милосердию, выбегая на противоположный берег реки и бросаясь на колени перед Гордоном, которого недавно так нагло оскорбили. Им было приказано сложить оружие и по двое переправляться через реку. Командиров их и попов, среди которых практически все были явными зачинщиками бунта, заковали в цепи. Тридцать самых ярых и закоренелых мятежников были подвергнуты пыткам, и так как они ни в чем не желали сознаваться, их окровавленные тела привязали к деревянным перекладинам, прикрепленным между двумя столбами[81], и развели под ногами пленников огонь, желая вынудить их повиниться в преступлении. Так несчастные погибли все до одного посреди ужасных мучений. Царь, бывший тогда в Вене, узнав, что происходит в его государстве, поклялся, что ни один из виновных не избежит его гнева и праведного наказания. Стремительно, часто меняя лошадей и кареты, в четыре недели добрался он до Москвы и сразу же учинил сыск и следствие по этому делу. Число посаженных в результате дознания в тюрьму достигло 3 тыс. человек. Ему даже пришло на ум раз и навсегда избавиться о царевны Софьи, умертвив и ее и приведя в оправдание пример английской королевы Елизаветы Тюдор, которая и по поводу во много раз меньшему велела судить и отрубить голову Марии Стюарт. Фаворит царя Лефорт[82] заклинал своего государя о милосердии. «Она уже четырнадцать лет, — возражал ему Петр, — устраивает против меня заговоры, доколе же переносить мне нрав ее?» «Не то важно, Ваше Величество, — отвечал Лефорт, — что вы не предали ее смерти, а то, что всем отныне стало ясно, что слава и доброе имя вам дороже чувства мести. Предоставим туркам проливать родную кровь. Христианину надлежит иметь в груди совсем другое сердце». Петр простил Софью; он явился к ней, горько и долго упрекал, но все кончилось пролитием с обеих сторон обильных потоков слез примирения. Княжна использовала всю силу своего красноречия, чтобы оправдаться, и совсем немного недоставало, чтобы брат поверил ей и посчитал совершенно безвинной. После встречи с Софьей Петр как-то сказал Лефорту: «Сестра моя наделена умом немалым, жаль, что она так зла и испорчена нравом, что употребила его во зло». Некоторые из заговорщиков, которых подвергали пытке, сознались, что в замыслы их входило истребление всех иностранцев и овладение Москвой, которую должны были они предать огню и мечу, не пожалев никого из бояр и детей боярских, так далеко зашла крамола и измена в их рядах. Войти в город надлежало под видом церковной процессии, несущей иконы и изображения святой девы Марии и Святого Николая, дабы придать восстанию видимость законного и богоугодного дела. В отношении же царя Петра они собирались пустить слух, что государь в ходе своего дальнего странствия преставился, а перед смертью велел короновать Софью на царство, а Василия Голицына вернуть из Сибири, чтобы поручить ему командование войсками. Этого признания было вполне достаточно, чтобы предать бунтовщиков смерти, но поскольку на Руси существует давний обычай казнить преступника лишь после того, как он полностью сознался в своем преступлении, целый месяц ушел на пытки несчастных. Более трехсот заговорщиков погибли под ними, так ни в чем и не признавшись. Один из них продемонстрировал такое неодолимое упорство, такую крепость духа, что царь потерял терпение, приблизился к преступнику и нанес ему такой сильный удар увесистой палкой по лицу, что сломал челюсть, проговорив при этом: «Сознавайся же, дикий зверь». Два попа, особо активно подбивавшие стрельцов к восстанию, были наказаны смертью[83], как почти все другие виновные. А так как палачи не могли выдержать такого количества работы, царь повелел, чтобы и каждый из судей взял на себя исполнение произнесенного им приговора и первым подал пример, отрубив восемьдесят голов в селе Преображенском. Ему помог один из вельмож, придерживая казнимых за волосы, чтобы удар царя был вернее. Даже боярам вменялось в обязанность обезглавить каждому определенное количество бунтовщиков. Так, например, князь Борис Голицын[84] лично отрубил головы двадцати пяти стрельцам, что доставило ему немало хлопот, ибо он был неопытен в такого рода деле. Петр Алексеевич хотел, чтобы и немцы, Франц Лефорт и барон фон Пламберг, снесли несколько голов, но эти вельможи просили его избавить их от ужасной повинности, ссылаясь на то, что подобные процедуры не в обычае их стран. Царь больше не настаивал, но лишь сказал последним, что нет более угодной богу жертвы, чем пролитие крови негодяев. Вокруг Москвы ставили виселицы, на которых вешали трупы казненных. Число их превысило тысячу пятьсот человек, и такое количество казненных не могло не явить миру ужасного зрелища. В воздухе не умолкали стон, вой и плач жен и детей, потерявших своих отцов и мужей. Но даже это зрелище не трогало сердец тех заговорщиков[85], которых еще только вели на пытку и гордившихся тем, что перед смертью они не произнесли ни слова. Один из несчастных, пытаемый самым ужасным образом, увидев Петра в толпе, крикнул ему: «Уйди, государь, здесь мое место, а не твое». Двести стрельцов были повешены у Новодевичьего монастыря, в котором была заточена Софья. Были подвергнуты там же пытке и казни три стрельца, составивших и написавших грамоту царевне, в которой униженно молили ее взойти на престол. После казни каждому из них в руку был вложен клочок бумаги, а трупы были повешены так, словно они и мертвые держали в руках челобитные, умоляя царевну спасти их от царя Петра. С каждым днем поток пыток и казней рос и грозил кровью убиенных залить город. Обеспокоенный патриарх решился во главе процессии идти на поклон к царю, заклиная его простить еще оставшихся в живых бунтовщиков. Этот добрый русский прелат (первосвященник) нес в своих руках иконы Божьей Матери и Иисуса Христа, полагая, что Петр Алексеевич будет обезоружен одним видом этих священных предметов. Но царь, взглянув на патриарха горящими от гнева глазами, сказал: «Зачем ты явился сюда? Что собираешься делать? Живо убирайся и уноси с собой эти образа в места более подобающие. Знай, что я боюсь Бога и почитаю сына его Иисуса, как и ты[86]; но да будет тебе ведомо, что долг мой заключен в том, чтобы радеть о счастье моего народа и наказывать тех, кто пожелал ввергнуть его и царство мое в пучину бед и несчастий». Более благосклонно Петр выслушал Лефорта. Это славный женевец доказал ему, что вина всегда застуживает наказания, но виновного никогда нельзя подвергать чрезмерным несправедливым мучениям. Между тем царю донесли, что среди непокорных бунтарей еще много живых, страдающих от жестоких, неслыханных, невыразимых болей, вызванных пытками. «Государь, — продолжал Лефорт, — взываю к вашему человеколюбию и прошу прекратить желанной для них смертью страдания несчастных». И царь тотчас велел добить их залпом из мушкетов. Был положен конец и наказанию других стрельцов: более двух тысяч из них были приговорены к смерти, остальные отправлены в изгнание. Некоторые из них посланы были нести гарнизонную службу в Азов, в то время отвоеванный царем у турок, и там умерли от случившейся в тех краях чумы. Уцелевших вывели из этого города и сослали к их сторонникам по оружию в Сибирь. Таким-то вот образом эта гвардия, прежде столь преданная своим государям, перестала существовать. Даже имени стрельцов, не то что встречи их самих, не слышали в русской армии с тех времен. Уцелевшие и счастливо избежавшие участи своих товарищей влились в новые полки вновь формируемой русской армии, и число этих уцелевших было крайне незначительно. Если судить поведение Петра Алексеевича в отношении своих мятежных и непокорных подданных беспристрастно, нельзя не согласиться с тем, что вел он себя крайне жестоко и подчас несправедливо. Это верно, но прибегал он к крайне суровым мерам лишь для того, чтобы подчинить московитов законам разумным и справедливым, которых они никогда прежде не знали и в которых всегда чувствовался серьезный недостаток в этой стране. Большим огорчением, если не сказать больше — горем, было для государя, исполненного великих замыслов и надежд, встречать при исполнении их тысячу препятствий со стороны народа, ради счастья которого он нес неустанные тяжелейшие труды, раньше времени сведшие его в могилу. Увы, ради счастья подданных он проливал реки крови, желая достичь поставленную перед ним временем цель. Московиты желали коснеть в своем родном и дремучем невежестве, предпочитая иноземным наукам и искусствам мрак родного варварства. И пожалуй, нет и не было еще на земле народа, более тяжело и неохотно подчиняющегося законам разума и человечности. Петр I поставил перед собой несбыточную для многих поколений русских правителей и простых людей цель и достиг ее. Народ России в настоящем наслаждается всеми выгодами и благами цивилизации, с которой с такой яростью сопротивлялись его предки. Нельзя без душевного смятения видеть, как царь выполняет обязанности палача. Но не этим одним Петр I победил и преодолел предрассудки и древние традиции. Будь это так, он не представлял бы для истории особого интереса и был бы причислен к кровожадным, но вполне обычным тиранам. Однако при ближайшем рассмотрении человек этот возвышается над другими людьми и правителями древними и современными большим количеством героических и благородных качеств, делающих его достойным власти государя, но, к глубокому сожалению, нашедшего в своей собственной семье своих самых жестоких и непримиримых врагов. Мы уже видели, какие замыслы лелеяла против него сестра. Сейчас приступим к рассказу о том, как его собственный сын восстал против своего родителя. Царевич Алексей Петрович нисколько не походил на того, кто даровал ему жизнь. От природы был он склонен к самому безумному распутству и вполне мог разрушить все, с таким трудом созданное его отцом. Петр в ужасе от того, чем грозит России правление такого человека, постарался вернуть царевича на путь истины, объяснив ему свои чувства в следующих выражениях: «Вы не можете не знать того, как стенали наши подданные под тиранией шведов, прежде чем началась нынешняя война[87]. Захватом большого числа приморских городов они отрезали нас от всего остального мира, лишив свободы торговли и доведя до такого ничтожества и унижения, что нам стоило великих трудов от всего этого освободиться. Наконец нам удалось поставить надежную преграду этому потоку, который мог в скором времени совсем поглотить нас, — мы испытываем великое преображение, которое заставляет трепетать перед нами врага, перед которым раньше трепетали мы. Вот выгоды, которыми, за исключением Всемогущего Бога, обязаны мы в первую очередь самим себе, нашим трудам и усердию наших подданных. Но с радостью в душе взирая на те милости, которыми осыпало небо наше отечество, я скорблю при мысли о том, что вы окажетесь неспособны управлять после моей смерти. Я утверждаю, что так называемая немощь ваша выдумана, ибо вы не сможете привести в свое оправдание ни одного природного, врожденного недостатка вашего разума или слабости вашего здоровья. И хотя сложение ваше не из самых крепких, вы не можете пожаловаться на недостаток энергии в вашем теле. Вместе с тем вы не желаете и слышать о ратном труде или хотя бы о простых военных упражнениях, посредством которых мы вырвались из мрака постыдного ничтожества и унижения и завоевали уважение всех цивилизованных народов Европы. Разумеется, я не убеждаю вас воевать без особых на то причин; я только прошу, чтобы отныне вы прилежали к этому искусству, потому что невозможно хорошо править людьми, не зная азов военной науки, хотя бы по одной той причине, что государю надлежит защищать свое Отечество. Я мог бы привести вам много примеров несчастий, случившихся с некогда могущественными государствами по причине забвения ими этого необходимейшего из искусств, но лучше скажу вам о народе, которого постоянное пребывание во сне и отсутствие должного трудолюбия совершенно лишили сил и энергии, оставив стенать под постыдным игом невежества и иноземного рабства столь долгое время. Вы ошибаетесь, если считаете, что правителю достаточно иметь хороших военачальников и полководцев, способных грамотно и точно исполнять его приказы. Каждому человеку свойственно обращать взоры свои на начальника, у него учиться, ему подражать. Брат мой Федор Алексеевич, пока правил, был поклонником великолепных одеяний и экипажей. Вам же не стоит питать склонность к подобным вещам, помня о том, что вкусы и взгляды правителя распространяются в народе. Но если подданные любят то, что любезно сердцу их повелителя, то и ненавидеть они должны то, что не нравится их государю. Так, взгляды и привычки их меняются из поколения в поколение и от времени правления одного монарха до времени правления другого. Однако, поскольку вы не хотите осваивать великого искусства войны, каким же образом вы сможете командовать другими, верно и справедливо судить о наградах и наказаниях, заслуженных вашими солдатами? Вы говорите, что здоровье ваше не позволяет переносить тягот и трудов ратных. Дурная отговорка! Не требую, чтобы вы непременно напрягали себя этими трудами, прошу лишь о большей склонности к ним, которую всякий человек показать может даже во время болезни. Расспросите тех, кто помнит моего брата: он был по натуре несравненно слабее вас, не мог справиться с конем, сколь бы спокоен тот ни был, даже не решался садиться в седло, но ему нравились лошади и нигде, пожалуй, не найти было конюшни прекраснее его. Из примера этого вы можете усмотреть, что счастливые события и поступки не всегда зависят от тяжких трудов, но и от воли, их порождающей. Если вы приведете в пример тех государей, дела которых идут прекрасно, хотя они никогда самолично не выступали в поход, то будете правы; но если они лично и не совершают великих и славных дел, не одерживают побед, то хотя бы имеют прилежание и интерес к военным делам и делам государства, умеют подобрать полезных их делу людей из всех слоев общества и заставляют их исполнять это дело. Покойный король Франции[88] сам никогда не бывал на войне, но хорошо известно, до какой степени ее любил и какую славу извлек из походов своих полководцев. Поэтому-то его военные кампании назывались «Театром, или школой, Марса». Склонность его к военному искусству не ограничивалась обыкновенными воинскими делами, он имел интерес и к искусству механики, устраивал мануфактуры, строил верфи, покровительствовал изящным искусствам и наукам, что в конечном счете способствовало тому, что в годы его царствования Франция расцвела так, как никогда ранее при его предшественниках. Вернемся теперь к вашей персоне. Я человек, и вследствие этого смертен. Кому смогу я оставить завершение грандиозного труда, столь удачно начатого мною? Человеку, похоронившему свой ум, свои лучшие качества в землю, позабывшему то, чем наделил его Господь? Вспомните о вашем упрямстве и дурном образе жизни. Как часто упрекал вас я за это? Но все было бесполезно. Не стану и теперь говорить более, поскольку вижу, что это пустая трата времени и вы останетесь неисправимы. Вы даже не хотите сделать над собой усилие, и сдается мне, ваше тайное удовольствие состоит единственно в том, чтобы испытывать на себе ненависть окружающих вас людей, ибо то, что должно было бы заставить вас покраснеть, доставляет вам самое полное удовлетворение, что может повести за собой последствия не только губительные для вас лично, но и для всего государства. Воистину прав Святой Павел, уча нас и наставляя словами истины: «Если кто не умеет управлять своей семьей, как сможет он править Божьим градом?» Не раз укорял вас я за неприличное вам и недостойное вас поведение, естественно проистекающее из вашего образа жизни. Поэтому я решил сегодня объявить вам мои чувства и мысли еще раз. Я решил подождать еще некоторое время, чтобы посмотреть, не захотите ли вы исправиться, — в противном случае, знайте, вы будете лишены наследства и с вами поступят так, как поступают с сухими ветвями на плодоносящем дереве. Быть может, видя, что у меня нет других сыновей, кроме вас, вы полагаете, что я намерен вас запугать? Смею уверить, вы испытаете на себе всю тяжесть моего гнева, если не измените своего поведения. И поскольку я ежедневно жертвую собой, своим здоровьем, отдыхом, жизнью во имя защиты отечества и народа, я не пощажу жизни сына, который проявляет так мало заботы об участи своих будущих подданных». Царевич отвечал, что с детства питает отвращение к власти и сам умоляет отца лишить его наследства, прося лишь о пожизненном содержании его бренного существования и добавляя к этому, что никогда не будет злоумышлять против того, кого царь выберет себе преемником, призывая в том Бога в свидетели и клянясь всеми святыми. «Можно ли верить клятвам столь зачерствевшего во лжи сердца? — возразил царь. — Еще Давид сказал: «Каждый человек лжец». Быть может, сейчас и можно верить в вашу искренность и добрую волю, но когда, узнав о вашей клятве, близкие к вам «бородачи»[89] опять обведут вас вокруг пальца и вынудят нарушить ее, что станете вы делать? Эти презренные люди, лишенные мною своих чинов и отличий, живы лишь надеждой на вас. Вы их последняя опора. Симпатия, которую вы к ним питаете, заставляет их надеяться на то, что однажды и они поправят свое пошатнувшееся положение. Да, к ним вы полны благоволения, а помните ли об обязательствах, которые имеете перед отцом? Помогаете ли ему в трудах державства и войны, с тех пор как достигли зрелого возраста? Нет, к сожалению. Напротив, вы открыто проклинаете и осуждаете то, что я сделал и сделаю еще для счастья моего народа, и у меня есть самые серьезные основания опасаться, что вы уничтожите все дела рук моих, если переживете меня. Поэтому я не могу позволить вам жить, как вам заблагорассудится, сообразуясь только с вашими капризами. Изменитесь, постарайтесь стать достойным положения, которое принадлежит вам по праву рождения, иначе не останется ничего другого, как заточить вас в монастырь. Решайте же скорее, ибо времени у меня нет — здоровье мое со дня на день слабеет, и я не имею сил спокойно взирать на вас». Царевич дал ответ отцу в письменной форме. Он говорил, что много размышлял над своей судьбою и нашел природу и дух свой неспособными к перенесению тягот властвования, поэтому он решил постричься в монахи, для чего и испрашивал согласия своего отца. В это время Петр I уехал в Данию и, прибыв в Копенгаген, отписал сыну, настоятельно требуя от него принятия окончательного решения. Ответа не последовало. Петр, хотевший заставить сына решиться хоть на что-нибудь определенное, написал во второй раз. «Прошло уже семь месяцев, — писал царь, — с тех нор как жду я вашего окончательного решения, о котором вы все не соблаговолите меня уведомить. Времени подумать у вас было достаточно, а посему, как только получите письмо мое, тотчас отпишите, желаете ли вы идти в монастырь или на трон. Если считаете, что поправились и нынче способны править, не медлите и приезжайте ко мне, дабы личным примером показать дух свой в делах сей военной кампании; если же намерение ваше идти в монастырь, укажите, где и когда хотите исполнить это свое решение, чтобы я впредь душой был совершенно спокоен. Знайте, что в сем деле я целиком уповаю на вас; как вы решите, так и будет. Шлите ответ со специальным курьером, которому вручил я это свое письмо, и больше не медлите, иначе я сочту, что вы лишь тянете время, желая проводить его в ваших обычных занятиях». Столь категорический приказ ставил царевича перед серьезным выбором. Затруднение, испытываемое им, было велико. Он не имел истинного намерения становиться монахом, но еще меньше желал встречи с отцом, которая грозила ему годами учебы тягостному и страшному для него военному труду. Не зная, какое решение принять, он посоветовался с одним старым боярином, весьма мало удовлетворенным положением дел в государстве, и с этого момента предпочел следовать его наставлениям. «Царевич, — убеждал его боярин, — не остается ничего другого, как сбросить иго, на нас всех обрушившееся. Царь под предлогом обучения вас военному делу не ищет ничего иного, кроме вашей погибели, поскольку давно мечтает освободиться от нелюбимого сына. Воспользуйтесь же теперь отсутствием отца, удалитесь в надежное и укромное место, спасите там свою жизнь. Франция, думаю я, для вас самая лучшая страна из всех. Это царство — надежное прибежище всех преследуемых князей, принцев и даже королей, к тому же у французского монарха нет никаких причин испытывать какое-нибудь почтение к царю, и он никогда не пожелает выдать царевича, приехавшего просить убежища в его королевстве». Алексея Петровича вполне убедили доводы противника царя Петра, но он предпочел выбрать двор Вены, а не Версаль, поскольку был мужем свояченицы австрийского императора[90]. Итак, он отправился в Германию и всюду говорил, что едет к отцу в Данию. Сопровождала его любимая наложница, духовник, адъютант, повар, управляющий, некий поляк, служивший ему переводчиком, и четыре верных слуги. Поначалу в Вене испытали большое затруднение, не зная, какого поведения держаться в отношении царевича. С одной стороны, венский двор боялся раздражать царя, его отца, с другой — не хотел выказывать неудовольствия его сыну. Чтобы выйти из затруднения, австрийский император послал графа Шонборна к царевичу, чтобы уведомить его о том, что бегство его наделало много шума во всем мире и очень огорчило царя. Далее было сказано, что австрийский император не желает в нынешних обстоятельствах раздражать Его Царское Величество, но позволяет царевичу инкогнито пребывать в Вене на положении частного лица до тех пор, пока его спор с отцом не будет разрешен и милость отца к сыну не будет восстановлена. Беглый царевич вел себя в полном соответствии с наставлениями императора, и царь долгое время был в полном неведении относительно местонахождения сына. Он узнал о бегстве царевича уже в Голландии, в Амстердаме, по возвращении из своей поездки в Париж. Срочно были начаты поиски пропавшего при всех дворах Европы, которых можно было заподозрить в помощи беглецу. Тогда император Австро-Венгрии велел передать царевичу о том, что долее ему укрываться в таком людном и наполненном иностранцами городе, как Вена, будет трудно, и он советует ему перебраться сначала в Тироль, а потом, если условия сложатся неблагоприятно, ехать в Неаполь. Алексей воспользовался советом и скрылся на некоторое время в замке Эренбург, затем перебрался инкогнито в Италию. Между тем поиски, предпринимаемые царем, не были бесполезны. Местонахождение царевича было раскрыто, к нему были посланы вельможи русского двора, получившие приказ препроводить царевича в Москву, заверив его, что в случае исполнения им воли государя преступление его будет прощено. Отец писал ему: «Сын мой, презрение, с каким относитесь вы к моим приказам, теперь ведомо всему миру. Ни упреки, ни ласки мои не могли вернуть вас к долгу и, в конце концов обманув меня, воспользовавшись моим отсутствием, вы довели неповиновение свое до последней крайности, подобно изменнику отдавшись тайно под чужеземное покровительство. Пример, который еще не знала Русская земля! По какой причине вы причинили огорчение своему отцу, покрыв стыдом Вашу Родину? Пишу вам в последний раз и велю исполнить все то, что Толстой и Румянцев[91] предложат вам от моего имени. Ежели решите подчиниться, богом клянусь, нашим единственным, вечным и высшим государем, на коего в делах и сам уповаю, что не только не накажу вас, но еще и любить буду пуще прежнего; напротив же, если не подчинитесь моей воле, властью, богом мне данной, не убоюсь и, как отцу подобает, прокляну вас вечным проклятием. А как государь вас заверяю, что найду средства поступить с вами как с сущим мятежником и супостатом. Помимо того, вспомните, что не применял я к вам насилия ни разу. Напротив, давал полную свободу выбора для принятия наиболее приятного вашему сердцу решения. А если бы захотел принудить, неужели не достало бы у меня сил? Да и кто мог бы мне помешать? Достаточно было мне велеть, и силой бы каждый подчинился». Царевич, читая эти строки и слушая речи Толстого и Румянцева, не имел ни малейшего желания уезжать из гостеприимного Неаполя, покидать насиженный уже замок Святого Эльма; но делать было нечего, так или иначе его должны были уговорить, и он сдался, оставив благословенный край. Но прежде чем выехать в Москву, он написал пространное, наполненное патетическими излияниями письмо, в котором клялся отцу в своем раскаянии. Царь получил это послание по возвращении своем в Петербург, так растрогался, что готов был полностью простить проступок непокорного сына, который легко можно было приравнять к преступлению. Но Александр Меншиков[92] очень скоро разрушил, уничтожил остатки отцовской любви при помощи ловких предлогов, заставив царя отказать сыну в обещанном прощении. Молодой царевич был привезен в Москву, где его уже несколько дней ожидал царь. На следующее утро по его приезде гвардейские полки и весь городской гарнизон стояли в ружье, со всех сторон блокировав Кремль. Офицер вошел в покои царевича и приказал ему сдать шпагу. Всем министрам, боярам, представителям дворянства приказано было явиться в Кремль, в то время как в кафедральном соборе собралось духовенство. Царевич был препровожден к царю. Последний восседал на троне в окружении стоявших вокруг вельмож. Царевич подошел к отцу и протянул ему только что им написанное признание собственной вины. Затем царевич бросился в ноги Его Величеству и со слезами на глазах заклинал не предавать его смерти. «Встаньте, — промолвил царь, — и перестаньте бояться за свою жизнь: но более не надейтесь царствовать. Вы недостойны места, к которому были призваны по праву рождения, поэтому надо, чтобы сейчас вы торжественно отреклись от права наследовать мне, своему отцу». «Да будет на то ваша и Божья воля», — отвечал Алексей. Ему дали подписать акт об отречении, навсегда лишавший его короны и трона. Канцлер громко зачитал манифест Его царского величества, в котором Петр I излагал все причины, по которым лишал сына своего права наследования. Читателю будет любопытно увидеть его в конце этой главы. После того как вельможи Русского царства поклялись никогда не признавать царевича своим государем, его отвели в особый покой и поставили у дверей стражу. Многие люди были встревожены и приведены в замешательство невиданным событием. Митрополит Ростовский, широко оглашавший свои вещие сны и благоприятные царевичу откровения свыше, был осужден на жестокую казнь через колесование. С неменьшей жестокостью карал Петр и других виновных. Число погибших из-за симпатии к Алексею росло, оставалось лишь казнить самого царевича. Царь был склонен пощадить его, но Меншиков постарался ожесточить его сердце. Царица Екатерина[93], мать Петра II, впоследствии наследовавшая отцу, горячо настаивала на казни Алексея. Царица боялась, что после смерти супруга порядок наследования, им установленный, будет нарушен и сын Лопухиной будет вновь восстановлен в правах. К несчастью для последнего, царица Екатерина так завладела сердцем Петра, что заставляла исполнять его буквально все, чего бы ни пожелала. Вновь был назначен суд над Алексеем[94], и сам царь настаивал и торопил, чтобы сын его был осужден с максимальной строгостью. Судьи, хорошо зная волю царицы и уступчивость ей со стороны государя, после обычных, но упрощенных до крайности формальностей судопроизводства подали свои голоса за смерть царевича, передав свое решение на утверждение царя. Петр посчитал неуместным ни отменять, ни утверждать приговор. Он приказал всего лишь зачитать его в присутствии преступника, которого после этого снова отвели в тюрьму вплоть до нового особого распоряжения царя. Главным достижением этого дня было то, что царевич вновь признал перед судьями свое преступление. Рано утром следующего дня Петра известили, что у Алексея случился сильный припадок, он бился в жестоких конвульсиях, в полдень поступило новое известие: жизнь несчастного, но словам очевидцев, была под угрозой. Вскоре было доставлено третье донесение, в котором говорилось, что Алексей так плох, что едва ли протянет до конца дня. При известии этом Петр в лодке переплыл Неву и посетил больного. Увидев отца в окружении спутников, царевич сел на постели и обратил к нему лицо, залитое слезами: «Скорбь крушит меня, — с трудом промолвил он. — Я жестоко оскорбил Бога и вас. Чувствую, что не оправлюсь от болезни, а когда бы даже и смог, то и тогда не был бы достоин жить. Заклинаю, снимите проклятие, которому предали меня в Москве. Простите мои грехи, дайте отцовское благословение перед моей кончиной и повелите, чтобы после нее во всех храмах и церквях Руси служили панихиды по моей погибшей душе». В то время как царевич произносил слабеющим голосом эти горестные и трагические слова, Петр и вся его свита залились слезами. Царь так отвечал ему: «Сколь бы ни были сильны основания нашего недовольства вами, нам доставляет неизъяснимое горе видеть вас в таком состоянии. Я беру назад мое проклятие, видя ваше искреннее раскаяние. От всего сердца желаю, чтобы Бог проявил к вам милосердие и подарил прощение, о котором вы просите, я же вас прощаю». Произнеся эти слова и благословив сына, Петр удалился. Около пяти часов вечера царю донесли, что сын его желает видеть его еще раз. Монарх было заупрямился, полагая миссию свою уже исполненной, но соратники указали на то, что бесчеловечно отказывать в последнем утешении умирающему. Царь дал себя уговорить, но, уже садясь в лодку, которая должна была везти его в Петропавловскую крепость, узнал, что сына его более нет в живых. Таков был конец несостоявшегося государя, имевшего немало недостатков, чтобы оплакивать его кончину, но вовсе не настолько злобного и преступного, чтобы окончить дни свои столь горестным и трагическим образом. О смерти его говорили разное. Вот что сказано о ней в мемуарах Ламберти: «Царица, опасаясь за своего сына Петра, не успокоилась, пока не заставила царя начать против его первенца судебный процесс, который непременно должен был закончиться его смертью. Странно то, что царь, после того как своею рукой бил его кнутом, пытая в этих местах привычной и весьма жестокой пыткой, сам же, вооружившись топором, и отсек ему голову, выставив тело несчастного на всеобщее обозрение; и голова его была так плотно прижата к телу, что о том, что она отрублена, можно было узнать, лишь специально отделив ее от туловища». Рассказ этот вздорен и не имеет под собой никаких оснований. Некоторые историки приписывают смерть царевича внезапному ужасу, охватившему его в момент чтения приговора. Другие подозревают, что он был отравлен. Страх, который испытывал Петр в отношении того, что царство его перейдет к незаслуживающему его правителю, любовь к новой жене, влияние Меншикова на душу, разум повелителя, — все эти факторы говорят за то, что царь, царица и фаворит желали избавиться от несчастного Алексея. Факты дают нам основание верить, что эти трое тайными средствами сократили дни царевича; увы, все это не более чем правдоподобные догадки, не позволяющие обвинять царя в том, что он применил преступное средство для того, чтобы освободить от виновного в его глазах преемника. Остается узнать, заслужил ли его сын такую смерть. Он оставил Московию, отдался под власть и покровительство иноземной державы — в этом суть его преступления. Но не слишком ли сурово наказание, следующее за ним: сначала лишение короны, а потом жизни? Или сыновей монархов и должно судить с большей строгостью?! Но вспомним, царевна Софья, как я уже рассказывал о ней, не раз злоумышляла на жизнь царя, подстрекала народ и войско к восстанию, хотела и даже горела желанием лишить жизни своего брата и государя. И что же? Петр Алексеевич ее простил и ограничился заточением ее в монастырь. Почему же он не воспользовался тою же мягкостью и милосердием в отношении своего сына, во много раз менее виновного, чем она? Причина довольно простая заставила умолкнуть в нем чувство природного благородства. В прямую противоположность Августу, оставившему Римскую империю Тиберию лишь затем, чтобы подданные, после его смерти сравнив их обоих, поняли, какого правителя потеряли, так вот, повторяю я, в полную противоположность Августу Петр Великий желал и желал очень сильно обрести в царевиче Алексее наследника, способного во всем идти по стопам своего отца и быть очень похожим на него, дабы удачно и счастливо завершить дело, начатое им самим. К сожалению, сын царя мог лишь вновь ввергнуть московитов в пучину первобытного варварства, из которой они недавно вырвались, и оттого был принесен в жертву нации, во имя ее счастья. Поскольку единственный взрослый наследник Петра сошел в могилу, царь решил оставить трон царице Екатерине, но прежде хотел короновать ее императорской короной[95]. По этому поводу был выпущен эдикт, в котором Петр так изъявлял свою волю: «Императрица, моя дражайшая супруга, была нам великой поддержкой, не только во всех превратностях войны, но еще и многих других делах, начинаниях и путешествиях, в коих нам не только помогала, но и охотно своею волею сопровождала, была полезна советами, в особенности же в битве против турок на берегу реки Прут, где армия наша, числом 20000 человек противостояла лицом к лицу врагам числом в 200000. В том отчаянном положении она выказала отвагу наивысшую для своего пола, как то и войску хорошо ведомо, и всей нашей христианской империи». После такого вступления царь перечислял причины, заставившие его короновать свою жену и оставить ей трон, на который вскоре должна была она вступить, поскольку сам Петр, после того как развил в государстве торговлю, науки, искусства, дисциплинировал войска, воспитал опытных военачальников, создал многочисленный и грозный флот, построил великолепные города и совершенно преобразил русскую нацию, — по исполнении столь прекрасных трудов завершил свой славный путь в Петербурге в день 28 января 1725 года после короткой, но жестокой болезни. Росту Петр Алексеевич был высокого, лицо имел благородное и одухотворенное умом, однако что-то дикое и свирепое в глазах его подчас наводило ужас на окружающих. Говорил он всегда с большим жаром и обладал превосходным красноречием, так что убедить в чем-либо собеседника никогда не составляло для него особого труда. Не было еще в истории государя более неутомимого и склонного к любому труду. Вся жизнь его, если внимательно посмотреть, была сплошным путешествием. С одинаковой легкостью переезжал он с окраин Европы в самое сердце Азии, как другие короли и цари перебирались из одного дворца в другой или из города на свои загородные виллы. Путешествие из Петербурга в Москву, исчисляемое расстоянием в двести французских лье, стоило ему всего лишь четырех дней пути. Был он чрезмерен во всем, в дружбе и во вражде, и часто, благородный и великодушный друг, он превращался в жесточайшего и непримиримого врага. Физические упражнения, так же как, впрочем, и излишества стола, сократили его жизнь. Очень часто он воздерживался от еды и питья, чтобы вечером лучше владеть собой для занятий государственными делами, но иногда ужинал и выпивал до совершенного умопомрачения. Случалось, что после обильных «бахусовых» возлияний чувствовал он себя совершенно разбитым и нездоровым. К этому недостатку следует прибавить и то, что каждое утро, особенно в последние годы своей жизни, он пристрастился выпивать целую бутыль водки. Нельзя сказать, чтобы он слишком любил женский пол, к которому испытывал самуюпылкую жгучую страсть в ранней юности. Ехце полагают (но верно ли это, трудно сказать), что после развода со своей первой женой он вообще не имел общения с женщинами, пока не увидел Екатерины, ее же он полюбил страстно и до самой смерти. Без сомнения (ведь никто, я думаю, и не будет нам противоречить), государь этот был самым просвещенным и эрудированным человеком среди своих подданных. Он говорил на нескольких языках, прекрасно знал математику и географию. Имея намерение соединить воды Черного и Каспийского морей, он велел прорыть канал между Волгой и Доном и соединил Каспийское море с Балтийским посредством еще одного канала, проведенного из Волги в Неву. При этом именно он без какой-либо помощи инженеров составил и начертил подробный план предстоящих работ и имел счастье еще до смерти своей увидеть его совершенно исполненным. Впрочем, задумывал он всегда лишь самые обширные и грандиозные проекты, от души любя все необыкновенное. Сказали бы, что он хотел подражать всеми силами всемогуществу Создателя, из ничего созидающего величайшие вещи. Таким-то образом он преобразил в луга и пашни непроходимые топи, а на водах северных гнилых болот близ реки Невы создал прекрасный и величественный город, полный роскошных дворцов и садов и охраняемый одной из самых сильных цитаделей в мире, которую когда-либо можно было видеть. Подобным же удивительным образом простая бедная крестьянка его волею и с его легкой руки превратилась в великую императрицу огромной и могущественной державы; никому не ведомый продавец пирогов — в знаменитого военачальника, а варварский народ — в культурную нацию. Сам же царь стал одним из опытнейших моряков, какие когда-либо знала Европа, и имел с самого детства к флоту и морскому делу такую необыкновенную страсть, что еще в отрочестве в десять — четырнадцать лет буквально дрожал и трепетал при виде небольшого пруда или речки. Так что для создания собственного флота он не жалел ни сил, ни времени, сам работая на голландских верфях и в голландском военно-морском арсенале простым плотником. Петр Алексеевич во время своих путешествий заметил, что даже турки намного превосходят христианские народы в вопросах отправления правосудия. Увидев это, он позаботился принять меры к упрощению уже существующих весьма туманных и запутанных законов древнего русского права, еще ни в коей мере не упорядоченных, и специальным указом повелел решать все самые важные тяжбы и судебные дела не позднее одиннадцатидневного срока. Прекрасные качества, которыми так восхищались в этом герое, были омрачены некоторыми весьма серьезными недостатками. Этот государь был подчас чересчур не сдержан в гневе и в увлечениях своих не знал меры и не щадил в такие минуты даже своих лучших и вернейших друзей. Даже Франц Лефорт не раз имел случай в этом убедиться; но этот знаменитый женевец фактически был единственным человеком, имевшим смелость восставать против государя в такие моменты. Он взывал к его чувству чести, достоинства, славы, которыми всегда надлежит отличаться великим государям, и доказывал, что недостойно героя и реформатора не иметь сил обуздывать свой нрав. Царь, всегда прекрасно осознававший свою слабость, в такие моменты всегда унимал свой гнев и краснел, огорченно признаваясь своему другу: «Я изменяю жизнь моих подданных и их самих, а себя самого не могу переделать. Отвратительное воспитание и проклятый темперамент не дают мне победить мои презренные недостатки и слабости». Случалось этому монарху проявлять жестокость, непростительную для такого великого человека, если только не принять во внимание то обстоятельство, что ему приходилось иметь дело с народом, который возможно было привести к границам разума лишь мерами самых жестоких наказаний. За исключением всех этих недостатков, кого из государей мы могли бы сравнить с Петром Алексеевичем? В школе этого великого человека следовало бы учиться всем монархам Азии, пользующимся себе во благо невежеством и досадной глупостью своих подданных, угнетенных ярмом их деспотизма. Нельзя точно сказать, что именно думал царь в отношении религии. Он всегда прилагал максимум усилий к тому, чтобы она как можно полнее соответствовала задачам его царствования. По этой причине упразднил он должность патриарха, делавшую слишком могущественным и фактически даже равным царю всякого, кто ею обладал. А одного первосвященника он даже казнил, хотя тот и заслуживал смерти, как обычного преступника. Известно, что Петр Великий без малейших колебаний и сомнений позволил своим подданным свободно отправлять любой культ и придерживаться любого вероисповедания по причине выгоды, которую приносила в его страну свобода торговли с самыми разными странами. Сам же он до конца своих дней придерживался обычая и учения восточной церкви и делал это с такой точностью и постоянством, что, когда не мог поститься во время тех или иных военных походов, всегда за себя и своих солдат испрашивал специального отпущения грехов у патриарха константинопольского. В конечном счете он был глубоко убежден в верности великой мысли Аристотеля: «Что государю прежде всего надлежит быть религиозным и богобоязненным, ибо и народы не так страшатся угнетения с его стороны, когда твердо убеждены, что и Государь их боится и почитает Бога». «Princeps debet esse potissimum Dei cultor: nam minus timent homines a principe, si Dei cultorem ilium putent».
Манифест[96] Его Царского Величества в переводе с русского оригинала с приложением клятвы царевича Алексея, его сына, и текста присяги их подданных
Мы, Петр I, милостью Божией царь и император всея Руси, и прочее, и прочее… доводим до сведения всех наших подданных, как церковного, так и военного и гражданского звания, какой-бы части нашего государства они ни принадлежали, что с самого рождения первенца нашего Алексея прилагали Мы все старания, поручив его заботам наставников, обучающих русскому языку и языкам иноземным, наукам всем необходимым, как-то: военным и политическим, истории, литературе, вере нашей христианской и православной греческого толка, дабы мог сей царевич достоин быть власти над столь обширной империей и трона нашего русского великого. Со всем тем увидели Мы с горечью, что все наше внимание и забота, его образованию посвященные, оказались совсем бесплодны, поскольку сын наш всегда лишен был сыновьего послушания и понимания, прилежания ко всему достойному и полезному наследнику великого трона. Пренебрегал он наставлениями учителей, общаясь своею волей лишь с людьми пустыми и легкомысленными, от которых научиться можно лишь самому дурному, а никак не полезному и в жизни пригодному. Вместе с тем не прекращали Мы попыток вернуть его в должное состояние и повиновение, действуя то лаской, то укором и угрозой, взяли его даже в роту наших гвардейцев, чтобы, участвуя в походах, учился он военному делу, как и другим наукам, для защиты Отечества необходимым, всегда удаляли от всяких опасностей и хранили, как зеницу ока, принимая в соображение его наследование империей, хотя сами себя оным опасностям всегда подвергали. Когда наследник наш вырос, в другое время оставляли Мы его в Москве нашим заместителем, дабы учился искусству власти на будущее. Посылали его в другие страны с убеждением, что, увидев хорошо устроенные державы, сможет и сам желать подражать им в лучших примерах и образцах управления. Однако все наши старания остались бесплодны, а семена знаний и учености канули для сына нашего в мертвую землю. Он не только не следовал добру, но всей душой возненавидел его, не выказывая ни малейшей склонности к делам военным и политическим. Общался единственно с лицами ничтожными и беспутными, нрава низкого и отталкивающего. Так как Мы хотели всеми средствами вырвать его из среды распутства и вдохнуть склонность к общению с людьми почтенными и добродетельными, то убедили царевича сделать выбор супруги среди принцесс главных домов Европы по обычаю наших предков и предшественников — царей русских, которые часто родственными узами соединялись с другими царствующими домами, и нам завещали это право. Он же изъявил желание взять в жены принцессу из германского княжества Вольфенбутель, родственницу ныне царствующего Его величества императора «Священной Римской империи» и двоюродную сестру короля Англии и просил Нас устроить этот брак, на что ему дано было наше высочайшее соизволение. Так Мы и стали действовать, не считаясь с расходами и не жалея денег, каких такое бракосочетание требовало. По совершении помолвки были Мы обольщены надеждой на сына нашего полным окончательным отвращением от дурных его привычек и обычаев, но испытали на деле противное тому, на что так уповали. Несмотря на то, что супруга его, насколько могли Мы усмотреть, была принцессой рассудительной, умной, достойного нрава и поведения, хотя он сам и выбрал ее себе в жены, в дальнейшем жил с ней в крайнем разладе и несогласии, еще пуще прежнего пристрастившись к людям распутным и презренным, причиняя тем самым злейший урон и стыд дому нашему пред лицом глав и правителей иностранных, с коими эта принцесса была родством связана, чем навлек на нашу главу злейшие упреки, жалобы и поношения. И сколь ни часты были увещания и убеждения ему исправиться, ничто не помогало. Нарушив, наконец, супружескую верность, он целиком отдался своей страсти к распутной женщине самого низкого и рабского сословия, открыто и не таясь живя с нею во грехе, с презрением оставив совсем свою законную супругу, которая вскорости после этого и почила, говоря по правде, от болезни, однако ж не без подозрения в том, что публичное оскорбление, нанесенное ей распутством и блудом супруга, ускорили ее кончину. Когда Мы увидели, до какой степени он упорствует в своем дурном поведении, то объявили ему на похоронах его жены, что в случае, если в будущем он не поведет себя в соответствии с нашей волей, Мы лишим его права наследования, не посмотрев на то, что он единственный Наш сын (поскольку второго нашего сына у нас в то время еще не было) и что Мы скорее выберем вместо него наследником какого-нибудь иноземца, к тому более достойного, чем нашего сына, совершенно не достойного власти, ибо не можем позволить ему уничтожить все с таким трудом и милостью Божией Нами построенного. Наконец, внушали ему со всею возможной силой вернуться на путь разума и добродетели и впредь вести себя соответственно, дав время исправиться. На такие замечания он отвечал, что признает себя виновным по всем этим пунктам, но, сославшись на слабость и немощь своего темперамента и разума, не позволяющих ему прилежать к наукам и государственным обязанностям, признает себя к ним совершенно негодным и недостойным нашего наследства и просит снять с него это бремя. И все же Мы продолжали еще уговаривать его и, соединяя угрозы с просьбами, не упустили ничего, чтобы вернуть его на правильную дорогу. Военные действия заставили Нас спешить в Данию, оставив царевича в Петербурге и дав ему время прийти в себя и исправиться. Впоследствии, получив известия о его непрекращающемся распутстве, Мы призвали его к себе в Копенгаген, чтобы здесь на месте обучить искусству войны, командования и повиновения. Увы, забыв страх и заповеди Божии, повелевающие повиноваться во всем родителям, в особенности тем, которые в то же время несут еще на плечах бремя верховной власти, он не пожелал оправдать наших надежд, воздав благодарностью за наши заботы, напротив, не присоединился к нам, а, взяв большую сумму денег, бежал вместе с развратной своей сожительницей, с которой продолжал все время жить во грехе. Так, он отдался под протекцию римского цесаря[97], распространяя против нас, своего отца и государя, многие клеветы и лжи, будто бы Мы его преследуем и лишить его хотели безо всякой причины правопреемства, и говоря даже, что сама жизнь его отныне не может быть в безопасности подле Нас, а потому прося у императора от нас вооруженной защиты и покровительства. Каждый может судить, какой позор и стыд навлек на Нас пред лицом всего мира Наш родной сын. Едва ли найдется подобному пример в истории (трудно будет найти подобный этому пример в истории). Цесарь, хотя и был осведомлен о его излишествах и о том, как жил он с супругой своей, свояченицей Цесаревой, все же согласился на его униженные и настойчивые просьбы и указал город, в котором сын Наш мог покойно почивать, в глубокой тайне от меня в крепости тирольский Эренбург. Его долгая задержка в пути показалась Нам очень подозрительной, и не без причины. По-отечески тревожились Мы, не случилось ли с сыном Нашим какого-либо несчастья и, не получая от него вестей, послали на поиски доверенных лиц во все уголки и части Европы. В конце концов после многих разочарований и надежд, напряженных трудов и усилий Мы получили известие от капитана гвардии Александра Румянцева, что наследника Нашего в глубокой тайне стерегут в одной из цесарских (императорских) крепостей Эренбурга в Тироле, о чем собственноручно отписали императору, прося его отослать беглеца назад. Но поскольку император известил его о Нашем желании и убеждал ехать к нам и подчиниться Нашей воле, воле отца и государя, сын Наш отвечал, что не может отдаться Нам в руки, как если бы Мы были его злейшими врагами и тиранами, от которых мог он ожидать любой участи. Так он убеждал цесаря, который вместо того чтобы выслать его Нам, позволил ему удалиться еще дальше, в самую глубь своих владений, в приморский город Неаполь в Италии, и велел охранять его там в одном из древних своих замков под другим именем. Мы же были уже предупреждены подданным Нашим гвардии капитаном Румянцевым относительно того, в каком месте он находится, и послали к императору канцлера Петра Толстого с письмом, полным самых сильных выражений, живо изъясняющих всякому, сколь несправедливо удерживать и даже желать удерживать сына Нашего против всех прав божеских и человеческих, в силу которых все родители, а в особенности те из них, которые облечены верховной властью, подобной нашей, имеют ничем не ограниченное право, независимо от каких угодно судей, решать дела своих детей. В заключение письма отметили Мы, к каким дурным последствиям и вражде поведет отказ вернуть Нам сына, поскольку Мы не сможем оставить сего дела в полном покое. Между тем научили Мы тех, кого посылали, чтобы и с самим царевичем говорили весьма живо и сильно, ставя ему на вид, что Мы должны будем прибегнуть к любым средствам, но отомстим за обиду ему Нам нанесенную. И собственноручно писали ему, указывая на нечестивое и безбожное его поведение, на неслыханность преступления, совершенного против Нас, своего отца, Бога и заповедей его, предписывающих карать непокорных сыновей смертью. Мы грозили ему своим отеческим проклятием, а как государь объявлением изменником отечеству, если не вернется и не повинится. Добавили Мы и заверения, что в том случае, если он подчинится Нашей воле и вернется, ему будет прощено его преступление. Посланцы Наши после долгих трудов добились от цесаря позволения встретиться с Нашим сыном. Они прибыли в Неаполь, горя желанием вручить ему собственноручное Наше послание, и вскоре отписали, что он не пожелал даже принять их, однако вице-король Неаполя, вассал и наместник цесарский в сих местах, нашел средство пригласить его к себе и здесь вручить письмо Наше ему из рук в руки. Так принял он Наше послание, содержащее отеческие увещания и угрозы вечного проклятия, не только не выказав Нам должного уважения, но, напротив, хвастаясь всюду, что император обещал ему не только его защищать и оборонять против Нас, но впоследствии даже силой своего цесарского оружия возвести на трон русский против Нашей воли и поправ все Божии и человеческие законы. Послы наши, видя такое дурное положение дел, применили все вообразимые средства, чтобы обязать его вернуться, убеждая верить Нашим добрым заверениям, но добавляя, что и Мы сможем с оружием в руках добиться справедливости. Ничто не могло его убедить, он не желал возвращения на родину до тех пор, пока вице-король Неаполя, видя всеконечное его остервенение и упорное закоснение, не заявил от имени цесаря, что в любом случае ему должно возвращаться, ибо император не сможет и не имеет права удерживать его долее: близка война с турками и королем Испании, готовящимся высадиться в Италии, и в этих условиях он не может вступать в конфликт и с Нами из-за беглеца. Видя, какой оборот принимают дела, и страшась попасть к нам в руки насильно, в конце концов он уступил и объявил, как послал Нашим, так и вице-королю о своем к Нам возвращении. О том же он написал и Нам, признав себя виновным и преступным сыном. Копия его послания опубликована будет ниже. Так он вернулся сюда и при всех своих многолетних против Нас преступлениях, достойных смерти, заслужил от Нас отцовское сочувствие, нежность и прощение, избавившее его вообще от какого-либо наказания. Однако, принимая во внимание низость его преступного поведения, описанного выше, по совести и чести не можем Мы оставить ему права наследования нашим престолом, предвидя, что своею властью он совершенно погубит славу народа Нашего и безопасность державы, которую Мы с таким трудом и Божьей милостью совершили. Посему отцовской властью и властью государя, врученной мне Богом, имея в виду лишь благо Наших подданных, Мы лишаем вышеназванного Алексея за его проступки, преступления и измену права наследовать престол русский и назначаем наследником Нашим сына Петра, хотя и юного годами, но не имеющего себе соперника. И да будет проклят сын Наш Алексей, если когда-нибудь пожелает претендовать на вышеуказанное наследство. Желаем, чтобы отныне все верные подданные Наши, церковного и светского звания, всех областей Русской земли, волею государя признали себя подданными сына Нашего Петра, избранного Нашим наследником в соответствии с уложениями и уставами нынешними, и подтвердили это присягой пред Святым Алтарем, на святых Евангелиях и крестным целованием. Пусть все, кто отныне выступит против воли Нашей, осмелившись взирать на сына Нашего Алексея как наследника царства, будут объявлены изменниками и супостатами Нашими и Отечества. Повелеваем всюду публиковать и читать всенародно и громко эту грамоту, дабы никто не мог отныне ссылать на ее незнание. Дано в Москве, третьего дня месяца февраля 1718 год от Рождества Господа Нашего Иисуса Христа. Подписано Нами собственноручно и скреплено Нашею царской печатью* * *
Копия письма, написанного рукою царевича Всемилостивейший Государь и отец. Получил я от господ Толстова и Румянцева все-милостивейшее письмо, которое Ваше Величество имело снисхождение мне написать для уведомления о том, что Вы прощаете мне преступление, в коем я действительно повинен, без позволения удалившись из нашего царства. Благодарю Вас со слезами на глазах и признаю себя совсем недостойным этого прощения, столь великодушно мне дарованного. Хотя я знаю, сколь тяжкого заслуживаю наказания, взываю к вашему милосердию и молю Ваше Величество забыть все мои грехи. Целиком вверяю себя Вашим всемилостивейшим обещаниям и уверениям и отправляюсь завтра же утром Вашей волей из Неаполя в Петербург с теми, кого вы ко мне послали. Ничтожнейший и недостойный слуга Ваш, не заслуживающий имени сына, Алексей. Неаполь, 4 октября 1717 года* * *
Копия клятвы, произнесенной царевичем Алексеем Петровичем Я, вышеназванный, обещаю перед святым Евангелием, что, совершив те преступления, о которых отец мой и государь объявил в своем манифесте, самого себя считаю недостойным права наследовать ему и исключаю себя из числа его наследников. Я признаю справедливым это исключение, как вполне мною заслуженное, и обязываюсь и клянусь Богу Всемогущему и Триединому, как верховному судие, во всем подчиниться воле отца моего, никогда впредь не искать способа вновь стать его наследником, не претендовать на это и не давать своего согласия, буде то мне предложено. Я признаю законным наследником и преемником брата моего царевича Петра Петровича, о чем целую Святой крест и подписываю настоящий отказ собственноручно. Подписано рукою царевича — Алексей* * *
Формула присяги подданных новому наследнику престола российского, которую должны были принести все граждане Русского государства Обещаю и клянусь на Святых Евангелиях, что во всем признаю и держусь писем августейшего царя нашего и императора русского Петра Алексеевича, в коих ясно сказано, что сын его Алексей Петрович по справедливости объявлен виновным и лишен наследия своего — отеческого трона России, к которому призван другой сын Его Императорского Величества — Великий князь Петр Петрович, которому и клянусь и присягаю как единственному законному наследнику трона русского, ибо ему одному во всяком случае буду хранить верность и повиноваться, живота своего не жалея за него против тех, кто ему противустанет, никогда его не покинув.* * *
Против царевича Алексея Петровича Клянусь Святыми Евангелиями, никоим образом и ни в какое время не добиваться трона для вышеназванного царевича Алексея Петровича, ни посредством предложений и увещаний, ни думами, ни делами не способствовать и не помогать делу его восхождения на престол против воли царя Нашего и Императора Петра Алексеевича, в чем клянусь, приношу крестное целование и самолично подписываюсь.
ГЛАВА 12
ЗАГОВОР ДОНА ЭНРИКЕ[98],
ГРАФА ТРАСТАМАРЫ,
ПРОТИВ ДОНА ПЕДРО,
КОРОЛЯ КАСТИЛИИ


Место действия — Испания. Время действия — 60-е годы XIV века
Альфонсо XI[99], король Кастилии, имел от своей фаворитки доньи Элеоноры де Гусман шестерых сыновей[100] и двух дочерей. Изо всех детей, плодов незаконной любви, лишь дон Энрике был всего более мил сердцу отца, обещая вполне оправдать его надежды. Этот юноша был одним из самых учтивых и галантных кавалеров Испании. Был он небольшого роста, но вполне пропорционально сложен, а постоянные упражнения закалили его тело, лицо же указывало на природную доброту его сердца. Был он очень остроумен и с первого взгляда очаровывал всех. Храбрый, великодушный, очень добрый, он был дорог отцу и всему королевскому двору Кастилии. Король Альфонсо осыпал его милостями всякого рода, но продолжалось это недолго, ибо смерть его положила конец всеобщему благополучию. Альфонсо оставил корону дону Педро[101], единственному сыну, которого подарила ему королева Констанция. Новый король был прекрасно сложен, умен, отважен, но постепенно стало ясно, что его склонность к войне носит чрезмерный характер, а решительность зачастую переходит в открытую свирепость. Ему доставляет удовольствие проливать кровь, и он был искренне убежден, что таково законное право всех государей, дарованное им Богом. Несправедливый, подозрительный, алчный, он угнетал своих подданных, обращаясь с ними как с рабами. Зловещие наклонности с течением времени усиливались и росли также и под воздействием воспитания. Королева Констанция, видя себя совершенно изгнанной из сердца и постели своего супруга, вдохнула и в душу своего сына черную меланхолию, сжигавшую ее изнутри и постоянно возбуждавшую месть и ненависть в его сердце, и без того к этому весьма склонном. После смерти короля Альфонсо Элеонора Гусман, боявшаяся ненависти королевы-матери, решила покинуть двор. В сопровождении детей она выехала в Севилью, но, едва достигнув этого города, была задержана и брошена в темницу. Дон Энрике и его братья, счастливо избежавшие ареста, из Севильи перебрались в Альхесирас, правитель которого испытывал к ним давнюю симпатию. Дон Педро отдал приказ там их осадить. Город был |тружен королевскими войсками, и братья, видя, что крепость не устоит, приняли решение бежать, разделившись и приняв при этом различные направления пути. Дон Энрике бежал к дону Хуаиу Мануэлю, графу де Молина, а тот, восхищенный прекрасными качествами принца, отдал ему в жены свою старшую дочь, принесшую тому в качестве приданого графство Трастамара. Дон Педро пришел в ярость, узнав об этом: он сам думал жениться на дочери дона Мануэля, графа де Молины. Король, разгневанный тем, что его брат-бастард в некотором смысле похитил у него невесту, славившуюся своей красотой и многими другими достоинствами, повелел графу де Молине выдать ему дона Энрике вместе с женой. Не дождавшись какого-либо ответа, он во главе армии вступил во владения дона Мануэля. Граф Трастамара, не желая подвергать угрозе жизнь тестя, удалился в горы Астурии и взял с собой супругу, не пожелавшую расстаться с ним. Король посчитал более благоразумным не преследовать дона Энрике и вернулся в Бургос, но некоторое время спустя его мать настойчиво потребовала любой ценой передать ей Элеонору де Гусман. И возлюбленная дона Альфонсо была отдана в руки своей злейшей соперницы. Естественно, королева Констанция велела ее убить и сама присутствовала при ее казни. Все дети Элеоноры содрогнулись от ужаса, когда их настигло известие о гибели матери. Граф Трастамара, также как и его братья, был сражен горем. Он вышел из своего убежища, собрал солдат и начал захватывать небольшие города и крепости Южной Кастилии. Король Арагона хотел погасить восстание в самом начале, попытавшись примирить дона Энрике с доном Педро, и преуспел в этом, или, вернее, король Кастилии и граф Трастамара оба притворились, что все простили друг другу, в душе же горя неугасимой и ничем неутолимой жаждой мести. Дон Педро продолжал упорно вызывать все возрастающее возмущение своих подданных. Он женился на французской принцессе, дочери герцога Пьера де Бурбон[102], и не было жены несчастнее на свете, хотя никто менее ее этого не заслуживал. Бланка, или Бланш де Бурбон (так звали королеву), была очень красива, умна, имела мягкий, кроткий характер, но не имела того огня, той живости и темперамента, которые были необходимы, чтобы снискать любовь дона Педро и завоевать его сердце. А тот со своей стороны испытывал страсть к донье Марии де Падилье, красивой девушке пятнадцати-шестнадцати лет с милым лицом, любезными манерами, наделенной умом незаурядным и редкой добротой. Рожденная с наклонностями добродетельными, она долгое время упорно не желала уступать домогательствам короля. Но слишком многие были заинтересованы в том, чтобы ее соблазнить. Она видела, что самые знатные вельможи Кастилии прилагают все свое искусство и умение для того, чтобы привлечь ее внимание. Осада велась долго и порядком ей надоела. Окруженная со всех сторон, в конце концов она позволила себя победить, но предпочла сдаться не кому-нибудь, а королю, став матерью принцессы, которую в честь королевы-матери назвали Констанцией. Поначалу король выказывал глубокое почтение к своей супруге, но потом, устав от нее, отправил законную королеву в Аревало[103], город, в котором она находилась на положении пленницы. Вся Кастилия глухо роптала, проклиная поведение короля, но малейшее недовольство каралось смертью. Дон Хуан-Альфонсо де Альбукерк, долгое время а клявшийся фаворитом дона Педро, видя негодование народа и сам сочувствуя ему, открыто рассорился с королем и даже организовал заговор, но так плохо рассчитал время и место действия, что король сразу же обо всем узнал. К счастью, дон Хуан успел вовремя бежать из Кастилии в Португалию и укрыться у короля Альфонсо Португальского. Граф Трастамара и дон Фадриго, его брат, получили приказ ехать в Лиссабон с требованием к королю Португалии возвращения дона Хуана, в противном случае грозя объявить ему войну. Оба брата выехали с твердым намерением не выполнять воли кастильского монарха. И в самом деле, прибыв в Португалию, они были допущены к королю Альфонсо, перед которым горько оплакивали несчастья своей родины. Можно сказать больше, граф Трастамара, увлеченный своей ненавистью и негодованием, приглашал короля Португалии разорвать цепи Кастилии и обещал ему помогать в завоевании этого прекрасного королевства. Альфонсо, хорошо понимая трудность выполнения этого плана, отказался. Он посоветовал Альбукерку примириться со своим королем, но кастильский вельможа упорствовал и убедил дона Энрике не оставлять начатого дела. В то время как дон Альбукерк[104] и граф Трастамара были в Португалии, кастильский король влюбился в Хуаниту де Кастро, знатную вдову и первую красавицу Кастилии. Дама эта была слишком горда, чтобы удовлетвориться титулом фаворитки, и поскольку дон Педро желал одновременно удовлетворить и свою страсть, и ее требования, то приказал вызвать королеву Бланку на суд, на котором председательствовали два епископа — городов Авилы и Саламанки. Оба прелата должны были признать брак венценосной четы недействительным и расторгнуть его. Все прошло гладко: послушные прелаты исполнили желание короля, и он тотчас женился на молодой вдове, зажегшей в его сердце такую пылкую страсть, которой вскоре он опять пресытился и вновь вернулся к Марии Падилье, владевшей секретом удерживать его подле себя постоянно. Хуанита де Кастро оставила столицу и уехала в маленький провинциальный городок, в котором и окончила свои дни, именуемая королевой и окруженная всеобщим уважением. Ее родственники, разгневанные на короля, присоединились к мятежникам на португальской границе. Кроме того, к ним присоединились дон Хуан и дон Фернандо Арагонские, приведя с собой не менее 6 тыс. бойцов. Мятежные кастильцы и их арагонские союзники хорошо знали, что аристократы и народ Кастилии, негодуя на поведение дона Педро по отношению к его жене Бланке, готовы тоже стать под их знамена. Со своей стороны вооружался и дон Педро. Боясь братьев графа Трастамары, он лишил их всех почестей и званий. Королеву Бланку отправили в Толедо, чтобы там заточить в замке. Несчастная, полагая, что ее везут на казнь, нашла способ бежать от стражи в церковь, из которой не пожелала выходить. Жители Толедо, в чьем городе это событие произошло, все как один встали на ее защиту и воспрепятствовали тому, чтобы против нее было учинено хоть какое-нибудь насилие. В то время как мятежники вступали в Кастилию и овладевали ее городами, дин Педро, видя, что дело идет ко всеобщему восстанию, внял настойчивым увещаниям своей тетки, королевы Арагонской, и первым пошел на уступки: между ним и восставшими было заключено соглашение, в соответствии с которым король обязывался вернуть из изгнания свою законную супругу, а также удовлетворить многие другие требования своих недовольных подданных. Однако, устранив опасность, дон Педро не выполнил ни одного из вышеупомянутых условий. Он неожиданно обрушился со свежими войсками на лагерь восставших и изгнал их с территории Кастилии, захватил непокорный Толедо и выслал королеву Бланку под надежным эскортом в Медину-Сидонию. Его неожиданные успехи и внезапная перемена фортуны внесли смятение в ряды восставших, дело которых, по крайне мере на данном этапе, было проиграно. Они молили короля о милосердии, и он притворился, что не помнит зла, лишь бы привлечь ко двору всех своих врагов и затем спокойно и без труда предать их наказанию. Многие приехали и на личном опыте убедились, что никогда нельзя доверять тиранам. Граф Трастамара, хорошо зная мстительный характер дона Педро и его непримиримую ненависть лично к нему, не поехал. Он написал письмо, прося позволения удалиться во Францию. Король согласился на его просьбу и поставил на дороге людей, чтобы его убить, но графу, все время остававшемуся начеку, удалось избежать засады. Он прибыл во Францию, где король Иоанн принял его с распростертыми объятиями и даже выделил на его содержание 10 тыс. франков. Дон Педро, разгневанный провалом такого удачного замысла — убийства опасного соперника, — выместил злобу на короле Арагона, к которому бежали многие знатные синьеры, и объявил войну. Граф Трастамара тотчас оставил Францию и прибыл на службу к арагонскому королю. Его брат дон Телло тоже не замедлил присоединиться к ним со своим войском. Король Кастилии выступил в поход и нанес сокрушительное поражение королю Арагона, но все его успехи лишь усиливали ненависть к нему и врагов, и его собственных подданных. Два его брата[105], его невестка[106], его двоюродный брат[107], его тетка[108] и многие знатные синьеры были казнены по приказу жестокого дона Педро, наполнившего свое государство страданиями и ужасом. Узнав об участи своих братьев граф Трастамара поклялся отомстить и вновь двинулся против тирана. Он одержал некоторые победы, в ряде случаев разгромил отряды короля Педро, но силы того были слишком велики, чтобы он тревожился из-за этих потерь. Следовало найти силу, способную свергнуть с трона ненавистного тирана. И вскоре решение было найдено. Король Педро горячо любил фаворитку и ненавидел законную супругу. Королева по-прежнему томилась в городе Медина-Сидона, и жестокий супруг решил довершить начатое преступление. В город явились его люди с приказом короля незамедлительно ее казнить. Несчастная королева выслушала приговор с глубоким смирением. К такому концу она была готова с первых дней замужества. Неизвестно, как несчастная окончила свои дни[109], но и ее соперница, послужившая причиной всех ее несчастий, долго не прожила. Шесть месяцев спустя после трагического конца королевы Бланки донья Мария де Падилья отошла в иной мир. Дон Педро был потрясен. Собрав на совет кастильских грандов, он заявил, что умершая была его законной женой, а потому он при-шает и велит и им признать законным наследником корон Кастилии и Леона дона Альфонсо, рожденного от доньи Марии. Все же ее дочери были объявлены кастильскими инфантами. Осыпав почестями тех, кому он никак не мог вернуть матери, дон Педро нисколько не изменился, поскольку даже любовь не могла смягчить его нрава. Смерть Бланки-Изабеллы де Бурбон оттолкнула от короля Кастилии всех европейских монархов. А граф Трастамара, понимая, что лишь французы способны его решительно поддержать, не переставал призывать их к войне. По счастью для него, народы Испании и Франции давно уже не знали больших войн, и длительный мир оставлял и томительном бездействии огромное количество приученных к крови и убийствам солдат, совершенно неспособных жить в покое. Карл, король Франции, решил направить в Испанию войска. Во главе их был поставлен Жан де Бурбон, граф де ля Марш, двоюродный брат королевы Бланки. В помощь ему был дан Бертран дю Геклен, первый среди полководцев своего века. Граф Трастамара присоединился к ним и завоевал расположение и любовь главнокомандующих. «Никогда еще, — сказал он им, — наше положение не было так ужасно. Кастильцы давно уже стонут под бременем самой отвратительной тирании. В Испании народ будет взирать на вас как на освободителей. На нашей стороне самые знатные и благородные синьеры. И если мое войско немногочисленно, оно вполне способно совершить все необходимое, чтобы отомстить гнусному и жестокому владыке». Граф де ля Марш и Бертран дю Геклен заверили, что готовы пожертвовать своей жизнью ради Кастилии. Был выпущен манифест, в котором они заявляли, что намерены вести войну не против кастильцев, а против государя, недостойного ими править. Поскольку речь шла о том, чтобы свергнуть с трона короля Педро и на его место посадить достойного преемника, глаза всех разом обратились к графу Трастамаре и ему было предложено возложить корону на свою голову. Но то ли потому, что честолюбие его не заносилось так высоко, то ли потому, что он боялся возлагать на себя тяжкое бремя власти, зная, что неспособен вынести его так или иначе, но поначалу он отказался. Однако его продолжали убеждать, говоря, что кастильцы нуждаются в главе и гораздо охотней подчинятся своему соотечественнику, чем иноземцу. В конце концов граф Трастамара дал себя уговорить и согласился принять титул короля. Союзные войска вступили в Кастилию, и дон Энрике заявил в обращении к народу, что не из ненависти или честолюбивых амбиций, но только из-за любви к родине и желания отомстить за страдания кастильцев взял он в руки оружие. Он убеждал народ соединиться с ним в борьбе за свое собственное счастье и заклинал не вынуждать его ненужным и несправедливым сопротивлением проливать драгоценную кровь соотечественников. Обращение это было принято с радостью, и народ толпами стекался под знамена своего освободителя. Дон Педро, всегда выказывавший немалую отвагу и решимость в борьбе с противниками, неожиданно для всех изменил самому себе, совершенно потерялся и повел себя как последний трус. Несмотря на то, что он вполне мог доверять жителям Бургоса, он, неожиданно оставив их на произвол судьбы, удалился в Толедо, оттуда в Кордову и, наконец, в Севилью, но не с тем, чтобы защищаться, а лишь потому, что этот город был в гораздо большей степени удален от врага. Войска для отпора французам у него не было, но он даже и не думал его собирать. Могло показаться, что измученный угрызениями совести, он совсем пал духом, потерял всякое самообладание и последние капли разума. Лишь одно действительно его занимало: как сохранить свои сокровища. С этой целью он погрузил их на корабли, стоявшие на реке Гвадалквивир, и приготовился к бегству. Самые ревностные сторонники дона Педро, видя, что этот государь намерен их бросить, перешли на сторону его противников. Король Энрике вошел в Вургос под рукоплескания и приветственные крики его жителей и был там торжественно встречен своей супругой. Король Педро, узнав эту новость, вообразил, что для него все потеряно. Решив, не откладывая больше, покинуть Севилью, сказал жителям города, что отправляется собирать мощное войско, но при этом вовсе не походил на государя, еще на что-то надеявшегося. Хотя он был по-прежнему надменен и горд, казалось, какие-то опасения гложут его душу, время от времени вырывая тяжкие и печальные вздохи из его груди. Он погрузился на корабль и отплыл в Португалию за помощью, которую никто и не думал ему там оказывать. Тогда он вернулся в свое государство, прибыл в Галисию, велел казнить архиепископа Толедского, чтобы овладеть имуществом и деньгами этого прелата. Из Толедо он обратил свои стопы в Сан-Себастьян, куда повез с собой большую казну похищенных денег, намереваясь ее там укрыть, а впоследствии вышел в море и взял курс на Байонну, чтобы там молить о пощаде Эдуарда, принца Уэльского, имевшего резиденцию во Французской Гиени, слывшего самым великодушным из правителей Европы. Бегство лишило дона Педро всей Кастилии. Дон Энрике, видя, что его никто не беспокоит, распустил войска и оставил при себе лишь отряд в 1500 рыцарей да еще эскорт из благородных синьеров Кастилии. Между тем Педро всеми силами старался склонить на свою сторону Эдуарда и преуспел в этом. Герцог Аквитанский собрал за несколько дней большое войско, состоящее из мужественных солдат, под командованием очень опытных капитанов[110]. Новость эта очень обеспокоила дона Энрике, не ожидавшего, что такой человек, как принц Эдуард, станет покровителем тирана. Новый король Кастилии готовился к мужественной защите. Срочно было созвано войско, равное по численности войску врага, но уступающее ему в опыте и отваге. По завершении приготовления он выступил к северной границе королевства, чтобы помешать англичанам проникнуть на его территорию, но не смог их удержать. Неприятель вторгся в глубь его владений, захватывая города и разрушая замки. Противник хотел как можно скорее встретиться с войсками дона Энрике в открытом бою, но тому это было невыгодно, и он до поры до времени не принимал вызова. Промедление утомляло врага, ослабляло силу их первоначального удара, к тому же англичане начинали испытывать во вражеской стране нехватку продовольствия, в то время как за его спиной находились многие провинции Кастилии, способные снабдить его армию всем необходимым. Карл V, король Франции, имевший репутацию одного из самых умных, прозорливых и потому уважаемых политиков Европы, советовал ему не подвергать опасности корону и жизнь, доверив их превратностям одной битвы. Кроме того, этого же мнения держался и дю Геклен, с отрядом в 4 тыс. человек, спешащий на помощь дону Энрике. Однако государь Кастилии опасался, как бы его проволочки не посчитали признаками слабости и трусости. Со своей стороны, и гранды с надменностью спрашивали его, доколе же гордые испанцы будут уступать англичанам? Все эти причины побудили дона Энрике принять бой. Принц Уэльский, радуясь горячности испанцев, решил подлить масла в огонь. Он написал дону Энрике письмо, копии которого его агенты подбросили воинам испанской армии с той целью, чтобы, прочтя их, кастильцы испытали сомнения в правильности всего сделанного ими за последнее время. Письмо это было адресовано дону Энрике, графу Трастамаре. Эдуард в ярких выражениях представлял ему всю беззаконность и ужас восстания подданных против законного монарха. Затем он убеждал дона Энрике добровольно сойти с захваченного им трона, предлагая свои услуги посредника в переговорах между двумя братьями. «Впрочем, — писал он, — одно лишь горячее желание избежать кровопролития, побуждает меня писать. Если бы я искренне не был заинтересован в вашей выгоде, разве стал бы я сам предлагать примирение, будучи совершенно уверен в своей победе». Дон Энрике отвечал ему так: «Не амбиции или пустое тщеславие вынудили меня захватить корону. Нет! Лишь увидев мою мать и братьев принесенными в жертву жестокости деспота и боясь за жизнь моей жены и детей, вынужден был я взяться за оружие, с другой стороны, понуждаемый к этому настояниями народа, страдающего под тяжестью самой ужасной тирании. И если бы того требовали от меня интересы государства, я без колебаний оставил бы престол правителю гуманному и достойному. Сейчас же законы божественные и человеческиеобязывают меня воевать с правителем гнусным, несправедливым и жестоким, чьи руки обагрены кровью королевы, его супруги и почти всех принцев королевского дома Кастилии». Такими словами закончил король Энрике свое письмо, извиняясь за то, что не может ответить согласием на добрые намерения принца Эдуарда, но заверял последнего в своем искреннем уважении. Кроме того, государь Кастилии высказал сомнения по поводу несколько самонадеянной уверенности англичан в победе. Переписка закончилась. Следовало готовиться к битве, которая и произошла через несколько дней. Сражение было кровавым, но кастильцы его проиграли[111]. Дон Энрике в отчаянии от столь трагического исхода больше не желал жить, но дю Геклен заметил ему, что король никогда не имеет права унывать, а судьба не всегда будет к нему неблагосклонна. Энрике позволил себя убедить в этом и, не видя иного исхода, принял решение отступить, оставив прикрывать отход своего французского союзника, некоторое время спустя взятого в плен принцем Уэльским и заплатившим за свое освобождение выкуп в 100 тыс. франков. Король Педро Жестокий, прямо на поле боя горячо поблагодарив своего покровителя, вновь предался своим прежним насилиям, повелев казнить всех пленных кастильцев, чтобы страхом перед подобным наказанием удержать народ в повиновении. Принц Эдуард воспротивился этому, напомнив, что победа, ими одержанная, была в первую очередь дарована им Небом. «Вспомните о том положении, — добавил он, — в котором вы пребывали некоторое время назад, и попытайтесь понять, что счастье всей вашей будущей жизни зависит от того, как вы будете пользоваться властью, дарованной вам Богом». Кастильский король сделал вид, что с благодарностью принимает наставление, которое ни в коей мере не соответствовало его жестоким намерениям. Дон Педро повел себя недостойно по отношению к английским союзникам. Вместо того, чтобы полностью расплатиться с англичанами, он дал им небольшую долю оговоренной платы. Когда же принц Эдуард пожелал вступить во владение Бискайей, отданной ему по договору королем Педро, совет этой провинции ему воспротивился, ибо дон Педро втайне подговорил синьёров Бискайи всеми силами препятствовать англичанам. Тот хотел было, прибегнув к силе, восстановить справедливость, но поняв, что шаг этот омрачит его славу и репутацию благородного рыцаря и великодушного государя, служившего дону Педро из самых благородных побуждений, не стал ничего предпринимать и вернулся в Гиень, очень недовольный тем, что восстановил на троне правителя, соединившего в чертах своего характера не только жестокость, но и неблагодарность. А тот, напротив, весьма довольный удачным освобождением от союзника, ставшего для него обузой, направил все свои помыслы к мести. Все сторонники двоюродного брата были казнены, все города королевства, считавшиеся изменившими законному государю, были присуждены к уплате огромных штрафов и контрибуций. Так реставрированный на троне король вновь стал совершенно невыносим и ненавистен своим подданным, в то время как дон Энрике, потеряв власть, приобрел огромный авторитет. Он не думал сдаваться под тяжестью несчастий. Вновь обратившись к Франции, он легко получил от нее новый денежный займ и собрал на эти деньги армию в 10 тыс. человек — войско, конечно, слабое, чтобы завоевать могущественное королевство, но вполне достаточное для того, чтобы изгнать тирана, ненавистного своим подданным. Вступая в земли Кастилии, он поклялся либо победить, либо умереть. Бертран дю Геклен вновь присоединился к своему другу с 2 тыс. французов, и вскоре им предстояло сразиться с врагом. Педро защищал свою корону отважно, но был побежден. Видя, как в прах падают его полки, он укрылся в замке Монтьель, в Каталонии, на северо-востоке Испании, в предгорьях Пиренеев, и вскоре был в нем осажден. Запасы провизии и снаряжения подошли к концу, и дон Педро, сознавая, что будет вынужден сдаться, предложил дю Геклену 100 тыс. золотых дублонов, если тот каким-либо образом поможет ему спастись. Геклен по приказанию дона Энрике сделал вид, что готов согласиться на его предложение, и назначил место для переговоров. Дон Педро, сопровождаемый тремя кастильскими синьерами, выехал из города и прибыл в указанное место, французские воины провели его в палатку своего полководца, в которой уже сидел дон Энрике, дю Геклен и многие другие очень хорошо вооруженные люди. Увидев, что он предан, дон Педро вскричал: «Я король Кастилии!» — и схватился за меч, но в тот же миг дон Энрике выхватил кинжал и верно рассчитанным ударом поразил противника. Это трагическое событие, не делающее чести дю Геклену, обеспечило дону Энрике спокойное и продолжительное царствование[112].
ГЛАВА 13
ЗАГОВОР КАСТИЛЬЦЕВ
ПРОТИВ ЭНРИКЕ IV[113]

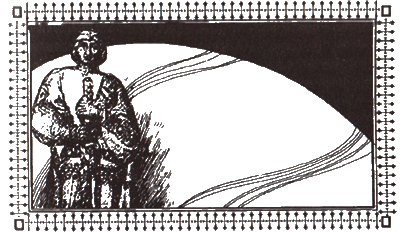
Казалось, что король Кастилии Энрике IV был рожден для того, чтобы править на счастье и радость своим подданным, хотя и его царствование не обошли стороной невзгоды. Был он женат на Бланке Наваррской, с которой развелся после тринадцати лет семейной жизни потому, что не имел от нее детей. Народ был в высшей степени чувствителен к оскорблению, нанесенному его добродетельной королеве, а придворные открыто говорили, что король должен винить лишь самого себя за бездетность супруги. Энрике пожелал жениться вновь и бросал взгляды на донью Хуаниту, португальскую инфанту. Эта принцесса была очень умна и красива и, конечно, не оставалась в неведении относительно неблаговидных слухов, которые широко ходили в народе (достигая пределов и ее страны) относительно недостойного поведения кастильского монарха. Однако желание стать королевой не позволило ей здраво взглянуть на вещи и поразмыслить над тем, чего должна она желать в качестве супруги, — амбиции ее были удовлетворены, и она тотчас дала свое согласие. Сразу после торжественного бракосочетания начались страдания португальской принцессы, поскольку король, уделяя ей до обидного мало внимания, не желал ограничиваться одной женой, а хотел непременно помимо нее и вместе с ней иметь несколько фавориток. Он настолько зачастил к ним, устраивая непрестанные галантные сборища и игры, что даже велел отрубить голову одному своему сопернику, что, конечно, ни в малой степени не могло способствовать спасению жалких остатков его репутации. Между тем королева забеременела, и событие это подало повод для самых различных толков. При дворе часто видели некоего молодого синьора по имени Бернардо де ля Куэва. Был он в высшей степени славным кавалером, к тому же довольно умным. Король, очень его любивший, часто брал его с собой в покои королевы, а позже молодой кастилец стал частенько наведываться туда один. Посещения эти, носившие самый невинный характер, были истолкованы превратно. Все знали, как желает король детей, но всем также было известно, что произвести их на свет он не способен. С другой стороны, фаворит был мил, обаятелен, красив, королева относилась к нему с большим вниманием; чего уж больше, чтобы заподозрить, что ребенок, который вскоре должен был родиться, обязан именно ему своим появлением на свет. Короля обвиняли в сводничестве, и он укрепил подозрение, удалив от себя своего брата дона Альфонсо, официального и до того времени единственного наследника престола. Тому не было еще и десяти лет, но он подавал самые лучшие надежды. Донья Изабелла, его старшая сестра, также была любима и почитаема испанскими грандами. Всякий раз, когда они оба появлялись при дворе, их встречали с такой почтительностью, что король не мог не испытывать тревоги, подозревая, что аристократия именно в них видит единственных достойных наследников испанского престола. Королева родила девочку, которую окрестили именем доньи Хуаниты[114]. Энрике, не в силах сдержать своего восторга, возвел графа де Ледесму в ранг своего фаворита, но титул, дарованный юноше, ничего не сделавшему на благо государства, лишь укрепил подозрения кастильцев. Два месяца спустя после рождения новой принцессы король признал ее наследницей королевского трона, и никто этому не воспротивился. Альфонсо и Изабелла первыми принесли клятву верности малютке, и с этого дня донья Хуанита всегда звалась принцессой Астурийской. Королева забеременела во второй раз и разрешилась от бремени мальчиком, появившимся на свет мертвым[115]. С каждым днем милости, осыпавшие графа де Ледесму, множились. Дон Хуан Пачеко, маркиз де Виленья, с давних пор бывший в фаворе у короля, в отчаянии от того, что другой завоевывает сердце повелителя, объединившись с другими недовольными вельможами, образовал заговор против государя и его фаворита. Они начали с того, что в личных разговорах и повсюду расклеенных бумагах широко оповещали публику, какой стыд для всей Кастилии так долго страдать от беспорядков, творимых при дворе. Они открыто говорили, что принцесса Астурийская — плод явного прелюбодеяния, а испанцы слишком горды, чтобы когда-либо признать ее своей государыней и в угоду ей оставить Альфонсо и Изабеллу, славные ростки столь многих и великих венценосных предков. За мятежными речами последовали тайные собрания, вербовка солдат и сбор войска. Если бы дон Энрике поторопился собрать воинов и ополчение под свои знамена, он, без всякого сомнения, принудил бы мятежников к сдаче; но он спокойно сидел в Толедо, дав время заговорщикам принять все необходимые меры. Вскоре они отважились штурмом взять его дворец. Перепуганный Энрике бежал через потайной ход в сопровождении графа Ледесмы и удалился вместе с инфантами в Сеговию[116]. Король, чтобы посильнее оскорбить и раззадорить мятежников, доверил своему фавориту должность великого командора ордена Святого Яго, до того времени предназначавшуюся для дона Альфонсо. Когда заговорщики узнали, что высшая после короля должность в королевстве отныне принадлежит их врагу, негодованию и ярости их не было предела. Они отбросили всякие церемонии и решили прибегнуть к крайним мерам. Но прежде чем прибегнуть к оружию, в ход была пущена хитрость, которой они надеялись без крови и жертв с обеих сторон завладеть Сеговией. Такой шаг помог бы им схватить самого короля, инфантов и графа Ледесму, не прибегая к силе. Нужно было всего лишь тайно проникнуть в совершенно не ожидавший вторжения город. Все бы прошло успешно, если бы не один честный идальго, сломленный угрызениями совести, и потому выдавший нее королю. Энрике поднял по тревоге гарнизон города. Узнав, что планы их открыты, заговорщики собрались в Вальядолиде, чтобы обсудить дальнейшие действия. Они опубликовали оскорбительный для короля манифест, в котором подробно перечислялись уже общеизвестные обвинения против него, но к прежним прибавлялись новые — что король доверяет правление тому, кто недостоин и близко приближаться к трону, поддерживает сношения с маврами, привлекая их к своему двору обещанием щедрых наград. Из всего этого заговорщики делали вывод, что честь не позволяет им отныне повиноваться правителю, до такой степени злоупотребившему своей властью. В результате дон Альфонсо был провозглашен новым королем Кастилии и под его знамена призывали стать всех недовольных правлением Энрике IV. Однако жители Вальядолида вместо того, чтобы аплодировать подобным воззваниям, взялись за оружие и вынудили мятежников отступить в Бургос. Между тем король Энрике созвал совет, на котором единодушно было решено считать всех зачинщиков мятежа повинными в государственной измене, покушении на государственную безопасность и оскорблении королевской чести. Каждое из этих преступлений каралось смертной казнью. Епископ Калаорра, брат фаворита, советовал королю собирать войска и без промедления идти на Бургос. «Это верный способ, — говорил прелат, — захватить мятежников врасплох, расстроить их замыслы и принудить к повиновению. В нынешнем положении надобны решительные и крутые меры». Королю этот совет показался подозрительным. Он знал, что именно его благосклонность к графу де Ледесме стала причиной заговора и, хотя он очень нежно его любил, однако не желал жертвовать ради фаворита собственной короной. Поэтому король Энрике отвечал, что исполнение совета сопряжено с немалыми трудностями, ведь в случае провала похода на Бургос его королевство окажется втянутым в длительную и кровопролитную гражданскую войну, исход которой было очень трудно предугадать. Поэтому, дабы не подвергать напрасному риску жизнь простого народа и знатных синьоров, было решено сделать попытку мирного примирения с мятежниками, поскольку в случае ее неудачи можно было с чистой совестью взяться за оружие. Право, заслуживал ли король, так горячо любящий свой народ, ненависти? Прелат, раздраженный его ответом, забыл даже о должном почтении. «Такое всепрощение, — резко отвечал он, — свидетельствует скорее о слабости, чем о милосердии справедливом и благородном. Можно проявлять умеренность, когда ты в силах кого-либо наказать. Вам же сейчас следует позаботиться о своей безопасности. Поразмыслите над тем, что вы обманываете сами себя, недооценивая силы мятежников, и в результате будете оплакивать свою собственную участь, оказавшись самым несчастным из нынешних правителей Европы». На короля ответ этот не произвел должного впечатления, и он вступил с восставшими в переговоры. А те, видя, что пока не в состоянии нанести решительный удар, охотно водили монарха за нос. Они стали отзываться о нем с уважением, с ним вели себя очень почтительно и даже обещали вскоре сложить оружие и вновь стать верными подданным, как только он откажется от своей дочери принцессы Астурийской и лишит звания великого магистра ордена Святого Яго графа Ледесму и дарует эту должность дону Альфонсо, вновь признав инфантов единственными законными наследниками своей короны. Энрике вначале не хотел даже слышать ни о чем подобном, но потом в результате долгих переговоров, уговоров и ухищрений со стороны мятежных подданных дал свое согласие выполнить следующие условия: для урегулирования вопроса о праве принцессы Хуаниты на престол ее надлежало выдать замуж за дона Альфонсо, который, таким образом, вместе с ней приобретал титул принца Астурийского; король в пятнадцатидневный срок был обязан выпустить на свободу инфанта и передать того союзникам[117] и, лишив графа Ледесму звания великого командора, передавал его дону Альфонсо, даровав последнему право заниматься всеми текущими государственными делами. На таких условиях восставшие обещали сложить оружие и подчиниться королю. Стороны пришли к соглашению, подписали необходимые документы и клялись свято их выполнять. Но едва король принял и скрепил собственноручной подписью и печатью все эти условия, он тут же почувствовал, сколь тягостны и невыгодны они для него. Советники убеждали его разорвать соглашение под тем предлогом, что короли никогда не могут вступать в какие-либо соглашения с собственными подданными, а тем более под давлением обстоятельств и по принуждению последних. Однако на этот раз государь оказался стоек и непреклонен и заставил замолчать всех своих царедворцев, заявив, что слово короля священно и не может быть нарушено, и он не желает опять разжигать среди своих подданных пламя гражданской войны. «Хорошо, пусть так, — возразила ему королева, — тогда уступите корону своему брату и передайте его мятежникам, которые имели наглость некоторое время назад провозгласить его королем». Между тем первое время соглашение соблюдалось, но напряжение в обществе росло, ибо и заговорщики не замедлили нарушить своих клятв. Едва, увидев, что инфант в их власти, они тотчас, как то и предвидела королева, постарались возвести его на престол. И народ, казалось, был вполне расположен к перемене правления. Приняв меры по завоеванию большей части королевства[118], восставшие провозгласили инфанта королем Кастилии под именем Альфонсо XII. Энрике был сражен горем, едва известие об этом событии достигло его ушей. «Великий Боже! — воскликнул, побледнев и поднимая глаза к небу, король. — Ты, покровитель всех венценосных голов, отомсти за меня негодяям». Но поскольку в это время он был и без войска и без денег, и даже без друзей, то удалился в Саламанку с женой и маленькой принцессой Астурийской, а заговорщики, вместо того чтобы преследовать его, вновь, в который раз, охотно предоставили ему возможность собрать войска, так что вскоре смогли увидеть его во главе армии не менее чем в 100 тыс. человек. Правда, большая часть этого народного ополчения была крайне плохо вооружена и дисциплинирована и ее еще предстояло в течение нескольких дней обучать основным приемам ведения боя, но тем не менее численное преимущество его армии так напугало мятежников, что они вновь прибегли к хитрости и интриге — обещали исполнять условия прежнего соглашения[119] и вновь добились мира, который не смог надолго спасти их от все возрастающего недовольства народа. Жители Вальядолида, базы заговорщиков, видя их презренное и лживое поведение, восстали, призывая к себе законного государя, которого несколько дней спустя встретили с огромной радостью. Между тем и дон Альфонсо испытывал много тревог и неприятностей из-за людей, приведших его к власти. Один из них заявил молодому государю: «Мы пожертвовали нашими состояниями и жизнями, чтобы возвести вас на престол. Мы не сомневаемся, что у вас никогда не хватило бы ума и отваги самому на нем удержаться, так что, отступись вы хоть на йоту от нашего общего дела или раскайся в нем хоть на мгновение, и у нас не дрогнет рука без малейших колебаний дать вам чашу с ядом». Так шаг за шагом, слово за слово, медленно, но верно начиналась в королевстве Кастилии открытая война. Соглашения заключались, но не выполнялись, лживые заверения в верноподданнических чувствах скрывали явную зависть и ненависть. Король Энрике, по-прежнему склонный к покою и досугу, терпеливо выслушивал советы маркиза де Виленьи. Этот честолюбивый кастилец тоже мечтал о королевском троне, но, увы, не мог сам его занять[120], а потому всеми силами стремился посадить на него своего брата, дона Педро Хирона, великого командора ордена Калатравы. Последнему было пятьдесят лет, и он пользовался огромным уважением и авторитетом. Так вот, Виленья предложил Энрике оставить Альфонсо титул короля и тем сохранить в королевстве мир, но с тремя условиями: 1) соблюдением прежнего договора; 2) изгнанием из свиты юного короля герцога Альбукерка и его брата епископа Калаорры; 3) выдачи доньи Изабеллы замуж за командора ордена Калатравы. Король то ли по доброте душевной, то ли по слабости принял эти предложения. Был заключен новый договор, подписанный обеими сторонами. Честному королю пришлось долго уговаривать инфанту, но принцесса, считавшая себя ничуть не уступающей самым известным представителям королевских домов в Европе, не желала давать свое согласие на столь неравный брак, однако, чтобы не огорчать и не гневить отца, и без того тяжко переживавшего несчастья последнего времени, скрыла от него свои подлинные чувства, но поклялась донье Беатрис де Бобадилье, одной из своих камеристок, что скорее убьет себя, чем выйдет замуж за великого командора. Фрейлина не могла не одобрить такого решения и даже обещала своей госпоже помощь в исполнении задуманного. В то же время донья Беатрис заклинала принцессу не прибегать к такому страшному средству, заверив ее, что она сама в первую брачную ночь войдет в спальню молодых супругов с кинжалом и убьет командора. Однако трагическая сцена не произошла, потому что тот, кого хотели убить железом, через несколько дней был унесен в могилу жестокой лихорадкой. Подозревали, что именно заговорщики были подлинными виновниками его внезапной болезни и смерти, поскольку многие из них не желали соглашения с двором и были далеки от мысли приносить в жертву маркизу де Виленье собственные интересы, а тот, в свою очередь, не видя более никаких причин искать примирения с королем, вновь бросился в объятия его врагов и с еще большей яростью возобновил гражданскую войну. Положение мятежников было и в самом деле очень выгодным. Они распоряжались самыми мощными крепостями и городами королевства, и дон Альфонсо собственными глазами видел, как растет и умножается численность его друзей и сторонников. Молодой государь, имевший в ту пору не более пятнадцати лет отроду, снискал себе всеобщее восхищение. Он прилежно изучал законы и обычаи королевства, права и привилегии народа. Регулярно вникая в дела государственного совета, он тщательнейшим образом изучал дела, наводя справки по всевозможным вопросам и демонстрируя при этом справедливость и благоразумие, удивительные даже для людей более зрелого возраста, одним словом, с таким величием и достоинством вел себя в повседневной жизни, что можно было пожалеть лишь об одном — что короной и властью своей он обязан заговору и восстанию, а также действиям клики опасных интриганов. Энрике, не желавший отдавать корону сопернику, всеми силами желал сохранить ее. Вновь были набраны войска, и дон Хуан де Веласко, коннетабль Кастилии, получил приказ атаковать мятежников. Коннетабль умолял короля не подвергать самого себя риску. Энрике уважил его просьбу и удалился подальше от армии в один из небольших, но хорошо укрепленных городов. Оттуда решил он наблюдать за развитием событий. Войска встретились в окрестностях города Олинедо и сражались с необычайной яростью, что вообще очень характерно для гражданских войн. Дон Альфонсо верхом на великолепном скакуне носился между рядами, ободряя своих солдат, вдохновляя их своей личной отвагой и часто подвергаясь смертельной опасности. Сражение было долгим и упорным. Войска Энрике превосходили противника числом, но войска Альфонсо были более мужественны. Лишь ночь и усталость положили конец битве, в которой каждая из сторон приписала успех себе. Оба государя повелели устроить в честь своей победы иллюминации и фейерверки в городах Кастилии. Тем не менее положение законного монарха день ото дня становилось все более шатким. Дон Альфонсо овладел Сеговией, где находились королева и инфанта. Первая в страхе и смятении имела время укрыться в цитадели, но донья Изабелла и не думала бежать; напротив, она поторопилась пасть в объятия брата, с радостью признав в нем короля. Заговорщики были вполне удовлетворены, видя в своих рядах и эту принцессу. Энрике во главе небольшого отряда прорвался в город и спас супругу, запертую в нем, поручив архиепископу Севильи отвезти ее в замок Аларкон[121] и там охранять силами мощного гарнизона. Прелат с удовольствием согласился исполнить поручение. В пути королеву сопровождал молодой дон Педро де Фонсека, его племянник, один из самых галантных кавалеров Испании. Внешность молодого человека, его благородное лицо произвели глубокое впечатление на королеву. Фонсека, со своей стороны, тоже не смог взирать хладнокровно на прекрасную государыню, молва о красоте которой распространилась по всей Европе. Предположив (как, впрочем, все время уверенно говорили), что дон Энрике был неспособен исполнять обязанности супруга и сам вынудил свою жену нарушить супружескую верность, нельзя удивляться и тому, что принужденная вести одинокую жизнь в маленьком мрачном замке, она благосклонно встретила воздыхания влюбленного юноши, в любовных наслаждениях найдя награду за все испытанные ею несчастья. Дон Педро открыл секрет, как понравиться ей, и вскоре она родила ему сына, которого назвали Фернандо. Тайну эту хранили так тщательно, что никто ни о чем не догадывался. В то время как королева так приятно проводила время в замке Аларкон, король продолжал вести войну, стараясь вновь покорить мятежных подданных. С восторгом встретил он известие о взятии Толедо. Но и дон Альфонсо, услышав эту новость, во главе своих войск двинулся к столь важному в стратегическом отношении городу. Он прибыл в Борго де Карденьёса 1 июля 1468 года, где неожиданно заболел и не смог следовать далее. В это время в тех местах свирепствовала чума, которая, как полагали, и унесла его в могилу. Болезнь продлилась всего лишь пять дней, но исход ее был предрешен. Так сошел со сцены истории король, заслуживающий самых высоких похвал, когда бы не был мятежником. Умер он в возрасте шестнадцати лет. Смерть короля Альфонсо оборачивалась необыкновенной удачей для короля Энрике. Многие города стали переходить на его сторону. Однако те, кому некуда было отступать, решили провозгласить королевой Кастилии инфанту донью Изабеллу. В это время ей уже шел восемнадцатый год. Красота, ум, серьезность, интерес к наукам, любовь к славе — все эти качества вызывали восхищение. Архиепископу Толедо было поручено предложить ей корону. Инфанта поблагодарила прелата, но заметила, что дон Энрике по-прежнему ее законный государь, а подданным не подобает низвергать своего короля с трона, также как и насильно принуждать представителей королевской семьи занимать его. Если, добавила она, господа конфедераты пожелают следовать ее советам и продолжат выказывать ей знаки своего искреннего расположения, они непременно помирятся с королем и ограничатся тем, что заставят его признать донью Изабеллу принцессой Астурийской и наследницей кастильского трона. Архиепископ передал ее ответ соратникам, и тот так восхитил их, что они принялись до небес превозносить достоинства и добродетели инфанты. Они сами пригласили Энрике на переговоры и, встретив его людей, обещали подчиниться, как только он признает донью Изабеллу принцессой Астурийской. Король в Мадриде обдумал это предложение, и никогда еще на королевском совете не обсуждался предмет столь важный и в то же время деликатный: с одной стороны, речь шла об успокоении всей страны, в течение последних шести лет остававшейся добычей ужасных гражданских распрей; с другой — требовалось лишить наследства ни в чем не повинную принцессу, тем самым навсегда покрыв ее вечным позором и бесславием, ответственность за которые должна была пасть на королеву и самого короля. И все же большинство подданных королевства склонялись именно к этому решению. Король долго сопротивлялся и не желал уступать, твердо стоял на своем, утверждая, что Хуанита — его дочь, рожденная в законном браке. Тогда один вельможа (человеком этим был дон Андреас де Кабрера, королевский мажордом) прямо заявил, что все убеждены в обратном, и напомнил своему повелителю, что злосчастные конфедераты стали хозяевам большей части королевства, и если нынешние переговоры ни к чему не приведут, Его Величество вскоре, если вообще останется в живых, увидит на своем троне нового короля. Эти доводы подействовали на дона Энрике, к тому же сказалась его всепобеждающая страсть к мирному отдыху и досугу; вздыхая и вознося молитвенные взоры к небу, он подписал документ, лишающий его любимую дочь всякой надежды на престол. Был заключен новый договор, в котором король даровал всем воевавшим против него полное прощение и забвение былых грехов и обид. Он обязался признать свою сестру Изабеллу принцессой Астурийской, но было решено, что она не сможет выйти замуж без разрешения короля. Последний в свою очередь обязывался отослать свою жену[122] и дочь в Португалию и расторгнуть свой брак с доньей Бланкой. Он согласился в то же время передать пост великого командора ордена Святого Яго дону Хуану Пачеко, маркизу де Виденье, главному инициатору всех неурядиц и смут в государстве, добившемуся наконец самого высокого поста в государстве после короля. Супруга дона Энрике, считая, что теперь и в удаленном замке Аларкон ей оставаться небезопасно, решила покинуть его стены и с помощью молодого синьера Луиса де Мендосы добралась до Гвадалахары, в которой увиделась наконец со своей дочерью. Огромное количество кастильских грандов, чувствительных к участи обеих государынь, встало на их защиту, и число их сторонников было так велико, что в воздухе опять запахло гражданской войной. Отныне король уже не мог наслаждаться долгожданным и сладостным миром, почти ежеминутно вспоминая, какой ценой он был куплен, и беспрестанно коря и упрекая себя за слабости и ошибки, а также за пренебрежение обязанностями мужа и отца. Этот государь, нежно любящий свою жену и дочь, теперь думал лишь о том, как восстановить их в правах, не вызвав, однако, в государстве новой революции. И пока он проводил время, раздумывая над этим, пришло известие, что донья Изабелла вышла замуж за дона Фернандо (Фердинанда)[123], сына Хуана II, короля Арагона. Этот брак нанес смертельный удар по партии принцессы Хуаниты. Фердинанд должен был унаследовать короны Арагона, Валенсии, Майорки, Сардинии, Сицилии и герцогства Каталонского. Изабелла же в нынешних обстоятельствах становилась наследницей корон Кастилии, Леона, Галисии, Толедо, Мурсии и Андалусии. Союз этих двух людей должен был образовать огромную монархию, которой потом предстояло получить имя королевства Испании. Энрике ясно представлял себе все последствия подобного брака. Силы мятежников многократно возросли, ибо к ним присоединились армии Арагона, и законный монарх Кастилии боялся, что отныне его участь будут решать венценосные молодожены. Горько жаловался он своей сестре на то, что она нарушила одну из статей последнего договоре[124], и заявлял, что принцесса Хуанита, его родная дочь, должна была и будет единственной наследницей Кастилии и Леона. Король и королева обеих Сицилий[125], разумеется, ожидали подобной реакции, зная, что Энрике будет взирать на их союз с огромным неудовольствием, и хотя это их не очень беспокоило, они все-таки тотчас стали готовиться к войне. Со своей стороны и дон Энрике вел приготовления, однако природная мягкость и страх перед пролитием крови своих подданных удержали его от решительного шага. А неприятности тем временем сыпались на него со всех сторон. Ему стало известно, что супруга обесчестила его, родив двух сыновей дону Педро де Фонсеке. Новость эта сначала привела его в ярость, и, осыпая оскорблениями и проклятиями счастливого соперника, он решил принести его в жертву своей мести. Королева в ужасе чуть не лишилась рассудка, когда узнала, что ждет дона Педро, и, чтобы спасти ему жизнь, совершила поступок, примеров которому немного найдется в истории. Она встретилась с королем, бросилась к его ногам, затопила их потоками слез и в конце концов добилась милости для преступника. Энрике любил свою жену, хотя, быть может, она этого и не заслуживала. Он уступил, и Фонсека был наказал изгнанием из столицы. Не знаю, чем следует скорее восхищаться — бесстыдством королевы или сострадательной мягкостью короля. Примирившись с королем и королевой Сицилии, Энрике одобрил их брак, не изменив, однако, своего отношения к вопросу о престолонаследии королевства Кастилии. Фердинанд и Изабелла, недолго пробыв в Мадриде, уехали в Сеговию. Дон Андреас де Кабрера добился позволения дать в честь венценосных супругов пир. Встав из-за стола, дон Энрике неожиданно почувствовал себя плохо, его вырвало, тело охватил жар, горлом пошла кровь, несчастный упал. Подозревали, что он отравлен. Изабелла, видя своего брата при смерти, умоляла его о последней уступке. К просьбам королевы Сицилии присоединились многие вельможи королевства. Энрике не захотел уступить и отказался лишить свою единственную дочь наследства. Принцессе Астурийской, которую с такой настойчивостью пытались лишить короны, шел четырнадцатый год. Красотой не было ей равных, и всякий, увидев ее, терял голову. Она имела все прекрасные качества своего пола, по счастью не имея его недостатков. Живость, грация и ум девушки легко завоевывали для нее все сердца, и даже ее заклятые враги, ставившие под сомнение ее происхождение, признавали, что она вполне достойна титула, которого ее хотели лишить. Будучи очень умна, девушка тем живее чувствовала несчастье своего положения. Воспитанная как подобает дочери короля, дважды признанная официальной наследницей трона, она хорошо знала о том, что большая часть кастильцев оспаривает у нее это право. С этой мыслью ей было очень тяжело свыкнуться. Так как король слабел с каждым днем, народ страшился войны за его наследство, и попытки настроить его в пользу отречения принцессы не прекращались. Кастильские гранды один за другим посещали его, говоря, что время дорого, он должен подумать о покое и счастье отечества. Они упорно внушали ему мысль, что принцесса Хуанита ему не дочь и избери он своей наследницей королеву Сицилии, все распри будут позабыты, мир воцарится в Испании. Энрике отвечал в немногих весьма скупых словах, что одни лишь законы обеспечивают безопасность государства и что принцесса Астурийская должна быть и будет его наследницей. Чувствуя приближение смерти, составил он завещание, в котором еще раз подтверждал, что донья Хуанита его единственная дочь и, следовательно, его наследница, а несколько дней спустя, так и не изменив своего завещания, умер. После смерти Энрике некоторые синьоры поехали в Эскалону[126], где пребывала вместе со своей матерью принцесса. Все единодушно признавали ее новой государыней, и в тот же день она была провозглашена королевой Кастилии и Леона. Многие города королевства встали на ее сторону. Между тем сторонники доньи Изабеллы клялись в вечной преданности и вечном повиновении ей и ее супругу. Всеобщее удивление вызвало появление при дворе этих двух царственных особ — Бертрандо де ла Куэвы, герцога Альбукерка, слывшего подлинным отцом принцессы Хуаниты. Казалось весьма вероятным, что этот синьор, обладавший огромным честолюбием, предполагал, что дочь его, подлинная или мнимая, но в первую очередь занятая собственными интересами, не только не думает возвышать его, но скорее всего даже намерена погубить. Правда это была или нет, трудно сказать, одно очевидно — в данном случае герцог Альбукерк действовал против всех чувств человеческой природы, нарушая законы справедливости. Партия Изабеллы, без всяких сомнений, была очень сильна. Этой королеве хотелось завоевать расположение молодого маркиза де Виленьи[127], который, казалось, был готов признать государыней ту, кто даст ему большую власть. Виденья обещал перейти на сторону Изабеллы только в том случае, если за ним будет оставлен отцовский титул командора де Сант Яго. Король и королева Сицилийские приняли его предложение, но пожелали, чтобы взамен прежде он выдал им королеву Хуаниту. Маркиз не пожелал на это согласиться, и сделка сорвалась. Разразилась война с обеих сторон очень кровопролитная. Виденья, видя, что Фердинанд и Изабелла имеют в своем распоряжении силы нескольких королевств и сверх того активно поддерживаются королем Арагона, хорошо понимал, что не сможет долго противостоять такому сильному противнику. Он обратился к королю Португалии, Альфонсу V, осмелившись предложить ему молодую королеву в жены[128], а в качестве свадебного дара предлагая Кастилию и Леон. Португальский король с удовольствием принял это предложение и обещал с оружием в руках защищать права юной королевы. Так как она была его племянницей, он просил у папы разрешения на брак. Столь могущественное покровительство в немалой степени ободрило кастильских грандов, заставляя их открыто выступать за донью Хуаниту. Король Португалии устрашил Фердинанда и Изабеллу, собирал войска, чтобы отвоевать назад для своей будущей невесты все захваченное ее неприятелями. В целях безопасности Виденья перевез молодую королеву в Пласенсию, небольшой город неподалеку от португальской границы, куда чуть позже прибыл и дон Альфонсо с войском в 15 тыс. человек пехоты и 5 тысячным отрядом конницы. Торжественно приняв титул короля Кастилии и Леона, он овладел двумя крепостями — Торо и Самора, — которые передал ему маркиз де Виденья, и юная королева вместе с супругом совершила торжественный въезд в один из них — город Торо. Казалось, дела Хуаниты приобретают благоприятный оборот, но и король Фердинанд не дремал в подобных обстоятельствах. Он собрал все свое войско и сам стал во главе него. Численность его армии составила 40 тыс. человек. Надеясь закончить войну одним-единственным сражением, он осадил Торо, однако обманулся в расчетах. Крепость не испытывала ни малейшего недостатка ни в снаряжении, ни в продовольствии и защищалась по большей части португальскими солдатами. Осажденные делали частые и смелые вылазки против кастильцев, вынуждая тех отказаться от своей затеи. Сам португальский король вывел своих воинов за стены города и на открытой местности наголову разбил превосходящие кастильские силы, взяв город Пеньяфьель, недалеко от Вальядолида. Однако папа Пий II, настроенный в пользу Фердинанда и Изабеллы, отказал дону Альфонсо в разрешении на брак и своем благословении. Негативный ответ римского понтифика охладил пыл португальского государя. Так или иначе, но он вступил в переговоры, соглашаясь отказаться от всяких претензий, если ему уступят Галисию, города Торо и Самора. Изабелла надменно отвергла это предложение, сказав, что никогда не перенесла бы такого позора, дав согласие на отделение хотя бы одного-единственного города своего королевства, и надеется оставить своим детям Кастилию такой, какой получила ее от предков. В свою очередь за право свободного возвращения на родину она требовала у португальцев платы в виде весьма значительной суммы денег. Договор, заключаемый доном Альфонсо, рассматривался его сторонниками как признак позорной слабости. Они были растеряны и разочарованы. И вскоре португальский король испытал на себе последствия предпринятого им шага. Многие города Испании открыли ворота Фердинанду и Изабелле. И королю Португалии, чтобы хоть как-то приостановить решительное наступление врага, пришлось решиться на битву. Войска встретились, завязалось сражение, долгое и кровопролитное, и хотя на стороне кастильцев было численное преимущество, победа несколько раз улыбалась португальцам. Потери с обеих сторон были велики, но судьба в конце концов оказалась милостива к Фердинанду. Португальские войска потерпели жестокое поражение. Альфонсо спасся бегством на родину, куда забрал с собой и принцессу Хуаниту, с немалым мужеством переносящую все свои несчастья. Мадрид и все основные города королевства подчинились победителю, так что король Португалии был принужден подписать соглашение, по которому король и королева Сицилии признавались повелителями королевства Кастилии. Кроме того, было решено, что донья Хуанита выйдет замуж за дона Хуана, единственного сына Фердинанда и Изабеллы, когда юноша достигнет зрелого возраста[129]. Особой статьей соглашения оговаривалось и такое категорическое условие: в том случае, если принцесса не пожелает дать согласие на этот брак, она будет обязана в ближайшее же время постричься в монахини. Засим монархи клялись в том, что мир, подписанный ими, должен будет продлиться сто лет и еще один год, и два народа обратили свои взоры к дочери Энрике IV (от которой зависело, быть ему или нет), чтобы узнать, какое решение она примет. И эта принцесса, столько раз бывшая игрушкой в руках судьбы, не пожелала предавать себя новым испытаниям. Она заявила, что отказывается от всяких претензий на трон и сама избирает для себя участь монахини, решение странное для той, которая по своему положению, молодости и красоте могла играть на сцене истории весьма заметную роль. Трагический день наступил. Принцесса вступила в церковь Санта Клары в Коимбре[130], облаченная в королевские одежды, которые должна была снять навсегда. Зрелище это сжимало сердца всех присутствующих, ибо невозможно было думать без слез о том, что подобное очарование навеки погребет себя в заточении. Казалось, в подобных обстоятельствах одна принцесса сохраняет удивительное хладнокровие. Она сняла с головы корону и положила ее к подножию алтаря. Сняв все прочие знаки королевской власти, она приняла одежду послушницы, произнеся положенный в таких случаях обет и изменив имя королевы на имя сестры Хуаниты. Нельзя выразить словами скорбь короля Альфонсо, лишившегося той, которая была ему дороже всего на свете. И этот государь тогда же решил оставить трон и вести одинокую затворническую жизнь. Смерть помешала ему исполнить это. Дон Фердинанд и донья Изабелла, избавившись от опасных конкурентов, думали теперь лишь о процветании и благоустроении своих владений. Превыше всех своих предшественников вознесли они славу Испанской монархии, соединив под своим владычеством королевства Кастилии, Леона, Толедо, Мурсии, Севильи, Галисии, Андалусии, Валенсии, Майорки, Сицилии и герцогства Каталонского. Они полностью изгнали мавров из Испании, завоевав Гранаду, стали повелителями королевства Неаполитанского, отобранного ими у дона Фадриго и французов. Под конец они похитили даже Наварру у Жана д’Альбре и увенчали свое правление славой открытия Западных Индий[131]. Так неисчислимые страдания и несчастья, сопровождавшие их при восхождении на престол, обратились великими и славными успехами для Испанской монархии, многократно превосходящей размерами королевство Кастилию. Дон Хуан, принц Астурии, единственный сын Фердинанда и Изабеллы, умер в Саламанке в возрасте двадцати лет, а вдова его Маргарита Астурийская родила дочь, умершую прежде, чем появиться на свет. Донья Изабелла, первородная дочь их Католических Величеств, вышла замуж за дона Мануэля I, короля Португалии, и умерла чуть позже, явив на свет принца, получившего имя дона Мигелья. Но этот наследник испанского престола, собравший на своей голове все испанские короны, пережил свою мать всего лишь на два года. Так небо, которое, казалось, было заинтересовано в возвеличении и славе австрийского дома Габсбургов, позаботилось возвести на трон Испании эрцгерцога Филиппа, принца Нидерландского, перед тем женившегося на донье Хуаните, младшей дочери Их Католических Величествtitle="">[132]. Эрцгерцог прибыл со своей женой в Испанию, чтобы принять присягу верности дворянства, церкви и народа. После церемонии он вернулся во Фландрию, где и узнал некоторое время спустя о кончине королевы Изабеллы, его тещи. Сразу же вернулся он в Испанию и вступил во владение кастильской короной. Дон Фердинанд хотел было воспротивиться ему в этом, но был почти насильно принужден отказаться в пользу зятя от всех своих претензий и довольствоваться властью над Арагоном. Однако и Филипп не долго наслаждался могуществом. Он был отравлен в Бургосе во время одного из торжественных обедов, который устроил в его честь фаворит дон Хуан Мануэль. Донья Хуана, вдова почившего государя, была неспособна одна управлять столь обширным наследством, к тому же она была от природы подвержена частым приступам умопомрачения и безумия, так что пришлось дать ей попечителя и им мог быть лишь ее отец дон Фердинанд, к которому опять переходили все бразды правления до тех пор, пока его внук, родившийся от брака Филиппа Габсбурга и Хуаны Кастильской, не достигнет зрелого возраста. Юным принцем, которому судьбой было назначено взойти на трон Кастилии, был знаменитый Карл V, столь хорошо известный истории. Он не только объединил на своей голове все короны, из которых была собрана современная Испанская монархия, но, помимо этого, был избран императором Германии, став там самым могущественным монархом Европы. За несколько лет до своей смерти он отрекся от трона, оставив Германскую империю своему брату Фердинанду, а Испанию своему сыну Филиппу. Потомство последнего угасло со смертью Карла II, назвавшего своим наследником государя из августейшего дома Бурбонов[133]. Другая ветвь австрийского дома, долгое время занимавшая императорский трон, тоже со временем угасла. От всего этого великого древа ныне осталась одна лишь Мария-Терезия, эрцгерцогиня Австрийская, королева Богемии и Венгрии, супруга Франца I Лотарингского, нынешнего императора Германии.
ГЛАВА 14
ПОРТУГАЛЬСКИЙ ЗАГОВОР


Место действия — Португалия, Лиссабон. Время действия — 1 декабря 1640 г.
Испанцы, овладев Португалией, стали рассматривать это королевство в качестве одной из провинций Испании. Герцог Оливарес, первый министр мадридского двора, считал совершенно необходимым ослабить бывшее королевство как можно сильнее, чтобы лишить португальцев всякой возможности и желания восставать, отобрал у всех первых грандов Португалии их должности, удалил дворянство от дел, задавив остальное население страны непомерными налогами и поборами, но, даже прибегнув к таким мерам, Оливарес не добился успеха. Португальцам больше нечего было терять, поэтому единственное средство, способное спасти их от унижения и «нищеты, они не без причины видели в решительной перемене государственной власти — восстании, способном свергнуть ярмо, с каждым днем становящееся все тяжелее. Маргарита Савойская, герцогиня Мантуанская, управляла тогда Португалией в качестве вице-королевы; однако реальная власть ее не шла ни в какое сравнение с ее громким и пышным титулом. Вся полнота власти находилась в руках Мигеля Вашконселло, исполнявшего обязанности государственного секретаря при вице-королеве. Этот всем в одинаковой мере ненавистный министр был португальцем, но обращался со своими соотечественниками с такой надменностью, на какую едва ли были способны даже испанцы. Никто лучше него не владел пагубным искусством обогащаться самому и обогащать своего государя за счет простого народа, который платил ему за это самой искренней ненавистью. Но именно это обстоятельство и привлекало к нему герцога Оливареса. Он охотно предоставил Вашконселло заботу о сборе налогов и всяческих им самим выдуманных сборов с Португалии, а сам спокойно почивал в тени, надеясь, что так или иначе, но гнев народа обойдет его стороной, до тех пор пока роль громоотвода будет исполнять португалец. Впрочем, пока все обстояло благополучно. Во всем королевстве португальском испанцам доставлял немалые хлопоты лишь герцог де Браганца. Корона родной страны должна была принадлежать ему по праву рождения. Нрава он был мягкого, любезного, от природы умеренного и спокойного, отличался справедливостью и скромностью, но умел проявить решительность в вопросах и делах, ее требующих. Отличаясь умом живым и гибким, он легко проникал в самую суть вещей и дел, которыми занимался, но был не слишком склонен к упорному труду. Честолюбивый, он тем не менее не был склонен все ставить на карту ради изменения своего положения и положения своей страны. Чувствительный к несправедливостям и беззакониям врагов, он был не способен отомстить им за себя и отечество. С первого взгляда могло показаться, что человек с таким характером не смог бы сыграть решающую роль в заговоре. Качества характера де Браганцы вполне устраивали испанцев в их нынешних вполне благополучных обстоятельствах, да и сам герцог, дабы не вызывать в них ни малейшего подозрения, совершенно не занимался ни политикой, ни какими-либо государственными делами, а казалось, был полностью погружен в одни лишь развлечения и удовольствия. К тому же он даже не помышлял претендовать на португальский трон, а ведь именно этим более всего были обеспокоены испанцы. Но хотя герцог вел себя очень осмотрительно и осторожно, случилось нечто, что заставило мадридский двор пересмотреть свое благодушное отношение к нему. В отчаянии от новых налогов, народ Португалии негодовал на своих угнетателей и в пылу гнева часто проклинал тиранию Испании, призывая к власти представителей дома Браганцы. Движение это, в котором сам герцог участия не принимал, заставило королевский совет в Мадриде обезопасить себя от этого человека. Предлагались различные меры, способные заставить его покинуть Португалию и явиться ко двору, и, поскольку применять грубую силу в данном случае было небезопасно из-за необыкновенной всенародной любви португальцев к де Браганце, первый министр решил обмануть жертву лаской и заверениями в вечной и искренней дружбе. Герцог не дал себя обмануть, еще пуще прежнего принимая чрезвычайные меры предосторожности, одним словом, был начеку. Тогда герцог Оливарес, чтобы уж наверняка ввести его в заблуждение, написал в самых искренних и доверительных выражениях письмо, уведомив де Браганцу, что его католическое величество желает, чтобы тот непременно посетил и проинспектировал все крепости и портовые города Португалии. В то же время ему был передан счет на 40 тыс. дукатов для сбора ополчения, которое могло ему понадобиться в инспекционной поездке, а затем послужить эскортом для путешествия в Мадрид. Между тем коменданты крепостей, в которые должен он был поехать, получили приказ подготовить его тайный арест, после чего задержанного следовало немедленно препроводить в Испанию. Герцог де Браганца охотно согласился выполнить поручение, наделявшее его немалыми полномочиями, он собрал вокруг себя своих друзей, поставил их на соответствующие посты, наделил широкими полномочиями, которые в один прекрасный день должны были ему помочь. На деньги Испании заручился он поддержкой людей, неравнодушных к делу освобождения Португалии. Появляясь в крепостях или портовых городах в сопровождении большого отряда преданных ему людей, он наводил страх на верных испанцам комендантов, с успехом расстраивая планы герцога Оливареса, ибо никто не решался исполнить приказ двора и арестовать его. Так ухищрения, призванные его погубить, лишь усилили и возвысили его. Теперь трон не казался ему таким уж далеким и недостижимым. Благодаря своему новому назначению он свободно разъезжал по всей Португалии в великолепном экипаже, привлекая к себе всеобщее внимание. Он унимал бесчинства наемных вояк, порицал или хвалил чиновников, с неизменным вниманием и добротой выслушивал народ, встречался с португальскими дворянами и всюду, где бы ни проезжал, сопровождал свой приезд новыми добрыми делами. Сторонники его дома не упускали ни одного шанса, ни единой возможности всемерно укреплять его авторитет. Но Пинто де Рибейро, управляющий в доме герцога, проявлял в этом деле поистине незаурядное дарование. Он был необычайно деловит, бдителен, с головой погружен в дела семьи, которой служил, и страстно желал возвышения своему господину. Герцог не раз в частных беседах признавался ему, что с удовольствием воспользовался бы каким-либо удобным предлогом, чтобы овладеть троном, но не желает приступать к такому серьезному делу с легкостью авантюриста, которому нечего терять. Поэтому он просит своего верного слугу прощупать почву для предстоящего переворота и в глубокой тайне готовить средства, способные привести его к долгожданной цели. Пинто сообразовал свои действия с чаяниями патрона и, проверив многих португальцев в частных беседах, собрал наконец многих видных синь-еров на собрание, на котором председательствовал архиепископ Лиссабонский. Д’Акунья (так звали прелата) происходил из одной из самых знатных семей королевства, был очень образован, умен, любим народом и ненавидим испанцами, к которым испытывал те же самые чувства, поскольку при всяком удобном случае они предпочитали ему Норонью, архиепископа города Браганцы[134], ставленника вице-королевы и ревностного сторонника испанского владычества. Между португальскими синьерами, тайно действовавшими в пользу герцога де Браганцы, дон Мигель д’Алмейда решительно выделялся среди всех прочих. Набожный старик, он пользовался особым уважением и был знаменит тем, что любил родину сильнее своего богатства и личного благополучия. С гневом взирал он на отечество, доведенное почти что до состояния рабства. Ничто: ни просьбы и уговоры жены, ни советы друзей, — не могло заставить его служить испанцам. Столь редкостное упорство делало его весьма подозрительным. Поэтому именно к нему в первую очередь решил обратиться Пинто де Рибейро, хорошо зная, что человек такого нрава и характера имеет огромный вес и легко привлечет одним своим именем многих богатых синь-еров и простых идальго на сторону герцога де Браганцы. Итак, как я уже говорил, португальская знать собралась, и архиепископ Лиссабонский, самый красноречивый из всех, открыл собрание следующими словами: «Вам уже хорошо известно о бедствиях, которые терпит наш народ с тех пор, как покорился испанцам. Сколько крови было пролито для укрепления их владычества? При них любовь к родине стала рассматриваться как преступление, караемое смертью. Кто среди нас может быть уверен в своей чести, жизни и состоянии? Знатные не у дел и влачат жизнь в бесславии, церковь погрязла в коррупции и пороках, поскольку все высокопоставленные прелаты креатуры Вашконселло. Народ угнетен налогами, поля не обрабатываются, города почти совсем опустели. Португальцы бегут из отчего дома, чтобы стать наемниками в чужой стране[135]. Но двор в Мадриде не удовлетворяется этим, ему нужно, чтобы страна совершенно лишилась своих защитников. Поэтому принято решение избавиться от всех португальских идальго, которых боится мадридский двор, отправив их в глубь Кастилии, откуда потом они будут высланы в испанские колонии, в которых, принимая во внимание положение Португалии как завоеванной страны, будут подвергаться самому бесчеловечному обращению. Горькая мысль об участи, которая их всех ждет, вынуждает меня скорее желать собственной смерти, чем возможности дожить до такого унижения и позора страны. И все же, несмотря на тяжесть болезни, у нас остаются средства и люди, которые смогут защитить честь Португалии. Очередь за вами. Вместе мы должны решить, как избавиться от тирании. Надеюсь, что столь многие заслуженные и уважаемые люди не напрасно собрались здесь все вместе». Речь эта всколыхнула в памяти присутствующих все беды, которые пришлось им претерпеть за последнее время. Было решено свергнуть ненавистное ярмо и возложить корону на голову дона де Браганцы. Прежде чем разойтись, назначили день и час нового совещания для обсуждения средств, способных привести к скорому и счастливому завершению дела. Пинто, видя, что все настроены в пользу его патрона, тайно написал ему, чтобы тот спешил в Лиссабон, чтобы своим присутствием ободрить заговорщиков, и тот, открыто не принимая никакого участия в заговоре, стал его душой и вдохновителем. По совету Пинто герцог выехал из своей резиденции, носящей название Виллависьёса, и прибыл в замок, хорошо укрепленный и расположенный недалеко от Лиссабона. Ехал он в роскошном, почти что королевском экипаже в сопровождении самых знатных синьоров и военачальников. Процессия скорее напоминала торжественное шествие короля, чем путешествие обычного губернатора провинции, посещающего с инспекцией города. Сейчас он находился так близко от Лиссабона, что не мог не засвидетельствовать своего почтения вице-королеве. Он вступил в город под приветственные крики толпы, и похоже было, что не хватает только герольда, чтобы провозгласить его королем, да самому ему не достает смелости возложить корону на свою голову. Но герцог был слишком осторожен, чтобы доверять непостоянному и склонному к перемене народу замыслы столь серьезные. Он скромно удалился в родовой замок синьоров де Алмада, в стенах которого устроил совещание с тремя главными заговорщиками[136]. Они живо нарисовали ему безрадостное положение дел в королевстве, опасности, которым подвергается его особа, желание всей нации видеть его на троне и легкость осуществления этого. Герцог отвечал, что вполне одобряет все ими сказанное, но пока ждет дальнейшего развития событий и откроет свои замыслы лишь тогда, когда накал страстей в обществе достигнет предела. Договорившись обо всем с Пинто, он вновь вернулся в имение Виллависьёса и оттуда сообщил о настроениях и предложениях, сделанных ему португальскими грандами, своей жене. Герцогиня была испанкой по рождению, сестрой герцога Медины Сидонии, испанского гранда и губернатора Андалузии. Она рождена была с огромной склонностью ко всему великому и рискованному, и постепенно склонность эта переросла во всепожирающую страсть к величию и славе. Герцог, ее отец, с самого рождения заметивший в ней эти качества, приставил к девочке опытных учителей, которые и развили ее честолюбие до невиданных размеров, внушив, что во всем мире не найдется другой такой благородной, знатной и добродетельной грандессы, как она. Сразу после своего замужества она с такой легкостью освоила все обычаи, привычки и манеры португальцев, что казалась уроженкой. Лиссабона. Очень непохожая на большинство женщин, она всегда избегала суетных удовольствий и развлечений и в часы досуга занималась лишь тем, что могло украсить и укрепить разум. Герцог де Враганца, бесконечно ее уважавший и безгранично ей доверявший, ничего не хотел предпринимать, не посоветовавшись с женой. Он открыл ей планы заговора и имена заговорщиков, не скрыл и опасностей, сопровождающих обычно подобные предприятия. Но такое рискованное дело лишь еще сильнее возбудило отвагу в герцогине и пробудило в ее сердце властолюбивые желания. Она уверила супруга, что он имеет неоспоримые права на корону, что в том плачевном положении, в котором ныне пребывает Португалия, не подобает дворянину такого высокого ранга оставаться безучастным к страданиям родины, ибо этого не простят ему ни его дети, ни даже отдаленные потомки. Она рисовала дело в самых радужных тонах, преувеличивая легкость захвата трона, так что в конце концов окончательно убедила мужа. А между тем при дворе в Мадриде стали испытывать немалое беспокойство. Народное ликование в Лиссабоне во время приезда герцога де Браганцы в город сильно встревожило первого министра испанской короны. Он начал подозревать, уж не ведутся ли в столице Португалии тайные совещания и переговоры, и некоторые слухи, зачастую предшествующие самым неожиданным событиям, вызывали у него живейший страх. Чтобы помешать португальцам в осуществлении задуманного ими, герцогу де Браганце был послан специальный приказ немедленно явиться ко двору и дать отчет о положении гарнизонов и городов вице-королевства, для которого этот приказ был ударом молнии или раскатом грома посреди ясного неба. Убежденный в том, что ему готовится западня, из которой на этот раз ему не выбраться, Браганца был в некоторой нерешительности и решил обратиться за советом к соратникам. Он встретился с Мендосой и сообщил о полученном приказе, и тот заверил его, что настало время решиться и выбрать, корона или смерть. Герцог отвечал, что готов исполнить все необходимое, чтобы освободить Португалию от тирании испанцев, и приступил к совещаниям с Пинто, как это осуществить. Вот что было решено. В движение, начиная с Лиссабона, должно было быть приведено все королевство в один и тот же день, когда этот великий город объявит о провозглашении герцога королем, то же самое должны были сделать и все прочие города Португалии. Способствовать выполнению этого должны были те из его друзей, которых именно он назначил губернаторами городов и крепостей по всей стране. Одним словом, движение должно было разом, подобно всеобщему пожару, охватить всю страну, весь народ, дойти до отдаленных и богом забытых мест, чтобы едва опомнившиеся испанцы не знали, куда, в какую сторону обращать свое оружие. Были разосланы тайные инструкции, как провести бескровный и тихий захват такого большого города, как Лиссабон. Пинто был посредником между герцогом и остальными заговорщиками, именно он уведомил их о намерениях господина. Д’Алмейда и Мендоса тотчас послали за Мосо и Корее, двумя богатыми лиссабонцами, имевшими большой авторитет в народе и часто занимавшими те или иные должности в городском совете. Именно под их влиянием сейчас находились ремесленные корпорации города, которые эти ревностные горожане уже давно подбивали к бунту, настраивая сограждан против Испании. Но и без того шли постоянные разговоры о новых налогах, которые тяжким бременем должны были лечь на ремесленников и рабочих мануфактур. Мосо и Корео намеренно уволили всех самых решительных и склонных к бунту рабочих, говоря, что кризис торговли и производства не позволяет им платить, но на самом деле для того, чтобы нищета довела несчастных до отчаяния и восстания. Кроме того, они поддерживали постоянную переписку с главами всех кварталов города, которым был сообщен день и час общего выступления. Пинто лично проверил и убедился в том, что все участники заговора тверды, бесстрашны и полны терпения. Главы заговора собрались во дворце де Браганцы в ночь на 25 ноября 1640 года. Утешением для них было видеть в своей среде около ста пятидесяти знатнейших идальго королевства, представителей самых влиятельных и знаменитых семей, около двухсот богатых горожан и ремесленников, все больше людей предприимчивых и смелых, на которых вполне можно было положиться, в особенности, если учесть, что именно они, обладая большим авторитетом в городе, могли поднять и повести за собой народ. К тому же в это время король Испании подавлял восстание каталонцев, воевал с Францией и Голландией, так что не мог направить в Португалию большое войско, словом, все это способствовало благополучному исходу дела. На совещании было решено умертвить Вашконселло, уж слишком личность этого человека была ненавистна португальцам. Некоторые предлагали таким же образом поступить и с архиепископом де Брагой[137], но дон Мигель де Алмейда сказал, что, убив человека такого высокого звания, они навлекут на голову дона де Браганцы единодушную ненависть всех церковников и инквизиции, опасных даже самым могущественным государям Европы. Наконец, он с такой силой и жаром заговорил в пользу этого прелата, что сумел изменить к нему отношение заговорщиков. Далее были оговорены порядок и характер действия и точно назначен день выступления — суббота, 1 декабря 1640 года. Роковой день наступил. Исход его должен был решить, станет ли герцог Браганца королем и освободителем отечества или же мятежником и врагом государства. Заговорщики с раннего утра пришли в дом Алмейды и других руководителей и там вооружились. Лица всех дышали решимостью и отвагой, так что было совершенно ясно — никто не сомневается в успехе. Особого примечания достойно то, что в разношерстной толпе было много священников, простых горожан и дворян, которых по большей части воодушевляли на бой самые различные причины. Даже многие женщины захотели разделить с мужчинами честь и славу этого дня. Рассказывают, что знатная госпожа донья Фелипе де Вильенес сама вооружила двух своих сыновей и, надев на них латы, напутствовала такими словами: «Идите, дети мои, и вырвите с корнем тиранию, отомстите за себя испанцам, и если успех не будет сопутствовать нашим общим надеждам, ваша мать не переживет вас». Заговорщики с мечами наголо начали разными путями двигаться ко дворцу. Они разделились на четыре части и, как было условлено, с нетерпением ждали, когда часы на башнях города пробьют восемь. Опасение, что их заметят прежде намеченного срока, доставляло им сильнейшую тревогу. Часы пробили восемь, и Пинто дал залп из пистолета — все пришло в движение. Дон Мигель де Алмейда напал на немецкую наемную гвардию, которая была сметена прежде, чем успела опомниться и взяться за оружие. Дон Эстебан де Акунья напал на солдат испанского гарнизона, оказавших очень серьезное сопротивление. Некий священник, идя во главе восставших с распятием в одной руке и мечом в другой, воодушевлял своим криком народ на бой и сам первым наносил яростные удары испанцам, либо обратившимся в бегство, либо вынужденным присоединяться к восставшим и кричать вместе с ним: «Да здравствует герцог де Браганца, король Португалии!» Пинто, с боем прокладывая себе дорогу во дворец, встретил некоторых из своих друзей, спросивших его с ужасом, куда это направляется он с такой большой группой вооруженных людей и что все это означает. «Ничего иного, — отвечал Пинто, улыбаясь, — как свержение тирана и победу нового, законного короля». Антонио Корреа, первый секретарь Вашконселло, пришел в ужас. Так как именно он был верным исполнителем всех жестоких приказов своего хозяина и обращался с португальскими аристократами с огромным презрением, ничто не могло спасти его от смерти. Дон Менезес поразил его ударом кинжала в грудь. Корреа, придя в ярость от боли и гнева, вперил в своего убийцу глаза, полные ярости и негодования. «Что?! И у тебя хватило наглости ударить меня, негодяй?» — в ярости воскликнул он. Но в тот же момент Менезес ответил ему еще двумя или тремя ударами кинжала и свалил на мостовую. И все же раны его не были смертельны, его вылечили, но лишь затем, чтобы несколько недель спустя предать в руки палача. Заговорщики толпой ворвались в апартаменты Вашконселло. Его повсюду искали, бросая и разбивая мебель, ломая шкафы и секретеры, и нигде не могли найти. Заговорщики пришли в отчаяние, думая, не ускользнул ли он из их рук. И тут одна старуха-служанка, напуганная угрозами, показала место, в котором он мог укрыться. Вашконселло нашли, и дон Родриго де Саа, великий камергер, выстрелил в него из пистолета. Другие набросились на жертву со шпагами и, изрубив его, выбросили тело на мостовую со словами: «Тиран мертв! Да здравствует свобода и король Португалии дон Жуао!» Народ, сбегавшийся ко дворцу, разразился ликующими криками при виде павшего к его ногам Вашконселло. Одни яростно топтали его, другие кромсали мечами, шпагами, ножами, уверенные, что мстят ему за его несправедливость.. Такова была кончина ненавистного министра. Урожден он был с прекрасными талантами для дел государственных, но направлял их лишь на то, чтобы сделать несчастной свою родину. Ни в ком, ни в одном из правителей не было столь черствого, столь жестокого сердца. Он не знал и не признавал ни родных, ни друзей, ничего, кроме собственных интересов. Находясь на своем посту, скопил он огромные, поистине несметные богатства, большая часть которых была разграблена во время восстания. Народ сам свершил над ним правосудие и собственными руками вернул себе то, что было у него похищено. Участь Вашконселло должна служить уроком всем недостойным министрам, совершенно не заботящимся о благе народа, а скорее думающим лишь о том, как получше и побыстрее ограбить и обобрать его. Заговорщики овладели дворцом вице-королевы. С нею оставались лишь дамы ее свиты и архиепископ де Брага. Появившись на пороге своей комнаты, она надеялась своим видом успокоить и заставить удалиться народ. «Признаюсь, господа, — обратилась она к заговорщикам, — что Вашконселло заслуженно навлек на себя ненависть народа. Его смерть освободила нас от ненавистного министра. Но разве он не заплатил за все сполна? И если вы будете упорствовать в своих преступлениях, то даже я не смогу вымолить вам прощения у короля». На это дон Антонио де Менезес отвечал вице-королеве: «Не думайте, сударыня, что столь знатные господа взяли в руки оружие только затем, чтобы лишить жизни одного преступника, который должен был потерять ее лишь от руки палача. Мы собрались лишь затем чтобы вернуть дону Браганце корону, по праву ему принадлежащую, но похищенную испанским королем у его семьи. Здесь, среди нас, нет ни одного, кто бы не был готов принести себя в жертву ради того, чтобы вернуть этого государя на трон его предков». Вице-королева хотела что-то возразить, напомнив о верховной власти и авторитете испанского монарха, но Алмейда, боясь, как бы долгие разговоры не угасили решимость его сторонников, резко прервал ее, сказав: «Португалия больше не признает другого короля, кроме герцога де Браганцы». И в тот же миг все его спутники закричали: «Да здравствует дон Жуао, король Португалии!» Принцессу умоляли не подвергать себя опасности народной мести и советовали поскорее удалиться в свои покои, и хотя слова эти были произнесены самым любезным тоном, она легко поняла из них, что стала пленницей. С возмущением спросила она: «Что же может сделать мне народ?..» — «Ничего другого, — отвечали ей, — как выбросить ваше высочество из окна». Архиепископ де Брага не мог без содрогания слышать этот ответ: он в ярости бросился на одного из солдат, выбил у него шпагу, завладел ею и попытался сразить ею того, кто их произнес. Алмейда бросился ему наперерез, обнял и заклинал подумать об опасности, которой он себя подвергает. Силой увлекая архиепископа в сторону, он сказал: «Известно ли вам, в какой опасности ваша жизнь, ведь мне пришлось приложить немало труда, чтобы спасти ее из рук заговорщиков? Не стоит раздражать их бесполезной отвагой, неприличной для человека вашего звания». Прелат воспользовался советом и удалился, надеясь, что время и терпение предоставят ему случай отыграться. Заговорщики успешно обезопасили себя ото всех испанцев, бывших во дворце и в городе, большую часть которых удалось взять в постели. Все произошло так спокойно, словно арестовать их велел не кто иной, как сам испанский король. Никто не спешил им на помощь. Затем из тюрем были выпущены все противники Испании. Этих несчастных людей, совершенно неожиданно вышедших из мрака на свет свободы, переполняли чувство благодарности и страх вновь попасть в оковы, если дело не удастся. Поэтому именно из них была образована новая группа заговорщиков, продемонстрировавшая твердую решимость упрочить трон де Браганцы. И все-таки испанцы еще удерживали городскую цитадель, со стен которой могли вести прицельный огонь по городу, сражая выстрелами из мушкетов и орудий большое количество народа и наблюдая за всеми передвижениями португальцев. Вот почему заговорщики, понимая, что не сделано ничего до тех пор, пока цитадель в руках врагов, послали за вице-королевой и просили ее отдать коменданту крепости приказ капитулировать. Принцесса отказалась выполнить это: «Вы воображаете, что я стану вашей сообщницей?» «Если вы не подпишете этот приказ, — отвечал один из заговорщиков, — мы убьем всех испанцев, находящихся в Лиссабоне». Устрашенная вице-королева уступила, полагая, что комендант крепости, догадавшись, что подобный приказ добыт у нее силой, не станет его выполнять. Увы, она обманулась в своих ожиданиях: губернатор-испанец[138], человек нерешительный и трусливый, увидя перед воротами цитадели группу заговорщиков, угрожающих изрубить его вместе с гарнизоном на куски, если он незамедлительно не сдастся, был очень рад дождаться столь долгожданного предлога, способного скрыть его трусость под маской чести и гордой покорности. Он сдал цитадель. Мендоса и Мелло поспешили сообщить герцогу де Браганце, что восстание удалось и народ ждет лишь появления государя. Пока эти два синьора были в дороге, герцог, ничего не знавший еще о том, что готовит ему судьба, находился в ужасной тревоге. Надежда и страх, охватывая его душу попеременно, доводили несчастного до исступления. Удаленность Виллависьёсы от Лиссабона[139] не позволяла ему узнавать о новостях так скоро, как он того желал. Одно он знал наверняка — в эти самые минуты решалась его жизнь, его дальнейшая судьба. Весь день и часть ночи провел он в волнении, пока, наконец, не явились Мендоса и Мелло и не положили этому конец. Первым делом они пали перед доном Браганцей на колени, и самый вид их больше, чем их слова, поведал герцогу о том, что все прошло благополучно и он теперь король Португалии. Весь замок огласился радостными криками — новость тут же распространилась по окрестностям. Каждый спешил оказать должные почести новому монарху, и эти первые приветствия и крики восторга тронули его сердце больше, чем вся роскошь торжественных церемоний последующих лет его царствования. Дон Жуао де Браганца тотчас выехал в Лиссабон. Вся знать, вельможи двора вице-королевы, магистраты городов вышли встречать его задолго до появления на горизонте крыш Лиссабона. Все остальное королевство последовало примеру столицы: никогда еще революция не была столь скорой и всеобщей. Каждый день приносил известия о том, что все новые города и провинции Португалии изгоняют испанцев и переходят на сторону нового короля. Коменданты крепостей были не решительней лиссабонского коменданта. И то ли потому, что у них не было достаточно войск и вооружений, то ли потому, что им недоставало храбрости, но сопротивления они не оказывали — никому из них не хотелось повторить участь Вашконселло, так что один за другим они бежали из своих городов и крепостей быстрее, чем узники бегут из ненавистной им тюрьмы. Во всей Португалии не осталось ни одного не арестованного, не убитого (или бежавшего оттуда) испанца, и все это за какие-то пятнадцать дней. Впрочем, нет, я допустил ошибку, остался один синьер — дон Фернандо де ла Куэва, комендант цитадели святого Жуао в устье реки Тежу (испанское название реки Тахо), который в совершенном одиночестве решил бороться с революцией, решив ни за что не отдавать форпост испанского владычества врагу. Его гарнизон состоял из одних испанцев, защищавшихся как львы. Дон Фернандо, долго отбивая атаки португальцев, все-таки уступил, ссылаясь на голод и недостаток войск, однако его офицеры отказались подписывать акт о капитуляции, и был среди них один молодой испанский идальго, который заявил, что продержится, несмотря ни на что, еще три недели до подхода основных испанских сил. Таков был успех португальского заговора. Дело это должно рассматриваться как настоящее чудо конспирации, принимая во внимание число участвовавших в нем людей самых различных интересов и характеров. Но уж таков, видно, был результат той исключительной ненависти, которую испытывали с давних пор заговорщики к власти испанской короны. Частые войны, которые вели эти близкие, казалось бы, друг другу народы, породили глубокую вражду между двумя нациями. Спор из-за недавно открытых Индий и частые территориальные и династические претензии не в малой степени способствовали росту взаимной вражды и неприязни. Новость о революции в Португалии скоро достигла двора в Мадриде. Первый министр был в отчаянии от того, что заговорщикам удалось так тонко провести его. Но Филиппу IV новые тревоги были ни к чему, он уже и так увяз во Франции, Голландии и Каталонии. Весь двор знал о том, что произошло в Португалии, один лишь король ничего не ведал, и никто не осмеливался ему об этом сказать из страха перед герцогом Оливаресом, никому не простившим бы такой любезности. Однако португальское восстание наделало немало шума и долго скрывать его было невозможно. Тогда первый министр, боясь, что его недруги доложат обо всем королю в самом невыгодном для него свете, решил сам тому все открыть, но так хитро и тонко повел речь, что король сразу ничего не понял, а если и понял, то не постиг бы всей тяжести поражения. «Сир, — сказал ему Оливарес, смело глядя в лицо своему государю, — я принес вам доброе известие. Ваше величество присоединили к своим владениям новое великое герцогство с прекрасными и обильными землями». «Как это?» — изумился король. «Дело в том, — отвечал ему министр, — что герцог де Браганца совсем потерял рассудок и позволил увлечь себя низкой черни, провозгласившей его королем Португалии. Таким образом, теперь нам предстоит с полным правом конфисковать все его владения и присоединить их к вашим, ибо с угасанием дома де Браганцы Вашему величеству предстоит одному править его землями». Сколь ни был слабоумен Филипп IV, но и его не могла обмануть такая речь, так что, помолчав некоторое время, он спросил у первого министра, когда и как намерен тот подавлять восстание. Король Португалии, со своей стороны, прилагал все силы к упрочению своего положения. Он посылал специальных комиссаров для сбора новых войск, тщательно изучал древние акты и постановления, чтобы изгнать хотя бы малейшее сомнение в законности своих претензий на верховную, королевскую власть. Затем, решив показать подданным, сколь правы они были, поддержав его, он отменил все несправедливые налоги времен испанского владычества, дал высшие и ответственные посты в государстве тем из заговорщиков, которые этого заслуживали и, кроме того, выказали больше рвения в деле его возвышения. Пинто больше других уповал на его милость, но, так как он был незнатного происхождения, дон Жуао не решился поднять его до высших постов. Несмотря на это, он всегда оставался самым доверенным лицом при своем господине, а авторитет, каким он пользовался, совершенно избавил его от тяги к звонким и пустым титулам и званиям, очень часто не дающим никакой реальной власти. Филипп IV предпринимал слабые попытки вернуть себе Португалию, но все они служили лишь одному — демонстрации его бессилия. Его войска несли одни лишь потери, терпели одни лишь поражения. А дон Жуао де Браганца в довершение своего счастья узнал, что Гоа[140] и другие земли в Африке и Индии, признававшие прежде власть испанцев, тоже восстали и вернулись к португальской короне. Казалось, все обещает королю Португалии череду успехов и удач, как вдруг этот счастливый государь едва не лишился трона и жизни из-за заговора, составленного в Лиссабоне, прямо при его дворе. Архиепископ де Брага, как мы уже говорили, был самыми тесными узами связан с Испанией, поэтому ему тяжело было видеть вице-королеву на положении пленницы в тех местах, где ей подобало принимать почести и отдавать приказы. Воспоминания о милостях к нему со стороны принцессы еще сильнее распаляли гнев прелата и заставили в конце концов решиться на месть и покуситься на жизнь монарха. Ему было хорошо известно, что значительная часть португальских грандов с тайной завистью взирала на возвышение удачливого герцога, совершенно равного им по знатности. Поэтому архиепископ надеялся найти себе сторонников среди самого родовитого дворянства. Прежде всего он обратил внимание на маркиза Вильяреаля, тоже принадлежащего роду де Браганца, и в доверительной беседе сказал ему, что новый король недоверчив, нерешителен и робок, а главное, всеми силами старается унизить своих собственных родственников. «Разве вы не видите, — говорил архиепископ, — что совершенно удалены от дел и постов, а все высшие должности стали добычей кучки бунтовщиков? Все честные люди не могут без сожаления смотреть на то, с каким презрением относятся к вашей особе. Вы томитесь и чахните от вынужденного досуга, в глуши, вдали от двора. Неужели вы для того родились на свет в одной из знаменитейших семей, чтобы быть подданным самого незначительного из королей Европы». Прелат видел, что речи его действуют и, в конце концов, и в самом деле убедил маркиза Вильяреаля в справедливости его претензий на трон вице-короля, обещав от имени короля Испании полную поддержку его начинанию. Архиепископ, заручившись поддержкой маркиза, герцога де Камино[141] и великого инквизитора, постарался увеличить число заговорщиков и преуспел в этом. Желание отомстить в нем было так велико, что он не постыдился обратиться за помощью даже к евреям для того, чтобы изгнать с трона законного короля, и то был, возможно, первый случай, когда синагога шла рука об руку с инквизицией. Заговорщики, обсудив разные планы, пришли наконец к выводу, что надо поручить евреям это сомнительное дело — именно они должны были в ночь с 5 на 6 августа 1641 года поджечь дворец короля и многие дома в городе, чтобы отвлечь этим народ. Заговорщики должны были войти во дворец под предлогом тушения пожара, при всеобщем смятении приблизиться к королю и убить его. Герцог де Камино взял на себя обязанность захватить королеву и принцев, чтобы обменять их жизнь на капитуляцию уже известной нам цитадели, господствующей над городом. Архиепископ и великий инквизитор со своими сторонниками должны были на улицах города успокаивать народ и помешать восстанию под страхом отлучения от церкви. Наконец, маркизу де Вильяреаль надлежало взять в свои руки бразды правления, когда прибудут соответствующие приказы из Испании. Так как заговорщики не были уверены в том, что простой народ их поддержит, им требовались войска, и было решено, что надо заставить герцога Оливареса послать к берегам Португалии флот, готовый войти в Лиссабонский порт в нужный момент, а также сконцентрировать на границе двух государств войска, способные в корне пресечь и подавить всякое сопротивление в португальской столице. Заговорщикам было очень трудно вести переговоры с Мадридом, поскольку никто не мог выехать из Португалии без специального разрешения самого короля. Не зная, что предпринять, они обратили свои взоры на одного богатого лиссабонского купца, казначея таможни лиссабонского порта, имевшего право вести торговлю по всей Европе и исключительное право корреспонденции с Испанией. Звали его Баэза (Ваэца), на людях исповедовал он христианскую веру, но в душе был и оставался иудеем. Ему предложили значительную сумму денег, он принял ее и обещал передать письма первому министру испанского двора. Баэза направил пакет маркизу де Айямонте, коменданту одной из пограничных испанских крепостей, полагая, что, окажись письма за пределами Португалии, они благополучно дойдут до адресата. Однако этот губернатор, весьма заинтересованный во всем, что касалось португальского короля, будучи дальним родственником его жены, был изумлен, увидев печать инквизитора Лиссабона на письме, адресованном герцогу Оливаресу. Опасаясь, не пишут ли тому о помощи и тайном союзе графа Айямонте с королем и королевой Португалии во время восстания, он тотчас распечатал конверт и был поражен тем, что увидел. Придя в себя от удивления, он немедленно отослал пакет королю Португалии. Трудно передать словами изумление дона Жуао де Браганцы, когда он понял, что его ближайший родственник, архиепископ и многие вельможи двора, внешне демонстрируя радость и удовлетворение его воцарением, готовятся отнять у него не только корону, но и жизнь. Он тотчас собрал тайный совет, а через несколько дней приступил к действиям. В день восстания он приказал под предлогом смотра ввести в столицу войска, расквартированные в ее окрестностях. Затем написал специальные приказы генералам и офицерам армии в назначенный час вскрыть их и точно выполнить все в них сказанное. Затем король пригласил к себе архиепископа и маркиза Вильяреаля под предлогом каких-то важных дел и приказал их без шума арестовать. То же было сделано и в отношении герцога де Камино. Те же, кто получил его запечатанные приказы, открыв их, узнали, кого из заговорщиков им нужно взять под стражу и отправить в тюрьму либо держать при себе, не арестовывая, но под постоянным надзором. Все меры были так верно рассчитаны и хорошо организованы, что меньше чем через час сорок семь главных зачинщиков выступления сидели за решеткой. Слухи о заговоре распространились по городу, жители толпами стекались к дворцу, громко крича, чтобы предателей выдали им. Из опасения, как бы не угас гнев народа, постепенно сменившись чувством сожаления или даже сочувствия к заговорщикам, король велел объявить, что целью заговора было не только убийство его самого, но и истребление всей его семьи, сожжение и разграбление города, но особенно разгневало португальцев то, что испанцы, решив навсегда избавиться от осиного гнезда под названием Лиссабон, решили всех жителей города рабами отправить на плантации и копи Америки, чтобы навеки похоронить там всех непокорных, а на их место поселить выходцев из Кастилии. Таким образом, на месте португальской столицы должна была появиться новая кастильская колония. Виновных подвергли суду, Баэзу пытали, и он во всем сознался: признал, что вынашивал замыслы убить государя, что во дворце инквизиции хранилось много оружия и заговорщики ждали лишь ответа герцога Оливареса для открытого выступления. Маркиз Вильяреаль, герцог де Камино, архиепископ де Брага и великий инквизитор сознались во всем сразу, чтобы избежать пыток. Судьи приговорили первых двух к отсечению головы. Остальные заговорщики были четвертованы. Что касается церковников, король повременил с их наказанием. Дон Жуао собрал совет и заявил, что испытывает отвращение при одной только мысли о том, что должен умертвить и их, но маркиз де Феррейра возразил ему: «Государь,королю пристало слушаться одного лишь голоса справедливости. Есть случаи, когда мягкость губительна. Часто слабости, а вовсе не доброте государей приписывают прощение виновных. И я полагаю, что при восхождении на престол вам подобает дать пример строгости, напугав тех, кто может в будущем пожелать совершить нечто подобное, ведь заговорщики виновны не только перед вами, но и перед государством, которое намеревались погубить. Так что вы не должны применять мягкость и всепрощение в ущерб правосудию, ибо им облек вас народ, перед которым вы теперь в вечном долгу». Все остальные участники совещания придерживались того же мнения. Король уступил и на следующий день было вынесено решение. Король, не желавший конфликта с папой, заменил для великого инквизитора и архиепископа де Браги смертную казнь пожизненным заключением, и один из преступников, а именно великий инквизитор, умер вскоре после этого от горя и ярости из-за столь неудачного исхода дела. Вице-королева, на положении пленницы проживавшая в Лиссабоне, была выдана испанцам, и герцог Оливарес решил начать против соседнего королевства открытую войну, закончившуюся для Испании безрезультатно. Дон Жуао держал на границе сильное войско, состоявшее, кстати, в значительной части своей из иностранцев, которых этот государь охотно привлекал к себе на службу. Более того, он ухитрился поставить себе на службу и оплачивать даже членов королевского совета Испании, и они так славно и добросовестно ему помогали, что полководцы, которым предстояло напасть на Португалию, всегда испытывали недостаток в людях, амуниции и боеприпасах и принуждены были отступать, так и не совершив ничего достопримечательного на чужой земле. Так король Жуао[142] и правил в течение семнадцати лет, любимый подданными и страшный для испанцев, которые лишь после его смерти возобновили войну уже с его преемником доном Альфонсо. Вскоре последний отрекся от престола в пользу своего брата дона Педро, но это никак не сказалось на ходе военных действий. Испанцы продолжали нести потери и, устав от войны, разрушительной и бесполезной, подписанием торжественного мирного договора признали португальского государя и его царство совершенно независимыми от Испании. С тех самых пор род герцогов де Браганца спокойно владел своим государством, прежде похищенным у него испанским королем Филиппом II[143], но восстановленным вновь в результате всеобщего восстания 1640 года во время правления его венценосного потомка Филиппа IV[144], не сумевшего сохранить в неприкосновенности наследие своего деда.
ГЛАВА 15
ЗАГОВОР КОЛА ДИ РИЕНЦИ[145]


Место действия — Италия, южные районы Франции, Германия. Время действия — 1347–1354 гг.
Жить мечтой о высоком положении и быть всегда вдали от него, управлять как мудрый законодатель и вести себя как тиран; лишить законного государя власти и самому потерять ее в результате точно такого же насилия; отступать перед самыми малейшими препятствиями и с триумфом преодолевать великие трудности; находить удачу там, где ее никто не ожидал, и не иметь достаточно упорства для завершения важных дел; действовать подобно безумцу и преуспевать лучше самых опытных и блестящих политиков, быть Идолом и Кумиром народа и стать его ужасом — вот изумительная картина судьбы Кола ди Риенци, историю которого намерен я теперь представить читателям. Но прежде чем приступить к изложению нового дела, известного под названием «заговора Кола ди Риенци», нарисуем портрет того, кто станет главным героем нашего повествования. Никола ди Риенци[146] был одним из тех замечательных людей, точно определить и описать характер которых очень трудно. В нем всегда присутствовала причудливая смесь пороков и добродетелей. Он был прост и хитер, робок и отважен, уступчив и несговорчив, неосмотрителен и осторожен, безрассуден до крайности и рассудителен и благоразумен настолько, что, казалось, достигал вершин самой высокой мудрости, исполнен рвения к общественному благу и готов все отдать в угоду собственному честолюбию и, наконец, рожденный повелевать другими, он никогда не был способен долго удерживать их в своей власти. Обладая обширными познаниями в древней истории, был он прекрасно образован, от природы наделен даром красноречия, сильным, зычным голосом и представительным видом, одним словом, соединял в себе все качества, необходимые великому заговорщику для успеха, и все недостатки, которые могли повредить успеху любого великого дела. В годы понтификата Клемента VI[147] задумал Риенци свои властолюбивые и великие планы. В те времена резиденция пап находилась в Авиньоне[148], Рим же в связи с их отъездом впал в самое горькое ничтожество, ибо, воистину, во всех сердцах вы-вывал единодушную жалость и сострадание[149]. Здесь говорили лишь о вымогательствах, грабежах, кражах, поджогах и убийствах. Враждующие между собой, синьоры неизменно объединялись лишь в том, чтобы притеснять и буквально топтать простой народ, ставший отныне жертвой их непрекращающихся разногласий. Торговля, искусства более не процветали и даже вовсе не развивались, иностранцы не отваживались приезжать в столицу мира, поскольку дороги были полны разбойников, а сам Город стал прибежищем огромного скопища бродяг, преступников и воров. Стефано Колонна, тогдашний правитель Рима, все это видел, но притворялся, что ничего не может поделать. Епископ города Орвието Раймунд, викарий папы, выказывал не больше отваги и решимости. Был он прелатом добродетельным, большим знатоком канонического права, но весьма мало смыслил в науке управления и легко попадал в сети любого пройдохи, желавшего обмануть его. Время от времени пап призывали вернуться в Рим, столицу их государства, и при Клементе VI дело, кажется, сдвинулось с мертвой точки. Когда речь зашла о том, чтобы отправить к нему посла с очередным приглашением, выбор пал именно на Риенци, и все единодушно подали голоса за этого человека. Он отбыл в Авиньон, добился аудиенции у верховного понтифика и совершенно покорил его своим красноречием. Депутат Рима воспользовался расположением к нему духовного государя, чтобы прямо сказать ему, что великие синьоры Города отпетые негодяи, позволяющие себе любые, самые гнусные преступления. Он так живо нарисовал картину нищеты и страданий своей родины, что понтифик не смог остаться равнодушным и безучастным к ее страданиям и возгорелся великим гневом на римскую аристократию, однако кардинал Джованни Колонна, заметив, что грозные и справедливые речи направлены, среди всего прочего, и против его дома, не стал ждать и постарался как можно скорее отомстить депутату. Посредством наветов он закрыл доступ римскому посланцу во дворец папы. За немилостью последовала крайняя нищета, за нищетой и голодом — болезнь, вынудившая Риенци на некоторое время найти успокоение от забот в больнице, куда его смогли поместить лишь с большим трудом — у несчастного совсем не осталось денег. Кардинал Колонна, поклявшийся погубить ди Риенци, увидев его доведенным до крайности, смягчился и даже помог вновь восстановить благоволение Клемента VI. Папа в свою очередь тоже пожелал дать делегату доказательства своего расположения и назначил его апостольским нотариусом[150], осыпав всевозможными наградами. Однако теперь ди Риенци оказался менее чувствителен к благодеяниям папы, чем к былым козням кардинала. Он ничего не собирался тому прощать. Досада и негодование победили благодарность, и он выехал в Авиньон с мыслью непременно отомстить за себя. Вернувшись в Рим, Риенци приступил к отправлению должности апостольского нотариуса с яркой демонстрацией притворной и чрезмерной порядочности, честности, неподкупности, справедливости и милосердия, что в соединении < его постоянными обличительными речами против порочных синьоров и магистратов, заправлявших городом, делало грандов еще более ненавистными в глазах народа, все более и более склоняющегося на его сторону. Решив, что он довольно окреп и приобрел авторитет и влияние среди граждан Рима, Риенци решил нанести внезапный удар. На совещании городского совета ди Риенци неожиданно взял слово и, гневно упрекая аристократов, убеждал вельмож, сановников и чиновников города честно и скрупулезно исполнять свой долг. В ответ на эту гневную проповедь Андреа ди Нормандо Камерлинго, один из влиятельных представителей уже знакомого нам семейства Колонна, нанес пощечину обличителю. Государственный секретарь Фортифьёкка[151] сделал презрительный жест, впоследствии дорого ему стоивший. Неприятный инцидент нисколько не смутил ди Риенци, он по-прежнему продолжал произносить обличительные речи против общественных беспорядков. Он велел написать выразительную аллегорическую картину, вполне способную представить нынешнее трагическое положение всей Италии, и приказал прикрепить ее к стене Капитолия перед залом заседаний городского Сената. Не в первый раз прибегал он к помощи наглядной агитации и методам карикатуры для разоблачения недостатков правительства, но на этот раз дело шло к народному бунту. Великие синьоры, присутствовавшие при объяснении им таинственных символов и аллегорий, не знали, к чему это поведет. За безобидными и даже полушутливыми пояснениями последовали крамольные речи и, наконец, прямой призыв к восстанию. Риенци говорил вдохновенно, своим теперешним восторгом и энтузиазмом ясно предвещая свою будущую великую судьбу: «Если бы я был королем или императором, — говорил он, — я подверг бы всех вот этих великих господ, сейчас с таким интересом слушающих меня, грозному суду, и одни из них были бы повешены, другие лишились бы головы. Но никто не ушел бы от возмездия». При этих словах он показал на них пальцем, но графы и князья Рима глядели на него, как на сумасшедшего или шута, смеялись его речам, не предвидя и совершенно не предчувствуя для себя их гибельных последствий. Но пока они смеялись, этот пылкий человек завоевывал себе все новых и новых сторонников и единомышленников среди жителей Вечного Города и Лациума. Более того, к нему присоединялись самые трезвые и благомыслящие люди Рима, которых трудно было даже заподозрить в тяге к переворотам. Сенат совершенно не боялся человека, ведущего себя подобно безумцу, и, хорошо это понимая, Риенци без особых препятствий готовился захватить власть. Пользуясь почти полной свободой делать и говорить, что вздумается, он с легкостью и без помех узнавал настроения народа и дворян, среди которых нашлось немало людей, принявших его сторону. Всем им он указал тайное место для сходки на Авентинском холме, куда надлежало явиться в специально назначенное время. Риенци появился на собрании своих сторонников и с живостью и энергией описал им нищету и рабство, в которых погряз некогда столь процветавший город, законодатель всего мира. Распри между группировками аристократов, унижение и обнищание людей, тайные интриги правящей верхушки и открытые побоища на улицах, жены, вырванные силой из объятий своих мужей, земледельцы, лишенные плодов своего труда; ограбленные, зачастую раздетые догола и брошенные полуживыми на дороге, но еще чаще убитые прямо у ворот Рима паломники из чужих краев, горожане, боящиеся в любой момент потерять свою жизнь и имущество, церковники, погрязшие в распутстве, — такова была нарисованная им картина бед, обрушившихся на Рим. Время от времени оживлял он свои слова тяжкими вздохами, стонами, а иногда даже гневными криками. «Пришла пора вам, отважные римляне, — говорил он, — восстановить мир и справедливость». Но Риенци не ограничивался одним лишь перечислением всех видов и сторон зла, обрушившихся на Город, он указывал средства, которыми необходимо было воспользоваться, чтобы выйти из столь несчастного положения. И так как деньги являются источником и движущей силой всех проектов, открыл заговорщикам, что средств от доходов папской казны в Риме будет вполне достаточно для революции, да и самому папе вовсе не покажется странным их употребление на благое дело. Увидев, что речь его произвела сильное впечатление и совершенно убедила собравшихся, Риенци обязал всех, признающих его дело справедливым и желающих открытой борьбы, поставить подпись под составленной присягой и только после этого распустил собрание. Через несколько дней звуки труб разбудили весь город. Как было условлено на тайном собрании, по этому сигналу все сторонники Риенци с наступлением темноты должны были собраться в церкви замка Святого Ангела с целью позаботиться о благе государства. Никогда еще доселе не видели заговорщиков, открыто оповещающих о своих замыслах до начала их осуществления. Обыкновенно лишь полная тайна служит надежным средством их исполнения. Риенци же решил идти нетореной тропой, и его экстравагантность увенчалась блестящим успехом. Римляне устремились в указанную церковь, а тот, кому отныне они обязаны были повиноваться, велел отслужить подряд тридцать месс Святому Духу, на которых присутствовал сам с полночи до девяти часов утра. Посчитав вполне уместным отпраздновать день Святой Троицы осуществлением своего замысла, а также желая показать всем, что он действует по наущению Святого Духа, Риенци вышел из церкви в сопровождении Раймунда, епископа Орвието, вовлеченного в его замыслы силой и хитростью[152]. Сотня хорошо вооруженных людей окружила главу восстания, бесчисленное множество народу с громкими и ликующими криками следовало за ним, даже не зная еще, к чему это должно повести. Риенци построил процессию с максимальным старанием: впереди несли три знамени, на которых были изображены символические таинственные фигуры. Сопровождаемый невиданной доселе торжественностью и часто повторяющимися приветствиями, Риенци взошел на Капитолий и, вступив во дворец на балкон, обратился к народу, объявив римлянам, что пришло время их освобождения и он — их освободитель. По завершении речи он зачитал декрет, который был сразу одобрен народом, — просто не мог не быть одобрен, — в котором провозглашалась политическая свобода, изобилие и, конечно же, низвержение аристократов. За исключением столь очевидных выгод, ничто не должно было тяготить плечи народа. Все деньги на необходимые и многообразные расходы должны были черпаться из римской сокровищницы папской казны[153]. Но самое любопытное заключалось в том, что разоряя папу[154], он был убежден в том, что оказывает тому немалую услугу. Впрочем, и сам Клемент VI некоторое время спустя одобрил все предложенное ди Риенци, теперь имевшему возможность диктовать законы с высоты Капитолия. А тем временем Стефано Колонна, пребывавший в эти дни в городке Корнето, не без изумления узнал о событиях в Риме. Известия эти на первых порах казались ему совершенно невероятными, но проверив и удостоверившись в них, он более не сомневался в необыкновенном успехе противника и, вскочив на коня, лично направился в Город, глубоко убежденный в том, что одно его появление там успокоит умы и приведет в чувство мятежников. Недолго пребывал он в этом заблуждении. Риенци приказал ему немедленно удалиться из Города. Губернатор, изумленный такой дерзостью, отвечал в очень презрительном тоне. Тогда с Капитолия прозвучал сигнал браться за оружие, народ со всех сторон устремился к его вершине, и этот порыв был таким стремительным и всеобщим, что Колонне едва хватило времени бежать. После его удаления из Города все гранды получили приказ удалиться в свои наследственные владения, и ни один из них не осмелился не подчиниться. После столь неожиданного государственного переворота, происшедшего самым простым и естественным образом, Риенци оказался полновластным хозяином Города, очистил и обезопасил от бандитов все его кварталы, поставил отряды народной милиции и старой папской гвардии на мостах и вдоль берега Тибра, учредил на место старых и коррумпированных чиновников и судей новых, способных честно отправлять и свою должность и дело правосудия. Он беспощадно покарал всех попавших в его руки злодеев. Народ был совершенно удовлетворен тем, что вручил верховную власть человеку, умеющему так хорошо пользоваться ею во имя общего блага. Однако Риенци, боясь выглядеть в глазах людей всего лишь презренным узурпатором, предпринял шаги, которые должны были помочь ему заручиться одобрением верховного понтифика, и преуспел в этом, ибо Клемент VI, понимая, что сейчас никак не сможет наказать мятежного подданного, посчитал за лучшее притвориться и не доводить его непредсказуемой дерзости до крайних пределов. Авиньонский двор принял решение признать и утвердить ди Риенци и Раймунда[155] в тех правах, которые даровал им народ. Более того, он похвалил решимость и рвение узурпатора и убеждал его и впредь вести себя подобным образом, чтобы быть достойным высокого покровительства Святого Престола. Вот до чего иной раз доходила политика итальянцев! Тщеславный Риенци всегда выказывал немалое желание именоваться «Восстановителем римской свободы», но присвоение ему этого пышного титула, вместо того чтобы усилить его власть и влияние, лишь дискредитировало его. Напомнив римлянам о тех временах, когда наглость синьеров заставила народ для борьбы с ними создать должность народных трибунов, новый повелитель Рима сказал, что в нынешних обстоятельствах народу требуются подобные защитники. Он утверждал, что возрождение старинного института будет иметь самые благотворные последствия, и римляне, не колеблясь ни минуты, даровали ему то, чего он больше всего желал, и присоединили к титулу трибуна[156] еще один — титул «освободитель Отечества». Представители знатных родов, удалившиеся в свои замки, трепетали — узурпатор с каждым днем становился все сильнее и сильнее, — и поэтому они тайно собирались, обдумывая, как уничтожить врага, но время шло, а средства не находилось, и противники установившегося режима разъезжались в свои поместья ни с чем. Узнав, что аристократы не унимаются, Риенци вызвал их всех к себе в Трибунал[157] и велел принести присягу на верность Республике под страхом суровых кар, каких достойны могут быть государственные изменники. Такая угроза для грандов была подобна удару молнии или раскату грома среди ясного неба, но они вынуждены были повиноваться. И первым, кто должен был произносить слова присяги трибуну, был юный Стефано Колонна, сын римского градоначальника, остальные последовали его примеру. Когда трибун увидел, что его власть в достаточной мере упрочена, он все заботы свои направил на отправление правосудия, и надо признать, никогда еще доселе ни один законный монарх не демонстрировал большей справедливости. Риенци был в первую очередь бичом негодяев и неизменно наблюдал за безопасностью и общественным спокойствием. Рим в короткое время был очищен от злодеев; леса и дороги стали безопасны; расцвела торговля, всякая вещь приобрела новый, сияющий, доселе неведомый облик.. Легкость, с какой трибун стал полновластным хозяином Рима, позволила ему простереть свои цели и замыслы на всю остальную Италию, которую он, без сомнения, тоже намеревался подчинить своему владычеству. Едва задумав новое грандиозное дело, Риенци собрал римлян и сказал им, что мало освободить их родину от рабства, — ведь это значит, восстановить лишь малую часть ее былой славы, — надо всеми силами стараться объединить маленькие разрозненные государства, разделившие страну, и образовать из них единый организм, единое тело, всеми движениями которого будет отныне руководить Рим. Помимо этого, Кола ди Риенци сказал, что намерен пригласить все города помогать ему в осуществлении этого замысла, способного вновь вернуть Риму могущество времен древней Республики. Речам его аплодировали, все просили трибуна поскорее приступить к осуществлению столь славного проекта. Тогда Риенци послал гонцов ко всем итальянским государям и правителям, убеждая их восстановить Рим в его былом могуществе и великолепии. Он довел свою дерзость до того, что отважился писать всем коронованным особам Европы, прося у них дружбы и в свою очередь предлагая им свою. Так человек самого низкого происхождения обращался как с равными с самыми могущественными суверенами Европы. Самым удивительным во всем этом было то, что почти все государи отправили к нему свои посольства, так что римский народ поверил в возращение счастливых времен, когда все цари и правители сложат наконец свои скипетры у его ног, единодушно признав верховенство столицы мира. Поведение трибуна до сих пор было безукоризненно, ему нельзя было вменить иного преступления, кроме полумирного, полунасильственного захвата власти. Правда, был он суров и неохотно прощал проступки тем, кто превосходил его знатностью происхождения, но наказания его тяжким грузом ложились лишь на негодяев, недостойных жизни. Однако у Риенци был один и очень важный недостаток — ему не доставало ума и величия духа, чтобы никогда не забывать, кем он был и куда волею фортуны вознесся. Могущество ослепило его, богатство изнежило, постепенно заставив погрязнуть в расточительстве и распутстве. До того как нравы его изменились, он не желал для себя другой защиты, кроме любви народа, но позже стал подумывать о том, как бы получше обеспечить свою безопасность; в одном он не знал перемены — в вопросах правосудия. В этом отношении он никогда не позволял себе уклоняться от законов порядочности и чести. Увидев, что все возрастающее число его личной охраны — римской милиции — вызывает все возрастающий страх и худшие подозрения, он опубликовал эдикт, в котором предлагал прибыть к себе магистратам и губернаторам городов, находящихся в подчинении у Рима, для принесения присяги на верность и должных почестей в его лице всему римскому народу. В равной степени восстановил он и старинные налоги и подати, не собиравшиеся уже долгое время. Все подчинились вызову и налогам, за исключением Джованни ди Вико, коменданта городка Витербо, и Гаэтано ди Чеккано, графа ди Фонди. Трибун, разгневанный на этих особ, осмелившихся открыто выступить против него, решил показать, что ему опасно противоречить безнаказанно. И в самом деле он выступил против них с войском, и поражение непокорных сделало его еще более страшным для всех князей и государей Италии. Гранды, всего лишь несколько недель назад гордо поднявшие голову, в глубочайшем унижении склонились перед узурпатором. Даже на церемонии и богослужениях в церквах и храмах он сидел вблизи алтаря или верховного (папского) престола, в то время как римские синьоры смиренно и почтительно стояли вокруг на некотором удалении от него. Но жена ди Риенци даже превосходила мужа своей неслыханной надменностью и роскошью одежд. Всякий раз, когда ее видели на улице среди публики (что случалось довольно редко), ее сопровождала блестящая свита из самых знатных, родовитых, богатых и роскошных дам Рима. Рота вооруженных юношей составляла ее эскорт, и многие юные и очаровательные особы шли перед ней с опахалами в руках, дабы жара или мухи ни в коей мере не тревожили ее. Все семейство и все родственники трибуна получили дивиденды от его возвышения, ибо в этом отношении он полностью копировал поведение великих понтификов[158]. И все-таки авторитет народного трибуна, несмотря на изменение его нрава, оставался очень высок — отовсюду, даже из самых отдаленных городов Италии, к нему ехали за советом, разрешением спорных дел, честность его оставалась вне подозрений. Впрочем, ехали и для того, чтобы просто послушать его речи, которые, как и прежде, отличались огнем пламенного красноречия и способны были вызвать в людях необыкновенный, неподдельный восторг. Даже коронованные особы искали его покровительства и обращались к нему за разрешением судебных споров. Например, Джованна, королева Неаполя, была обвинена в причастности к смерти своего венценосного супруга — короля Андрея Неаполитанского. Луи Анжуйский, король Венгрии, брат Андрея Неаполитанского, не желал оставлять преступление безнаказанным. Дело было передано в трибунал Риенци, который просил дать ему время для принятия решения. Папа, кардиналы, все прелаты авиньонского двора постоянно писали Риенци самые верноподданнические послания, в которых весьма ловко внушали ту простую мысль, что самое достойное и необходимое для его благочестия — не расточать доходы святой церкви. «Следует, — говорилось ему, — поступать с ним подобно доброй, но разумной матери, которая позволяет сосать молоко свое с умеренностью». Филипп Валуа, тогда правивший Францией, посчитал несовместимым со своим достоинством отвечать серьезно на пышные и дерзкие письма, которые посылал ему Риенци. Французский монарх прибег к стилю более простому и доступному — он велел простому лучнику своей охраны вручить послание римскому трибуну[159] из рук в руки. Казалось, трибуну не о чем больше мечтать, однако новое желание — стать римским рыцарем[160] — стало его новой идефикс. Он даже не подумал о том, что тем самым вступит в ряды аристократии, ненавистного народу римского нобилитета, который сам так долго и упорно унижал и втаптывал в грязь. Доверие к нему народа пошатнулось. Впрочем, как и все предыдущие начинания, это тоже удалось ди Риенци. Он принял титул римского рыцаря[161], а после столь же недостойной его, сколь и великолепной церемонии, стал созывать императоров, королей, герцогов, князей, графов, маркизов, представителей и глав торговых и ученых корпораций явиться в Рим в определенный назначенный для этого день, чтобы, представ перед ними, публично и всенародно доказать свои права на титулы, должности и звания, в противном случае он обещал начать против них законным порядком и по всей строгости церковного права иск, который мог закончиться вечным проклятием ослушников и официальным отлучением их от церкви. Так как, утверждал ди Риенци, вдохновлял его Святой Дух на великое дело. Помимо коронованных и сиятельных особ, в Рим стекался и простой народ посмотреть на невиданное зрелище и разрешить и свои судебные споры и тяжбы в римском трибунале. В поступках трибуна больше было смехотворной и опасной экстравагантности, чем зрелой и продуманной политики. Нетрудно догадаться, к чему это должно было повести. Как уже известно читателю, доверие народа к нему постепенно падало, однако последним шагом на пути к полной дискредитации стала церемония коронования. Мимолетная торжественность и великолепие ее, некоторое время занимавшие внимание римлян, подавали повод для серьезных размышлений. Роскошь одеяния, пышность стола, обилие яств, громадная процессия, состоящая из самых родовитых римских и итальянских синьоров, так и проглядывавшие во всем поведении обыкновенного государя, вызвали поначалу тайные вздохи сожаления, а вскоре совершенно покончили с благоговейным почтением, которое народ вначале испытывал к узурпатору. Совершенно ничего не замечая, Риенци по-прежнему полагал, что может себе позволить все, и решил нанести последний, сокрушительный удар по столпам римского нобилитета. Под разными предлогами он пригласил к себе во дворец многих римских синьоров и велел их арестовать, окружив себя самого надежной охраной. Трибун боялся, что этот шаг вызовет возмущение в среде их сторонников, а потому пустили слух, что все задержанные — изменники родины, замышлявшие заговор против правительства. Народ собрался на Капитолии, куда привели и предполагаемых виновных. Стефано Колонна, всего лишь одна из сиятельных жертв, приготовленных для заклания узурпатором, приподнял за край полы одеяние трибуна и сказал: «Подобает ли простому платью пышный орнамент, народный трибун?» Смелость Колонны, гордость его взгляда и глухой ропот при словах этих, охвативший толпу, заставили Риенци побледнеть, ибо от природы он был довольно робок и легко терял самообладание. У трибуна не хватило сил продолжать, и он перенес дело на следующий день. Тогда в голове его созрел варварский план, он велел повсюду на Капитолии и на его ступенях расстелить красные и белые ковры — белые для того места, где заседал совет, красные — для того, где предстояло разыграться кровавой трагедии. Затем Риенци послал духовника каждому из заключенных и велел бить в капитолийские колокола. При этом роковом звуке синьоры поняли, что участь их предрешена, приговор вынесен, и приготовились к смерти. Народ между тем исполнился жалости к узникам, шедшим на казнь, и не мог сдержать горя при одном только известии об участи, ожидавшей людей самого высокого ранга. Не слышалось привычных возгласов одобрения и рукоплесканий, какими обычно одобряли суровость трибуна при исполнении казней. Повсюду царило мрачное и зловещее молчание. Казалось, сочувствие к судьбе несчастных завладело сердцами собравшихся. Стоявшие ближе всех к Риенци, заметили это и указали ему на изменение настроений толпы. Воспользовавшись случаем, они стали молить его о милосердии к узникам и употребляли для этого самые мягкие и деликатные выражения, настойчиво указывая на серьезность назревающей угрозы. Трибун понял, что поторопился и зашел слишком далеко в столь деликатном деле, и, сразу приняв верное решение, велел подвести заключенных. Вместо того чтобы произнести роковые слова приговора, он умолял народ быть снисходительным к сиятельным преступникам, заслуги которых перед государством и происхождение их заслуживали некоторого снисхождения. Внутренне негодуя при виде того, как из его рук похищают намеченные жертвы, он сам просил о милосердии для них и от имени народа сам же его им и даровал. «Будьте готовы принести себя в жертву делу спасения народа, сейчас даровавшего вам богатства и жизнь!» Потрясенные столь неожиданной переменой синьоры склонились перед ним в глубоком молчании. Желая вновь и всецело завоевать расположение своих сторонников, трибун окружил чудом избегших казни узников вниманием и заботой, осыпал дарами, но, едва они покинули Рим, как, само собой разумеется, задумали отомстить за пережитые ими ужас и унижения. Они начали укреплять свои замки и города, снабжая их всем необходимым вооружением и продовольствием. Риенци и не думал мешать всем этим приготовлениям, но вскоре испытал на себе последствия своей беспечности. Едва синьоры почувствовали себя в состоянии предпринять решительные действия, они первым делом совершили нападения на окрестности Рима, грабя и разрушая поселки, беря в плен людей, угоняя скот, предавая все огню и мечу. Смерть и опустошение окружили Столицу Мира. Трибун, разбуженный ото сна всеобщим ропотом, решил перейти к решительным действиям. Было набрано войско числом свыше 20 тыс. человек, которое нанесло жестокий удар по Сан-Марино, самой сильной и хорошо укрепленной крепости заговорщиков. И в этот неподходящий момент Клемент VI направил в Рим легата, которому было поручено возбудить судебное дело против Риенци в случае, если тот не пожелает добровольно отказаться от верховной власти. Конечно, папа имел в своем распоряжении одни лишь проклятия и мог в крайнем случае угрожать отлучением от церкви, но духовного оружия было явно недостаточно, чтобы укротить узурпатора. Когда легат прибыл в Рим, он тотчас написал трибуну, что войска мятежников, со всех сторон блокировавшие Город, заставят его выполнить приказ Верховного понтифика, но тот и не думал подчиниться. Прежде всего он отдал приказ разрушить до основания все палаццо восставших синьоров, потом, вступив в собор Святого Петра, облачился в старинную тунику, которую древние императоры имели обыкновение надевать в день коронации. Надел доспехи, опоясался мечом и под звуки труб выступил во главе своей конницы в поход с короной на голове и скипетром в руке. В таком шутовском наряде прибыл он в Ватикан. После довольно краткого разговора с легатом они расстались, так и не придя ни к какому соглашению и весьма мало довольные друг другом. Военные действия продолжались, но теперь присутствие легата и внимание к ним святого отца наполнили решимостью сердца аристократов, а может быть, всему виной были робость и нерешительность трибуна, выпустившего из рук инициативу. С другой стороны, ему не хватало денег, войска плохо оплачивались, всем надоела гражданская война; и несмотря на былое благоговение и почтение, которые народ все еще испытывал к трибуну, все, казалось, едва сдерживали готовый прорваться наружу крик негодования. Некоторые знатные господа, хорошо осведомленные о настроении толпы, обещали престарелому Колонне открыть ворота Города, когда он подойдет к Риму во главе своей армии. При этом известии римские синьоры, собрав в городке Палестрине свое ополчение, сформировали отряд в 4 тысячи человек пехоты и 600 всадников. Видя, что гроза близка, трибун впал и какое-то странное оцепенение, лишился сна, забросил дела. Тайно ото всех он укрылся на Капитолии, не предпринимая никаких мер по защите Города. Однако все возрастающая опасность в конце концов пробудила его от летаргического сна. Он созвал римлян и убедил их в том, что ему явилось видение, обещавшее самые блестящие успехи, — средство превосходное для возбуждения суеверного люда на дела великие. Риенци принял решение атаковать врага, и войска двинулись друг на друга. Старик Колонна, поддерживавший со своими людьми в Риме постоянную переписку, подъехал к стенам Города в сопровождении всего лишь двух верных слуг, но ворот ему никто не открыл. Разделив свое войско на три отряда, он велел немедленно атаковать армию трибуна, под звуки фанфар торжественным маршем шествующую вдоль стен Вечного Города. Два отряда успешно выполнили задачу, внезапно завязав бой и разбив на части длинную колонну не ожидавших сражения римских ополченцев. Дело было за кавалерией Колонны, цвета рыцарства римской аристократии, которая должна была довершить успех. Джанни Колонна, который вел кавалерию грандов[162] в бой, вырвался вперед во главе маленького отряда смельчаков и, предполагая, что ворота Города вот-вот падут (одна из створок уже рухнула наземь), ринулся один на римских ополченцев. Он полагал, что сторонники в Городе поддержат его. Пришпорив коня, он помчался вперед. Если бы другие рыцари последовали за ним, вся армия Колонны могла бы ворваться в город. Увы, немногие осмелились последовать за ним[163]. В критический момент рыцарство оказалось не на высоте. Оказавшись один среди врагов, Джанни попытался развернуть коня, однако конь оступился и упал. Крича: «Колонна! Колонна! Ко мне!» — он стал отбиваться от воинов ди Риенци. Стефано Колонна, поняв, что впереди творится что-то неладное, пробился к воротам и, узнав, что Джанни уже в городе, приказал своему отряду идти на выручку сыну. Но римские ополченцы и всадники ди Риенци окружили Джанни, стащили его с коня, разоружили и, безо всякого почтения к знатности и величию рода, невзирая на мольбы, пронзили ударами мечей. Юноше не исполнилось еще и двадцати лет, он уже проявлял чудеса храбрости, и если бы не случай, обещал стать самым известным и отважным воином своего времени. Судьба не смилостивилась над ним. В тот момент, когда он испускал последний вздох, небо, покрытое облаками, внезапно прояснилось, засияло солнце, и Риенци не упустил случая извлечь из этого выгоду, снискав себе восхищение легковерного и склонного к пустым суевериям народа[164]. Прорвавшись в город, старик Колонна, увидев мертвое тело сына, плавающее в луже крови, был поражен ужасом и тотчас бежал из этого зловещего места, однако весьма скоро отцовское чувство заставило его вновь вернуться в город, чтобы освободить Джанни, который, как он предположил, был еще жив. Едва прорвавшись назад, он понял, что ошибся, и теперь думал лишь о своем спасении. В этот момент огромный камень был сброшен на него с башни ворот. Страшный удар пришелся по его спине и крупу лошади, рухнувшей со своим хозяином наземь. Воины ди Риенци окружили его и пронзили уже мертвого копьями. Народ, взволнованный смертью обоих Колонна, не дожидаясь приказа, предал смерти многих римских грандов. Весть о том, что попавших в плен рыцарей беспощадно истребляют, достигла ушей отступающих и почти полностью разгромленных мятежников. Каждый думал лишь о своем бегстве. Поражение аристократов было всеобщим, Риенци же не потерял ни одного из своих солдат и ополченцев, преследуя и истребляя врага. Трибун опять велел играть на трубах в ознаменование полной победы. Он, в сражении прекрасно управлявшийся тяжелой секирой и своею рукой убивший многих грандов, вновь взял в руки скипетр, надел на голову два венка[165] и триумфатором вернулся в Рим. Желая остаться в памяти соотечественников героем и пророком, он выказал немалое старание в организации триумфальных шествий и церемоний. И если бы Риенци вместо того чтобы пускать пыль в глаза римлянам, воспользовался смятением и унынием врагов, то наверняка навсегда лишил бы их возможности беспокоить его впоследствии; жаль, но он гораздо больше хотел повелевать Римом и его населением, чем ходить в военные походы и стоять во главе армии. По странной иронии судьбы, победа, одержанная триумфатором, вместо того чтобы укрепить его власть и могущество, как и следовало бы этого ожидать, стала главной причиной его падения. Теперь он стал допускать выходки, отвратившие от него души лучших рыцарей. Посадив на лошадей всех добровольцев из народа, он наградил этот отряд высоким титулом «священного ополчения», сказав: «Следуйте за мной, отныне я вкладываю в ножны меч, чтобы всей душой устремиться к миру». Затем он повел их к ближайшему источнику, окрашенному кровью несчастного Стефано Колонна, и, зачерпнув из него окрашенной кровью воды, окропил ею своего сына, промолвив при этом: «И ты отныне станешь рыцарем моей победы». Каждый командир рыцарских эскадронов войска ди Риенци получил приказ один раз ударить сына трибуна по спине плашмя своим мечом. Затем Риенци направился к Капитолию, где распустил свою конницу со словами: «Расходитесь, римляне, то, что я сейчас сделал, роднит вас со мной, ибо кому как не нам с вами надлежит сражаться за родину». Странная речь и комическая церемония вызвали разные толки и до такой степени не понравились рыцарям, при этом присутствовавшим, что они в глубине души решили больше не брать в руки оружия ради трибуна. А тот, потеряв любовь и расположение большей части войска, делал все от него зависящее, чтобы вскоре его возненавидел и римский плебс. Он отошел от дел, забросил судебные тяжбы, стал невыносимо горд и заносчив, да к тому же еще принудил всех богатых граждан Рима платить налог, специально введенный для того, чтобы оплачивать расходы его стола и приобретение новых одеяний. Закрывшись в своем дворце, он занялся выдумыванием новых поборов. Все единогласно осуждали правителя, всюду слышались проклятия в его адрес, молодежь больше не спешила к его двору; горожане, так долго его уважавшие как освободителя и почти что пророка, теперь видели в нем лишь тирана. Легат папы кардинал Бертран де До решил разделаться со своим врагом и после трех безуспешных вызовов в церковный трибунал, которые узурпатор игнорировал, обрушил на его голову проклятия Ватикана. Время шло, римляне, запертые в стенах города, стонали под бременем власти экстравагантного святоши, не отваживались показаться за ворота города — в окрестностях вновь действовали банды баронов, сторонников Колонна, Орсини, Фонди и Вико, опустошая сельскую местность еще сильнее и яростнее, чем в прошлый раз. Рим был почти полностью отрезан от внешнего мира, торговля угасла, цены на товары и в особенности на продукты питания выросли до неведомых высот. Голод сделал Риенци более ненавистным народу, чем все папские отлучения от церкви, да и последний уже не ограничивался одними лишь проклятиями. Списавшись с Джованни Пепино, уроженцем Неаполя, папский легат просил его взять дело освобождения Рима в свои руки, и заговор удался по причине известной уже робости и нерешительности узурпатора. Джованни Пепино вошел в Рим с горсткой солдат — в его распоряжении было от силы 150 человек — и без труда овладел одним из районов города. Риенци, хорошо понимая, что скоро для него все может быть потеряно, обратился к горожанам, собравшимся у его трибуны, и жалобным голосом произнес: «Я управлял с таким счастьем и, насколько мог, заботился о вашем благе, но поскольку добрый и справедливый порядок, который я учредил, никому не понравился, принужден отречься от труда рук моих и удалиться, оставив вам бразды правления». Сказав это, он сел на коня и в сопровождении нескольких рыцарей пустился в путь под звуки барабанов, труб и литавров, с развернутыми знаменами, подобно триумфатору торжественно оставив город, вместо того чтобы заслужить новый триумф героической его защитой. Он удалился в замок Святого Ангела, в котором укрепился и просидел некоторое время, пока не представился случай бежать оттуда. Молва о его бегстве быстро разнеслась по всему городу и когда граф Пепино узнал о нем, то, оставив свои позиции, двинулся на Капитолий, свободный от войск, как, впрочем, и совершенно безлюдный. Люди Джованни Пепино разграбили сокровища, казну, имущество трибуна, а чучело его самого повесили на стенах дворца. Папский легат, ожидавший в городке Монтефьясконе исхода дела, узнав о случившемся, вернулся в Рим и вновь подверг бежавшего узурпатора отлучению, начав против него судебный процесс. Хотя Риенци более месяца пребывал в замке Святого Ангела, там его никто не беспокоил. Боялись ли будоражить народ памятью о нем или даже хотели втайне дать ему бежать, так или иначе, от него скорее стремились избавиться и забыть, не прибегая к мерам слишком жестоким. Ибо все помыслы папского посла былинаправлены на восстановление былой формы правления и исчисление убытков, понесенных папской казной Вечного города. Риенци же в тени своего убежища воспрянул духом и не терял надежды стать хозяином Города. Он очень надеялся на помощь и заступничество короля Венгрии, с которым весьма тесно связала его старая дружба. Венгерский государь намеревался вступить во главе своего многочисленного войска во владение Неаполитанского королевства, и Риенци выжидал удобного случая, чтобы воссоединиться со своим заступником. Наконец трибун получил радостное известие, которого с нетерпением ждал. Неаполитанское королевство было покорено армией венгерского короля. Риенци мог действовать. Тотчас он оставил Рим и отправился к королю-победителю, который встретил его великолепно и, казалось, был глубоко тронут несчастьями независимого узурпатора и тирана в большей степени, чем несчастьями законного неаполитанского государя. Папа был в высшей степени скандализирован радушным приемом, оказанным еретику и мятежнику, и выразил по этому поводу свое глубокое негодование. Письмо, написанное им в Неаполь, произвело ожидаемый эффект: Риенци покинул город и два года после этого скитался по разным уголкам Италии под чужим именем, и хотя в это время все оставили его, он ни на минуту не терял из виду планов своего будущего восстановления. Воспользовавшись празднествами и торжествами святого юбилейного года, он тайно вернулся в Рим и вновь начал уже знакомую ему агитационную работу. За все то время, пока он был в городе, в Риме произошло несколько волнений, впрочем, довольно быстро подавленных. Подозревали, что главным виновником их был именно Риенци. Однако несмотря на постепенно возвращающееся к нему расположение римлян, он хорошо понимал, что в нынешних условиях ему нелегко будет преуспеть. Раздраженный и отчасти разочарованный неудачами, видя тщетность всех своих попыток, он принял решение очень своеобразное — ехать в Прагу к императору Священной Римской империи Карлу IV, которого в свое время отважно вызывал на суд в собственный трибунал. Риенци был убежден в том, что этот государь, тронутый искренностью слов, с которыми он бросится к его ногам, проявит милосердие и дарует ему свое покровительство. В надежде на это приехал он в Богемию, прибыл в Прагу, предстал перед Карлом, бросился ему в ноги и промолвил: «Государь, вы видите перед собой того самого Николу ди Риенци, которому выпало счастье дать свободу римлянам и править ими по законам справедливости. Среди подданных моих видел я Тоскану и римскую Кампанью, морские берега и далекие горы. Я унизил грандов и избавил страну от их злоупотреблений и каленым железом клеймил и изгонял пороки, которые сам Господь вложил им в руку; но под конец несправедливость моих врагов возобладала, и я был изгнан из Рима. Во всех своих несчастьях я виню прежде всего одного себя: если бы я, как прежде, сурово карал преступников, небо никогда не оставило бы меня. Вынужденный бежать из своей неблагодарной родины, думал я и даже был уверен, что должен искать надежного убежища не где-нибудь, а подле справедливого и могущественного монарха, с которым имею честь быть связанным тесными узами родства, являясь родным сыном ныне покойного императора Генриха. Таким образом, имею я все основания надеяться на то, что государь, предназначенный самим небом для того, чтобы карать тиранов и тиранию, пожелает стать защитником и покровителем человека, которого сам Бог избрал своим орудием для истребления угнетателей римского народа». Карл был потрясен и в то же время восхищен дерзкой отвагой и бесстыдством ди Риенци, который имел наглость называть себя его родственником, но, взволнованный искренностью, с какой он говорил с ним, своим врагом, не мог удержаться и дружески не подать ему руки, которую Риенци принял с должным беглецу и изгою почтением. Когда Кола ди Риенци принимал решение ехать в Прагу, он хорошо понимал, что идет на риск, ибо Карл IV был обязан папе своими восхождением на престол и не упустил бы случая выслужиться перед римским понтификом в Авиньоне. Кроме того, Карл IV знал, что. папа повсюду искал человека, лелеявшего планы вновь овладеть Римом и Италией, чтобы раз и навсегда разделаться с ним. Но Риенци именно этого и ожидал — он хотел, чтобы его передали в руки церкви, силой отправив в Авиньон, ибо считал, что это будет самым надежным средством на пути к былому могуществу и славе. Предположение странное, но для него характерное и, самое главное, вполне оправдавшееся впоследствии. Риенци привык побеждать, пользуясь экстравагантными способами, диаметрально противоположным всем правилам классической и традиционной политики. В дальнейшем мы увидим, ошибался ли он на сей счет. Итак, он прямо заявил императору, что нисколько не боится поездки в Авиньон и даже, более того, сам на ней настаивает. А Карл, необыкновенно довольный тем, что так удачно и быстро согласовал личные интересы со своей честью и славой, радостно одобрил желания своего пленника[166]. Толпы людей стекались в Прагу, столицу империи Карла IV, посмотреть вблизи на итальянское чудо. И желание видеть столь знаменитого человека, о котором повсюду рассказывали всяческие чудеса и небылицы, постоянно привлекало в его дом самых известных вельмож, ученых, писателей и поэтов, художников и монахов. Все хотели слышать его, вступать с ним в спор. Обширность его познаний и легкость, с какой изъяснялся он на латыни, вызывали всеобщее изумление и восхищение. Его память, хранившая все самые великие деяния прошлого, всегда помогала находить самые убедительные, живописные примеры и к месту приводить их в споре; мысли, порождаемые глубиной и силой его оригинального разума, облекаясь в живые и естественные формы слова, позволяли всем присутствующим заключить, что перед ними ум необыкновенный, подлинное чудо человеческой природы. Но в то время, как им так восхищалась Прага, в которой даже гранды ласково и любезно встречали его, совсем другой прием ожидал его в Авиньоне. Трудно представить себе радость, которую испытал папа, когда узнал, что в его руки передают человека, причинившего ему столько неприятностей. Наконец-то знаменитый Кола ди Риенци, или раб божий Никола ди Лоренцо Габ-рини, был препровожден во дворец Верховного Понтифика, к папскому двору в Авиньоне. Во всех городах и селениях, через которые он проезжал, народ толпами сбегался ему навстречу, крича, что освободит и спасет из рук заклятого врага, но Риенци лишь благодарил всех и заявлял, что едет в Авиньон добровольно, по своему собственному желанию. Во время путешествия он был осыпан почестями и похвалами с ног до головы, и сказали бы, что речь идет о государе, шествующем с триумфом, а не о преступнике, которому предстоит предстать перед судьей. По прибытии Риенци в Авиньон Клемент VI велел привести его к себе, чтобы узнать, какого поведения будет придерживаться в отношении его мятежный подданный и что осмелится сказать в свое оправдание. Риенци явился и стал у ног папы со скромной почтительностью и кротостью во взоре, вполне отвечающем его нынешнему положению, однако в то же самое время совершенно спокойно и непринужденно, чем привел Верховного Понтифика и его двор в полное замешательство. «Мне вовсе не безызвестно, — начал он, обращаясь к папе, — до какой степени очернен и оклеветан я перед вами и какое вредное предубеждение должно было вследствие этого родиться в душе и уме вашем в отношении меня, ведь и легаты ваши осуждали мое поведение с гораздо большей поспешностью, чем того требует справедливое и беспристрастное правосудие. В одном я сейчас уверен, Ваше Святейшество слишком справедливы, чтобы осудить меня, даже не выслушав. Далекий от желания избегнуть вашего трибунала, я бы уже давно предстал перед ним, если бы считал, что смогу совершить путешествие к вам в полной безопасности. Да и в Богемию прибыл я для того, чтобы умолять императора обеспечить мне свободный от каких-либо опасностей путь в Авиньон. Сегодня, когда я обрел счастье обнять колени единого отца всех верных христиан, осмелюсь молить его даровать мне судей, перед которыми я мог бы смело и без утайки дать отчет обо всех моих делах и поступках. Льщу себя надеждой, что при здравом рассмотрении они единодушно признают, что никогда прежде ни один человек не проявлял такой любви и привязанности к Святой Церкви, Святому Престолу и Верховному Понтифику, как я. Впрочем, если и допустил я ошибки, правя таким непокорным и буйным народом, как римляне, дерзну заявить, что заслуживаю в таком случае скорее сочувствия и жалости, чем наказания». Клемент VI, ожидавший, что Риенци бросится к его ногам и станет молить о милосердии и снисхождении, был очень удивлен, видя и слыша перед собой человека, которому, как казалось, было совершенно не в чем себя упрекнуть. По окончании аудиенции по приказанию папы Кола ди Риенци отвели в просторную башню, в которой заперли одного, цепью приковав узника к стене. Затем были вызваны три кардинала для формирования состава суда и открытия процесса, но хотя его обвиняли в заговоре и восстании, т. е. преступлении, которое государи никогда не прощают и карают весьма сурово, с Риенци этого не произошло. С ним обходились не так жестоко и ограничились содержанием в тюрьме, как и бывает со всеми опасными и вольнодумными умами, способными возбуждать каждый раз новые и новые разногласия и беспорядки, едва им предоставляют свободу. Чтобы как-то скоротать время, Риенци просил снабдить его всеми необходимыми книгами, и, получив их, проводил время в чтении римских историков, прежде всего Тита Ливия, своего любимого автора. Читал он с жадностью, обращая особое внимание на революции, восстания народа, перевороты, гражданские войны и разногласия сената и римского плебса Внимательнейшим образом изучал он те или иные деяния древних трибунов, их успехи и неудачи, их взлеты и падения, тщательно разыскивая причины успехов одних и поражения и гибели других. Часто применял он к себе то, что вычитывал из книг. Вновь перебирая в памяти события своего прошлого, свое прежнее возвышение и течение дел своего трибуната, он спрашивал себя самого, в чем совершил ошибки и обманулся и что должен будет еще сделать, если снова придет к власти. Воодушевленный до необычайной степени, надеясь вскоре все мысли свои осуществить на практике, верность своих идей он проверял по Титу Ливию. Рим, управляемый четырьмя сенаторами, стал давно уже добычей всяческих распрей и склок, и народ пожелал, чтобы делами правления ведал один, человек, трибун Франческо Барончелли[167], догадываясь, что и он сможет легко захватить верховную власть, идя по стопам предшественника, и тем успокоит смуты и волнения в городе. В нем не было недостатка ни в честолюбии, ни в таланте, да к тому же он был гораздо решительнее прежнего трибуна, которому уступал лишь в области красноречия и знания канонического права. Так или иначе, но угадав настроения толпы и задумав свой план, он с легкостью его осуществил, став полновластным хозяином Капитолия и водрузив на нем знамя римского народа. Его эмиссары, повсюду крича всего лишь два, но зато каких слова: «Свобода! Свобода!», — собрали толпу, к которой новый узурпатор обратился с такими словами: «Вовсе не тщеславие, властолюбие или личные интересы, но одна лишь любовь к родине заставила меня сегодня взяться за оружие. Я больше не мог без величайшей скорби видеть то плачевное и достойное сожаления положение, до которого довели нашу страну гранды. Кажется, что их насилия лишь затем утихли и унялись на некоторое время, чтобы затем вновь разразиться с новой силой. Из-за их тирании и раздоров Рим подвергается всем видам зла и страданий. Имущество, жизнь и честь больше никого не волнуют, ибо могут быть похищены в любой момент и безо всякого сопротивления. Даже святыни осквернены, все пребывает в смятении. Но сколь бы велики ни были несчастья, на нас обрушившиеся, я никогда не терял надежду на то, что и они могут быть устранены. Я чувствую в себе достаточно сил и отваги, чтобы сделать римский народ свободным и счастливым, вернув ему былую славу и полное успокоение от смут». И народ, которому речь эта напомнила речи прежнего трибуна, поверил, что вновь видит его возродившимся в Барончелли, и дружно аплодировал всем его предложениям. На следующий день было вновь созвано собрание, на котором новый трибун метал громы и молнии против гордыни и наглости грандов. Он много распространялся о счастье, величии и могуществе, которыми некогда наслаждались римляне, о тирании, так много лет угнетавшей их. Таким путем восходил он к истокам всех распрь, клеймил без меры римских понтификов и в особенности Иннокентия VI, наследовавшего Клементу VI, уверяя слушателей в том, что лишь длительное отсутствие пап в Городе и пребывание их в Авиньоне довело римлян до такого отчаянного рабства. Затем он напомнил слушателям о Риенци, указав на необходимость трибуната и сделав вывод о том, что его правление было бы прекрасно и необходимо для восстановления былого величия Рима, если бы сам трибун, опьяненный почестями и славой, не ступил на тропу деспотизма и тирании. «Что касается меня, — продолжал он, — то наученный горьким опытом моего предшественника и полный решимости подражать ему лишь в самом похвальном, обещаю вам, если вы возведете меня в ранг римского трибуна, самыми действенными мерами бороться с беспорядками и подавить надменность аристократов, дерзость убийц, свободу преступников и восстановить богатство Рима, безопасность на его улицах и справедливость в его судах, святость храмов, древнее величие Республики и ту драгоценную свободу, на основе которой и родился римский народ». Барончелли велел зачитать ряд указов, которые были одобрены всеобщими рукоплесканиями. Он был провозглашен трибуном и начал отправление своей должности с увольнения некоторых магистратов, членов городского сената и судей, которых замещал своими друзьями. Так подавал он пример строгости в отношении многих граждан, наказывая их более или менее сурово в соответствии с преступлениями каждого. В конце концов он стал применять более суровые меры. Иннокентий VI, зная, что делается в Риме, и боясь последствий новой революции, не смог найти никакого иного способа избавиться от затруднений, как противопоставить новому народному тирану тирана старого и уже хорошо известного. Римский понтифик считал, что Риенци, исправленный трехлетним заключением в темнице, поведет себя с большей умеренностью, а благодарность за освобождение обяжет его всю оставшуюся жизнь хранить нерушимую верность и глубокую признательность святому престолу, которому он будет всецело обязан своим новым возвышением. Риенци извлекли из тюрьмы и привели к папе, который сказал ему: «У меня есть серьезные основания считать, что исправленный в школе превратностей судьбы, вы сможете отныне во благо использовать ваши способности. Вот причина того, почему сегодня я намерен доверить вам управление Римом, даровав звание римского сенатора. Вы подняты на этот высокий пост не мятежной толпой, но властью и авторитетом вашего государя, и я надеюсь, оправдаете наши надежды, а главное, всегда будете испытывать чувства, достойные магистрата, облеченного столь высокой властью». Риенци в восторге от его слов бросился к ногам понтифика и тысячекратно заверил его в своей вечной признательности и покорности. Кардинал д’Альборно, легат папы, препроводил в Италию нового сенатора и помог ему поселиться во владениях республики Перуджи. Риенци позволялось достаточно свободно пользоваться частью доходов перуджийской казны для выполнения поставленной перед ним папой задачи. Здесь пришлось ему провести несколько военных операций, не очень сложных и направленных против мелких итальянских тиранов и потому мало занимавших его внимание и обещавших мало славы. Главной его целью было свержение режима Барончелли и восстановление своей власти в Риме. Часто просил он кардинала позволения ехать в Рим или хотя бы вручения ему дополнительных средств для торжественного и достойного его сана появления в Вечном Городе. Прелат не торопился потакать честолюбию человека, характер которого ему еще предстояло изучить на деле. А между тем Барончелли творил свой террор в Городе, и из-за обильно и не всегда справедливо пролитой крови вызвал к себе глубокое отвращение в народе. В результате ставший ненавистным трибун был убит четыре месяца спустя после своего возвышения, но смерть его вовсе не приблизила ди Риенци к осуществлению его мечты, ибо римляне направили депутатов от всех сословий города к кардиналу д’Альборно, прося принять их под свое покровительство и добиться для них у святого отца в Авиньоне прощения. Поскольку в Риме больше не было тиранов и изгонять было некого, народ образумился и вернулся к своему долгу. Риенци оказался совершенно не нужен. Тогда он попробовал восстановить себя сам, без помощи легата, на которого больше не рассчитывал. Римляне, кумиром которых он всегда был, устремились к нему, и он дал им понять, что глубокие размышления, которым он предавался в темнице, чтение лучших историков и время исправили его, озарили ярким светом разум, и теперь единственное желание его заключается в том, чтобы восстановить былое могущество родины. Впрочем, своими словами он не отличался от Барончелли. Римляне, жадно внимавшие его речам, и сами убеждали Риенци как можно скорее осуществить свои столь благородные проекты. «Возвращайтесь поскорее в ваш возлюбленный Рим, поторопитесь извлечь его из бездны несчастий, станьте нашим государем, а уж мы окажем вам любое содействие; будьте уверены, что никогда еще прежде вас так не любили и не уважали, как ныне». Так убеждали Риенци, но от убеждений этих реальных средств к овладению Городом не прибавлялось. Нищета римлян не позволяла им рассчитывать на свои силы. С другой стороны, страх перед папским легатом держал их в узде. Все ограничивалось бесполезными, но горячими заверениями в том, что они отдадут жизнь для восстановления власти своего трибуна. Он между тем уже начинал терять терпение, как вдруг счастливый случай нежданно помог исполнению его надежд. Италия в то время была наводнена отслужившими свой век солдатами или дезертирами, жившими исключительно грабежом. Некий родосский[168] рыцарь по имени Монреаль, провансалец по происхождению, собрал вокруг себя всякий сброд, отпетых грабителей с большой дороги и уличных воров и сформировал из них некое подобие регулярного войска, получившего название «мазнадьеров»[169]. Так родилось движение, впоследствии причинившее ужасный урон Италии, Провансу и многим другим провинциям Франции. Удивительная, баснословная добыча, которой главарь этой поначалу небольшой шайки разбойников ухитрился завладеть, привлекала к нему огромное количество людей, не только солдат-наемников, но и вообще представителей самого различного звания, сословия и ранга, нуждающихся в деньгах или просто жадных до наживы. Они признали его своим главой и поклялись в вечном повиновении и верности. Помимо этого, Монреаль умел поддержать такой порядок в своих войсках, что никогда ни зависть, ни ненависть, ни взаимные разногласия не нарушали в них согласия. Это было некое подобие бродячей республики на конях и колесах, в которой каждый был в первую очередь занят общим делом. Из этого нетрудно заключить, что требовалось иметь немалый талант и мужество для поддержания спокойствия и организованного порядка в таком разношерстном и свирепом войске. Монреаль сумел заставить платить ему почти всю Италию и постепенно собрал несметные сокровища[170]. Риенци решил сделать из него своего покровителя, но, опасаясь, не запросит ли человек такого нрава слишком высокой платы за свои услуги, не отважился обратиться к нему сразу. Прежде всего он постарался завязать дружбу и добиться расположения двух его братьев — Аримбаля и Беттрона[171]. Первый был сведущ в литературе и его легко было сманить тем изяществом, с каким ди Риенци умел произносить речи. Итак, они встретились и понравились друг другу, часто разделяя друг с другом обеды и ужины, во время которых Риенци как бы невзначай заводил речи о могуществе и славе древних римлян, в истории которых находил потрясающие примеры доблести, добродетели и великих свершений и побед. Он говорил так живо и вдохновенно, что Аримбаль не мог сдержать своего восторга. Риенци знал, к кому обращаться и с кем вести вдохновенные беседы, ибо избрал для своих упражнений в ораторском искусстве юношу пылкого и еще неопытного, с умом скорее блестящим, чем глубоким, в душе которого любая фантастическая химера превращалась в реальность. Аримбаль, обманутый речами и обещаниями своего друга[172], решил способствовать планам человека, казавшегося достойным самой высокой судьбы, и Риенци просил у него 3 тыс. флоринов на набор и экипировку войска. Тот дал ему гораздо больше[173] и даже просил на часть этих денег приобрести себе роскошные и торжественные одеяния, вполне подходящие для такого момента. Когда все было готово, Риенци в роскошном наряде явился к кардиналу д’Альборно в Монтефьясконе и заявил: «Я прибыл сюда, чтобы получить от вас распоряжения и просить объявить наконец меня сенатором Рима, как желал этого верховный понтифик. Я проложу вам дорогу и помогу привести в повиновение папе всех тех, кто в силу раздоров и восстаний забыл о своем предназначении служить ему». Легат сдался настойчивым просьбам ди Риенци и провозгласил его римским сенатором и губернатором Города, не дав тем не менее ему в помощь ни людей, ни денег для исполнения задуманного. Риенци на свои средства (вернее, на средства Монреаля) собрал небольшой отряд и двинулся на Рим. Когда там узнали о его приближении, восторгу не было конца. Буквально каждый из горожан готовился встречать долгожданного гостя со всею мыслимой и немыслимой торжественностью, какая сопровождала когда-то лишь триумфальное возвращение в город полководца-победителя. Римское рыцарство в полном составе вышло ему навстречу, толпы народа с почетом сопровождали его колесницу. Были возведены триумфальные арки, мостовые улиц и стены домов украшены самым драгоценными, расшитыми золотом и серебром гобеленами и тканями, повсюду засыпанными благоухающими цветами. И когда он появился, воздух разом огласили сотни труб и звуки других самых различных музыкальных инструментов. Всюду, где он проходил, были расстелены великолепные ковры и оливковые ветви, а народ кричал непрестанно: «Да здравствует освободитель! Да здравствует освободитель!» Риенци с триумфом был препровожден на Капитолий, с высоты которого произнес речь, в которой сравнивал себя с Навуходоносором, принужденным исчезнуть, чтобы через семь лет вернуться. Он не упустил случая пообещать римлянам, что его восстановление будет до крайности им полезно и выгодно, и народ легко поверил ему. Так как новый сенатор собирался укреплять свою власть посредством полного уничтожения грандов и аристократии, он позаботился о том, чтобы привлечь знатных синьоров в Рим и здесь их перебить. С этой целью Риенци повелел им прибыть в Город и принести ему присягу на верность. В первую очередь он хотел уничтожить семью Колонны, самую сильную из всех, с падением которой неминуемым было бы и падение остальных нобилей, но глава этой семьи и не думал выполнять приказ человека, не без основания считавшегося злейшим врагом всех римских аристократов. Напротив, Колонна укрепляли свои замки. Напрасно Риенци устраивал им ловушки в городе, они приняли решение укрыться в своем родовом замке Палестрина, который вскоре осадили воины Риенци. Осада велась долго и упорно, но не давала решающего результата, в конце концов Риенци так и не смог овладеть крепостью, очень важной в стратегическом отношении, и отступил в Рим, не осуществив задуманной им мести. Конечно, эта экспедиция не принесла ему громкой славы, и можно сказать, скорее способствовала быстрой потере им былого престижа среди римлян. К сожалению, ожидания всей Европы были обмануты. Второе его управление городом было еще хуже первого. Казалось, что превратности судьбы не только не исправили его недостатков, но, наоборот, окончательно усугубили их. Амбиции, жестокость, жадность, — одним словом, все самые губительные страсти и пороки проявились с еще большей силой. Едва он вернул себе власть, как сразу позабыл обо всех былых несчастьях, думая лишь о том, как полнее насладиться жизнью. Никогда еще прежде не впадал он в такое обжорство и невоздержанность в плотских утехах и удовольствиях, и вскоре необыкновенно, безобразно растолстел и обрюзг. Самый вид тела его производил отталкивающее впечатление. Красное вздувшееся лицо с трясущимися при ходьбе щеками, глаза, меняющие свой естественный цвет, то бессмысленно затуманенные, то, напротив, воспаленные и налитые кровью, длинная всклокоченная борода, — все это представляло римлянам вид дикий, варварский, внушавший отвращение и ужас. Но постоянные излишества в равной степени крайне отрицательно влияли на ум и душу этого человека: ни на чем более не мог он сосредоточиться, почти ежеминутно меняя направление беседы. Таким стал знаменитый трибун, гордившийся тем, что именно в его голове созрел план облагодетельствовать и осчастливить римский народ. Но, кроме того, Риенци имел существенные обязательства перед рыцарем Монреалем, ссудившим его деньгами для сбора войска. Пока сенатор Кола занимался осадой Палестрины, Монреаль прибыл в Рим, требуя уплаты 5 тыс. флоринов[174]. Кавалер вел себя надменно и чередовал жалобы с угрозами в адрес Риенци, а последний, обо всем уже извещенный и страшащийся, не случится ли чего в его отсутствие, быстро вернулся в Рим и велел схватить Монреаля и двух его братьев, заковать в цепи и отправить в тюрьму. Узники предлагали огромный выкуп в обмен на свободу, но хотя Риенци и нуждался в средствах, он предпочел месть алчности. Ночью того самого дня, когда Монреаль был арестован, его подняли с постели и повели на пытку. Поскольку предавать ей людей такого звания и ранга еще не вошло тогда в привычку, кавалер, увидев приготовленные инструменты, не мог сдержать возмущения и воскликнул: «Негодяи, и у вас хватит наглости таким вот образом обращаться с человеком моего звания?» Никто и не думал его слушать. Монреаля без разговоров привязали за руки к блокам под потолком, и пытка «на дыбе» началась. Когда тело его отрывалось от земли, а вывернутые руки с хрустом едва не вырывались из суставов, он кричал своим палачам: «О! Проклятые, вижу, что я уж больше не генерал непобедимой армии, который заставил трепетать всю Италию. Вот до чего довел меня этот Риенци!..» Да, конечно, Монреаль заслуживал смерти за свои злодеяния, однако погубило его вовсе не справедливое возмездие, а собственное желание вернуть награбленное и данное в долг да глупые угрозы в адрес тирана. Ясно отдавая себе отчет в том, что ему не спастись, он вовсе не уповал на милость трибуна и хотел лишь отойти в мир иной как раскаявшийся в своих проступках и преступлениях христианин. Обратившись к братьям, он сказал: «Утешьтесь, я умираю удовлетворенный хотя бы тем, что покину этот мир один, — вы не последуете за мной, ибо, насколько я знаю людей, тиран ищет лишь моей жизни и ею вполне удовлетворится. Против вас он ничего не предпримет. Правила политики требуют, чтобы я пожертвовал собой, чтобы спасти вас, и, повторяю вам вновь, умираю спокойно, ибо пожил достаточно. Такая бурная жизнь, как моя, начала уже утомлять и меня самого. Единственно, о чем стоит сожалеть, так это о том, что судьба не подобрала для моей кончины более удачного места, ну да ладно, пусть хоть пытки и мучения мои будут в своем роде замечательны и достойны человека такой судьбы, как моя. Жалею лишь о том, что я принужден терпеть сейчас то, что сам некоторое время назад принуждал терпеть других, но и в этом я вижу признак великой, почти божественной справедливости, влияние Божьей десницы… Вы, Аримбаль, были тем, кто довел меня до такого плачевного конца, но вместо того чтобы вас упрекать и обвинять, я хочу вас утешить и ободрить. Мы с вами равны, ибо нам обоим не повезло, оба мы были обмануты и преданы. Так что перестаньте горевать и учитесь познавать людей. Ваша молодость, конечно, слишком неопытна и доверчива; что представляет собою мир, вы не знаете. Отныне всегда живите вместе, не разлучаясь и сообразуясь с обстоятельствами. Ваше счастье целиком зависит от этого. В отношении же чести, верности и порядочности людей советую вам всегда следовать моему примеру. Докажите же, что вы достойны быть братьями человека, перед которым склонялись Апулия, Марка, Тоскана. Судьба моя свершилась. Все, что должен, совершал я на глазах людей. И поскольку цели мои всегда были честны, смею надеяться, Бог встретит меня милосердием и всепрощением. Уверен, он все мне простит». Конец этой речи, конечно же, должен был вызвать удивление, однако следует напомнить, что почти все малые города-государства Италии страдали от гнета терроризирующих их узурпаторов, которых и подавлял или уничтожал, прибегая к силе, рыцарь Монреаль. Он был убийцей, каравшим других убийц. Вот каким образом мог он в смертный час найти оправдание своим беззакониям и злодеяниям. В остальном имел он душу по-рыцарски возвышенную и благородную, был редким любителем и знатоком войны и имел дар внушать к себе любовь и уважение своих солдат. Казалось, само провидение пользовалось им, чтобы наказать Италию, и в конце концов воспользовалось Риенци, чтобы покарать его самого. Когда Монреаля вели на казнь, он обратился к народу, собравшемуся посмотреть на него: «Как можете вы допускать смерть человека, ничем вас не оскорбившего. Ах! Прекрасно вижу я, мои богатства и ваша бедность стали причиной моей гибели; но и предатель, осудивший меня на смерть, не извлечет из нее тех выгод, которыми себя обольщал: напротив, смерть моя окажется для него роковой, став предзнаменованием и его неминуемого конца». Во время чтения приговора судья по ошибке обмолвился и произнес слово «повешение», Монреаль побагровел и едва не вышел из себя от гнева за столь низкую казнь, ему уготованную, услышав же, что он будет, как и подобает человеку его достоинства, обезглавлен, успокоился и уже с бодрым видом лег под топор. Горькая участь его вызвала разные чувства — о нем то вздыхали, то хулили как преступника, но равнодушным трагическая кончина его не оставила никого. Целая толпа зрителей следовала за известным кондотьером. «Эх! Римляне, — грустно промолвил он, всходя на эшафот, — скорее уж я, а не ваш тиран заслуживаю славы, ведь, по правде сказать, сегодня умереть стоило бы именно ему». Так умер этот знаменитый «мазнадьер», которого следовало бы уважать как героя, будь он облечен властью законного государя. Смерть его была в гораздо большей степени вредна, чем полезна, ди Риенци. Неблагодарность сенатора вызвала всеобщее презрение и негодование. Народ, проявивший сострадание к тому, кто был ему ненавистен в годы славы и успеха, теперь жалел казненного, восхвалял его за храбрость и успехи его походов, даже за любезную обходительность манер. Сенатор ди Риенци, видя, куда дует ветер и чем он ему грозит, созвал народ на Капитолии и произнес одну из тех длинных патетических речей, которые почти всегда ему прекрасно удавались. «Римляне, — говорил он, — должны ли вы так горевать из-за преступнейшего из людей? Неужели хотите вы с чувством несвоевременного и совершенно неуместного сострадания позволить любому негодяю путем разорения и гибели вашей родины приобретать у вас уважение и почет? Разве не знаете вы, что изменник, о судьбе которого вы плачете, разграбил и сжег многие итальянские города и замки, убил бессчетное количество людей самого разного пола, возраста и звания, держал, прежде чем придать их смерти, сотни женщин и девушек в гнусном и преступном рабстве? Неужели вы так легковерны, чтобы поверить речам негодяя, которые он имел наглость держать здесь перед вами? Нет, вы, видно, подозреваете, что он явился в Город с одной целью — способствовать росту его благосостояния, великолепия и богатства. И вы воображаете после этого, что хорошо знали этого тирана Италии? Да он горел от нетерпения увидеть, чтобы и эта страна, и этот город испытали то же, что и другие итальянские земли и государства, которые он уже разорил и обезлюдил. Завидуя счастью Рима, он задумал гнусный замысел — именно в этих местах утвердить трон своей тирании, но небо, всегда безотрывно и заботливо пекущееся о судьбе римлян, спасло их от этой вполне реальной угрозы. Так что перестаньте лить позорящие вас слезы, а лучше предайтесь радости, что смогли так скоро и счастливо, а главное — без потерь и кровопролития избавиться от ужаснейшего врага. Предатель мертв, но живы мы и будем жить, не страшась более его дерзости и уловок, помимо всего прочего помня и о том, что с его смертью мы становимся владельцами оружия, лошадей и сокровищ, которые предназначались им для нашей погибели, а теперь будут обращены нам во благо». Речь эта, не лишенная серьезных и законных оснований, казалось, немного успокоила и на время прекратила ропот в народе; и хотя Риенци так и не удалось захватить всю казну кавалера Монреаля[175], он воспользовался тем, что попало ему в руки, чтобы исполнить свой замысел в отношении Палестрины. Ведь живо еще было семейство Колонны и их нельзя было выпускать из рук. Он учел все свои былые ошибки и промахи и принялся за дело с мудростью и осмотрительностью, какие можно было ожидать лишь от великого государя. Он объявил о том, что желает во всем видеть поддержку, верность и усердие солдат, а потому желает сформировать специальный отряд из лучших бойцов, немногочисленный, но такой, на который во всем мог бы положиться. Поняв, как трудно будет осаждать по всем правилам военного искусства замок Палестрину, укрепленный не только стараниями людей, но и самой природой, он решил разделить свое войско на несколько маленьких отрядов, вполне способных захватить узкие горные тропы и перевалы, ведущие к крепости. Ввиду того, что сам он опасался отлучаться из Рима, в котором со дня на день все сильнее зрело недовольство и можно было ожидать взрыва, трибун принял решение затвориться на Капитолии и оттуда, изнутри из-за его стен, руководить боевыми операциями. Речь шла лишь о том, чтобы подобрать и назначить опытного и толкового военачальника, способного содействовать исполнению целей сенатора. В этом вопросе Риенци проявил немалую рассудительность, избрав на эту должность Ликкардо ди Аннибалиса, человека достойного, весьма опытного в искусстве войны и уже прославившегося в нескольких походах, и дал ему прозвище «Интрапренденте»[176]. Договорившись о ходе проведения операций, Риенци торжественно проводил генерала, оставив в городе несколько рот солдат для поддержания в Риме порядка и ради собственной безопасности. Но и после ухода войска Риенци продолжал уделять военным делам особое внимание, лично за всем следил, всюду поспевал. Казалось, в нем опять ожил былой гений прозорливости, всеви-дения, способность постигать тайные замыслы врагов, достойная самых великих государей, из глубины своих кабинетов командующих армиями, управляющих государствами и вносящих разлад и смятение в стан противника. Восхищение и уважение народа, которые он начал вновь завоевывать, росли по мере увеличения числа успехов, которые целиком и полностью приписывались неутомимой энергии сенатора и уже во вторую очередь опыту генерала. Тот и другой так хорошо справлялись с делами, что вскоре палестринская проблема и участь рода Колонна должна была решиться окончательно. Аннибалис до такой степени разорил окрестности вокруг крепости и теснил ее защитников, что те больше не осмеливались даже делать вылазок, которые им так удавались прежде, нанося тем самым сильный урон осаждавшим. Буквально каждый день генерал доносил о новых успехах и благоприятном продвижении дела вперед. Казалось, участь крепости предрешена, ничто не может ее спасти, и каждый новый день придавал все больше веса и значения власти и авторитету сенатора; а тот в довершение счастья получил папскую грамоту, утверждающую его в давно занимаемой должности почетного сенатора Рима и содержащую немало весьма своевременных и необходимых наставлений касательно милосердия и гуманности, которыми он впредь должен был руководствоваться. Риенци пропустил эти проповеди мимо ушей, — в речах палы, к нему обращенных, он услышал то, что хотел услышать. Однако стиль его жизни в некотором отношении изменился. Он не жил больше в такой роскоши и не вел себя так надменно, как делал это прежде, вызывая справедливое отвращение римлян. Всякая неумеренность в еде была изгнана с его стола и его пиров. Теперь он старался подавать пример сурового воздержания. Все деньги, попадавшие к нему в руки, он помещал в казну и экономно расходовал на нужды Республики. Но недоверчивость, подозрительность и жестокость остались в нем те же, и это делало его все более ненавистным согражданам, настолько же, насколько раньше он был им дорог. Вот качества, которые окончательно погубили его в глазах народа. Был в Риме человек, уважаемый всеми, добродетели которого контрастировали с нравами его времени и напоминали о времени Римской Республики. Звали его Пандольфо де Пандольфуччи. Этот добродетельный гражданин, бывший некогда близким другом сенатора, стал объектом его ненависти. Риенци не побоялся принести его в жертву своим несправедливым и совершенно необоснованным подозрениям. Нельзя описать ужас, который охватил народ при слухе о подобной бесчеловечности. И если страх мешал негодованию открыто прорваться наружу, чувства римлян ясно читались на их лицах, мрачных и отрешенных. На улицах и площадях города царило гробовое молчание. Однако сенатор, угадав причину этого, стал лишь еще свирепей и подозрительней. Тогда, решив обезопасить себя, умертвив всех тех, кто подавал хоть малейший повод для подозрений, он велел каждый день приводить на Капитолий большое количество граждан, не совершивших иного преступления, кроме безосновательных подозрений, которые они имели несчастье заронить в сердце тирана, и счастлив был тот, кто отделывался лишь конфискацией и потерей всего своего имущества. Однако, как это ни странно звучит, никакие насилия не могли успокоить, унять и развеять тревогу и страх, терзавшие сердце Риенци. Никогда еще он не испытывал такого волнения. Он то впадал в отчаяние и уныние, то гордо появлялся на улицах, словно насмехаясь над всеми и всяческими опасностями. Робкий и нерешительный от природы, философ по воле (или скорее капризу) судьбы, он переходил от одной крайности к другой и творил самые недостойные вещи, делавшие его постепенно столь же презренным в глазах народа, сколь и ненавистным. Дело доходило до странного: его видели то плачущим, то смеющимся на глазах людей безо всякой на то причины. Казалось, некогда великий герой сходит с ума или разыгрывает какую-то зловещую комедию. Одним словом, все поведение его было причудливым сочетанием экстравагантности и жестокости. Римляне мечтали лишь об одном — о счастье любым путем освободиться от этого ставшего совершенно непереносимым человека, от его невыносимого ига. В сердцах всех без исключения граждан зрели семена заговора, трагические последствия которого мы скоро увидим. Ликкардо ди Аннибалис сделал все, чего можно было ожидать от опытного и честного генерала. Он принудил врага к капитуляции и уже готовился победителем вступить в стены Города, но Риенци то ли по какому-то капризу судьбы, то ли из-за недоверия, на которое в последнее время он стал очень падок, отозвал храброго генерала и на его место поставил нескольких гораздо менее способных, но, на его взгляд, гораздо более надежных военачальников. Колонна охотно воспользовались представившейся передышкой. Хорошо осведомленные через своих сторонников о положении дел в Риме, они решили не упускать случая и раз и навсегда покончить с тираном, их злейшим и непримиримым врагом. Через своих эмиссаров они подбивали своих друзей в Городе поднять восстание. Нужно было только начать, народ с радостью поддержал бы их, ему требовался только руководитель. Интрига была проведена в такой тайне и с таким блеском, что сенатор, повсюду имевший своих шпионов, узнал о том, что против него готовится, лишь тогда, когда восстание уже началось. 8 октября 1354 года римляне поднялись против своего угнетателя. Риенци, остававшийся еще в постели, был донельзя изумлен, слыша вдалеке прерывающиеся, но вновь и вновь повторяющиеся крики: «Да здравствует народ!» Чернь, видя, что участь сенатора решена, быстро присоединилась к восставшим; солдаты, которых держал подле себя Риенци в целях безопасности, оказались тоже все как один сообщниками заговорщиков. И в то время как все покинули его, весь город, поднимался к Капитолию по его крутым улочкам, бросая камни в окна дворца тирана и крича: «Умри, предатель!.. Умри, негодяй!.. Пусть сдохнет тот, кто заставил платить нас даже за соль и вино!..»[177] Удивительно, но вместо того, чтобы побеспокоиться о своей безопасности, сенатор тоже стал кричать: «Да здравствует народ!» Выйдя из своих покоев и изобразив самый благодушный вид, он закричал толпе: «Да! Да! Да здравствует народ! Я повторяю это вместе с вами! Мы все за одно! Ведь вся власть, авторитет и достоинство, которыми меня наделил папа, — все это ради вас». Напрасно он тратил время, стараясь самого себя успокоить бессмысленными речами. Намерения народа не оставляли никаких сомнений. Наконец понял он, какая опасность ему угрожает, увидел, что всеми покинут. Подле оставались лишь трое слуг, у которых в страхе спрашивал он совета, что предпринять; но тщетно искал он средств, способных спасти его. Никто ничего не мог ему посоветовать утешительного. Тогда он сам стал их ободрять: «Ничего не бойтесь, — говорил он, — я найду способ развеять эту бурю». Облачившись в рыцарские доспехи, вышел он на балкон своего Капитолийского дворца, желая держать речь, но главы заговорщиков, боясь его искусного красноречия, велели криками и проклятиями помешать ему говорить. За этим последовал дождь из камней и стрел, ранивших Риенци в руку. «Вот как! — воскликнул сенатор, возвышая голос снеобыкновенной силой. — Вы отказываете своему спасителю в том, что позволено даже самым отпетым преступникам? Разве я не ваш соотечественник, не гражданин этого Города? Какое безумное ослепление овладело вами? Значит, вот какова ваша награда и благодарность за мои труды? Римляне, если вы лишите меня жизни, вы и сами лишитесь ее». Слова эти, хотя и произнесенные лучшим из ораторов своего века с волнением, чувством и энергией необыкновенной, вполне способной развеять любую серьезную опасность, на сей раз не оказали на толпу никакого впечатления. Хорошо понимая это, бывший тиран и правитель помышлял лишь о бегстве, больше не желая встречи с римлянами, сейчас весьма похожими на своих гордых и непреклонных предков, верным почитателем которых он был всегда. Надо было выбираться из Капитолийского дворца, подожженного восставшими, и беглец предположил, что огонь и дым будут способствовать его незаметному отступлению. Отрезав бороду и измазав угольной пылью лицо, набросив на плечи рваную одежду простолюдина и накрыв голову тюфяком, он смешался в воротах дворца с мятежниками и, изменив голос, как и другие, кричал проклятия тирану, однако, к несчастью, совсем позабыл избавиться от своих дорогих золотых колец и браслетов и тем привлек к себе внимание толпы. На него набросились и тотчас узнали. Риенци ожидал, что его растерзают на месте, но вид некогда любимого трибуна, хотя и измененный до неузнаваемости, унял на время гнев мятежников. Можно сказать, они взирали на этого необыкновенного человека с некоторой долей прежнего почтения, даже благоговения. Успокоившись, они взяли его за руки и вывели на крыльцо, с которого так часто произносил он свои смертные приговоры. Здесь оставлен он был один на один с толпой, жадно взиравшей на поверженного кумира. Наступила глубокая тишина. Никто не смел поднять на него руку, даже приблизиться, хотя мгновением ранее все горели желанием растерзать его на куски. Так в течение часа стоял он с непокрытой головой, испачканным лицом, со скрещенными на груди руками, в разорванном плаще, из-под которого выглядывали дорогие одеяния — роскошная куртка, золотой пояс, расшитая золотом и украшенная драгоценностями обувь. Теперь этот человек, который так часто и с таким блеском умел пользоваться своим красноречием, не имел сил и смелости даже открыть рта, чтобы хоть что-нибудь произнести в свою защиту. Красноречиво говорили одни лишь его глаза, которыми искал он то там, то тут хотя бы малейшего сочувствия и сострадания. Тщетно! Народ был неподвижен и глух, не решаясь ни казнить, ни простить его. Наконец один из главных заговорщиков по имени Чекко делло Веккьё, видя, как угасает ярость толпы и опасаясь последствий этого для себя и своих сообщников, неожиданно выхватил из-за пояса меч и стремительным ударом поразил ди Риенци в самое сердце. Едва безгласное тело того рухнуло на камни, каждый, уже не раздумывая более, посчитал за честь для себя нанести какое-либо оскорбление мертвому врагу, больше никому не страшному, и месть народа превзошла все границы и всяческие ожидания. Чернь не только рвала на части его тело и буквально купалась в его крови, она, связав веревкой ноги трупа, поволокла его по улицам города. Голова и многие части тела остались валяться там, где протащили несчастного сенатора, а жалкие остатки его трупа были водружены на кол перед дворцом Колонна, где в течение нескольких дней были выставлены на потеху толпе, самого презренного и глумливого люда. Затем с трудом собранные вместе части трупа отдали иудеям, и те сожгли их на медленном огне, дабы как можно долее насытить взгляд видом столь ужасного зрелища. Таков был трагический конец Николы ди Лоренцо Габрини, который, несмотря на незаметность своего происхождения, сумел подняться к вершинам власти и удержал бы ее в своих руках, если бы имел осторожность равною своему тщеславию. Дурной нрав не позволил ему длительное время наслаждаться незаконно узурпированной властью[178]. В его второе правление непомерная жестокость сделала его ненавистным римлянам. Вместе с тем надо признать, что римляне под властью его, особенно в начале, были много счастливее, чем при других правителях. И тот же самый народ, который его убил, вскоре раскаялся и преисполнился сожаления о нем. Смерть Риенци заставила позабыть все его преступления, а в памяти людей сохранились одни лишь его великие и благородные дела.
ГЛАВА 16
ЗАГОВОР ФРАНЧЕСКО ДЕ ПАЦЦИ
ПРОТИВ
ЛОРЕНЦО И ДЖУЛИАНО МЕДИЧИ


Место действия — Флоренция. Время действия — 1478 год от рождества Христова
Флоренция, столица Тосканы, с давних пор имела республиканскую форму правления. Сначала аристократия обладала всей полнотой власти, но впоследствии ею овладел народ. Магистраты избирались из всех сословий общества, преобладающее влияние в котором принадлежало нескольким ремесленным цехам. Во главе Республики стоял гонфалоньер, сменявшийся каждые два месяца и полномочиями своими весьма напоминавший диктатора. Семейства грандов, желавшие принять участие в управлении, тоже вынуждены были вступать в какие-либо ремесленные цеха и корпорации, без чего совершенно немыслимо было добиться ни одной важной и ответственной должности. Среди самых древних семей этого города более всего были известны Медичи. Разбогатев на занятиях торговлей, они начали свое возвышение тогда, когда флорентийцы выбрали Сильвестро Медичи[179] на высший пост в государстве. Именно он заложил основы будущего могущества своих потомков. Человек этот отличался немалыми способностями, осмотрительностью и отвагой. Крайне дурное положение дел республики в конце концов вынудило его, задумав планы преобразований, искать поддержки у народа и стать главой сильной политической партии. Поначалу политика его не приносила заметных успехов, напротив, она обернулась трагедией для самих Медичи — их на более чем двадцать лет изгнали из города. Джованни Медичи[180] поправил дела своего рода, сочетая с несметным богатством характер мягкий и незлобивый, он мало-помалу сумел вкрасться в доверие к власть предержащим. Великолепно умея завоевывать их расположение своей обходительностью и щедростью, он постепенно поднялся до высших постов в государстве. Основав на незыблемом влиянии денег могущество своего дома, он оставил своему сыну и наследнику Козимо (Козмо) Медичи[181] несметное богатство и расположение народа. Судьба благоволила к последнему, и мало могло найтись государей, способных сравниться с ним в изобилии и роскоши двора. Даже внешностью своей Козимо Медичи, будучи частным лицом, легко мог быть принят за коронованного монарха — таковы были манеры, стиль речи и облик этого человека. Именно этот великий человек в течение тридцати четырех лет был единственным и бессменным судьей и вершителем судеб Флорентийской республики и умер в самом зените счастья и славы. За свои великие деяния и услуги государству он удостоился от своих сограждан почетного титула «Отец отечества», выбитого на его могильном камне. Пьетро Медичи, не обладая достоинствами и заслугами своего отца, имел тем не менее точно такую же власть и оставил после себя двоих детей — Лоренцо и Джулиано. Народ принял этих двух юношей как своих любимых детей и повиновался им, как государям. Тысячи прекрасных качеств делали их достойными занимать первые места в Республике. Превосходно сложенным, им стоило лишь появиться на глаза кому-либо, чтобы тотчас понравиться и расположить к себе любого. Закалив тела военными и физическими упражнениями всякого рода, они не забывали и о культуре духовной, усердно занимаясь изучением различных наук. Но еще более придавало им веса и уважения то, что оба отличались необыкновенной обходительностью и щедростью — двумя основными добродетелями дома Медичи. Между тем в характерах обоих юношей была существенная разница. Лоренцо был более резок, горяч, честолюбив в поступках, Джулиано более мягок, умерен, склонен к любовным удовольствиям. Спокойствие, в котором протекали годы их почти самодержавного правления Республикой, поначалу не нарушали никакие несчастья. Однако и у них были враги, готовые использовать любую возможность, чтобы нанести удар могущественному роду. Вот именно к таким врагам Медичи относился старинный флорентийский род Пацци. Поначалу Пацци взирали с горчайшим неудовольствием на возвышение Медичи и даже родственные узы, связавшие обе семьи между собой[182], были неспособны соединить воедино сердца, разделенные жгучим властолюбием и ревностью. Якопо де Пацци, глава семейства, не имел сыновей, зато у него было семь племянников, среди которых был главный зачинщик заговора, о котором я собираюсь рассказать. Звали его Франческо. Молодой человек был очень умен, красив, энергичен, приятен в общении, необыкновенно чувствителен к обидам и оскорблениям, горяч и отважен до безрассудства, однако способен с необходимой осмотрительностью и мудростью исполнять любое, даже самое великое и трудное предприятие. В подражание самому богатому семейству в Италии он занялся банковским делом и торговлей, которые тогда процветали настолько же, насколько сегодня пришли в упадок, и разбогател на этом. Денежные операции привели его в Рим, где, купив дом, он на некоторое время поселился. Знакомство Франческо Пацци с князем ди Фор-лй, сыном папы Сикста IV, всегда бывшего заклятым врагом флорентийцев и особенно рода Медичи, стало причиной того, что молодой Франческо был вынужден оставить Рим и вернуться во Флоренцию[183]. Франческо был задет за живое и очень оскорблен неприятным для него и крайне невыгодным для его дел вмешательством Медичи, этим угнетателям рода Пацци. Однако пока никакой мести он не задумывал и, может быть, никогда бы до нее не дошел, если бы не роковая страсть, тиранически овладевшая его сердцем. Он до безумия влюбился в девушку по имени Камилла (происходившую из знатного флорентийского семейства Кафарелли), в которую был влюблен и Джулиано Медичи, оказавшийся счастливее своего соперника и даже тайно обвенчавшийся на предмете своей нежной страсти. Франческо совсем обезумел от ярости, узнав, что Камилла любит не его, а Джулиано, хотя, конечно же, по-прежнему ничего не знал об их браке. Он был итальянцем, поэтому умел притворяться, и потому прикинулся самым близким другом того, кого смертельно ненавидел. В мгновения ярости, наступавшие всегда, когда он вспоминал о своем сопернике, задумал он отделаться от ненавистного конкурента, по Вандини, его верный друг и помощник во всех делах, а главное тоже смертельный враг Медичи, доказал ему, что ни в коем случае нельзя ограничиваться смертью одного Джулиано, а надо, разом убив обоих братьев, нанести сокрушительный удар по роду. «Оскорбления, — сказал он, — которым и вы постоянно подвергаетесь со стороны Медичи, более чем достаточно, чтобы принести тиранов в жертву и освободить угнетаемую ими родину. Смерть их в одно мгновение изменит весь облик государства, которое давно уже лишь этого и ожидает. Лишь свержением прежней формы правления вы сможете избежать наказания за свое преступление. Но что это я говорю? Какое преступление? Такие деяния считаются преступными лишь в случае провала; если они удаются, их расценивают как великие и героические подвиги. Соединив вашу личную месть со всеобщей пользой, вы извлечете из нее для себя почет и славу; тогда как погуби вы своего соперника, и поступок этот станут рассматривать как вызванный личной неприязнью и ненавистью, не имеющей в себе самой никакого справедливого оправдания». Доводы, приведенные выше, в сочетании со многими другими решили дело не в пользу простой и жестокой кровавой мести, но в пользу обдуманного и хорошо организованного заговора, способного в конечном счете примирить интересы семьи с интересами любовной страсти. Таким образом, Франческо, побуждаемый силою этих двух причин, думал лишь о том, как поскорее убрать обоих братьев со своего пути. Но приняв подобное решение, следовало позаботиться о поддержке, заручившись покровительством папы и короля Неаполя. Последний, давно мечтавший подчинить себе город Пизу, обещал способствовать проекту, который при благоприятном завершении обещал ему немалые выгоды[184]. Франческо отправился в Рим и долго совещался с князем ди Форлй, которому намекнул, что ему должно подумать над тем, как укрепить свою власть, основанную целиком на благоволении к нему верховного понтифика, папы Сикста IV. «Не надейтесь, — говорил Франческо, — спокойно наслаждаться властью, не приняв предварительно к тому необходимых мер предосторожности. Когда отец ваш навеки закроет глаза, Медичи наверняка ухитрятся с помощью нового понтифика лишить вас всего. Но ваши интересы мне дороги наравне с моими собственными и то, что задумал и хочу исполнить я, в равной степени будет полезно вам, а задумал я не что иное, как полное низвержение могущества Медичи. Однако, чтобы преуспеть в столь рискованном деле, мне необходимо опереться на всестороннюю поддержку вашего отца». Князь ди Форлй одобрил замыслы заговорщиков и, имея сильное влияние на Сикста IV, обещал, что и папа в свою очередь поддержит их. Тогда Пацци открылся и прямо заявил, что уже принято решение убить Медичи, поскольку это единственное средство дать свободу Республике. Князь без труда одобрил и это преступление, которое должно было в будущем обеспечить ему надежное и мирное обладание своим небольшим государством. Итак, смерть Медичи была делом решенным, и заговорщики доверили свои планы Франческо Сальвиати, назначенному напой архиепископом города Пизы, которому Медичи так и не дали спокойно наслаждаться принадлежащей ему властью. Мстительный прелат, не раздумывая, вступил в заговор и привлек в него графа ди Монтесекко, командующего корпусом папского войска. Новый заговорщик, наделенный осторожностью в неменьшей степени, чем храбростью, сразу понял всю трудность задуманного дела и не умолчал об этом: в Италии царил мир и поднимать ополчение и открыто двигаться с войском на Флоренцию посреди мирной страны, полной тайных и явных друзей и сторонников Флорентийской республики без достаточного на то основания, было опасно. К тому же, говорил граф Монтесекко, кто знает, удастся ли заговорщикам сразу убить обоих Медичи, и если не удастся, не приведет ли это к провалу превосходно продуманного плана, ведь известна слепая любовь народа к Медичи, к тому же у них очень много сторонников, пользовавшихся и пользующихся до сих пор властью в Республике под их высоким покровительством, все это составило бы огромное препятствие на пути осуществления такого опасного и рискованного дела. Монтесекко обещал бросить в дело своих солдат только тогда, когда ему будет дан надежный предлог. Четверо заговорщиков совещались о мерах, которые необходимо было принять, и сошлись на том, что ничего не получится, если в дело не будет вовлечен Якопо де Пацци, дядя Франческо и глава семьи. Его, кстати, уже несколько раз испытывали по этому поводу, и он с завидным упорством отвергал все опасные предложения. Тогда граф ди Монтесекко взял на себя обязанность сломить упорство старика и с этой целью лично направился во Флоренцию; однако и его уговоры оказались безрезультатны. Тогда Франческо, встретившись с дядей, прямо заявил, что, примет он в заговоре участие или нет, задуманное будет исполнено и без его участия, а позже ему будет стыдно от сознания того, что он ничем не помог своему племяннику в столь важный момент в осуществлении столь славного дела. Еще раз Франческо обрисовал Якопо де Пацци в самых живых тонах рабство своей родины, ничтожество, в какое впал их род, ненависть, которую испытывали к ним Медичи. В заключение он дал ему понять, что король Неаполя и папа тоже окажут им помощь, что уже приняты меры, благодаря которым заговор не может не удасться, если, конечно, и он, со своей стороны, вступит в общее дело, а не будет препятствовать ему своим упрямством. Якопо де Пацци не мог долее сопротивляться таким настойчивым просьбам. Он согласился, и с этого момента число заговорщиков значительно возросло. Монтесекко под видом исполнения возложенных на него обязанностей почти каждый день видел Медичи и часто совершал путешествия из Флоренции в Рим и обратно. Он постоянно и очень подробно информировал князя ди Форлй о развитии событий, добивался у папы необходимых средств и снаряжений, вел дела с таким рвением, как если бы сам был зачинщиком всего дела. Со своей стороны, и папа был верен своим обещаниям и обязательствам и повелел, чтобы все его войска были переведены в Романью, а затем в Тоскану под предлогом осады замка Монтон, захваченного некоторое время назад у Церкви одним из местных тиранов. Также папа отдал тайный приказ своим генералам повиноваться всему, что им прикажут архиепископ пизанский и Франческо де Пацци. Поскольку заговорщики хотели одновременно умертвить обоих Медичи, а удобный случай для этого найти было трудно, решили заставить братьев отправиться в одно и то же место в один час, применив для этого особое средство. Его Святейшество обязался послать под каким-либо предлогом во Флоренцию кардинала Джироламо Риарио, племянника князя Форлийского, полагая, что его появление непременно потребует проведения соответствующих торжественных церемоний, что и облегчит исполнение плана убийства. Кроме того, в его свите под видом слуг должны были ехать многие заговорщики и солдаты папской гвардии. Риарио выехал из Рима во Флоренцию. И хотя Медичи были не в ладах с папой, они не захотели пренебрегать приличиями и решили устроить кардиналу подобающий его достоинству прием. После нескольких дней пути Риарио остановился на отдых в четырех милях от Флоренции в замке Монтегю, загородной вилле семейства Пацци, где старик Якопо, сопровождаемый всем своим семейством, принял его с почестями и распростертыми объятиями. Здесь же собрались все заговорщики, полагая, что и Медичи прибудут из города, чтобы лично встретить Его Высокопреосвященства; но Джулиано приехал один и отбыл назад за два часа до приезда своего брата. Так был упущен первый весьма удобный для заговорщиков шанс. Лоренцо остался на ужин с кардиналом, который долго говорил с ним о великолепной архитектуре и богатом убранстве дворца во Фьезбле, принадлежащего семейству Медичи. Лоренцо обещал Его Высокопреосвященству на следующий день продолжить беседу и пригласил к себе на виллу Якопо де Пацци и всех членов его семьи. Заговорщики посчитали, что оба брата повезут кардинала во Фьезоле, и приготовились именно там осуществить свой план. Но Джулиано Медичи опять там не оказалось, поскольку в этот день он навещал свою супругу, которая была нездорова. На этот раз супружеская любовь и забота спасли ему жизнь. Все эти неожиданные проволочки очень беспокоили Франческо, боявшегося, как бы среди такого большого числа сообщников не нашелся один, по неосторожности или намеренно способный выдать опасный секрет. На следующий день после пиршества во Фьезоле все заговорщики собрались во Флоренции во дворце Якопо де Пацци и было решено, что для окончательного разрешения проблемы в следующее воскресенье кардиналу придется организовать и самому принять участие в торжественной мессе в городском кафедральном соборе, по завершении которой должен был быть дан торжественный обед в честь семейств Медичи и Пацци. Было решено, что во дворец, занимаемый сейчас Его Преосвященством, под предлогом охраны его от огромных взбудораженных праздником толп народа будут введены верные заговорщикам вооруженные люди. Все было расписано до мелочей, даже места за столом, ибо Лоренцо Медичи надлежало сидеть между графом Монтесекко и Якопо де Пацци, Джулиано — между Франческо и Бандини. Каждый из четырех заговорщиков должен был иметь подле себя (вернее, за своей спиной) сообщника и по сигналу, данному одним из них в самом конце пира, заговорщики должны были почти мгновенно убить ничего не подозревающих братьев. После этого архиепископ Пизанский должен был направиться со своими людьми во Дворец правительства и врасплох захватить городских магистратов, заставить их признать новую форму правления, избрав представителей рода Пацци на основные должности в Республике. Все ставленники Медичи должны были незамедлительно лишиться своих постов. Точно неизвестно, знали ли Сикст IV и кардинал Риарио обо всех подробностях заговора, но трудно поверить, чтобы кто-то отважился нанести роковой удар за кардинальским столом в доме, переполненном вооруженными людьми, не предупредив предварительно об этом Верховного понтифика и Его Высокопреосвященство, которые должны были не только обо всем знать, но и все это лично одобрить. Как бы то ни было, в ночь с 25 на 26 апреля, с субботы на воскресенье, 1478 года кардинал Риарио отдал приказ готовиться к мессе, а еще раньше, утром 25 апреля, в субботу, велел торжественно пригласить Медичи и многих других знатных флорентийцев на обед, которым и должны были завершиться торжества. Лоренцо и Джулиано дали слово принять в них участие, и успокоенные заговорщики, уверенные в успехе, спокойно ждали намеченного часа. Казалось, ничто не могло помешать исполнению их замысла. Они предусмотрели все трудности и приготовили надежные средства от всяческих неожиданностей, могущих внезапно возникнуть в самый разгар действия. В ночь перед выступлением заговорщики собрались в доме у Франческо и поклялись скорее погибнуть, чем отступить, решив во всем следовать примеру обоих Брутов и ожидая от удачного завершения дела не меньше славы, чем пользы. Вернувшись к себе в дом, каждый ждал наступления рокового дня, который должен был положить конец власти и роду Медичи. Уже за день до намеченных событий Франческо стал внимательно наблюдать за всеми шагами и поступками Джулиано. Он заметил, что соперник его погружен в глубокую печаль. Франческо, всегда общавшийся с правителем на короткой ноге, попробовал своей беседой рассеять грусть юного Медичи. Но когда они гуляли в обществе знатных синьеров по прекрасным флорентийским садам, Джулиано принесли письмо, он его взял и укрылся в беседке, чтобы спокойно прочитать. Его враг, который продолжал за ним следить, увидел, как тот изменился в лице и, прочтя его, опустился на скамью без сил. Франческо испытал страх — уж не сообщалось ли в письме о заговоре. Он попробовал проникнуть в его тайну, спросил о нем Джулиано, но тот молчал. Они продолжили прогулку, как вдруг Джулиано почувствовал слабость, опять присел на мраморную скамью и почти в то же самое мгновение пал на руки Франческо без сознания. Слуги побежали к ближайшему источнику за водой, а тем временем Пацци ловким и незаметным движением сунул руку в то место, где было спрятано письмо, извлек его и, убедившись, что никто ничего не заметил, спрятал в свой расшитый золотом кошель. Вскоре Джулиано пришел в чувство, и Франческо, найдя удобный предлог, поскорее удалился, открыл конверт и все понял: письмо было исполнено живого трепетного чувства, ибо это Камилла написала его своему горячо любимому супругу. Потом многие были убеждены, что само небо подало ей верные знаки во сне, чтобы защитить ее любовь и спасти супруга. «Я, — писала Камилла мужу, — не могу сдержать чрезвычайной тревоги. С каждым мгновением она растет все сильнее, и я изнемогаю. Нет сил спать, не видя перед глазами ужасов, которыми зловещие сны беспрестанно изводят дух мой. Я вновь видела вас между двумя тиграми, набрасывающимися и разрывающими вас прямо у подножия алтаря. Я видела, как течет ваша кровь, а мои слезы и крики, вместо того чтобы смягчить их сердца, делали чудовищ все беспощадней и страшнее. Сон прошел, но память о нем осталась. Ужас прошел, но страх и опасения я ничем не могу унять. Я чувствую, как трепещет внутри меня драгоценный залог вашей любви. О, горе мне, дорогой супруг! Прошу вас ради этого столь дорогого мне дара любви не рискуйте своей жизнью, пусть ваша всегдашняя отвага уступит место скромной осмотрительности, внемлите предостережениям неба и вашей жены, любящей вас в сотню раз сильнее самой себя. Я умру, если завтра не увижу вас. Жизнь моя ничто, всего лишь тягостный и пустой сон до тех пор, пока вы будете вдали от меня! Мне кажется, вы меня избегаете, когда не держите в своих объятиях. Приезжайте завтра, заклинаю, если в вас сохранилась хоть капля жалости к своей Камилле». Франческо узнал из этого письма то, чего никогда не знал, о бракосочетании Джулиано и Камиллы. Им овладела такая бешеная ярость, что он даже не был уверен, свершится ли заговор и переворот на следующий день или он в своем слепом безрассудстве тотчас удовлетворит чувство мести, однако вскоре, немного успокоившись, вернулся к уже принятому плану и решил ждать. Во всяком случае он был уверен, что теперь рука его не дрогнет, пронзив сердце соперника. Он вернулся к себе в дом. Заговорщики уже разошлись. Забрезжило утро. Так как Франческо был слишком взволнован, чтобы заснуть, то принялся в нетерпении прогуливаться по просторной картинной галерее своего дворца, время от времени бросая горящий взгляд на те из полотен, на которых изображены были какие-либо трагические или кровавые сцены из истории. Огромная, почти неисчислимая, толпа народа собралась в кафедральном соборе города, чтобы полюбоваться торжественной церемонией. Никто из присутствующих не догадывался о кровавой драме, которой предстояло разразиться в соборе и его окрестностях. Заговорщики вошли в собор, чтобы лучше наблюдать за тем, что там происходит, и тут совершенно неожиданно им сообщили, что Джулиано по неизвестной причине не будет обедать у кардинала и сразу после мессы покинет торжественное собрание. Это известие совершенно расстраивало все планы заговорщиков. Они вновь собрались в мрачной и пустынной капелле просторного храма на совет, и Франческо открыто заявил о том, что если нет никакой возможности умертвить Медичи за обеденным столом кардинала, их надо убить здесь, в церкви. Все согласились с ним, ибо это было единственное решение, которое можно было принять в подобных обстоятельствах, но эта перемена внесла путаницу в их строгие и хорошо рассчитанные планы, поскольку граф ди Монтесекко и Якопо де Пацци, взявшие на себя обязанность убить Лоренцо Медичи во дворце кардинала, отказались сделать это сейчас, не желая запятнать себя преступлением у подножия алтаря. Следовало немедленно найти новых исполнителей и вместо людей мужественных и хладнокровных, способных без страха и сомнения сделать свое дело, выбрали Антонио ди Вольтерру, человека, в жизни своей никогда не принимавшего никакого участия ни в одном рискованном предприятии, и некоего священника по имени Стефано, привыкшего жить среди книг своей монастырской библиотеки. Что касается Франческо, то он никому не хотел уступать чести расправиться со своим противником и оставил при себе Бандини в качестве помощника. Когда, наконец, был установлен этот новый порядок действий, договорились и об условном сигнале, по которому надлежало к нему приступать[185]. Но едва были отданы новые распоряжения, как еще один случай встал на пути заговорщиков. Видя, что с кардиналом Риарио идет один лишь Лоренцо, а Джулиано с ним нет, Франческо и Бандини обратились к прочим своим сторонникам с такими словами: «Мы идем за Джулиано и сами приведем его в церковь. Едва услышав крик и смятение у дверей собора, кончайте с Лоренцо и ничего не бойтесь». Затем оба сели в повозку и поехали за жертвой, полные решимости привезти его в храм, в противном случае убить еще прежде, в рабочем кабинете. Именно с таким намерением вошли они во дворец и в покои Джулиано, вошли непринужденно смеясь и улыбаясь, и шутливым тоном просили его поторопиться, ибо, как было сказано, они похищают его, чтобы вести в церковь. Джулиано отвечал им, что имеет все основания туда не ходить[186], но они так настаивали, что он в конце концов сдался. Все сели в повозку и в течение всего пути шутили и смеялись. Франческо, сделав вид, что нежно обнимает друга, проверил, нет ли на нем под одеждой панциря; но Джулиано продолжал беззаботно шутить, ничего не замечая и тем совершенно развеяв его подозрения. Так все трое прибыли в собор. При виде давно ожидаемой жертвы заговорщики испытали огромное облегчение, даже радость. Наступал долгожданный миг, ждали сигнала, по которому четверо убийц должны были одновременно обнажить спрятанные кинжалы. Первым нанес удар проворный Бандини — удар в самое сердце. Юный Джулиано Медичи упал, но Франческо, не уверенный в том, что он мертв, пронзил его еще несколькими ударами с такой яростью и остервенением, что невольно ранил самого себя в ногу. Верный друг Джулиано флорентийский дворянин Лоренцо Нови, очень привязанный к семейству Медичи, схватился за меч, горя страстным желанием отомстить за друга, но Бандини повернулся к нему, отбил удар и с одного выпада сам поразил несчастного, мертвым павшего к его ногам. С другой стороны, у остальных заговорщиков, успех был не столь заметным. Антонио ди Вольтерра, сраженный совершенно несвоевременным страхом при мысли о предстоящем ему святотатстве, вместо того, чтобы пронзить кинжалом грудь Лоренцо Медичи, лишь взмахнул им перед лицом своей жертвы, даже не задев ее. Священник Стефано выказал еще меньше мужества и решимости, прежде чем нанести удар, он принялся истошно вопить: «Предатель! Ах! Предатель!» Лоренцо мгновенно все понял и, поднявшись с колен, сумел уклониться от удара. Кинжал Стефано, который должен был поразить его через спину в живот, слегка ранил юношу в плечо и еще один раз, но вовсе не опасно, в шею. Лоренцо выхватил меч и, отбивая удары, сыпавшиеся сейчас на него со всех сторон, сам начал теснить противников. Сторонники его дома устремились к нему на помощь и помогли отступить в ризницу, в которой он укрепился с двумя или тремя верными ему людьми. Без этой предосторожности он непременно испытал бы участь своего брата, потому что теперь в дело вступил Бандини, намереваясь непременно добить жертву, ускользнувшую от оружия менее удачливых и дерзких убийц. Нельзя ни представить, ни описать ужаса и смятения, которые охватили храм. Поднялся страшный, душераздирающий крик. Всюду виднелись одни лишь разъяренные лица, залитые кровью глаза и вырванные из ножен мечи. Одни рвались вперед, чтобы узнать причину беспорядка, другие, намереваясь бежать прочь и натыкаясь на ворвавшихся, падали навзничь с громкими криками прямо у дверей собора, в которых теснилась громадная толпа народа. Упавших топтали ногами, многие падали замертво от удушья, задавленные толпой. Страшно кричащие женщины лишь усиливали всеобщий ужас, одним словом, никто и никогда не видел зрелища более ужасного. Антонио ди Вольтерра и священник Стефано, пытавшиеся скрыться в толпе, были найдены и изрублены. Тела их были отданы в полное распоряжение разъяренного народа. Жалкие остатки их трупов долго потом таскали по городу. Кардинал укрылся за алтарем, вокруг которого живой стеной, буквально живым щитом стали священники, с большим трудом отстоявшие его жизнь, поскольку сторонники дома Медичи хотели умертвить и его как сообщника столь гнусного заговора. Бандини, зажав в руке кинжал, с которого стекала кровь, с дикой отвагой и яростью в очах, пробился сквозь толпу и скрылся, — никто не осмелился его остановить. Он сразу выехал из Флоренции и сначала направился в Венецию, потом в Турцию. Франческо, хотя и раненный, тоже проложил себе дорогу с мечом в руках и, призывая народ к восстанию, попытался сесть на коня. Однако нанесенная собственной рукой рана не позволила ему это сделать. Друзья отнесли его в дом и уложили в постель. Именно в ней он дожидался окончания действия, к которому должны были привести усилия Якопо де Пацци и графа ди Монтесекко, со своими сторонниками и небольшими отрядами солдат стремящиеся захватить город и поднять жителей Флоренции на борьбу. Однако вскоре стало ясно, что это им не удалось. В то время как в кафедральном соборе разворачивалась столь ужасная трагедия, Сальвиати, архиепископ города Пизы, которому остальные заговорщики поручили захватить дворец правительства, взяв с собою трех верных сообщников, в окружении сотни вооруженных перуджийцев[187], направился в Палаццо Пубблико под предлогом сообщения тамошним магистратам какого-то важного дела. Чезаре Петруччи, в это время гонфалоньер Республики, велел ввести Сальвиати и двух-трех его людей в зал совета. Некоторые из заговорщиков и перуджийцы остались в просторном приемном покое и совершенно неожиданно для себя были там заперты. Архиепископ хотел говорить о своем мнимом деле, как вдруг то ли по природной робости, то ли неожиданно представив себе всю дерзость задуманного предприятия, смешался и начал путаться, задыхаясь от волнения, так что, почувствовавший недоброе гонфалоньер, стремительно встав со своего кресла, вышел из зала, и громко крича: «К оружию!» — велел охране арестовать толпящихся в приемном покое заговорщиков, уже догадавшихся о своей участи. Затем, получив известия о случившемся в соборе, он вернулся со своими людьми в зал, велел схватить сопровождавших Сальвиати людей и выбросить их из окон дворца, а самого архиепископа без суда и следствия повесить здесь же, под потолком зала флорентийского совета. Однако не все шло так гладко, как рассчитывал гонфалоньер: перуджийцы, запертые внизу, не собирались складывать оружия, напротив, они выломали двери и овладели всем первым этажом дворца (Palazzo dei communi), осадив правительство, запертое и забаррикадировавшееся на втором этаже. Тем временем Якопо де Пацци и граф Монтесекко продолжали носиться по улицам во главе сотни-другой солдат, призывая к свободе народ, который и не думал отвечать на их призывы: тогда Якопо, отчаявшись поднять хоть какое-нибудь восстание и боясь быть захваченным врасплох и уничтоженным превосходящими силами противника, оставил свои тщетные попытки, пустил лошадь галопом в сторону городских ворот и спасся бегством в сторону Романьи. Монтесекко, и не думавший бежать, вскоре был арестован. Флоренция сотрясалась от гула и криков одобрения и похвал, возносимых в честь рода Медичи, на головы врагов семейства сыпались неисчислимые проклятия. С триумфом Лоренцо был отнесен к себе во дворец, в то время как по улицам города волокли окровавленные трупы заговорщиков, воздев их головы па пики и мечи. Дома всех без исключения представителей рода Пацци были осаждены, взяты штурмом, разграблены и сравнены с землей с невероятной быстротой. Франческо под охраной солдат отвели во дворец Медичи. Оскорбления и крики толпы не могли заставить его измениться в лице. Он гордо и уверенно глядел на тех, кто его вел. Однако ярость и горькие сожаления иногда вырывали из его груди глухие вздохи, очень похожие на стоны. Подвергнув всем видам унижений и оскорблений, его повесили рядом с архиепископом пизанским, а впоследствии бросили тела на потеху толпе. Граф Монтесекко был обезглавлен, но кардинал Джироламо Риарио избежал смерти лишь благодаря вмешательству папы и уважению к нему со стороны Лоренцо Медичи. Все Пацци были объявлены врагами отечества. Якопо, схваченный уже у подножия Альп, был привезен во Флоренцию и брошен в Арно. К смерти были приговорены некоторые из его родственников, не принимавшие никакого участия в заговоре и даже до самого рокового дня не знавшие о его существовании. Гульельмо де Пацци[188], зять Лоренцо Медичи, был изгнан из города. Бандини, бежавший в Турцию, не нашел там надежного убежища. Султан, велев привести его, спросил, христианин ли он. «Да, я христианин», — отвечал Бандини. «Веришь ли ты, — спросил государь мусульман, — что Бог твой пребывал над жертвенным алтарем, который ты осквернил?» «Верую», — отвечал Бандини. «Так неужели же, о негодяй, — воскликнул султан, — ты полагаешь, что я соглашусь принять среди своих подданных и пригреть у себя на груди человека, который предал в присутствии своего Бога того, кого за минуту до этого обнимал и называл своим лучшим другом? Я оскорблю небо, если спасу тебя от правосудия. Убирайся, несчастный. Достаточно того, что я живым допустил тебя к себе». Сказав это, султан велел выгнать флорентийца из дворца. Послы Лоренцо, прибывше специально за ним в Порту, прямо у ворот схватили его и отвезли на родину, заставив там заплатить за свое преступление. Заговор Пацци лишь упрочил влияние Медичи. Лоренцо доставляло огромное удовольствие видеть своих земляков, наперебой жертвующими ради него богатством и жизнью в борьбе против врагов его рода. Республика предоставила ему особую охрану, и с тех пор он начал жить с флорентийцами как король со своими подданными. Он выступил во главе народного ополчения против войска папы и неаполитанского короля, сразу отступивших, едва стало известно о провале заговора. Установив мир и порядок в городе, пытался утешить он хоть как-то безутешную Камиллу, тяжко переживающую безвременную кончину мужа. Трудно было унять ее горе, но через несколько месяцев вдова родила на свет божий сына, ставшего много лет спустя лучшим украшением рода Медичи и подлинным благом Римской церкви под именем папы Клемента VII.
ГЛАВА 17
ЗАГОВОР ФИЕСКИ
В ГЕНУЕ
ПРОТИВ РОДА ДОРИА


Время действия — 4 января 1547 года
Между императором Священной Римской империи Карлом V[189] и королем Франции Франциском I[190] шла война, опустошившая всю Италию, и Андреа Дориа[191], происходивший из знатнейшего генуэзского рода, слывший самым знаменитым адмиралом своего времени, горячо помогал Франции в ее действиях на море, заслужив тем самым себе всеобщие похвалы и славу. Благородство происхождения, важность занимаемого поста (Дориа был адмиралом галерного флота Франции) и слава его подвигов и успехов так вскружили ему голову, что он с трудом выносил над собой чью-либо власть, кроме власти французского монарха, сторону которого он добровольно принял, так что французские министры все бы отдали, чтобы очернить его и, сделав ненавистным в глазах короля, погубить. Знаменитого генуэзца всевозможными способами и ухищрениями вынуждали жаловаться, чтобы его постоянное недовольство и протесты вывели из терпения короля. Так, постепенно и в самом деле король стал считать Дориа докучным и крайне неуживчивым человеком. А тот, раздраженный таким к себе отношением, оставил французский двор, явился к Карлу V, принял должность, которую император ему предложил, и отдал Геную под власть испанской короны, лишив тем самым Франциска I возможности держаться в Италии. Едва французы покинули город, по всем улицам и площадям его громко зазвучало гордое имя Дориа, и старый политик не обманул ожиданий своих соотечественников. Он вручил бразды правления аристократии и заявил, что сам не примет ни одного решения без одобрения представителей остальных генуэзских родов. Укрепив власть грандов и убедившись, что положение дел в республике вполне благополучно, он думал лишь о сладостном покое и отдыхе, а его сограждане на свой счет возвели в честь него статую с такой надписью: «Отцу отечества и восстановителю свободы». Некоторые думали, что под своей скромностью и умеренностью Андреа Дориа скрывает обширные планы и всего лишь ожидает удобного случая, чтобы их осуществить. Конечно, его старость отчасти смягчала эти опасения, если бы не Джаннеттино Дориа, племянник адмирала, усыновленный им впоследствии. Этот представитель рода Дориа был тщеславен, бесстыден, надменен без меры. Вбив себе в голову, что он непременно должен иметь все посты и должности своего приемного отца, он даже и не скрывал, насколько не нравится ему равенство, которое в это время воцарилось между гражданами Генуэзской республики. Необыкновенная слава и знатность его семьи, чрезмерная заносчивость представителей рода Дориа, в особенности Джаннеттино, их бьющая в глаза роскошь и богатство, не могли не вызвать зависти среди представителей менее знатных, но не менее достойных родов и толкнуть их на организацию заговора, одинаково трагического как для того, кто его своим поведением вызвал, так и для того, кто стал его инициатором. Джованни Лодовико Фиески граф ди Лаванья[192], представитель одной из самых древних и знаменитых семей Генуи[193], взирал с глубокой скорбью на рабство своей родины. Этот молодой синьор был горяч, честолюбив, предприимчив, отважен, страстно мечтал о славе и был вполне способен задумывать и осуществлять самые великие проекты. Но к этим качествам, которые одни уже вполне способны сформировать героя, присоединялись и такие, которые вызывали искреннее восхищение граждан республики — честность, обходительность, незлобивость, открытость и искренняя веселость. Расточительно щедрый, он держал стол всегда накрытым для любого нежданного гостя, предупреждал желания любого из своих друзей и умел завоевать расположение народа щедрыми подарками, а дружбу богатых — своей любезной обходительностью. Больше всех других пороков ненавидел он спесь, честно держал слово, выполняя любое обещание. Но что в особенности подчеркивало эти прекрасные качества, так это его внешность, необыкновенная, величественно-благородная, ясно отражающая и знатность происхождения, и внутренние достоинства души. Так как этот молодой синьор[194] даже надеяться не мог на какой-нибудь достойный пост в Республике, пока Дориа держали в своих руках всю полноту власти, он решил сокрушить могущество последних. Надо признать, что такие мысли внушали ему многие люди, надеявшиеся и для себя найти выгоду в гражданской войне, — в первую очередь французы, делавшие Фиески недвусмысленные предложения и обещавшие немалые деньги; во вторых, папа Павел III, ненавидевший АндреаДориа лютой ненавистью за то, что тот всемерно помогал усилению влияния императора Карла V в Италии в ущерб римскому трону. Молодой генуэзец, проездом побывав в Риме, встречался и вел беседы с кардиналом Агостино Тривульцио[195], который с большим искусством указал ему, каким образом можно будет легко возбудить ревность грандов и ненависть простого народа к Дориа, в особенности против Джаннеттино. Он с сочувствием и пониманием признал, сколь тяжело энергичному и отважному, с возвышенным сердцем жить в Республике, фактически заправляемой лишь кучкой алчных, властолюбивых и ничтожных олигархов, препятствующих возвышению любой незаурядной личности. Кардинал убедил Джованни Лодовико и обещал ему помощь со стороны Франции, и тот с восторгом принял предложение, сделанное ему, а также деньги и шесть галер его величества французского короля, а также двести человек гарнизона в городке Монтобио, корпус легкий кавалерии и 12 тыс. скудо жалованья для солдат. Самовластие и наглость Джаннеттино росли день ото дня. Он презирал всех и обращался с графом Фиески с такой надменностью, что тот решил не откладывать более своих планов восстания и мести. Прежде чем перейти к делу, он совещался с несколькими друзьями. Открыв им свои взгляды по поводу нынешнего положения дел в Республике, он заявил, что далее не намерен терпеть страдания города под властью одного рода и просил их высказать свое мнение. Винченцо Кальканьо ди Вареско, преданнейший друг и помощник рода Фиески, человек умный, но довольно нерешительный, позволил себе смелость говорить вполне откровенно: «Я первым аплодировал бы вам, если бы то, что вы предложили, можно было осуществить. Но планы, которые вы задумали, требуют от вас такого авторитета и влияния, которых вы, к сожалению, еще не достигли. Неужели вы полагаете, что найдется много желающих принять участие в деле, не сулящем никаких надежд на успех и от которого отступил даже король Франции? Может быть, вы готовы довериться большому числу ваших друзей? В таком случае знайте, что одни лишь личные интересы заставляют человека действовать, и большая часть тех, кто вас любит, в тысячу раз сильнее любит самих себя и страшится своей собственной гибели в гораздо большей степени, чем желает вам величия. В таком случае, откуда ожидаете вы подмоги? Может быть, от французов? Но сейчас они заняты тем, чтобы отстоять и защитить собственную страну от армии Империи и Испании. По правде сказать, генуэзцы сами подумывают о вас, но уверены ли вы, что они пожелают пожертвовать своим покоем ради ваших интересов? А ведь кроме этого на карту будет поставлена их жизнь. Разве вы не видите, что все ваши сограждане похожи на людей, погруженных в глубокий, почти летаргический сон, что самые отважные среди них не считают зазорным для себя отступать перед могуществом Дориа? Предоставьте времени решить все наши проблемы и не ищите средств, способных нам помочь, поскольку все они окажутся одно вреднее другого. Положитесь на провидение, которое одно распоряжается судьбами империй так, как ему заблагорассудится, и которого не избегнет и эта Республика. Почему не наслаждаетесь вы в мире и покое благами, дарованными вам от рождения? А если горите желанием завоевать славу, то и тогда иностранные государства охотно предоставят вам случай выказать свою отвагу. Не подвергайте опасности ваше доброе имя и отеческое достояние, ведь, восстав против Дориа, вы сами дадите им повод на ваших костях возвести памятник своей славы и величия. Но пусть даже удача будет не на их стороне, представим на мгновение, к каким последствиям поведет исполнение вашего плана: представьте себе, что семья Дориа уже перебита и перестала существовать, все ее сторонники в цепях, ваши враги в полном смятении и трепещут, а Генуя отдана произволу разъяренных солдат… Предвидите ли вы эти печальные последствия или слепо аплодируете своему успеху? Но что вы станете делать в опустошенном городе, который будет на вас взирать как на своего нового тирана, а вовсе не как на своего освободителя? Тогда где вы найдете твердую опору своей власти? Сможете ли основать ее на доверии непостоянного, переменчивого народа, который, возложив вам на голову корону, будет думать лишь о том, как бы ее похитить, потому что этот народ не сумеет ни долго наслаждаться свободой, ни длительное время переносить одного и того же правителя. Если же вы восстановите Республику при помощи иностранцев, если Генуя откроет вновь свои ворота войскам чужеземцев, будьте уверены, вас станут называть губителем своей страны и убийцей своих соотечественников. С другой стороны, не думаете ли вы, что те самые люди, которые сегодня демонстрируют вам такое рвение в ваших делах, первыми же в один прекрасный день и объявят вас своим угнетателем и врагом? А так как вы не сможете поровну распределить между всеми, оказавшими вам услуги и сослужившими службу, вашу благосклонность, те, которые посчитают себя обделенными, непременно станут вашими злейшими врагами. Мне хорошо известно, что честолюбие и любовь к власти имеют огромное влияние на людей вашего звания, возраста и достоинства, и они легко увлекают людей зрелищем почестей и славы, но, в то время как пылкая фантазия ваша будет вводить вас в заблуждение, здравый смысл должен уметь ей воспротивиться, указав на то, что негоже человеку разумному ценою возможной гибели уже имеющегося в его руках счастья, давать увлечь себя несбыточными мечтами, устремись в погоню за химерой. Кроме того, подумайте над тем, что справедливое и умеренное употребление честолюбия порождает и формирует самую высокую добродетель, в то время, как избыток честолюбия всегда приводит к самым печальным последствиям». Графа Фиески до глубины души взволновала эта речь, доводы, ему приведенные, были весьма основательны и внушали доверие к человеку, который их приводил. Некий генуэзец Веррина, человек незаурядного ума, обширных познаний, устремленный ко всему великому, решительный и заклятый враг нынешнего правительства, беззаветно преданный Джованни Лодовико, попросил слова и так отвечал на речь Кальканьи: «Тирания — высшее зло, которое может выпасть на долю любой республики. Положение, в котором оказалась наша, вызвало болезнь, которая помимо глубокого морального уныния и упадка, возбудила в умах и душах больных жгучее желание выздоровления. Вам подобает, граф, способствовать исполнению желаний народа, стонущего под беззаконной властью Дориа, исполнению надежд лучшей и здоровой части аристократии, которая тоже, но втайне, оплакивает участь родины. И пусть не говорят мне о вашей молодости как о непреодолимом препятствии в осуществлении таких славных планов. Когда же и свершать великие дела, как не в возрасте, когда самый жар крови рождает отвагу и тем способствует успешному завершению дела, в котором холодный расчет и трусливая осторожность лишь создают непреодолимые трудности и препятствия. Негоже, чтобы прекрасные качества, которыми наделила вас природа, угасли в плену пустых и бесплодных рассуждений холодного разума, в котором и остался всего лишь слабый отблеск былого огня, давно уже лишенный жара и силы. Сейчас самое время исполнить ваш замысел. Надменные угнетатели свободы узнают наконец значение этого слова, а Генуя обретет в вас отмсти-теля за их преступления, союзника могущественных королей и судью всей Италии. Может быть, вы боитесь имени «мятежник», «бунтарь», «заговорщик», «предатель»? Но все эти прозвища изобретены для того, чтобы устрашить душу народа и могут смущать тех, кто готов их нести ради деяний благородных и великих. Мелкие расчеты и великие замыслы никогда не сойдутся и не смогут ужиться друг с другом. То, что является высокой добродетелью у простого народа, едва ли окажется таковой у людей высокого звания. Каждое из сословий имеет свои добродетели. Малых уважают за скромность, великих за их честолюбие и отвагу. То, что вызывает осуждение в Катилине, превозносят в Цезаре. Достаточно посмотреть на государей, которые сегодня правят землями, и спросить у них, не были ли те, от кого получили они свои короны, узурпаторами. Но если ваша деликатность не позволяет вам согласиться с этой истиной, если любовь к родине в вашем сердце сильнее любви к славе, если у вас еще осталось хоть какое-то уважение к угасшей Республике, подумайте, как можете вы сохранить свою честь при виде того, как враги насмехаются над ней, втаптывая в грязь само ее священное имя. Сможет ли граф Джованни Лодовико Фиески спокойно наблюдать за тем, как Джаннеттино Дориа восходит на королевский трон, ему уже уготованный? Я сказал все. Единственная вещь, которую осталось мне добавить, заключается в том, что вам, на мой взгляд, нельзя пользоваться услугами французов. Связи с иноземцами всегда в высшей степени ненавистны. С другой стороны, Франция в настоящее время занята собственными делами, а если и найдет способ помочь, то только затем, чтобы вернее поработить нас впоследствии. Я уверен, что вы хорошо поняли все сказанное нами. Теперь очередь завами решать, хотите ли вы стать жертвой Дориа или освободителем своей родины». А Рафаэлло Сакко, один из трех приглашенных на совещание, видя, что речь эта соответствует намерениям молодого графа, добавил еще одно: если заговор — дело решенное, без помощи французов не обойтись, поскольку будет совершенно невозможно противостоять силам Империи, Испании и Италии, которые непременно объединятся против заговорщиков. Веррина возражал против этого, утверждая, что графу надо рассчитывать лишь на своих друзей и слуг, многим ему обязанных. И в самом деле, никто из его сторонников не обманул ожиданий, проявив завидную верность и осмотрительность — вещь, редкую в делах такого рода. Прядильщики шелка, рабочие ткацких мастерских, образовали в Генуе весьма многочисленную корпорацию, но постоянные войны Республики довели большую часть этих людей до крайней нищеты. Граф Фиески, хорошо зная положение, в котором они находятся, проявлял к несчастным огромное сочувствие и даже поселил в своем дворце самых нуждающихся. В изобилии снабжал он их деньгами, едой и просил не афишировать его услуги, поскольку не нуждается, как говорил он, в ином вознаграждении, кроме счастья помогать обездоленным. Свои подарки он сопровождал таким любезным обхождением (для него, впрочем, совершенно естественным), что многие из облагодетельствованных им до конца жизни сохранили о нем благодарную память. Так или иначе, но все эти люди готовы были ради него на что угодно. Хорошо зная это, он довольно часто заводил речь о нынешних делах, воскрешая в памяти собеседников былую свободу и сожалея о том, что гранды слишком заняты собственными делами и интересами. Граф прекрасно понимал, что нуждается в решительных людях. Он выехал из Генуи под предлогом посещения своих владений, а на самом деле для того, чтобы узнать, на кого из своих вассалов он может положиться, а также для того, чтобы приучить их к воинской дисциплине. Надо было также проверить, собирается ли выполнить свои обещания герцог города Пьяченцы, обещавший прислать 2 тыс. отборных солдат. На деньги, полученные от папы, были куплены четыре галеры, и для того, чтобы в нужный момент захватить порт Республики, он привел в Геную одну из этих галер под предлогом подготовки ее к отплытию в Левант. В то же самое время граф постарался ввести в город часть наемников из Пьяченцы. Одни из них должны были проникнуть в город под видом солдат генуэзского гарнизона, другие как свободные кондотьеры, пришедшие наниматься на службу. Многим пришлось на время принять вид каторжников и даже гребцов галерного флота. Таким образом, в самом скором времени под командованием Фиески в городе собралось не менее 10 тыс. человек, еще совершенно ничего не знавших об его истинных намерениях. Устроив дела таким образом, оставалось лишь назначить день и час выступления. Была выбрана ночь с 1 на 2 января 1547 года[196]. Граф велел в глубокой тайне принести в свой дом оружие и постоянно наблюдать за теми участками города, которые предстояло захватить в первую очередь. Сам Фиески, чтобы не вызывать никаких подозрений, в эти дни часто наносил визиты, и среди прочих даже во дворец Дориа. Там он встретил маленьких сыновей Джаннеттино, взял их на руки, ласкал и целовал в присутствии их отца. Вернувшись домой, он пригласил к себе на ужин тридцать дворян, повелев запереть двери и ворота своего дворца с позволением впускать в него всех, но до самого начала выступления не выпускать никого. Заметив, что многие из приглашенных им в высшей степени удивлены присутствием в доме неизвестных людей и солдат, он сам предложил всем перейти в один большой просторный зал и обратился к гостям с речью: «Нельзя упустить этот удобный момент, если мы хотим защитить нашу жизнь и свободу. Среди здесь присутствующих нет ни одного, кто бы не знал об опасности, нависшей над Республикой. Дориа восторжествуют над нашим терпением и скоро окончательно возведут свой трон на руинах Республики. У нас нет больше времени втихомолку оплакивать наше несчастье, надо рискнуть всем, чтобы избежать тирании. Поскольку зло сильно, и средства против него должны быть столь же сильны и решительны; и если страх попасть в постыдное рабство производит на вас хоть какое-нибудь впечатление, предупредите своими действиями и помешайте тем, кто готовит вам цепи. Каждый из нас, хорошенько подумав о положении дел в Республике, найдет множество причин отомстить за себя, причин законных и славных, ибо наша личная неприязнь или ненависть к роду Дориа неразрывно связана с мечтой об общественном благе, и мы не можем отбросить наших интересов, не предавая при этом и интересов родины. От вас теперь зависит дать государству отдых и покой. Я уже позаботился о том, чтобы облегчить вам путь к славе, обдумав и решив, как устранить препятствия, могущие на нем возникнуть; теперь очередь за вами, решайте, хотите ли вы следовать за мной. Вижу, что всех вас привели в некоторое замешательство и изумление меры, мною принятые, даже испуг читается на ваших лицах, но оружие и решимость (в сочетании с осторожностью) необходимы всем нам для достижения общих целей. Скажу больше, в таком деле должно нам употребить все, что в наших силах. Так что смятение ваше в конечном счете пойдет вам на пользу, обернувшись успехом и славой нашего великого дела. Я могу доказать письмами, находящимися у меня в руках, что император обещал верховную власть над Генуей Андреа Дориа, что Джаннеттино три раза подсылал людей отравить меня, что он отдал тайный приказ перебить весь мой род, как только умрет его дядя, но известия об этих гнусных преступлениях уже не смогут в еще большей степени усилить вашу ненависть к этим чудовищам. Кажется, я читаю в ваших глазах яростное желание совершить справедливую месть. Догадываюсь, что вы горите еще большим нетерпением, чем я, излить свое негодование, защитить свое состояние, покой и честь ваших семей. Идемте же, спасем репутацию Генуи, свободу родины, покажем сегодня всему миру, что есть еще и в этой Республике люди достойные и порядочные, сумеющие с корнем вырвать тиранию». Из всех собравшихся, с волнением слушавших эту речь, нашлось лишь двое, отказавшихся принять участие в заговоре. Граф не настаивал на их участии, но до развязки драмы велел их изолировать и тщательно охранять. Затем он отправился в покои своей жены Элеоноры Чибо (так звали графиню Фиески), которая совершенно ничего не знала о готовящемся выступлении. Элеонора была очень молода, прекрасна, нежно любила своего мужа. Только теперь поведал он ей тайну заговора, в нескольких словах пояснив, что должно будет произойти. Элеонора, залившись слезами, пала перед ним на колени и заклинала супруга всем самым дорогим и святым для него отказаться от столь опасного дела. Панса, старый учитель Джованни Лодовико, присоединил свои мольбы к мольбам графини, но Фиески, освободившись из их рук, сказал: «Сударыня, больше нет времени, и я либо умру, либо положу Геную к вашим ногам». Элеонора пала без чувств, а граф вернулся в зал для последних распоряжений. Наконец, выйдя из своего дворца в сопровождении верных ему людей, он отправил каждого на заранее намеченный пост. Когда был дан сигнал (а им служил орудийный залп), заговорщики приступили к исполнению полученных приказаний. Джаннеттино, разбуженный грохотом пушек и криками толпы, в спешке вскочил с ложа и в сопровождении всего лишь одного пажа, несшего в руке факел, бежал к одним из городских ворот. Заговорщики, узнавшие его, тотчас поразили беглеца доброй сотней смертельных ударов. Слуги Андреа Дориа, боясь за участь своего господина, помогли ему поскорее сесть на коня. Ему посчастливилось выбраться из города и укрыться в замке Мазона в пятнадцати милях от Генуи. Граф Фиески, расставив стражу в самых важных местах города, стремительно направился в порт. Но в тот момент, когда он поднимался на галеру, сходни под ним подломились, и он упал в воду. В этом месте, по правде сказать, было неглубоко, но так как здесь давно уже скопилась грязь и тина, несчастный Фиески, которого потянула ко дну тяжесть надетых на него доспехов и оружия, не смог быстро избавиться от них и утонул. Мрак ночи, грохот и шум, раздававшиеся со всех сторон, не позволили восставшим сразу хватиться пропавшего предводителя. Так, ничего и не зная о его судьбе, они успешно овладели портом и галерами. Заговорщики, численностью до двухсот человек, рассеялись по улицам, призывая народ к восстанию и крича: «Фиески и свобода! Фиески и свобода!» Горожане были в ужасном смятении. Аристократы хотели было спешить во дворец республики, но побоялись, как бы в их отсутствие их собственные дома и дворцы не были разграблены нежданно нагрянувшей чернью. Посол его императорского величества Карла V хотел бежать, но был вынужден по совету близких ему генуэзских грандов, направиться во дворец, где уже собрались некоторые отважные сенаторы. Самые храбрые из них даже сделали вылазку из дворца во главе отряда солдат, но, встретив заговорщиков, тотчас отступили. Тогда сенаторы решили прибегнуть к хитрости и послали нескольких депутатов из своего числа выяснить, что же стало причиной стольких беспорядков. Между тем, услышав о смерти графа Фиески, они воспрянули духом и отдали приказы гвардии и народу стать на их защиту. Пыл заговорщиков начал угасать, и многие даже покинули их ряды при первом же известии о трагической кончине главы. Восставшим обещали полное прощение, если они сложат оружие. Не приняв этого условия, Джироламо Фиески, брат Джованни Лодовико, удалился в Монтобио. Некоторые из главных заговорщиков перебрались во Францию, где их встретили бы гораздо лучше, сумей они с большей решимостью и успехом свершить свое дело. Тело несчастного графа Фиески было найдено только четыре дня спустя и по приказу Андреа Дориа брошено в море. Сам адмирал, оставивший Геную в страшной, непростительной мужественному человеку спешке и тревоге, после того, как все успокоилось, вернулся и, на следующий день явившись в Сенат, горячо убеждал собрание сурово покарать виновных, настаивая на том, что безнаказанность в такого рода делах нанесет величайший вред Республике. Акт о всеобщем прощении был отменен. Великолепный дворец графов Фиески[197] сровняли с землей, а всех братьев графа и его ближайших сторонников приговорили к смерти. Менее виновные были наказаны изгнанием, а графу Джироламо Фиески было приказано сдаться, передав крепость Монтобио Республике, но тот и не думал подчиняться. Тогда крепость осадили, и она сдалась только после долгой и кровопролитной осады. Джироламо, Веррина, Кальканья и Ассерето, ближайшие друзья и соратники Джованни Лодовико, были обезглавлены, а против Оттобуоно Фиески был издан декрет, запрещавший этому молодому синьору и всем потомкам его вплоть до пятого колена приближаться к городу Генуе. Оттобуоно бежал во Францию, чтобы не навлекать на уцелевших представителей своего рода новых несчастий. Восемь лет спустя он был пленен испанцами и передан Андреа Дориа. Тот велел тотчас безжалостно казнить несчастного Оттобуоно, виновного в его глазах уже одним тем, что носил гордое и славное имя своего рода. И даже после всех этих кровавых казней старый Дориа сохранил в Генуе прежние доверие, влияние и авторитет, которыми был обязан своим полководческим дарованиям, храбрости (впрочем, не проявленной им во время восстания), подвигам и славе человека, восстановившего на родине «свободу».
ГЛАВА 18
ЗАГОВОР СИЦИЛИЙЦЕВ ПРОТИВ ФРАНЦУЗОВ,
ИЛИ СИЦИЛИЙСКАЯ ВЕЧЕРНЯ


Место действия — Палермо. Время действия — 31 марта 1282 года
Карл I Анжуйский[198], добившись короны Сицилийского королевства, не выказал на троне тех способностей, которые необходимы, чтобы его удержать. Один современный историк[199] представляет его нам как умеренного, уравновешенного, серьезного, отважного и либерального государя, любящего и покровительствующего искусствам и наукам, так что, кажется, он легко заслужил бы титул великого, если бы эти его столь блестящие качества не перевешивали и омрачали другие — гневливость, ненасытная жажда приобретений и завоеваний, смешанные ни с чем не сравнимой склонностью мстить за малейшую обиду, и, наконец, суровость, которая постепенно переросла в крайнюю жестокость. Более умелый и опытный в делах войны, чем мирного правления, Карл Анжуйский умел покорять, но не умел управлять. Чтобы завоевать расположение солдат и военачальников своей армии, он все им позволял, всегда оставлял безнаказанными, и даже осыпал всяческими почестями. Слишком уверенный в своем могуществе, опьяненный счастливыми успехами, он даже после поражений считал себя победителем и выходил живым и невредимым из любых несчастий. Однако, в одинаковой мере восприимчивый к хорошим и дурным советам, он был неспособен проявить решительность в трудных обстоятельствах. Этому государю были совершенно неведомы столь необходимые для управления государством пути и методы мягкие и вкрадчивые, надежнее других завоевывающие любовь народа и приводящие его к повиновению; Карл не умел проникать в замыслы своих врагов и расстраивать их. Почти всё в годы его правления делалось с применением силы, буквально на острие меча, остальное выпадало на долю случая. Безмерно преданный французам, всюду следовавшим за ними, именно из них избирал он своих военачальников и министров, по большей части совершенно неспособных и недостойных своих постов, пренебрегая своими новыми подданными, постепенно становящимися его врагами. Эти предварительные замечания позволят лучше понять причины того ужасного события, о котором я намерен сейчас рассказать читателям. Карл Анжуйский, утвердившись на троне, с самого начала решил увеличить спои доходы, которых никогда не хватало на его необычайные военные нужды. Он ввел новые, чрезвычайные, налоги, которые легли тяжким бременем на плечи народа. Кроме того, число чиновников резко возросло, и каждый из них угнетал народ своей алчностью и жестокосердием. К несчастью, Карл слушал лишь недостойных льстецов, которые отравляли душу государя своими советами, прокладывая дорогу тирании. Недоступный для всего остального мира, новый король не мог слышать жалоб своих подданных, если же они и доходили до него, то, казалось, совсем не трогали его сердца. Папа Клемент IV не раз корил его за бесчеловечное поведение. «Если вы прячетесь от своих подданных, — писал он ему, — закрывая к себе всякий доступ, как вам завоевать их души, склонить их на свою сторону? Вы думаете, что даруете им законы, так нет же, вы подвергаете насилию собственный народ. Но знайте, несчастен тот государь, которому не доверяют подданные, находящиеся всегда настороже, в ожидании от него новых бед!» Эти мудрые советы не возымели никакого действия. Зло не утихало, и дело постепенно шло к восстанию. Сицилийцы надеялись найти избавление от всех зол в смене государя и предприняли попытку возложить корону на голову Конрадина. Он был сыном того Конрада[200], который умер в 1254 году, правив Сицилией около четырех лет. Споры, которые вели эти государи с папой, привели к гибели их династии. Конрадину было от роду два года, когда умер его отец. Поскольку тогда сам он был не в состоянии защищать корону и трон, на который претендовали римские папы, Манфред[201] под предлогом защиты интересов своего племянника с оружием в руках вступил на землю Сицилии и завоевал остров. Он был коронован в Палермо 11 августа 1258 года. Урбан IV, считавший его узурпатором, наложил запрет на коронацию и, обвиняя Манфреда в тяжких преступлениях против Церкви, Бога и международного права, с согласия сицилийских грандов провозгласил графа Анжуйского королем Сицилии с условием, что он освободит церковь от тирана и изгонит его с острова. Француз принял эти условия и в годы правления папы Клемента IV овладел короной Сицилии. Против Манфреда был объявлен крестовый поход. В битве его войска были разгромлены, и два дня спустя после сражения труп Манфреда был найден среди тел его воинов. Некоторые историки рисуют его самыми черными красками, но достоверно известно, что он вполне заслуживал власти и умел управлять и его с полным правом можно было обвинить лишь в одном преступлении — насильственной узурпации власти. Из этого очень краткого рассказа видно, каковы были претензии Конрадина на корону, и в то время, когда сицилийцы вновь обратили на него свои взоры, принцу шел уже шестнадцатый год и он жил при дворе Отона[202], герцога Баварского, своего дяди по матери. Некоторые сторонники Манфреда, изгнанные из Сицилийского королевства, прибыли в Германию и уведомили Конрадина о том, что наступило время доказать справедливость своих притязаний. Большая часть городов Италии предоставила ему помощь и живо встала на его сторону. Конрадин повсюду действовал с большим успехом и одержал немало побед, но вскоре фортуна перестала ему благоволить. Он был разбит и попал в плен к своим непримиримым врагам. Все его сторонники, взятые в плен, погибли на виселице. Но жестокость не могла напугать сицилийских грандов и ослабить их тягу к восстанию. Сицилийские синьоры укреплялись в своих замках, так что посланные их покорять вынуждены были повсюду сеять смерть и опустошение, срывая укрепления восставших до основания и истребляя сельское население. Карл, убежденный в том, что лишь жестокость в состоянии удержать в повиновении народ, обращался со своими подданными крайне бесчеловечно. После стольких кровавых казней спокойствие не воцарилось. Теперь он боялся даже имени Конрадина, ведь оно одно могло вновь зажечь угасшее было пламя. Карл Анжуйский отдал приказ его и Фридриха Австрийского[203] предать суду. Оба были приговорены к смерти. После прочтения приговора их отвели в часовню, затянутую черным крепом, и отслужили панихиду за упокой души. Им позволили исповедаться и причаститься, потом вывели на рыночную площадь города Неаполя (ибо неподалеку от этого города они были пленены и в нем томились в тюрьме), посередине которой возвышался эшафот, покрытый алым бархатом. Король пожелал присутствовать при казни. Конрадин, обратив взгляд к толпе, громко произнес, что не имел намерений узурпировать сицилийскую корону, но лишь стремился вернуть то, что принадлежало ему по божественному праву. «Я надеюсь, — добавил он, — что все государи Баварского дома, вся Германия отомстит за мою смерть». Своим наследником он назвал Педро, короля Арагонского[204], и одновременно бросил толпе свою перчатку в знак сложения с себя полномочий и передачи их своему преемнику[205]. Первому отрубили голову Фридриху. Конрадин, оплакав друга, вторым встал на колени и получил смертельный удар, положивший конец его короткой, но бурной жизни в возрасте семнадцати лет. Он был последним государем из знаменитого рода Штауфенов, герцогов Швабских, который правил Священной Римской империей германского народа в течение целого века, а королевством Сицилией в течение семидесяти шести лет. Смерть этих двух государей не была последней, за ней последовали другие казни, и Карл Анжуйский пролил еще много крови, прежде чем насытил ею свою ненависть. Елизавета Баварская, мать Конрадина, прибыла в Неаполь через несколько дней после его смерти. Она везла из Германии большую сумму денег для выкупа сына, о трагической кончине которого узнала в пути. В глубокой печали на корабле под черными траурными парусами прибыла она в неаполитанский порт и ступила на землю Италии. При посредничестве архиепископа Неаполитанского она умоляла позволить ей поставить на месте его казни мраморный памятник, но король Карл отказал, полагая, что такой памятник мог бы одним фактом своего существования возбуждать немцев к мести. Ей позволили лишь перенести тело Конрадина в церковь неаполитанских кармелитов для отпевания[206]. Карл Анжуйский день ото дня становился все ненавистнее, и сицилийцы готовились избавиться от владычества тирана. Первым, кому пришел в голову этот дерзкий план, был синьор Джованни ди Прбчида, человек активный, решительный, скрытный, многоопытный в делах всякого рода, к тому же редкой осторожности, способный на исполнение любого самого дерзкого предприятия. Фридрих II и Манфред, хорошо знавшие его достоинства, всегда дарили его своим доверием и поручали выполнение самых ответственных заданий. Карл же совсем им не интересовался и на собственном опыте убедился, как опасно раздражать подданного, чьи способности могут однажды стать пагубными для всего государства. Король Сицилии готовился вернуть константинопольский трон своему зятю Филиппу[207]. Синьор Прбчида, осведомленный о замыслах своего государя, тайно встретился с Михаилом Палеологом, сообщив тому о готовящемся нападении. Также он обещал ему помощь на Сицилии и союз с доном Педро, королем Арагонским. Император последовал советам синьора Прочиды, дал ему письма к дону Педро и сицилийским синьорам и направил на Сицилию своих послов под предлогом заключения союза с Карлом Анжуйским, а на самом деле — для изучения настроений тамошнего народа. Они оказались именно такими, на какие и рассчитывал Палеолог. Недовольство сицилийцев было всеобщим. Все на острове делалось посредством насилия: силой собирались даже налоги и подати, потому что никто их не хотел платить. Чиновники короля, почти сплошь французы, совершенно обнаглели и уже не довольствовались исполнением приказов своего государя, а охотно и часто измышляли свои собственные, выдавая их за указы короля. Поскольку сицилийским грандам было запрещено вступать в брак без разрешения государя, часто злоупотребляли французские чиновники, требуя денег за право преимущественного ходатайства перед королем. Те же, кто отказывался подчиниться воле государя, наказывались изгнанием или тюрьмой. Галантность французов довела сицилийцев, гордых, ревнивых и мстительных от рождения, до крайнего возмущения. Но прежде чем восстать, они попытались лично принести королю свои жалобы, ибо не могли поверить, что он знает о том, что им приходится терпеть. Они воображали, что, узнав об их горестном положении, король сумеет избавить их от бед. Уверовав в это, они полагали, что достаточно будет пробиться к его трону, чтобы навсегда избавиться от всех несчастий, но Карл отказался их выслушать и с угрозами велел удалиться. Не оставалось ничего другого, кроме надежды на помощь папы Николая III. К нему были направлены епископ и монах, добившиеся аудиенции и обстоятельно рассказавшие об угнетении сицилийцев и заклинавшие папу помешать королю совершать подобные беззакония в дальнейшем. Люди Карла Анжуйского набросились на депутатов по выходе тех из дворца папы. Монаха связали и бросили в тюрьму, прелат с трудом откупился, сообщив своим соотечественникам об «успехе» путешествия. Вскоре стало известно, что король так разгневан на сицилийцев, что грозится идти на их родину с огнем и мечом, обещая залить ее кровью[208]. В таком положении пребывали дела, когда синьор Джованни Прбчида вернулся из Греции. Он обо всем рассказал своим друзьям, и те дали ему письма к королю Арагона, в которых молили того избавить их от рабства, обещая в благодарность признать его своим сувереном. Синьор Прбчида, переодевшись монахом, прибыл в Рим и передал папе о настроениях сицилийской знати и договор, заключенный им с Михаилом Палеологом. Великий понтифик, ненавидевший Карла Анжуйского и к тому же охотно принявший дары императора Византии, согласился тоже написать королю Арагона, обещая ему королевство Сицилийское в том случае, если он его завоюет. Вскоре стало известно, что король Арагона принял предложение и обещал приступить к исполнению благого дела. Смерть Николая III, случившаяся чуть позже, едва не расстроила все планы. Карл Анжуйский с радостью узнал об этом, новый папа, как он надеялся, мог с гораздо большим благоволением отнестись к его давней мечте — возвращению Константинополя под власть его династии. Удовлетворение его было полным. Высший пост в римской церкви достался кардиналу Симону, ставшему папой под именем Мартина IV, который прежде, будучи папским легатом во Франции, способствовал воцарению Карла Анжуйского на сицилийском престоле. Для француза все складывалось превосходно. Король Арагона был в нерешительности, но синьор Прбчида, вновь совершив плавание в Константинополь, оттуда вместе с послами Палеолога направился морем в Каталонию, одну из испанских провинций, и там встретился с Арагонцем. От имени Михаила Палеолога тому была вручена большая сумма денег[209] для снаряжения флота и войска, которые должны были бы помочь сицилийской знати свергнуть иго Анжуйской династии. А чтобы ему было ясно, что дело предстоит серьезное, но правое и требующее благородной отваги, королю сказали: «Должно быть, вы забыли о тяжких оскорблениях, которые нанесли французы вашему дому. Разве не они лишили жизни вашего сиятельного предка Педро Арагонского, нашедшего смерть от их рук в битве при Мурете? Да, по правде сказать, смерть его была славной, потому что он пал с оружием в руках. Но разве кровь Конрадина, пролитая презренным палачом, не взывает вас к мести? Но даже если вам безразличны смертельные оскорбления, нанесенные вашему дому, должны ли вы отказаться от прав своей жены? Трон Сицилии принадлежит ей, и от вас зависит воссоединение его с вашим троном. Все сицилийцы настроены в вашу пользу и очень в вас верят, они стонут под игом тирании и надеются обрести именно в вас своего освободителя. Не обманите же их ожиданий». Речь эта произвела решающее впечатление на Педро Арагонского, и он решил довести до конца замысел, от которого, прежде чуть не отказался. Клятвенно заверив союзников в своей поддержке, он снарядил флот и объявил, что готовит его для войны с сарацинами. В то время, как вел он свои приготовления, король Франции Филипп Отважный[210] послал к нему спросить, в какую же из арабских стран намерен он направиться, и предлагал свою помощь и деньги. Арагонец, не открыв ему правды, принял предложение своего шурина[211], и Филипп, смущенный такой великой скрытностью, просил короля Сицилии быть настороже, но Карл, слишком уверенный в собственной отваге и могуществе, не придал особого значения словам французского короля и приготовлениям арагонцев. Между тем Джованни ди Прбчида, в одежде монаха путешествуя по Сицилии, всюду готовил своих сторонников к общему выступлению. Заговорщики собрались в Палермо на праздник Пасхи, который в этом году выпадал на 29 марта, и случилось так, что именно накануне этого дня один из французов изнасиловал местную женщину. Узнав об этом, сицилийцы взялись за оружие. Французские солдаты поддержали своего соотечественника. И повод этот стал началом знаменитой резни, получившей название «Сицилийской вечерни», поскольку сигналом к ее началу послужил звон колоколов, призывающих людей по всему острову на вечернюю молитву. Именно с этого момента и началось всеобщее истребление французов: их убивали без различия звания, пола и возраста, больше не было почтения ни к родственным, ни к дружеским узам. Жестокость дошла до того, что беременным французским женщинам вспарывали животы, чтобы не оставить на Сицилии и следа этой ненавистной нации. Все дышало ненавистью и местью. И все-таки был пощажен и избежал смерти некий провансалец, Гильем де Порселет, правитель небольшого города Калафатимы, известный в этом городе своей скромностью, добротой и справедливостью. С почестями был он отправлен на родину, оказавшись единственным из 8 тыс. французов и француженок, кто оказался достоин такой чести, — все остальные были умерщвлены самым различным образом. Кровавая трагедия произошла не только в Палермо, все остальные города острова следовали примеру столицы и с удовольствием проливали кровь французов. Довольно долго Карл ничего не знал о происшедшей трагедии: с острова не поступало никаких вестей. Трудно представить себе чувства, переполнившие душу этого необузданного человека, когда стало ясно, что на острове произошла ужасная драма. Был срочно снаряжен флот, который предназначался для похода на Константинополь, а теперь, выйдя в открытое море, взял курс на Мессину и блокировал ее порт. Жители города, хорошо представляя степень угрожающей им опасности и боясь не устоять, просили помощи у папского легата, умоляя любыми средствами примирить их с королем. Но Карла еще больше разгневало то, что его подданные смеют торговаться и выставлять какие-то условия своему господину. Он прямо заявил, что лишает их всякой надежды на примирение, так что мессинцам оставалось готовиться к мужественному отпору. Король держал военный совет, решая, следует ли, не щадя, уничтожать город осадой и штурмом, рискуя обратить его в пепел, или дать его жителям несколько дней покоя, чтобы вынудить их самих вывесить белый флаг и принять все его условия. Некоторые советники короля призывали его к мести. «Сир, — говорили они, — неужели вы позабыли о злодеяниях сицилийцев? Ваша слава требует смыть кровью преступников память об ужасном преступлении, совершенном ими против французского народа. Вот единственная причина вашего похода, не забывайте же о ней под влиянием иных обстоятельств и соображений. Воспользуемся ужасом, который обуял мессинцев при виде вашего войска. Если мы будем медлить, они успокоятся и приготовятся к осаде». Более умеренные военачальники, безусловно стремившиеся к победе, но желавшие сохранить жизнь своих солдат, добивавшиеся цели менее дорогой ценой, возобладали. «Не найдется, — убеждали они, — ни одного мессинца, который не пожелал бы скорее пасть с оружием в руках, чем видеть, как будут грабить его дом, заковывать в цепи детей и насиловать его жену. Конечно, они будут насмерть сражаться против яростного и беспощадного врага. И сколько тогда храбрых солдат мы потеряем при взятии города? И даже когда возьмем его, сможем ли мы сами радоваться собственной победе? Разрушенные и обезображенные огнем стены домов, горы трупов, реки крови на улицах, город, обращенный в пустыню, — вот ужасное зрелище, которое будет представлять нашим глазам Мессина. С другой стороны, если судьба станет благоволить мятежникам и мы потерпим поражение, нам не только придется оплакивать потери, но и краснеть за наше поражение». Карл колебался, считая такое предложение неуместным. Он был уверен, что времени терять нельзя и следует как можно скорее и решительнее покончить с Мессиной — за ней стояла вся Сицилия. Но самым удивительным было то, что, всегда и во всем слушаясь своего чувства, повинуясь лишь своему настроению, он не отважился или не смог настоять на этот раз на своей точке зрения. Мнение умеренных возобладало, началась длительная осада города. Поэтому у восставших было время укрепить город и спокойно ожидать помощи из Арагона. Тем временем король Педро прибыл в Палермо, жители которого встретили его как освободителя. Он написал Карлу и гордо повелел ему удалиться из Сицилии, в противном случае угрожая силой вытеснить его с острова. Карл отвечал ему в том же духе, а позже, принужденный все-таки снять блокаду с Мессины, послал дону Педро письмо, полное самых грубых оскорблений, до которых никогда не следовало бы опускаться монарху. Но обвинения и угрозы Карла Анжуйского нисколько не смутили арагонского короля. Честолюбивый, твердый в исполнении принятых решений, деятельный и осторожный, спокойный и уверенный в себе как во время успехов, так и во время поражений и неудач, он умел, нисколько не стесняясь в выборе средств, всегда достигать намеченной цели. Кроме этого ему помогали опытные и даровитые полководцы[212], которые каждый день добивались для короля новых и новых успехов, укрепляя его власть в новых владениях. Папа, не желавший отдавать сицилийский трон столь могущественному монарху, пытался остановить его угрозами отлучения от церкви. Но король Арагона лишь смеялся над громами и молниями Ватикана, гораздо больше опасаясь войск Франции, Тосканы и Ломбардии, посланных на подмогу его сопернику. Если бы Карл сумел извлечь для себя пользу из этой помощи, возможно, ему не составило бы труда вернуть себе сицилийскую корону, но он угодил в ловушку, устроенную арагонцем. Тот, опасаясь, что не сможет долго держаться против мощных сил объединенной коалиции, предложил Карлу прекратить распри, решив дело рыцарским турниром, в котором должны были биться по сто рыцарей с каждой стороны, включая и двух королей. Карл, в гораздо большей степени отважный, чем осторожный, посчитал, что будет обесчещен, если откажется от предложения. Он принял вызов и выбрал местом сражения город Бордо во Франции, в то время принадлежавший королю Англии. В назначенный день Карл прибыл на место необычайной дуэли, однако противник его не появился. В планы короля Арагона вовсе не входило присутствие на турнире. Дон Педровсего лишь хотел удалить Карла из Италии и тем помешать ему воспользоваться помощью, спешащей к тому из Франции. Признаем, подобное поведение не делает ему чести, более того, оно пятном легло на его репутацию в глазах всех королей Европы, но он сумел извлечь из него пользу, потому что остался хозяином уже захваченного им трона. Конечно, чтобы вернуть утраченное, Карл предпринимал отчаянные, но безуспешные усилия, но смерть застигла его врасплох во время одного из походов, позволив оставить своим потомкам всего лишь часть своего обширного наследства — королевство Неаполитанское — и одни лишь претензии на все остальное. Суровость его правления лишила его Сицилии и вызвала восстание, трагически закончившееся для всех обитавших на острове французов.
INFO
Грациози Антонио. Г 72 Великие заговоры/ Перевод с итальянского. — Ростов н/Д.: «Феникс», 1998. — 480 с.
ISBN 5-222-00695-6 ББК 63.3(03)
Антонио Грациози Великие заговоры
Ответственный редактор Э. А. Юсупянц Обложки О. Царев Художественное оформление Е. Коробковой Корректоры: В. Югобашьян, Г. Бибикова
Лицензия ЛР № 065194 от 2 июня 1997.
Сдано в набор 01.09.98. Подписано в печать 27.10.98. Формат 84x108 1/32. Бумага офсетная. Гарнитура «School». Усл. печ. л. 25,2 Тираж 10 000 эка. Заказ № 3161.
Издательство «Феникс» 344007, г. Ростов на Дону, пер. Соборный, 17
Отпечатано с готовых диапозитивов в ГУИНН «Курск». 306007, г. Курск, ул Энгельса, 109.
…………………..
FB2 — mefysto, 2022
Текст на задней обложке
Александр Македонский, императоры Август и Тиберий, царь Ирод и царь Петр I и, целый ряд других исторических личностей, некогда существовавших в разных временных и территориальных пределах Земли оказались вдруг по воле известного писателя Антонио Грациози в одной когорте героев интереснейшей и уникальной книги. Что. же объединило в этой книге сильных мира сего? Все они стали жертвами самых жестоких и вероломных заговоров. Зависть, месть, болезненное самолюбие и тщеславие — вот корни любого заговора, восстания, попытки рассчитаться со своим обидчиком. Заговор — это всегда противоборство, столкновение сильных характеров, чувств, убеждений. Книга читается на одном дыхании, настолько захватывающие и невероятные события разворачиваются с первых же ее страниц.


Последние комментарии
4 часов 7 минут назад
4 часов 10 минут назад
2 дней 10 часов назад
2 дней 14 часов назад
2 дней 16 часов назад
2 дней 17 часов назад