Ирано-таджикская поэзия [Омар Хайям] (fb2) читать онлайн
- Ирано-таджикская поэзия (пер. Аделина Ефимовна Адалис, ...) (а.с. Антология поэзии -1974) (и.с. Библиотека всемирной литературы-21) 3.2 Мб, 395с. скачать: (fb2) - (исправленную) читать: (полностью) - (постранично) - Омар Хайям - Абдуррахман Джами - Шамсиддин Мухаммад Хафиз - Абульхасан Рудаки - Джалаладдин Руми
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Ирано-таджикская поэзия
Вступительная статья, составление и примечания И. БрагинскогоПОЭЗИЯ МИРОВОГО ЗВУЧАНИЯ
Едва ли в кругу современных образованных читателей найдутся такие, которым не были бы знакомы имена Фирдоуси, Саади и Хафиза. Их поэзией не переставали восхищаться великие писатели мира. Н. Г. Чернышевский, выявляя причину бессмертия «Шах-наме», писал, что «главная сила и Мильтона, и Шекспира, и Боккаччо, и Данте, и Фирдоуси, и всех других первостепенных поэтов» состоит в том, что истоком их поэзии является народное творчество. В знаменитой строке «как Сади некогда сказал» запечатлел свое отношение к восточной мудрости далекого, но близкого ему по мироощущению предшественника, А. С. Пушкин. Гёте принадлежат знаменательные слова о Хафизе, ставшие широко известными в России благодаря переводу А. Фета:Девой слово назовем,
Новобрачным — дух:
С этим браком тот знаком,
Кто Гафизу друг.
Катясь, катясь, докатится до лунки он.
Поцелуй любви желанный — он с водой соленой схож:
Тем сильнее жаждешь влаги, чем неистовее пьешь.
Пришла… «Кто?» — «Милая». — «Когда?» — «Предутренней зарей».
Спасалась от врага… «Кто враг?» — «Ее отец родной».
И трижды я поцеловал… «Кого?» — «Уста ее».
«Уста?» — «Нет». — «Что ж?» — «Рубин». — «Какой?» —
«Багрово-огневой».
Все племя Адамово — тело одно,
Из праха единого сотворено.
Коль тела одна только ранена часть,
То телу всему в трепетание впасть.
Над горем людским ты не плакал вовек, —
Так скажут ли люди, что ты человек?
Царь справедливый — пусть не чтит Корана, —
Он выше богомольного тирана.
* * *
Если сопоставить творческие достижения классической поэзии на фарси с древнеиранской традицией, то станут очевидными как их преемственность, так и новаторский характер классики, ставшей, в свою очередь, традицией для последующих литературных поколений. Идея справедливого царя разрабатывалась почти всеми великими поэтами — от Рудаки до Джами, причем в более близком к народным массам понимании, будучи связана с темой социальных конфликтов; антидеспотическая тема, ярко выраженная в классической поэзии в своеобразном противопоставлении «поэт и царь», «царь и нищий» у Фирдоуси и Хафиза, была характерна для суфийской поэзии; социальная утопия нашла свое развитие у Фирдоуси, Ибн Сины, Фахриддина Гургани и особенно у Низами и Джами. Концепция человека в классической поэзии являет собой принципиально новую ступень развития в осмыслении достоинств а и самоценности личности. Вместе с тем классика сохранила и синтезировала образы героя-богатыря и человека-брата, разработанные в предшествующую литературную эпоху. Тема борьбы Света с Тьмой и Добра со Злом, лишившись своего первобытного примитивизма, стала содержанием всей этической системы классиков (у Низами, Ибн Ямина, Хафиза, Джами и др.). Тема похвалы разуму, не только в прямой форме, выражена была и у Рудаки и у Фирдоуси, но выросла в стройную идеологию рационализма, концепцию «власти разума», пронизывающую поэзию таких корифеев, как Ибн Сина, Хайям, Саади и др. Наряду с ней классики выдвинули универсально-философскую идею Любви как движущей силы общественного развития, концепцию «власти сердца» (Низами, Руми, Хафиз, Камол и Джами). Тема порицания приверженцев Зла и Лжи выросла и поднялась до высот социальной сатиры (Закани) и лирики социального протеста (Ибн Ямин, Хафиз и др.). Большое место в классике заняла тема высокой миссии и неограниченных потенций самой поэзии, тема вдохновенно изреченного слова и роли поэта-пророка (наиболее выразительно у Низами). То, что в античной традиции проявилось лишь в зародыше, приняло в классической поэзии развернутую форму. Это относится не только к идейно-тематическому содержанию, но и ко всем элементам художественной формы. Многие сюжеты и ведущие образы отлились в такие выдающиеся сочинения, как «Шах-наме» Фирдоуси, «Вис и Рамин» Гургани, рубаи Хайяма, «Маснави» Руми, «Гулистан» Саади, газели Хафиза и др. В поэзии определились два русла — реалистическое и романтическое, тесно переплетающиеся между собой. Полностью оформилось авторское индивидуальное творчество, которое в древности существовало лишь в зачатке. Стихотворение постепенно отделилось от песни: философские касыды уже были рассчитаны, видимо, не только на устное исполнение, но и на индивидуальное чтение. Все большие права приобретали вымышленный герой, персонажи, вводимые автором в свои произведения не только по традиции (Рустам, Искандар, Лейли и Меджнун и др.), но и согласно творческому замыслу. Особого развития и совершенства достигла поэтика, также сохранившая элементы античности. Сложилась «эстетика огромного» (например, героическое маснави типа «Шах-наме») и «эстетика малого» (не только рубаи, но самостоятельное двустишие, даже однострочие — «фард»). Поэтика вместе с тем канонизировалась, была разработана строгая системы по трем разделам: «аруз» — метрика; «кафийа» — рифма, «бади» — поэтические тропы и фигуры.* * *
При историко-типологическом сопоставлении классической поэзии на фарси с мировой становится очевидным, что классическая поэзия на фарси, развивавшаяся в течение шести столетий (X–XV вв.), — это не что иное, как поэзия иранского Ренессанса. Она вобрала в себя и своеобразно переработала художественные достижения иранской античной традиции, сложившиеся в ней поэтическое выражение идеи человеколюбия. Эпоха, когда формировалась классическая поэзия, была временем поступательного развития феодализма в Иране и Средней Азии, несмотря на разрушительные последствия различных завоеваний, особенно нашествия монгольских ханов. В этих условиях росли средневековые города, в которых возникали предпосылки нового уклада, не сумевшего, однако, развиться в систему буржуазных отношений из-за замедленности экономического развития. Ведущая роль в экономике X–XV веков государственной феодальной земельной собственности, этой основы относительно централизованного государственного управления, и рост городской культуры способствовали формированию своеобразного слоя интеллигенции, жившего преимущественно умственным трудом и создавшего классическую литературу. Литература иранского Ренессанса представляет по существу часть мирового литературного процесса, начавшегося на Дальнем Востоке в VII–VIII веках и достигшего своей вершины в западноевропейском Ренессансе — вплоть до XVII века. Классическая иранская поэзия в ее лучших образцах отличалась, как и все литературы Ренессанса, философичностью, вольнодумством, антиклерикальной направленностью. Конечно, эта поэзия никогда не представляла собой единого потока. В ней, как и во всех литературах мира, происходила непрекращавшаяся борьба двух тенденций — передовой, народной и феодально-аристократической, иногда — даже в творчестве одного и того же поэта. Но ведущая тенденция всегда художественно воплощала дальнейшую ступень развития гуманистической мысли. Основная идея — осознание человеческого достоинства; центральный образ — свободная, автономная человеческая личность. Большую роль в развитии классики, бесспорно, сыграла арабская поэзия. Она обогащала своим опытом иранскую литературу, но иранский Ренессанс, как и мировой, включал в себя возрождение, то есть не простое повторение, а именно возрождение родной античности, усиленное такими явлениями, как литературный синтез (Низами, Хафиз, Джами). При этом сила и размах этого возрождения были столь велики, что больше всего бросается в глаза самостоятельный, новаторский характер классики, ее способность чутко отзываться на современную ей действительность, отточенность художественной формы и глубина гуманистической сущности. Это обусловило превращение классики в одухотворяющую традицию для последующих веков и живучесть созданных поэтических ценностей. Классическая ирано-таджикская поэзия уже давно вошла в общечеловеческое художественное творчество, во всемирную литературу. Она продолжает каждый раз по-новому, в каждую эпоху своеобразными путями внедряться во всемирные поэтические владения человечества. Новая эпоха в истории человечества, начавшаяся с Великой Октябрьской социалистической революции, еще глубже воспринимает гуманистическую культуру классической ирано-таджикской поэзии. В том, что старинная поэзия была по-новому прочитана, она обязана прежде всего именно таджикскому народу, воскрешенному революцией и создавшему свою социалистическую республику, в которой зазвучал язык фарси, развившийся здесь влитературный таджикский язык. Что в наибольшей мере роднит нас, людей социалистической эпохи, с великими поэтами, отдаленными от нас пятью веками и более? Идея гуманизма, художественное изображение человеческой личности во всех ее проявлениях и воспроизведение ее всеми цветами неповторимо богатой поэтической палитры.И. Брагинский
РУДАКИ{1}
КАСЫДЫ[4]
СТИХИ О СТАРОСТИ[5]
Все зубы выпали мои, и понял я впервые,
Что были прежде у меня светильники живые.
То были слитки серебра, и перлы, и кораллы,
То были звезды на заре и капли дождевые.
Все зубы выпали мои. Откуда же злосчастье?
Быть может, мне нанес Кейван удары роковые?
О нет, не виноват Кейван. А кто? Тебе отвечу:
То сделал бог, и таковы законы вековые.
Так мир устроен, чей удел — вращенье и круженье,
Подвижно время, как родник, как струи водяные.
Что ныне снадобьем слывет, то завтра станет ядом.
И что ж? Лекарством этот яд опять сочтут больные.
Ты видишь: время старит все, что нам казалось новым,
Но время также молодит деяния былые.
Да, превратились цветники в безлюдные пустыни,
Но и пустыни расцвели, как цветники густые.
Ты знаешь ли, моя любовь, чьи кудри словно мускус,
О том, каким твой пленник был во времена иные?
Теперь его чаруешь ты прелестными кудрями, —
Ты кудри видела его в те годы молодые?
Прошли те дни, когда, как шелк, упруги были щеки,
Прошли, исчезли эти дни и кудри смоляные.
Прошли те дни, когда он был, как гость желанный, дорог;
Он, видно, слишком дорог был — взамен пришли другие.
Толпа красавиц на него смотрела с изумленьем,
И самого его влекли их чары колдовские.
Прошли те дни, когда он был беспечен, весел, счастлив.
Он радости большие знал, печали — небольшие.
Деньгами всюду он сорил, тюрчанке с нежной грудью
Он в этом городе дарил динары золотые.
Желали насладиться с ним прекрасные рабыни,
Спешили крадучись к нему тайком в часы ночные.
Затем что опасались днем являться на свиданье:
Хозяева страшили их, темницы городские!
Что было трудным для других, легко мне доставалось:
Прелестный лик, и стройный стан, и вина дорогие.
Я сердце превратил свое в сокровищницу песен,
Моя печать, мое тавро — мои стихи простые.
Я сердце превратил свое в ристалище веселья,
Не знал я, что такое грусть, томления пустые.
Я в мягкий шелк преображал горячими стихами
Окаменевшие сердца, холодные и злые.
Мой слух всегда был обращен к великим словотворцам,
Мой взор красавицы влекли, шалуньи озорные.
Забот не знал я о жене, о детях, о семействе,
Я вольно жил, я не слыхал про тяготы такие.
О, если б, Мадж, в числе повес меня б тогда ты видел,
А не теперь, когда я стар и дни пришли плохие,
О, если б видел, слышал ты, как соловьем звенел я,
В те дни, когда мой конь топтал просторы луговые.
Тогда я был слугой царям и многим — близким другом.
Теперь я растерял друзей, вокруг — одни чужие.
Теперь стихи мои живут во всех чертогах царских,
В моих стихах цари живут, дела их боевые.
Заслушивался Хорасан твореньями поэта,
Их переписывал весь мир, чужие и родные.
Куда бы я ни приходил в жилища благородных,
Я всюду яства находил и кошели тугие.
Я не служил другим царям, я только от Саманов
Обрел величье, и добро, и радости мирские.
Мне сорок тысяч подарил властитель Хорасана,
Пять тысяч дал эмир Макан — даренья недурные.
У слуг царя по мелочам набрал я восемь тысяч,
Счастливый, песни я слагал правдивые, прямые.
Лишь должное воздал эмир мне щедростью подобной,
А слуги, следуя царю, раскрыли кладовые.
Но изменились времена, и сам я изменился,
Дай посох: с посохом, с сумой должны брести седые.
НА СМЕРТЬ АБУЛХАСАНА МУРОДИ[6]
Скончался Муроди. Ты скажешь ли о нем:
«Он умер», — если он сиял для нас умом?
Но мать-земля взяла угаснувшую плоть,
А душу — небосвод: он был ему отцом.[7]
Что было ангельским, то к ангелам ушло:
Началом стало то, что ты назвал концом.
Пылинкой не был он, что ветром поднята,
Водою не был он, что застывает льдом,
Он не был зернышком, придавленным землей,
Он не был сломанным, беззубым гребешком,
Он золотом сверкал во прахе, для него
И тот и этот свет ячменным был зерном.
Свой прах он сбросил в прах, а душу, светлый ум
Унес на небеса, заботясь о благом.
С красою внутренней, сокрытой до поры,
Придав ей новый блеск, предстал он пред творцом.
Он с гущей смешанным отборным соком был,
От гущи отделясь, он чистым стал вином.
О друг, пойми меня: коль реец или курд,
Сын Мерва, Рума сын пойдут своим путем,[8]
То не смешаются дерюга и атлас,
У каждого из них есть свой особый дом.
Молчи: уже тебя в тетради бытия
Посол всевышнего перечеркнул пером…
НА СМЕРТЬ ШАХИДА БАЛХИ[9]
Он умер. Караван Шахида покинул этот бренный свет.
Смотри, и наши караваны увлек он за собою вслед.
Глаза, не размышляя, скажут: «Одним на свете меньше стало»,
Но разум горестно воскликнет: «Увы, сколь многих больше нет!»
Так береги от смерти силу духа, когда грозящая предстанет,
Чтобы сковать твои движенья, остановить теченье лет.
Не раздавай рукой небрежной ни то, что получил в подарок,
Ни то, что приобрел заботой и прилежаньем долгих лет.
Обуреваемый корыстью, чужим становится и родич,
Когда ему ты платишь мало, поберегись нежданных бед.
«Пугливый стриж и буйный сокол сравнятся ль яростью и силой,
Сравнится ль волк со львом могучим», — спроси и дай себе ответ.
«В БЛАГОУХАНИИ, В ЦВЕТАХ...»[10]
В благоухании, в цветах пришла желанная весна,
Сто тысяч радостей живых вселенной принесла она.
В такое время старику не трудно юношею стать, —
И снова молод старый мир, куда девалась седина!
Построил войско небосвод, где вождь — весенний ветерок,
Где тучи — всадникам равны, и мнится: началась война.
Здесь молний греческий огонь, здесь воин — барабанщик-гром.
Скажи, какая рать была, как это полчище, сильна?
Взгляни, как туча слезы льет. Так плачет в горе человек.
Гром на влюбленного похож, чья скорбная душа больна.
Порою солнце из-за туч покажет нам свое лицо,
Иль то над крепостной стеной нам голова бойца видна?
Земля на долгий, долгий срок была повергнута в печаль,
Лекарство ей принес жасмин: она теперь исцелена.
Все лился, лился, лился дождь, как мускус он благоухал,
А по ночам на тростнике лежала снега пелена.
Освобожденный от снегов, окрепший мир опять расцвел,
И снова в высохших ручьях шумит вода, всегда вольна.
Как ослепительный клинок, сверкнула молния меж туч,
И прокатился первый гром, и громом степь потрясена.
Тюльпаны, весело цветя, смеются в травах луговых,
Они похожи на невест, чьи пальцы выкрасила хна.
На ветке ивы соловей поет о счастье, о любви,
На тополе поет скворец от ранней зорьки дотемна.
Воркует голубь древний сказ на кипарисе молодом,
О розе песня соловья так упоительно звучна.
Живите весело теперь и пейте славное вино,
Пришла любовников пора, им радость встречи суждена.
Скворец на пашне, а в саду влюбленный стонет соловей,
Под звуки лютни пей вино, — налей же, кравчий, нам вина!
Седой мудрец приятней нам юнца-вельможи, что жесток,
Хотя на вид и хороша поры весенней новизна.
Твой взлет с паденьем сопряжен, в твоем паденье виден взлет,
Смотри, смутился род людской, пришла в смятение страна.
Среди красивых, молодых блаженно дни ты проводил,
Обрел желанное в весне — на радость нам она дана.
«Я ДУМАЮ О ТОМ, КТО СЛАВОЙ ОБЛАДАЕТ...»[11]
Я думаю о том, кто славой обладает.
Из-за его души моя душа страдает.
Всегда я трепещу за жизнь владыки, ибо
Подобных сыновей не часто мать рождает.
Как этот юноша, никто из властелинов
С такой отвагою врагов не побеждает.
Никто не ведает числа его достоинств,
С какой он щедростью дарит и награждает!
Осыпан золотом похвал и пожеланий,
Он не от слов пустых величья ожидает.
Из сердца своего изгнав любовь к богатству,
Он благодарности побеги насаждает.
Дела его любой толкует, как Авесту,
Как книгу Зенд, — добро и щедрость обсуждает.
Поэтов нынешних бессильны славословья —
Превыше всех речей хвалебных он блистает.
Из блага сотворен, все, что он сеет, — благо,
Признательность, как сад, кругом произрастает.
Вся жизнь его как свод законов благородства,
Страницы чистоты, что сам Хосров листает.
Вернее, жизнь его есть книга назиданий,
И внемлет жизнь ему, когда он назидает.
А кто не слушает владыки поученья,
Тот, к пиршествам влеком, в тенета попадает.
В чем сущность горести? Кто на земле несчастен?
Кто, зависти к царю исполнен, увядает.
Ты скажешь тем, кого гнетут его успехи:
«Смиритесь пред судьбой, — так мудрость утверждает!»
О ангел, счастлив будь, коль друг его ликует,
О, смейся, небосвод, коль враг его рыдает!
Я тем же кончу стих, чем начал: постоянно
Я думаю о том, кто славой обладает.
СТИХИ О ВИНЕ[12]
Нам надо мать вина сперва предать мученью,
Затем само дитя подвергнуть заключенью.
Отнять нельзя дитя, покуда мать жива, —
Так раздави ее и растопчи сперва!
Ребенка малого не позволяют люди
До времени отнять от материнской груди:
С весны до осени он должен целиком
Семь полных месяцев кормиться молоком.
Затем, кто чтит закон, творцу хвалы приносит,
Мать в жертву принесет, в тюрьму ребенка бросит.
Дитя, в тюрьму попав, тоскуя от невзгод,
Семь дней в беспамятстве, в смятенье проведет.
Затем оно придет в сознанье постепенно,
Забродит, забурлит — и заиграет пена.
То бурно прянет вверх, рассудку вопреки.
То буйно прыгнет вниз, исполнено тоски.
Я знаю, золото на пламени ты плавишь,
Но плакать, как вино, его ты не заставишь.
С верблюдом бешеным сравню дитя вина,
Из пены вздыбленной родится сатана.
Все дочиста собрать не должен страж лениться:
Сверканием вина озарена темница.
Вот успокоилось, как укрощенный зверь.
Приходит страж вина и запирает дверь.
Очистилось вино и сразу засверкало
Багрянцем яхонта и пурпуром коралла.
Йеменской яшмы в нем блистает красота.
В нем бадахшанского рубина краснота!
Понюхаешь вино — почуешь, как влюбленный,
И амбру с розами, и мускус благовонный.
Теперь закрой сосуд, не трогай ты вина,
Покуда не придет созревшая весна.
Тогда раскупоришь кувшин ты в час полночный,
И пред тобой родник блеснет зарей восточной.
Воскликнешь: «Это лал, ярка его краса,
Его в своей руке держал святой Муса!
Его отведав, трус в себе найдет отвагу,
И в щедрого оно преображает скрягу…
А если у тебя — бесцветный, бледный лик,
Он станет от вина пунцовым, как цветник.
Кто чашу малую испробует вначале,
Тот навсегда себя избавит от печали,
Прогонит за Танжер давнишней скорби гнет
И радость пылкую из Рея призовет».
Выдерживай вино! Пускай промчатся годы
И позабудутся тревоги и невзгоды.
Тогда средь ярких роз и лилий поутру
Ты собери гостей на царственном пиру.
Ты сделай свой приют блаженным садом рая,
Блестящей роскошью соседей поражая.
Ты свой приют укрась издельем мастеров,
И золотом одежд, и яркостью ковров,
Умельцев пригласи, певцов со всей округи,
Пусть флейта зазвенит возлюбленной подруги.
В ряду вельмож вазир воссядет — Балами,
А там — дихкан Салих с почтенными людьми.
На троне впереди, блистая несказанно,
Воссядет царь царей, властитель Хорасана.
Красавцев тысяча предстанут пред царем:
Сверкающей луной любого назовем!
Венками пестрыми те юноши увиты,
Как красное вино, пылают их ланиты.
Здесь кравчий — красоты волшебной образец,
Тюрчанка — мать его, хакан — его отец.
Поднялся — радостный, веселый — царь высокий.
Приблизился к нему красавец черноокий,
Чей стан что кипарис, чьи щеки ярче роз,
И чашу с пламенным напитком преподнес,
Чтоб насладился царь вином благоуханным
Во здравие того, кто правит Саджастаном.
Его сановники с ним выпьют заодно,
Они произнесут, когда возьмут вино:
«Абу Джафар Ахмад ибн Мухаммад! Со славой
Живи, благословен иранскою державой!
Ты — справедливый царь, ты — солнце наших лет,
Ты правосудие даруешь нам и свет!»
Тому царю никто не равен, скажем прямо,
Из тех, кто есть и кто родится от Адама!
Он — тень всевышнего, он господом избран,
Ему покорным быть нам повелел Коран.
Мы — воздух и вода, огонь и прах дрожащий,
Он — отпрыск солнечный, к Сасану восходящий.
Он царство мрачное к величию привел,
И потрясенный мир, как райский сад, расцвел.
Коль ты красноречив, прославь его стихами,
А если ты писец, хвали его словами,
А если ты мудрец, — чтоб знанья обрести,
Ты должен по его последовать пути.
Ты скажешь знатокам, поведаешь ученым:
«Для греков он Сократ, он стал вторым Платоном!»
А если шариат ты изучать готов.
То говори о нем: «Он главный богослов!»
Уста его — исток и мудрости и знаний,
И, выслушав его, ты вспомнишь о Лукмане.
Он разум знатоков умножит во сто крат,
Разумных знанием обогатить он рад.
Иди к нему, взглянуть на ангела желая:
Он — вестник радости, ниспосланный из рая.
На стройный стан взгляни, на лик его в цвету,
И сказанного мной увидишь правоту.
Пленяет он людей умом, и добротою,
И благородною душевной чистотою.
Когда б дошли его речения к тебе,
То стал бы и Кейван светить твоей судьбе.
Узрев его среди чертога золотого,
Ты скажешь: «Сулейман великий ожил снова!»
Такому всаднику, на скакуне таком
Мог позавидовать и славный Сам в былом.
А если в день борьбы, когда шумит сраженье,
Увидишь ты его в военном снаряженье,
Тебе покажется ничтожным ярый слон,
Хотя б он был свиреп и боем возбужден.
Когда б Исфандиар предстал пред царским взором,
Бежал бы от царя Исфандиар с позором.
Возносится горой он мирною порой,
Но то гора Сийам, ее удел — покой.
Дракона ввергнет в страх своим копьем разящим:
Тот будет словно воск перед огнем горящим.
Вступи с ним в битву Марс, чья гибельна вражда,
Погибель обретет небесная звезда.
Когда себе налить вина велит могучий,
Ты скажешь: «Вешний дождь из вешней льется тучи».
Из тучи только дождь пойдет на краткий срок,
А от него — шелков и золота поток.
С огромной щедростью лилась потока влага,
Но с большей щедростью дарит он людям благо.
Великодушием он славен, и в стране
Хвалы ему в цене, а злато не в цене.
К великому царю поэт приходит нищий —
Уходит с золотом, с большим запасом пищи.
В диване должности он роздал мудрецам,
И покровительство он оказал певцам.
Он справедлив для всех, он полон благодати,
И равных нет ему средь мусульман и знати.
Насилья ты с его не видишь стороны.
Перед его судом все жители равны.
Простерлись по земле его благодеянья,
Такого нет, кого лишил бы он даянья.
Покой при нем найдет уставший от забот,
Измученной душе лекарство он дает.
В пустынях и степях средь вечного вращенья
Он сам себя связал веревкой всепрощенья.
Прощает он грехи, виновных пожалев,
И милосердием он подавляет гнев.
Нимрузом правит он, и власть его безмерна,
А счастье — леопард, а враг дрожит, как серна.
Подобен Амру он, чья боевая рать,
Чье счастье бранное как бы живут опять.
Хотя и велика, светла Рустама слава,
Благодаря ему та слава величава.
О Рудаки! Восславь живущих вновь и вновь,
Восславь его: тебе дарует он любовь.
И если ты блеснуть умением захочешь,
И если ты свой ум напильником наточишь,
И если ангелов, и птиц могучих вдруг,
И духов превратишь в своих покорных слуг, —
То скажешь: «Я открыл достоинств лишь начало,
Я много слов сказал, но молвил слишком мало…»
Вот все, что я в душе взлелеял глубоко.
Чисты мои слова, их всем понять легко.
Будь златоустом я и самым звонким в мире,
Лишь правду говорить я мог бы об эмире.
Прославлю я того, кем славен род людской,
Отрада от него, величье и покой.
Своим смущением гордиться не устану,
Хоть в красноречии не уступлю Сахбану.
В умелых похвалах он шаха превознес
И, верно выбрав день, их шаху преподнес.
Есть похвале предел — скажу о всяком смело,
Начну хвалить его — хваленьям нет предела!
Не диво, что теперь перед царем держав
Смутится Рудаки, рассудок потеряв.
О, мне теперь нужна Абу Омара смелость,
С Аднаном сладостным сравниться мне б хотелось.
Ужель воспеть царя посмел бы я, старик,
Царя, для чьих утех всевышний мир воздвиг!
Когда б я не был слаб и не страдал жестоко,
Когда бы не приказ властителя Востока,
Я сам бы поскакал к эмиру, как гонец,
И, песню в зубы взяв, примчался б наконец!
Скачи, гонец, неси эмиру извиненья,
И он, ценитель слов, оценит, без сомненья,
Смущенье старика, что немощен и слаб:
Увы, не смог к царю приехать в гости раб!
Хочу я, чтоб царя отрада умножалась,
А счастье недругов всечасно уменьшалось.
Чтоб головой своей вознесся он к луне,
А недруги в земной сокрылись глубине.
Чтоб красотой своей обрел он в солнце брата,
Сахлана стал прочней, превыше Арарата.
 Миниатюра из рукописи XVI в. Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.
Миниатюра из рукописи XVI в. Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.
ГАЗЕЛИ И ЛИРИЧЕСКИЕ ФРАГМЕНТЫ[13]
Твоей красою мир украшен; я понял наконец,
Что кудри у тебя как мускус, как амбры образец!
Клянусь твоим железным сердцем, которое могло б
Изрезать надписями скалы, вонзаясь, как резец,
Что я твоей не верю дружбе, не верю и любви:
Никто не видел снисхожденья от каменных сердец!
Творца о милости молю я, но есть ли польза в том?
Что милость для тебя господня, что для тебя творец?
О, если б Рудаки взяла ты, мой друг, себе в рабы,
То стал бы ста владык счастливей невольник — твой певец!
* * *
Столепестковые цветы, и мирт зеленый,
И амбра, и жасмин, и нежных яблонь кроны
При виде идола от зависти поблекли…
Признали все цари, мой друг, твои законы!
«Та ночь, когда ты, сняв чадру, лицо являешь,
Есть Ночь могущества»,[14] — так говорит влюбленный,
Похож на яблочко, но с родинкою черной,
Твой подбородочек, прелестно округленный.
А если выйдешь днем без покрывала, — солнце
За полог спрячется, скрывая лик смущенный.
Все то, что мир творит, — подобье сна дурного,
Однако мир не спит, он действует сурово.
Там, где должно быть зло, свое он видит благо,
Он радуется там, где боль всего живого.
Так почему на мир взираешь ты спокойно?
В деяньях мира нет покоя никакого.
Лицо его светло, зато душа порочна,
Хотя он и красив, плоха его основа.
* * *
Не для насилья и убийств мечи в руках блестят:[15]
Господь не забывает зла и воздает стократ.
Не для насилья и убийств куется правый меч,
Не ради уксуса лежит в давильне виноград.
Убитого узрел Иса однажды на пути,
И палец прикусил пророк, унынием объят.
Сказал: «Кого же ты убил, когда ты сам убит?
Настанет час, и твоего убийцу умертвят».
Непрошеный, в чужую дверь ты пальцем не стучи,
Не то услышишь: в дверь твою всем кулаком стучат.
* * *
Придя в трехдневный мир[16] на краткое мгновенье,
К нему не должен ты почувствовать влеченье.
Пусть даже ты привык лежать на пышном ложе,
Ты все равно в земле найдешь успокоенье.
В могилу все равно сойдешь ты одиноко,
Не будешь средь людей, в блестящем окруженье.
В земле твои друзья — лишь муравьи да черви,
Взгляни же наконец на вечное вращенье.
Хоть каждый локон твой ценой дирхему равен,
Хоть смоляным кудрям нельзя найти сравненье,
Едва твой час пробьет — вокруг в сердцах горячих
Немедленно к тебе наступит охлажденье.
* * *
По струнам Рудаки провел рукой,
Запел он о подруге дорогой.
Рубин вина — расплавленный рубин.
Но и с губами схож рубин такой.
Одна первооснова им дана:
Тот затвердел, расплавился другой.
Едва коснулся — руку обожгло,
Едва пригубил — потерял покой.
* * *
Мне жизнь дала совет на мой вопрос в ответ,[17] —
Подумав, ты поймешь, что вся-то жизнь — совет:
«Чужому счастью ты завидовать не смей,
Не сам ли для других ты зависти предмет?»
Еще сказала жизнь: «Ты сдерживай свой гнев.
Кто развязал язык, тот связан цепью бед».
* * *
Девичья красота и музыка с вином
Низвергнут ангела, смутив его грехом.
Взгляну я на нее — нарциссы, не трава,
От взгляда моего вдруг вырастут кругом!
От самого себя готов отречься тот,
Кто силою любви к возлюбленной влеком.
В своем глазу и днем не видишь ты бревна,
А ночью ты сучок узрел в глазу чужом.
* * *
О, горе мне! Судьбины я не знавал страшней:
Быть мужем злой супруги, меняющей мужей.
Ей не внушу я страха, приди я к ней со львом;
А я боюсь и мухи, что села рядом с ней.
Хотя она со мною сварлива и груба,
Надеюсь, не умру я, спасу остаток дней.
* * *
Самум разлуки налетел — и нет тебя со мной!
С корнями вырвал жизнь мою он из земли родной.
Твой локон — смертоносный лук, твои ресницы — стрелы.
Моя любовь! Как без тебя свершу я путь земной!
И кто дерзнет тебя спросить: «Что поцелуй твой стоит?» —
Ста жизней мало за него, так как же быть с одной?
Ты солнцем гордой красоты мой разум ослепила.
Ты сердце опалила мне усладою хмельной.
* * *
Будь весел с черноокою вдвоем,
Затем что сходен мир с летучим сном.
Ты будущее радостно встречай,
Печалиться не стоит о былом.
Я и подруга нежная моя,
Я и она — для счастья мы живем.
Как счастлив тот, кто брал и кто давал,
Несчастен равнодушный скопидом.
Сей мир, увы, лишь вымысел и дым,
Так будь что будет, насладись вином!
Царь, месяц михр пришел, будь веселей, —
Ведь это праздник шахов и царей!
Прошла пора шатров, садов и рощ —
В меха закутаемся потеплей!
Нет больше лилий — зеленеет мирт,
Был красен аргаван — вино красней!
Прекрасно счастье новое твое,
Владыка, нового вина отпей!
* * *
Ушли великие, ушли навек отселе,
Ушли туда, где нет ни стонов, ни веселий.
Сошли под землю те, кто воздвигал чертоги,
И вот изо всего, чем на земле владели,
Из сотен тысяч благ и прелестей желанных
Лишь саван унесли, придя к конечной цели.
А блага в чем? Лишь в том, что на себе носили,
И в том, что дали нам, и в том, что сами съели.
* * *
Благородство твое обнаружит вино:
Тех, кто куплен за злато, чье имя темно,
От людей благородных оно отличит,
Много ценных достоинств напитку дано.
Пить вино хорошо в день любой, но когда
Слышишь запах жасмина — вкуснее оно!
Если выпьешь — строптивых коней укротишь,
Все твердыни возьмешь, как мечтал ты давно!
От вина станет щедрым презренный скупец:
Будет черствое сердце вином зажжено.
* * *
Доколе жить ты будешь, сердце, своей любовью и собой?
Зачем холодное железо ковать упорною рукой?
Зерну мое подобно сердце, а ты в любви горе подобна.
Зачем одно зерно громадной перетираешь ты горой?
Взгляни на Рудаки, прошу я, когда увидеть хочешь тело,
Что движется, живет и дышит, хотя разлучено с душой.
* * *
О трех рубашках, красавица, читал я в притче седой.[18]
Все три носил Иосиф, прославленный красотой.
Одну окровавила хитрость, обман разорвал другую,
От благоухания третьей прозрел Иаков слепой.
Лицо мое первой подобно, подобно второй мое сердце;
О, если бы третью найти мне начертано было судьбой!
* * *
Как долго ни живи, но, право слово,
Помимо смерти, нет конца иного.
Кончается петлей веревка жизни, —
Увы, таков удел всего земного.
Живи спокойно, в роскоши, в богатстве,
Иль в тяготах твой век пройдет сурово,
Владей землей от Рея до Тараза,
Иль малой долей уголка глухого, —
Все бытие твое лишь сон мгновенный,
А сон пройдет, не повторится снова.
В день смерти будет все тебе едино,
Не отличишь дурного от благого.
Пусть нега — лишь красавиц юных свойство,
У неги ты, и только ты, — основа!
* * *
Хозяин мерзок: берегись его еды хваленой,
В рот и крупицы не бери от пищи несоленой.
Не трогай ты его кебаб, он пропитался ядом,
Ты губы не мочи в воде, отравой напоенной.
Уйди с пылающей душой и пересохшим горлом,
Особенно теперь, когда опасен сад зеленый.
С ветвей стекает камфара, цветы напоминая,
Подобный ртути, каплет сок из дыни благовонной…
* * *
Мне возлюбленной коварство принесло одно мученье —
Так из-за Лейли Меджнуна[19] обуяло омраченье.
Хмурюсь я, душа тоскует, но от лекарей слыхал я:
Лепестки сладчайшей розы принесут мне облегченье.
Да, уста твои как роза, чья улыбка опьяняет,
У тебя как змеи кудри, их таинственно свеченье.
Очи у тебя подобны колдунам из Вавилона,
Чудеса Мусы ты в каждом нам являешь изреченье.
* * *
Для радостей низменных тела я дух оскорбить бы не мог,[20]
Позорно быть гуртоправом тому, кто саном высок.
В иссохшем ручье Эллады[21] не станет искать воды
Тот, кто носителем правды явился в мир как пророк.
Мой стих — Иосиф Прекрасный, я пленник его красоты.
Мой стих — соловьиная песня, к нему приковал меня рок.
Немало вельмож я видел и не в одном распознал
Притворную добродетель и затаенный порок.
Одно таил я желанье: явиться примером для них.
И вот… разочарованье послал мне в награду бог.
* * *
Налей вина мне, отрок стройный, багряного, как темный лал,[22]
Искристого, как засверкавший под солнечным лучом кинжал.
Оно хмельно так, что бессонный, испив, отрадный сон узнал,
Так чисто, что его бы всякий водою розовой назвал.
Вино — как слезы тучки летней, а тучка — полный твой фиал,
Испей — и разом возликуешь, все обретешь, чего желал.
Где нет вина — сердца разбиты, для них бальзам — вина кристалл.
Глотни мертвец его хоть каплю, он из могилы бы восстал.
И пребывать вино достойно в когтях орла, превыше скал,
Тогда — прославим справедливость! — его бы низкий не достал.
* * *
Ветер, вея от Мульяна, к нам доходит.[23]
Чары яр моей желанной к нам доходят…
Что нам брод Аму шершавый? Нам такой,
Как дорожка златотканая, подходит.
Смело в воду! Белоснежным скакунам
По колена пена пьяная доходит.
Радуйся и возликуй, о Бухара:
Шах к тебе, венчанная, приходит.
Он как тополь! Ты как яблоневый сад!
Тополь в сад благоухания приходит.
Он как месяц! Ты как синий небосвод!
Ясный месяц в небо раннее восходит.
* * *
Печальный друг, достойный уваженья,
Ты, втайне льющий слезы униженья!
Умершего не назову я имя:
Боюсь, опять познаешь ты мученья.
Ушел ушедший, и пришел пришедший,
Кто был, тот был — к чему же огорченья?
Ты хочешь сделать этот мир спокойным,
А мир желает лишь круговращенья.
Не злись: ведь мир твоей не внемлет злости.
Не плачь: к слезам он полон отвращенья.
Рыдай, пока не грянет суд вселенский,
Но прошлому не будет возвращенья.
Не мучайся по поводу любому —
Ты худшие узнаешь злоключенья.
К кому бы ты ни привязался сердцем,
Умрут, наверно, все без исключенья.
Нет облаков и нет затменья в мире,
И не настал конец его свеченья.
Мне подчинишься иль не подчинишься —
Боюсь, мои отвергнешь возражения.
Не победил ты в сердце рать страданий?
Так пей вино: нет лучшего леченья!
Кто благороден, тот найдет и в горе
Источник стойкости и возвышенья.
* * *
Я всегда хочу дышать амброю твоих кудрей.[24]
Нежных губ твоих жасмин дай поцеловать скорей!
Всем песчинкам поклонюсь, по которым ты прошла,
Бью почтительно челом пыли под ногой твоей.
Если перстня твоего на печати вижу след,
Я целую то письмо: жизни мне оно милей!
Если в день хотя бы раз не дотронусь до тебя,
Пусть мне руку отсекут в самый горестный из дней!
Люди просят, чтобы я звонкий стих сложил для них.
Но могу я лишь тебя славить песнею моей!
* * *
Сегодня Бухара — Багдад: в ней столько смеха, ликований!
Там, где эмир, там торжество, он гордо правит в Хорасане!
Ты, кравчий, нам вино подай, ты, музыкант, ударь по струнам!
Сегодня буду пить вино: настало время пирований!
Есть райский сад, и есть вино, есть девушки — тюльпанов ярче,
Лишь горя нет! А если есть — ищи его во вражьем стане!
* * *
Лицо твое светло, как день из мертвых воскресенья,
А волосы черны, как ночь не знающих спасенья.
Тобою предпочтен, я стал среди влюбленных первым,
А ты красавиц всех стройней, а ты венец творенья.
Кааба — гордость мусульман, а Нил — сынов Египта,
А церкви — гордость христиан, есть разные ученья,
А я горжусь блистаньем глаз под покрывалом черным:
Увижу их — и для меня нет радостней мгновенья.
* * *
Зачем на друга обижаться? Пройдет обида вскоре.[25]
Жизнь такова: сегодня — радость, а завтра — боль и горе.
Обида друга — не обида, не стыд, не оскорбленье;
Когда тебя он приласкает, забудешь ты о ссоре.
Ужель одно плохое дело сильнее ста хороших?
Ужель из-за колючек розе прожить всю жизнь в позоре?
Ужель искать любимых новых должны мы ежедневно?
Друг сердится? Проси прощенья, нет смысла в этом споре!
* * *
В мире все идет, как должно, ты живешь среди отрад,
Нет причин для огорченья, так чему же ты не рад?
Отчего ты погрузился в думы долгие, в печаль?
Ты судьбе своей доверься, для нее ты — милый брат.
У судьбы — свои решенья, знает, что она творит;
Ей внимая, ты не слушай, что вазиры говорят.
Кто родил тебя, не сможет равного тебе родить;
Колеса судьбы не бойся, ты рожден не для утрат.
Пред тобою бог вовеки не закроет врат, пока
Не откроет пред тобою сто иных, прекрасных врат!
* * *
Лишь ветерок из Бухары ко мне примчится снова,
Жасмина запах оживет и мускуса ночного.
Воскликнут жены и мужья: «То ветер из Хотана,
Благоуханье он принес цветенья молодого!»
Нет, из Хотана никогда такой не веет ветер,
То от любимой ветерок, и нет милее зова!
Во сне мы близки, будто мы в одно одеты платье,
А наяву — ты далека, судьба моя сурова!
Мы знаем: свет звезды Сухейль исходит из Йемена;
Ищу тебя, звезда Сухейль, средь звездного покрова!
О мой кумир, я от людей твое скрываю имя,
Оно — не для толпы, оно — не для суда людского,
Но стоит слово мне сказать — хочу иль не хочу я, —
Заветным именем твоим становится то слово.
* * *
Только раз бывает праздник, раз в году его черед[26] —
Взор твой, пери, праздник вечный, вечный праздник в сердце льет.
Раз в году блистают розы, расцветают раз в году,
Для меня твой лик прекрасный вечно розами цветет.
Только раз в году срываю я фиалки в цветнике,
А твои лаская кудри, потерял фиалкам счет.
Только раз в году нарциссы украшают грудь земли,
А твоих очей нарциссы расцветают круглый год.
Эти черные нарциссы, чуть проснулись — вновь цветут,
А простой нарцисс, увянув, новой жизнью не блеснет.
Кипарис — красавец гордый, вечно строен, вечно свеж,
Но в сравнении с тобою он — горбун, кривой урод.
Есть в одних садах тюльпаны, розы, лилии — в других,
Ты — цветник, в котором блещут все цветы земных широт.
Ярче розы твой румянец, шея — лилии белей,
Зубы — жемчуг многоценный, два рубина — алый рот.
Вот из жилы меднорудной вдруг расцвел тюльпан багряный,
На багрянце тоном смуглым медный проступил налет.
Вьется кругом безупречным мускус локонов твоих,
В центре — киноварью губы, точно ярко-красный плод.
Ты в движенье — перепелка, ты в покое — кипарис,
Ты — луна, что затмевает всех красавиц хоровод.
Но ты гурия в кольчуге, ты луна с колчаном стрел,
Перепелка — с кубком хмельным, кипарис, что песнь поет.
Не цепями приковала ты влюбленные сердца —
Каждым словом ты умеешь в них метать огонь и лед…
* * *
Казалось, ночью на декабрь апрель обрушился с высот.
Покрыл ковром цветочным дол и влажной пылью — небосвод.
Омытые слезами туч, сады оделись в яркий шелк,
И пряной амбры аромат весенний ветер нам несет.
Под вечер заблистал в полях тюльпана пурпур огневой,
В лазури скрытое творцом явил нам облаков полет.
Цветок смеется мне вдали, — иль то зовет меня Лейли?
Рыдая, облако пройдет, — Меджнун, быть может, слезы льет?
И пахнет розами ручей, как будто милая моя
Омыла розы щек своих в голубизне прозрачных вод.
Ей стоит косу распустить — и сто сердец блаженство пьют,
Но двести кровью изойдут, лишь гневный взор она метнет.
Покуда розу от шипа глупец не в силах отличить,
Пока безумец, точно мед, дурман болезнетворный пьет,
Пусть будут розами шипы для всех поклонников твоих,
И, как дурман, твои враги пусть отвергают сладкий мед…
* * *
Тебе, чьи кудри точно мускус, в рабы я небесами дан.
Как твой благоуханный локон, изогнут мой согбенный стан.
Доколе мне ходить согбенным, в разлуке мне страдать доколе?
Как дни влачить в разлуке с другом, как жить под небом чуждых стран?
Не оттого ли плачут кровью мои глаза в ночи бессонной?
Не оттого ли кровь струится потоком из сердечных ран?
Но вот заволновалась тучка, как бы Лейли, узрев Меджнуна;
Как бы Узра перед Вамиком,[27] расцвел пылающий тюльпан.
И солончак благоухает, овеян севера дыханьем,
И камень источает воду, весенним ароматом пьян.
Венками из прозрачных перлов украсил ветви дождь весенний,
Дыханье благовонной амбры восходит от лесных полян.
И кажется, гранит покрылся зеленоблещущей лазурью
И в небесах алмазной нитью проходит тучек караван…
* * *
Я потерял покой и сон — душа разлукою больна,
Так не страдал еще никто во все века и времена.
Но вот свиданья час пришел, и вмиг развеялась печаль:
Тому, кто встречи долго ждал, стократно сладостна она.
Исполнен радости, я шел давно знакомою тропой,
И был свободен мой язык, моя душабыла ясна.
Как с обнаженной грудью раб, я шел знакомою тропой,
И вот навстречу мне она, как кипарис, тонка, стройна.
И мне, ласкаясь, говорит: «Ты истомился без меня?»
И мне, смущаясь, говорит: «Твоя душа любви верна?»
И я в ответ: «О ты, чей лик затмил бы гурий красотой!
О ты, кто розам красоты на посрамленье рождена!
Мой целый мир — в одном кольце твоих агатовых кудрей,
В човганы локонов твоих вся жизнь моя заключена.
Я сна лишился от тоски по завиткам душистых кос,
И от тоски по блеску глаз лишился я навеки сна.
Цветет ли роза без воды? Взойдет ли нива без дождя?
Бывает ли без солнца день, без ночи — полная луна?»
Целую лалы уст ее — и точно сахар на губах,
Вдыхаю гиацинты щек — и амброй грудь моя полна.
Она то просит: дай рубин[28] — и я рубин ей отдаю,
То словно чашу поднесет — и я пьянею от вина…
РУБАИ[29]
* * *
Две тысячи холмов кровавых встанут вдруг
На том пути, где ты пройдешь, мой скорбный друг.
Такие, как Лейли, не сострадают нам,
Лишь сам Меджнун поймет влюбленного недуг.
* * *
Хотя, с тобою разлучен, познал я горькое страданье,
Страданье — радость, если в нем таится встречи ожиданье.
Я размышляю по ночам, счастливый, я твержу: о боже!
Коль такова разлука с ней, то каково же с ней свиданье!
* * *
Дивлюсь я, что тебя судьба убила злая,
Стыда не ведая и жалости не зная.
Ужель не чувствует смущения убийца,
Такую красоту злодейски убивая?
* * *
Светильник ты держи на дальнем расстоянье:
Боюсь я, что его затмит твое сиянье.
О, сердце сожжено, повсюду — запах тленья…
Не слышишь? У тебя плохое обонянье.
* * *
Какой агат из-за тебя не просверлил мои глаза?
А тайны сердца моего блестят на розах, как роса.
Я тайны в сердце схоронил — о них не знают небеса,
Пусть их откроют слез моих, моих восторгов голоса.
* * *
Мой дух кудрями взят в полон, мой разум затуманен,
Индийским идолом сражен, я прямо в сердце ранен.
Мне проповеди ни к чему — замолкни, проповедник,
Разбитый дом перед тобой, он одинок и странен.
* * *
С твоею славой величавой победный стяг рассвета схож,
Луна твоей подобна чаше — ее напиток так хорош!
Судьба твоим шагам подобна, когда стремительно идешь,
А все дары судьбы подобны дарам, что бедным раздаешь!
* * *
Лишь у нее распустишь косы — падет на землю мгла,
Растреплешь их — увидишь когти могучего орла,
А если узелки развяжешь, развяжешь завитки,
То скажешь, что подруга мускус таразский разлила!
* * *
Я оживился, я услышал: тебя назвали в разговоре!
Твоим я счастьем осчастливлен, и жизнь в твоем я вижу взоре.
А если разговор я слышу не о тебе — о посторонней,
То мысли у меня метутся, рассеиваясь в тяжком горе.
* * *
В мирских садах не думай о плодах,
Одни лишь ивы плачут в тех садах.
Приблизился садовник. Берегись!
Пройди как ветер и пребудь как прах.
* * *
Пришла… «Кто?» — «Милая». — «Когда?» — «Предутренней зарей».
Спасалась от врага… «Кто враг?» — «Ее отец родной».
И дважды я поцеловал… «Кого?» — «Уста ее».
«Уста?» — «Нет». — «Что ж?» — «Рубин». — «Какой?» — «Багрово-огневой».
* * *
Если рухну бездыханный, страсти бешенством убит,[30]
И к тебе из губ раскрытых крик любви не излетит,
Дорогая, сядь на коврик и с улыбкою скажи:
«Как печально! Умер, бедный, не стерпев моих обид!»
* * *
Вослед красавице жестокой мы исходили все дороги,
Всю землю в поисках подруги прошли мы в смуте и тревоге
Отвыкли руки от работы, скитаньям ноги обучились,
По голове руками били, разбились о каменья ноги.
* * *
Мое терпенье истощилось, мой ум сгорел дотла,
Мне не нужны ни ум, ни сердце, когда она ушла.
Моя тоска с тоской не схожа: то Каф-гора стоит,
А сердце у нее не сердце: гранитная скала!
* * *
Я гибну: ты, подобно Юсуфу,[31] хороша!
Как руки египтянок, в крови моя душа!
Сперва в твоих лобзаньях я жизнь познал, греша.
Теперь меня терзаешь, моей тоской дыша.
* * *
Я знаю: щедрыми не все мы рождены,
Но все за щедрость мы благодарить должны.
Коль в недозволенном не виноват ходжа,
То пусть в дозволенном избегну я вины.
* * *
Те, перед кем ковер страданий постлало горе, — вот кто мы;
Те, кто скрывает в сердце пламень и скорбь во взоре, — вот кто мы;
Те, кто игрою сил враждебных впряжен в ярем судьбы жестокой,
Кто носится по воле рока в бурлящем море, — вот кто мы.
* * *
Едва, влюблен, я положу перед собой тетрадь,
Мне хочется глаза Плеяд слезами начертать.
Едва, чтоб написать тебе, перо возьму опять,
Мне сердце хочется свое с письмом тебе послать.
* * *
Как Рудаки, я стал влюбленным, я в жизни вижу лишь беду.
Мои ресницы покраснели: я плачу кровью, я — в бреду.
Короче: я с такой тоскою и страхом расставанья жду,
Что весь от ревности пылаю, хотя пылаю не в аду.
* * *
За право на нее смотреть я отдал сердце по дешевке.
Не дорог был и поцелуй: я жизнь мою вручил торговке.
Однако если торгашом стать суждено моей плутовке,
То жизнь мою за поцелуй тотчас торгаш отнимет ловкий!
* * *
О, лик твой — море красоты, где множество щедрот.
О, эти зубы — жемчуга и раковина — рот.
А брови черные — корабль, на лбу морщины — волны,
И омут — подбородок твой, глаза — водоворот!
* * *
Аромат и цвет похищен был тобой у красных роз:
Цвет взяла для щек румяных, аромат — для черных кос.
Станут розовыми воды, где омоешь ты лицо.
Пряным мускусом повеет от распущенных волос.
* * *
Прелесть смоляных, вьющихся кудрей
От багряных роз кажется нежней.
В каждом узелке — тысяча сердец,
В каждом завитке — тысяча скорбей.
* * *
Мы прятали кольцо, играя, — потеха для сердец.
Сменялся проигрыш удачей — таков удел колец.
А мне судьба не подарила ни одного кольца,
Но вот уж полночь миновала — и повести конец.
* * *
Мы пьем, потому что пылаем весельем,
Мы пламя веселья с подругами делим.
Безумными нас называют безумцы,
Но мы сражены не безумьем, а хмелем.
* * *
Мою Каабу превратила ты в христианский храм,[32]
Неверная, друзей лишила, зачем — не знаю сам.
А после тысячи поклонов кумиру моему,
Любовь, я стал навеки чуждым всем храмам и богам.
* * *
Твой дух жестокостью не может насытиться вполне.
Твои глаза не прослезятся, коль я сгорю в огне.
Как странно мне, что больше жизни люблю тебя, люблю,
Хотя ты хуже вражьих полчищ, грозящих смертью мне.
* * *
Судьбу свою благослови и справедливо ты живи,
Оковы горя разорви, вольнолюбиво ты живи.
Ты не горюй, когда себя среди богатых не найдешь, —
Найдя себя средь бедняков, легко, счастливо ты живи.
* * *
Мы сердце господу вручим с душевным нашим жаром,
Скажи: зачем стремиться нам к дирхемам и динарам?
Мы нашу душу посвятим единой, чистой вере,
А сами вступим в правый бой, чтоб жизнь прожить недаром.
* * *
Великодушием отмечен царь державы:
Он стрелы золотом украсит в день кровавый,
Чтоб саван для себя сумел добыть убитый,
А раненый — купить лекарственные травы.
* * *
Еще я не пустился в путь к тебе, мечта моей души,[33]
Еще свиданием с тобой не насладился я в тиши,
А между тем уже с небес приказ мне слышен: «Поспеши,
Кувшин разлуки пред тобой — скорее чашу осуши!»
* * *
Слепую прихоть подавляй — и будешь благороден![34]
Калек, слепых не оскорбляй — и будешь благороден!
Не благороден, кто на грудь упавшему наступит.
Нет! Ты упавших поднимай — и будешь благороден!
* * *
Тогда лишь требуют меня, когда встречаются с бедой.
Лишь лихорадка обо мне порою спросит с теплотой.
А если пить я захочу, то, кроме глаза моего,
Никто меня не напоит соленой, жаркою водой.
КЫТА И РАЗЛИЧНЫЕ ФРАГМЕНТЫ[35]
* * *
Мир удивителен, о милый друг!
Вот так вращается небесный свод:
То сделает тебя судьба царем,
Тебе державу даст, венец, почет,
То, слабенького, бросит под сошник,
Всего тебя изрежет, перетрет.
* * *
Вселенная! То мачеха, то мать,
Ты почему детьми огорчена?
К чему тебе подпорки или столб,
Стальная дверь, кирпичная стена?
* * *
Ты птицу видел ли, что вдруг птенца лишилась?
Как плачет жалобно, охвачена тоскою!
Скажи мне, сокола ты видел ли седого?
Все зубы выпали, спина сходна с клюкою.
* * *
Да, верно: к мудрецу наш мир несправедлив.
От мира благ не жди, а будь трудолюбив.
Бери и отдавай, затем что счастлив тот,
Кто брал и отдавал, богатства накопив.
* * *
Как тебе не надоело в каждом ближнем видеть скрягу,[36]
Быть слепым и равнодушным к человеческой судьбе!
Изгони из сердца жадность, ничего не жди от мира,
И тотчас безмерно щедрым мир покажется тебе.
* * *
Едва замыслит дерзкий враг вступить с тобой в сраженье.
Вдруг разорвутся у него от страха все суставы.
Из-за того, что правишь ты, день следует за ночью,
Стал сокол другом воробью, блюдя закон твой правый.
Скорее вырви у врага ты древо жизни с корнем,
Чтоб в нашей жизни ты продлил веселья и забавы!
Покуда существует жизнь, пока в круженье вечном
Небесный неизменен свод, высокий, величавый,
Пусть в мире, в радости живут твои друзья и братья,
Пусть плачут в горе и в беде враги твоей державы!
* * *
Я понял, что прелесть такую не выразить словом певучим,
Бессильны хвалы золотые и трогательные газели.
Сама ее суть — песнопенье, и даже сильней песнопенья,
В сравненье с ее красотою слова на земле потускнели!
* * *
Лишь утвердил ты справедливость — под лазурный небосвод
Сокрылись каверзы насилья от вниманья бытия.
Так, что расчесывает сокол, словно ветер — колоски,
Своими острыми когтями хохолок у воробья.
* * *
На рассвете слышу я звуки тихого стенанья…[37]
. . . .. . . . ..
Милый друг, мне грустный стон арфы лебедеподобной
Кажется на слух милей, чем Аллаху восхваленья.
Заунывный томный лад мне всегда напоминает
Лани раненой мольбы и предсмертные томленья.
Нет, не пронзено стрелой тело арфы, но как часто
Ранит стрелами она все сердца без сожаленья!
То рыдает, то зовет, то, притихнув, робко стонет,
Утром, ночью внемлем ей, не скрывая удивленья.
Бессловесна, но зато сладостно красноречива,
О влюбленных говорит и дрожит от умиленья.
То разумного она властно закует в оковы,
То безумца наградит кратким счастьем просветленья.
* * *
Когда мы в ярости, когда больны мы гневом,
Что может быть стихов целительней и краше?
Прохладный ветерок приносит нам отраду,
От пламени пиров светлеет сердце наше.
Рубиновым вином утешь меня, о кравчий,
Из жбана мне налей — найду забвенье в чаше.
* * *
Если туча над твоим гордым стягом проплывет,
Если волны твоего благородства забурлят, —
Хлынут на твоих друзей золото и жемчуга,
А на недругов твоих ниспадут песок и град!
* * *
Все, что видишь, все, что любишь, недостойно мудреца,
Зелень, и миндаль, и вина — нет им счета, нет конца!
Мир — змея, а честолюбец — это тот, кто ловит змей,
Но змея от века губит неудачного ловца.
* * *
О время! Юношей богатым, светлоречивым, ясноликим[38]
Сюда для службы он явился на гордом скакуне верхом.
Ну, а понравится ль он шаху, когда спустя десятилетья
Он возвратится нищий, старый, проделав дальний путь пешком?
* * *
Просителей иные не выносят,
Не выслушав, на полуслове бросят.
Ты слушаешь, но выслушать не в силах,
А каково же мне, который просит?
Когда цветет тюльпан — вино прекрасно,
Тюльпан расцвел — вино тебе подносят!
* * *
Ожесточась, изгнал я из дому тебя,[39]
И на тебя свои грехи я перенес.
Как только ты ушел из дома моего,
Я пролил кровь из глаз. Но знаешь, в чем вопрос?
Мне странно, я дивлюсь поступку своему,
Мне горько, мне смешно от этих жарких слез.
* * *
Ты — лев, который стал потомком дива,[40]
Ты — лань, ты чащи горные тревожишь.
Ты — солнце: быстрота твоя такая,
Что атома быстрей промчаться можешь.
* * *
Ты на доске, где моют мертвецов,[41]
Недвижная, лежишь ты на спине.
Смотрю, опали груди у тебя,
Не вьются кудри… Плачу в тишине:
Я старым был, я был уже седым,
Когда ты молодость вернула мне.
* * *
Все сыплет, сыплет град из черной тучи —
Слетают звезды на холодный прах.
Ты можешь поскользнуться, это верно,
Но все же устоишь ты на ногах.
* * *
О Мадж, мои стихи читай, ты их постиг:
Я — разум и душа, ты — тело и язык.
Мы будем пить вино и целовать подруг,
Для наслаждения мы изберем цветник.
* * *
Ты любишь стан подруги круглобедрой,
Пьянящие глаза шалуньи смуглой,
Ячменным хлебом ты пренебрегаешь,
Ты тянешься к лепешке пышной, круглой.
* * *
Сынок, для злого мира мы сделались добычей,
Смерть — ворон, мы же — пташки: нет хуже доли птичьей!
В непрочном этом мире все, что цветет, увянет,
Смерть в ступе истолчет нас: таков ее обычай.
* * *
Как жаль, что отпрыск неразумный
Рождается от мудреца:
Не получает сын в наследство
Талант и знания отца.
* * *
Для сада разума — ты осень,
Весна — для цветника любви.
Меня любовь зовет пророком —
Творцом любви себя зови.
* * *
Платан изогнулся, как лук хлопкочеса,
Снег на гору выпал, лежит на вершине.
Где было прелестно, теперь неприглядно,
Где было прекрасно, там мрачно отныне.
* * *
На мир взгляни разумным оком,[42]
Не так, как прежде ты глядел.
Мир — это море. Плыть желаешь?
Построй корабль из добрых дел.
* * *
Как ни ласкай змею, назвав любимым чадом,[43] —
Она, рассвирепев, тебя отравит ядом.
Кто мерзок — мерзостью змеиной обладает,
С мерзавцем не водись, не будь с презренным рядом.
* * *
О, сахарны ее уста, бесценный этот сахар сладок,
Из-за ее кудрей пришла торговля амброю в упадок.
К чему мне разговор пустой о знаньях, о вещах ученых?
О мой кумир, я откажусь от легкомысленных повадок!
Так, как алоэ, никогда тростник благоухать не может,
Но сладости в алоэ нет, как в сахаре, — таков порядок!
* * *
О сердце, снова ты в когтях орлиных, —
С ней по заслугам надо расплатиться!
Ей говорю: «Жить без тебя не буду,
Ты — солнце мира, я — твоя частица!»
* * *
Кудри струятся ее, как вода,
Если шумит над водой ветерок.
Стан её кажется нам волоском,
Если пред нами один волосок.
* * *
Времени одежда сделалась грязна,
Юноша, отныне в прачечной она,
Скомкана, узоры выцвели на ткани,
Вот и жду я: что же выйдет из лохани?
* * *
Время — конь, а ты — объездчик; мчись отважно на ветру!
Время — мяч: стань крепкой клюшкой, чтобы выиграть игру!
Музыкант весьма искусен, сила есть в его руках,
Но сильней рука поэта, что приучена к перу!
* * *
Мы знаем: только бог не схож ни с кем из смертных,
Ни с кем ты не сходна, а краше божества!
Кто скажет: «День встает!» — на солнце нам укажет,
Но только на тебя укажет он сперва.
Ты — все, что человек в былые дни прославил,
И ты — грядущего хвалебные слова!
* * *
В конце концов любой из нас на два способен дела:
Иль принимает он удар, иль ударяет смело.
Нет ничего, что до конца познало б разрушенье,
Нет никого, кто б сразу был разрушен до предела.
* * *
Покуда дикий лук поднялся из земли,
Цвет ржавчины везде поля приобрели.
И каждый обнажил окровавленный нож:
Из лука дикого теперь обед хорош.
* * *
Слышу два великих слова — и страдаю, оскорбленный;
Их впустую чернь склоняет, не постигнув их законы.
О красавице прекрасной говорят: «Она прекрасна!»
Кто влюблен, того влюбленным кличет голос изумленный.
Это больно мне, подруга, ибо только ты прекрасна,
Это больно мне, страдальцу, ибо только я — влюбленный.
ЗАГАДКА[44]
Он без ушей отлично слышит, он хром, а поступь так легка.
Лишенный глаз, весь мир он видит, красноречив без языка;
Как стан любовницы, он гибок, змее движеньями подобен;
Он наделен печали цветом и грозной остротой клинка.
* * *
Не для того свои седины я крашу в черный цвет,[45]
Чтоб молодым считаться снова, грешить на склоне лет:
Кто скорбно плачет об умершем, тот в черное одет,
Скорбя о юности, седины я крашу в черный цвет.
* * *
Разумного мы хвалим, когда он скажет слово,
Но мудрый не похвалит невежду записного.
Нам пользы не приносит сладкоречивый скряга,
Козел не станет жирным от ласкового зова.
* * *
Цветок мой желанный, кумир тонкостанный,
О, где долгожданный напиток твой пьяный?
Он веет прохладой. Меня ты обрадуй
Хмельною отрадой зимы несказанной.
* * *
Вещам не зная истинной цены,
Ужель ты создан богом для войны?
Послушай, обладатель жизни краткой,
Ужель тебе сражения нужны?
* * *
Сей бренный мир отринь, понять умея,
Что он похож на шутку чародея.
Его добро сравни с пустою сказкой,
К дорогам зла его не тяготея.
* * *
Всевышний спас меня от горя, четыре качества мне дав:
Прославленное имя, разум, здоровье и хороший нрав.
Любой, кому даны всевышним четыре качества такие,
Пройдет свой долгий путь без горя, людских печалей не узнав.
* * *
Налей того вина, что, если капнет в Нил,
То пьяным целый век пребудет крокодил,
А если выпьет лань, то станет грозным львом,
Тем львом, что и пантер и тигров устрашил.
* * *
Приди, утешь меня рубиновым вином,
На чанге заиграй, мы пить с тобой начнем.
Такого дай вина, чтоб яхонтом сверкнул
Тот камушек степной, что отразится в нем.
КАЛИЛА И ДИМНА[46] Строки из поэмы
* * *
Тех, кто, жизнь прожив, от жизни не научится уму,
Никакой учитель в мире не научит ничему.
* * *
Пред обезьяной, зябнувшей зимой,
Внезапно вспыхнул светлячок ночной.
«Огонь!» — она подумала с волненьем
И сразу поднесла его к поленьям.
* * *
Нет в этом мире радости сильней,
Чем лицезренье близких и друзей.
Нет на земле мучительнее муки,
Чем быть с друзьями славными в разлуке.
* * *
С тех пор как существует мирозданье,
Такого нет, кто б не нуждался в знанье.
Какой мы ни возьмем язык и век,
Всегда стремился к знанью человек.
А мудрые, чтоб каждый услыхал их,
Хваленья знанью высекли на скалах.
От знанья в сердце вспыхнет яркий свет,
Оно для тела — как броня от бед.
* * *
О ком-нибудь узнав, что он мне враг,
Что хочет он меня повергнуть в прах,
Я стану с ним дружить всегда и всюду,
С ним ласково беседовать я буду.
* * *
К тебе стремится прелесть красоты,
Как вниз поток стремится с высоты.
* * *
От слов своих бывал я огорченным,
Бывал я рад словам неизреченным.
 Миниатюра из рукописи XVI в. Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.
Миниатюра из рукописи XVI в. Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.
РАЗРОЗНЕННЫЕ ДВУСТИШИЯ
* * *
Каждый день ты ловишь ухом сладких песен звоны,
Но услышать ты не хочешь угнетенных стоны.
* * *
Когда сочтут деянья твоей души и плоти,
Ты в Судный день застрянешь, как тот осел в болоте.
* * *
К добру и миру тянется мудрец,
К войне и распрям тянется глупец.
* * *
Закладывай крепко основы для зданий:[47]
Основа для зданья подобна охране.
* * *
Прекрасен день весны — пахучий, голубой,
Но мне милее ночь свидания с тобой.
* * *
Посмотри на лисью шкуру в мастерской у скорняка
И пойми, что хвост обычно выдает клеветника.
* * *
И чанга твоего, и песен звуки
Суть вопли умирающих от скуки.
* * *
Ты создан из праха, таков твой удел,
И прах — твоей жизни конечный предел.
* * *
Всегда восхваленья пишу от души,
Но лишь восхваленья тебе — хороши.
* * *
Можно ли подозревать в каверзах жену врача,
Если в колбе у тебя нехорошая моча?
* * *
Все знают, что грущу, томлюсь я не впустую:
Из-за твоих кудрей томлюсь я и тоскую.
* * *
Пусть одежда будет грязной — чистым должен быть я сам,[48]
Горе вам, сердцам нечистым, горе вам, дурным глазам.
* * *
Ко мне красавица из бани пришла, прелестна и томна,
От волшебства глаза играют, пылают щеки от вина.
* * *
Не обольщайся тем, что ты разбогател:
Увы, в глазах судьбы не нов такой удел.
* * *
Откажись от мира, спрячься от друзей и от врагов,
Двери дома запирая и на цепь и на засов.
* * *
Иди постигни опыт жизни — и малая его крупица
Тебе, чтоб одолеть преграды, всегда и всюду пригодится.
* * *
Живой в холодный склеп сойдет, мертвец вовек не оживет:
Так мир устроен с той поры, как движется небесный свод.
* * *
Мы — овцы, мир — загон, где есть один закон:
Едва наступит сон, сгоняют нас в загон.
* * *
Не упрекай меня, подруга, — с мое ты поживи,
К тебе, красавица, вернутся боль и тоска любви.
* * *
Нет, благородного отца нельзя безгрешным счесть,
Когда его ничтожный сын свою утратил честь.
* * *
Вот утка черная плывет, окружена водой,
Она подобна кораблю в оправе золотой.
* * *
Пока я жив, тебя хвалю я, труда не ведая иного:
То пахота моя, и жатва, и молотьба — и в поле снова!
* * *
Я весны люблю начало, мне мила ее краса,
Звоны лютни, щебет пташек, куропаток голоса.
* * *
У этих мясо на столе, из миндаля пирог отменный,
А эти впроголодь живут, добыть им трудно хлеб ячменный.
* * *
Мы идолам покорны деревянным,
Мир идолу подобен, мы — шаманам.
* * *
Где честный должен восседать, там восседает мерзкий плут,
Почетом окружен осел, в пренебрежении верблюд.
* * *
Не вздумай на себя принять вину друзей: к чему обуза?
Еще никто не поднимал одной рукою два арбуза.
* * *
Красавица, разящая сердца,
Ты — брешь в безгрешной вере мудреца.
* * *
Неверно, что мудрец великий в своих наследниках живет:
Увы, продлится род, но мудрость не перейдет из рода в род.
* * *
Дай сласти — соколу, а мне — лобзать подругу дорогую.
Орешек раскололся? Нет, подругу громко я целую!
* * *
Целый месяц мне тебя непрестанно б целовать:
По частям тебе мой долг не хочу я отдавать!
* * *
Красавица, я сознаюсь: перед тобой не устою —
Ведь лучше самого меня любовь ты поняла мою
* * *
Соткав себе саван, погиб шелкопряд,
Но шелк превратился в чудесный наряд.
* * *
Один только враг — это много, беда,[49]
А сотни друзей — это мало всегда.
* * *
От глаз твоих таинства мира сокрыты,
На мир лишь всевидящим сердцем смотри ты.
На явное зрением явным гляди,
На тайное — тайным, сокрытым в груди.
* * *
Любовь — мой труд и помыслы мои,
Мне мир не нужен, если нет любви!
* * *
Кто следует за вороном проклятым,[50]
На кладбище придет с таким вожатым!
* * *
Бог, найди меня и потеряй,
Укажи мне путь в пречистый рай.
* * *
И молодость прошла, и песнь ушла,
Мой нрав тяжел, и жизнь мне тяжела.
* * *
Ты одинок средь сотни тысяч лиц.
Ты одинок без сотни тысяч лиц.
* * *
Считает сытый наглецом голодного, что хлеба просит, —
Здоровый, он чужой недуг легко, как видно, переносит!
* * *
Так как создан ты из праха, в прах сойди, отбросив страх,[51]
Ибо прах — твое жилище, ты в жилище этом — прах.
* * *
Жестокий этот мир лишь мачехе подобен,
Он с пасынком свиреп и к падчерице злобен.
* * *
Злокозненного плод — его вражда.
Что пользы нам от этого плода?
* * *
Соблазны тела — деньги, угодья, отдых праздный;
Наука, званья, разум — души моей соблазны.
НОСИР ХИСРОУ{2}
ПОРИЦАНИЕ И ПОХВАЛА
В ПОРИЦАНИЕ СВЯТОШАМ
О ищущий! Дойди до сердца всех явлений
Без сердцевины нет ни знаний, ни умений.
Лишь истину познав, о правде говори!
Не знающий пути — не годен в главари.
О, не влагай руки в неведомую руку,
Чтобы, стремясь вперед, не колесить по кругу.
У истины святой есть полунощный тать:
Не вздумай же ему ты ноги лобызать.
На рынке бытия воров шныряет свора.
Так береги карман и в каждом бойся вора.
Пройдет ли тот слепец дорогой до конца,
Который вожаком берет себе слепца?
Скорбящий! Отыщи поводыря такого,
Чтоб для тебя нашел сочувственное слово.
Во всей подлунной нет обиднее обид,
Чем величать ханжу: «Священный Баязид!»
Послушаешь иных — аллахова порода!
А поразведаешь — ни племени, ни рода…
Как драгоценный клад в развалинах зарыт,
Так праведника дух под рубищем сокрыт.
Из пыли и шипов на свет выходит роза.
Не образ пред тобой: тут жизненная проза.
В ПОРИЦАНИЕ РОСТОВЩИКАМ
«Жалей» ростовщика: ведь из своих палат
Бедняга перейдет в неугасимый ад!
При взгляде на него презреньем насладимся:
Базарный пес — и тот почтенней лихоимца.
Одушевлен ли сей бездушный человек,
Который за дирхем нас душит целый век?
Который, окружен роскошеством и негой,
Способен бедняка лишить его ночлега?
Зато, когда скупец испустит бранный дух,
Сынок устроит пир с толпою потаскух.
Тот скряга целый век гонялся за наживой,
А этот спустит все, хоть юный да плешивый…
Сундук ростовщика — сам по себе порок!
И благо совершит — пойдет оно не впрок.
Не пей ты с ним вина — хоть умирай от жажды:
Кровавая слеза сокрыта в капле каждой.
Позорит ростовщик не только прах, но твердь!
С брезгливостью к нему притронется и смерть.
И хоть мильоны лет гореть в аду он будет,
Сам дьявол навсегда в котле его забудет.
В ПОРИЦАНИЕ ПОЭТАМ-ПАНЕГИРИСТАМ
Тупице подносить стихов святое зелье —
Что наряжать осла в шелка и ожерелье.
Стоишь и за стихом читаешь пышный стих,
А честь твоя меж тем стекает на пол с них…
Не стыдно ли тебе великое слагать
И славословье лить и в каждом слове лгать?
И вот надменный шах до облака раздут, —
А ты награды ждешь за этот рабский труд?
Не открывай же уст для пошлой суеты,
Не оскорбляй того, кто ищет красоты.
Ведь в шуме слов твоих стиха такого нет,
Чтоб заключались в нем раздумье и совет.
Они ведь рождены во имя серебра!
Так и не жди от них ни света, ни добра.
Ни трепета любви, ни скорби, ни веселья
Не сыщешь ничего в ослином ожерелье.
В ПОРИЦАНИЕ ЦАРЯМ И ВЛАСТЬ ИМУЩИМ
Как отвратительна властителя душа:
Изволь с ним говорить, почтительно дыша.
Самовлюбленный лев с когтями и клыками,
Обидчив, как цветок, дрожащий лепестками.
Когда объявит шах торжественный прием,
Не сами ль небеса сгибаются при нем?
И кажутся тогда почтенные мужчины
Кишеньем черноты, собраньем чертовщины.
Вот гадина юлит раздавленным хвостом,
Вон жаба перед ним дрожит с умильным ртом…
Когда он поутру подымется не в духе,
Просители бледны, как неземные духи.
Но если благостен и примет их гурьбой,
Как он на них глядит? Что видит пред собой?
Семь отроков пускай предстанут из Эфеса,
Явленью не придаст ни веры он, ни веса.
Да хоть бы сам мудрец о небо оперся —
Для шаха глас его не выше лая пса.
К воскрылиям души он полон неприязни,
Христа вторично он подверг бы лютой казни.
Зато к ослу Христа он нежностью согрет,
Копыто превратив в священный амулет.
ХВАЛА РЕМЕСЛЕННИКАМ
Ремесленником быть — нет в мире лучшей доли.
Не царь, но и не раб. Всегда на вольной воле.
Стучит он или шьет на трудовой скамье,
Но вечером поет, в родной своей семье.
Пускай не каждый день по горло сытым ходит,
Но умножает он все то, что производит.
Под молотом его златые искры мчатся…
И видят лишь добро жена и домочадцы.
Он в полночь сладко спит в куренье мирных снов,
А на заре опять среди своих обнов.
Тачает или шьет, варит или грохочет,
Он низменных страстей не знал и знать не хочет…
До смерти дни свои он знает наперед,
Доволен им господь. Доволен и народ.
Трудолюбив. Шутлив. Общительного нрава.
Осанна ремеслу! Ремесленнику слава!
Нет! Равного ему не сыщете нигде:
Ведь и самим царям нужда в его труде.
ХВАЛА ЗЕМЛЕДЕЛЬЦАМ
Но труд ремесленника миру не сгодится,
Когда у пахаря зерно не уродится.
Как славен труд его, Адама древний труд!
Что с земледелием сравниться может тут?
Он демонов зимы богатствами встречает,
Зверей и диких птиц в хозяйстве приручает.
Крестьянин что ни год, то открывает клад:
Здесь пашня у него, а там цветущий сад.
Кормилец добрый он создания любого,
Будь это человек, овца или корова.
И если только он на ремесло в обмен
Торгашески на хлеб не подымает цен,
То во вселенной нет и не было от века
Подобного ему святого человека.
Да будет всяк из нас велик своим трудом!
Здесь ключ от бытия. Здесь наш очаг и дом.
О ДОБРЕ И ЗЛЕ
ЗНАНИЕ
Под присмотром всегда держи свои владенья,
Ибо владенье ждет забот и наблюденья.
Два уха у тебя, два глаза у тебя —
Вот для твоих ворот надежнейшие звенья.
Учись и познавай! В превратностях судьбы
Познания твои — одно твое спасенье.
Кто знания щитом себя вооружил,
Тот в шуме бытия не знает треволненья.
Еще один совет: ты послухам не верь!
Молва всегда молва: шумит! Но тем не менье
Услышанным словам, услышанным вестям
С увиданным тобой — не может быть сравненья.
Поэтому слушков, как зайцев, не лови:
Всему, что услыхал, потребуй подтвержденья.
И наконец, еще: слова не есть дела.
Деянье — это плоть! Слова же — только тени…
Ты можешь сотни лет о жемчуге твердить,
Но если не нырнешь — он твой лишь в сновиденье.
РАЗУМ
Разумному внушает разум одно и то же — навсегда.
Остерегайся зла, запомни: зло — величайшая беда.
Ни хищникам, ни травоядным не уподобься — ты не зверь,
Но если зло творишь — от зверя чем отличаешься теперь?
Увы, подобна злая воля змее гюрзе! Сойди с тропы,
Не то ужалит, — ведь от страха к земле прикованы стопы!..
Но у души есть крылья: разум! Крылата разумом душа,
Взлетит из пропасти глубокой, освобождением дыша…
Взнесись на этих крыльях выше! Внизу, над разумом глумясь,
Тебя невежество поймает… Не поддавайся, — втопчет в грязь!
ДОБРОДЕТЕЛЬ
Да будет жизнь твоя для всех других отрадой.
Дари себя другим, как гроздья винограда.
Но если нет в тебе такой большой души —
То маленькая пусть сияет, как лампада.
Не огорчай людей ни делом, ни словцом,
К любой людской тоске прислушиваться надо!
Болящих — исцеляй! Страдающих — утешь!
Мучения земли порой жесточе ада.
Ты буйство юности, как зверя, укроти,
Отцу и матери всегда служи отрадой.
Не забывай о том, что мать вспоила нас,
Отец же воспитал свое родное чадо.
Поэтому страшись в беспечности своей
В их старые сердца пролить хоть каплю яда.
К тому же — минет час: ты старцем станешь сам,
Не нарушай же, брат, священного уклада.
Итак, живи для всех. Не думай о себе, —
И жребий твой блеснет, как высшая награда.
ДРУЖБА
Ты знаешь, сердце, что такое друг?
Он должен быть твоей судьбою — друг.
Для этого иди такой тропой,
Чтоб восхищался бы тобою друг.
Ищи такого, чтобы за него
Не жаль пожертвовать собою, друг!
Но в то же время, чтобы за тебя
Рискнул бы также головою друг.
Когда такого в жизни ты найдешь,
Не становись к нему спиною, друг.
В любой тоске, в томлении любом
Придет с улыбкою родною друг.
Два века надо жить, чтобы понять,
Чтобы осмыслить золотое — «друг»…
Не шутка это — хорошо дружить,
А дружба — дело непростое, друг.
Деяньем дружбу нужно доказать —
Не всякий друг тебе душою друг.
ДРУГ И НЕДРУГ
Ты должен различать, кто друг тебе, кто недруг,
Чтоб не пригреть врага в своих сердечных недрах.
Где неприятель тот, который в некий час
Приятностью своей не очарует нас?
Где в мире мы найдем тот корень единенья,
Который не покрыт корой и даже тенью?
Собака, что визжит и ластится, как друг,
Она своим друзьям не изменяет вдруг.
Собака — говорю! Но так ли ты уверен,
Что подлинный твой друг тебе до гроба верен?
И сердцевину тайн, доверенных ему,
Не обнажит вовек по слову своему?
Испытывай друзей и голодом и жаждой.
Любовью испытай! Но только раз — не дважды.
Кто дружбе изменил хотя бы только раз,
Тому уж веры нет, хоть пой он, как сааз.
И пусть перед тобой юлит гадючье тело,
Башку ей размозжить скорей — благое дело.
Поэтому-то я твержу одно и то ж:
Кто так тебя поймет, как сам себя поймешь?
Лишь те-то и друзья не на словах — на деле,
Кто нашикандалы и на себя б надели.
ЛИЦЕМЕРЫ И ДРУЗЬЯ
Мне дружба в обители этой отрады еще не дала,
Я сердца такого не знаю, в котором бы правда жила!
От кучки друзей лицемерных уж лучше бы стать в стороне,
Ненужные эти знакомства довольно поддерживать мне!
Друзья не затем суетятся, что им твоя доля близка:
Своей они требуют доли и сладкого ищут куска.
Твоей они ищут поддержки, когда ты здоров и богат, —
А в черный твой день убегают и прямо в глаза не глядят.
Уменьшится если богатство — уменьшится тут же любовь,
Не быть презираемым хочешь — динары, динары готовь!
Друзья тебе вред приносили, радея о пользе своей, —
От них похвалы ожидая, для них свои силы развей.
Ты весел, покамест у власти, — легко пробегают года,
Но стать беспокойным, угрюмым любого заставит нужда!
Напрасно ты ищешь надежных, кольчуге подобных друзей:
Никто узелка не развяжет запутанной сети твоей!
Ни в холод, ни в зной — ты запомни — друзья не годятся. Они
Холодного ветра не терпят, от зноя спасутся в тени.
Но другом мудрец называет того, кто испытан не раз,
Кто друга нигде не покинет, ни в горький, ни в радостный час,
Поддержкой его успокоит, и тайну его сохранит,
И другу послужит опорой печалей его и обид!
Кто поясом дружбы заветным себя препоясал навек,
Кто счастьем друзей не томился, под корень его не подсек.
Он жизни желает живущим, друзьям свои силы дарит,
Душой не кривит обинуясь: что чувствует, то говорит.
Друг — чистое зеркало друга, — друг другу они зеркала,
Взаимно друзья отражают сердца, и мечты, и дела.
Взаимности доброй и дружбы не ищет мудрец у глупца:
Нигде не сойдутся их мысли, никак не споются сердца.
Один непонятен другому, а значит, всегда и везде
Один неприятен другому, — подобны огню и воде!
Лишь глупому глупый годится, но дружба на лад не пойдет:
Начнут враждовать беспричинно, — один на другого плетет!
Два мудрых зато человека для дружбы пригодны вполне,
Друг другу прекрасные тайны доверят они в тишине!
Друг друга ничем не обидят, — поэтому вечно дружны.
Вранье, сквернословие, глупость, бессмыслица им не нужны.
И ты хорошенько запомни, откуда берется вражда.
От праздной, неумной насмешки, которая дружбе чужда.
Язык придержи, пребывая порой в нетерпении злом,
Не скалься, — остроты пустые не делай своим ремеслом!
Ты сам топором ударяешь по собственным тощим ногам,
А ногу друзьям подставляя, ты шею подставишь врагам.
Ты видишь ли внутренним оком — не светится лик у того,
Кто лжет или зря зубоскалит и друга хулит своего!
А вот клеветник, пересмешник — совсем не в чести у людей:
Пускай не свершил преступлений, — по-моему, все же — злодей!
Хоть будь ты царем, а насмешка тебя обесчестит, смеясь,
Хоть месяцем был ты высоким — повергнет на площади в грязь!
Душа к совершенству стремится, к насмешке — лукавый язык,
И каждый к тому и другому, не будучи твердым, привык.
Познанием разум гордится, высокое слово приняв,
Когда суесловием, ложью он брезгует гордо — он прав!
Зачахнув, душа умирает, бездельем пустым занята;
Ее каждодневная пытка — насмешка, вранье, суета…
Душа, оживленная правдой, играет, свободно дыша,
Становится нрав человека прекрасен и мил, как душа!
Насилие брось и подругой себе справедливость бери,
А те, кто вершить не боятся неправедный суд, — дикари.
Чужой тебе нужен достаток, отрады не видишь в ином…
Доколе тебе упиваться насилия черным вином.
Из этой обители хрупкой какое добро заберешь?
Понравился шелковый саван, — холщовый тебе нехорош.
Ты, коль других не стыдишься, — себя самого постыдись:
Не люди — собаки бесстыдны, взглянуть не могущие ввысь!
ЖАДНОСТЬ И НИЗОСТЬ
По ногам опутан ты, поскольку жадно пожелал чего-нибудь,
Жадность ты от рук отмой без спора, — выйдешь на свободный, чистый путь.
Алчно и угрюмо не гляди ты на принадлежащее другим:
Имя потеряет именитый, ежели он жадностью томим.
Желтые всегда у алчных лица, сытому желудку вопреки;
Алчности, — кто мужеством гордится, — голову скорее отсеки!
В жизни затруднение любое легким, я советую, сочти —
Так преодолеешь легче вдвое непреодолимое почти!
Иве подражаешь ты плакучей, — каждый ей тревожен ветерок…
Солнце и луна — пример получше: нам невозмутимости урок.
Будь на этом поприще достоин мужественных воинов в бою:
Враг твой — вожделение, ты — воин, в твердость мы поверили твою.
Коркою будь сыт, — но на свободе; в рубище, — но истинной красы.
Счастья нет у тех, чьи по моде кольцами закручены усы!
Жадный, — ты унижен, как собака. Кто не поиграл твоей судьбой?
Жадность от себя отринь, тогда ты будешь властелином над собой!
ДВУЛИЧИЕ
Слова, которые пошли с делами врозь
И жизнь в которые вдохнуть не удалось,
На дыню «дастамбуй» похожи, как ни грустно:
Она — красавица, душиста, но безвкусна…
Благоразумному указываю путь:
Игральным шариком иль мячиком не будь!
Польстив играющим, в низкопоклонстве пылком
Мяч обращен ко всем лицом, а не затылком.
А ты не сей того, что пожинать не рад,
Те не болтай слова, что самому претят.
ЯЗЫК
Прекрасен рот. Но в логовище рта
Беда для человека заперта.
Язык его таит и зло и грех.
Молчанье — вот сокровище для всех!
Но коли речь не можешь устеречь,
Так пусть добром твоя блистает речь.
Слова любви — как золото зари…
Такое, если можешь, говори!
Но слово зла скатится с языка, —
Гони его, как беркут бирюка!
КАСЫДЫ, ФРАГМЕНТЫ, АФОРИЗМЫ
О РАЗУМЕ И ПРОСВЕЩЕНИИ
Для коня красноречия круг беговой —
Это внутренний твой кругозор бытия.
Кто же всадник? — Душа. Разум сделай уздой,
Мысль — привычным седлом, и победа твоя.
Но позор, если круг беговой не широк, —
Пред судом ездоков не срами скакуна.
Не годится по узкой арене скакать,
Что не только коням — жеребятам тесна.
Знай, в поэзии лучших наездников нет,
Чем арабы, а Греции древней сыны
Медицину избрали ареной своей,
В чародействе индусские люди сильны.
Математика, музыка — римлян удел,
Власть Китая в искусстве рисунка тверда,
Но искусней художников свет не видал,
Чем багдадские мастера, никогда.
Так, по складу характера, ищет один
Содержание скрытое видимых тел,
А другой — безусловную ценность вещей,
Дорогого, дешевого точный раздел.
И на каждой из названных мною дорог
Превосходные, право, наездники есть,
И немало испытанных в деле мужей
Охраняют высокого опыта честь.
Кто открыл, что Юпитер, и Марс, и Луна
У горящего Солнца заимствуют свет.
Что моря, и пустыни, и горы Земли
Держит воздух — иного фундамента нет.
Или горьким растением «мироболан»
Огневицу кому врачевать удалось.
Где — в Китае — ревень, или в Риме самом
Против рези желудочной средство нашлось.
Кто был первым, кто римскую краску добыл,
С желтой серой дрожащую ртуть сочетав.
Кто сказал, что спасенье для гаснущих глаз
Исфаханского горного камня состав.
Кем назначено, что бадахшанский рубин
Йеменского сердолика ценней.
Разве менее красен, чем лал, сердолик.
Так откуда ж неравенство этих камней…
В суть явлений глазами ума загляни:
Лишь для них проницаема жизни кора.
Ты глаза свои много лечил, человек, —
Очи разума разве лечить не пора?
То, что скрыто от наших телесных очей,
Открывается ясному взору ума.
Разум — яхонт, а сердце живое — руда,
Рудником же душа да послужит сама.
Только разум все лучшие блага души
Философскому камню подобно творит:
Он — исток справедливости и доброты,
Милосердию учит и счастье дарит.
Страж бескрылого, темного тела — душа:
Благородная — тело она бережет,
Но не разум ли душу спасает твою
Из мирского зиндана — темницы забот.
Разум — тайный посланец к тебе, человек:
Неспроста поселился он в сердце твоем…
Как разведчик — о множестве тайных вещей
Вопрошает, оставшись с тобою вдвоем.
Это схоже, мол, с тем, а не схоже с другим —
Почему? А вот это похоже на то…
Строй вселенной был в первое время какой?
И за гранью вселенной крутящейся что?
Если скажешь: вселенной крутящейся вне
Лишь пустая, бездонная есть глубина, —
Объясни: относительно к той глубине,
Где вселенная? Движется ли она?
Предположим, доподлинно знает о том
Бог вертящейся нашей вселенной один,
Разрушающий и созидающий бог,
Всех развалин и добрых начал господин.
Предположим, он миру поставил ислам,
Почему же он так оборудовал мир,
Если знал, что в познании смысла вещей
Мусульманина будет превыше кафир.
Не хочу я в твои аргументы вникать,
Что «пророк и учитель такой-то изрек».
Ведь в науках другие народы сильны,
Разве ты — не рожденный с умом человек.
Изучай, познавай, не пугаясь преград:
Познающему — трудное станет легко;
Доказательства сделай кольчугой своей,
Аргументы, как щит, подними высоко!
Мягким словом осилишь невежду — врага:
Дождь долбил полегонечку каменный склон.
Речь премудрых должна быть метка, недолга
Стал «Сахбоном» отец лаконизма Сахбон.
В сто ман весом — ты разве не видел — броню
Острый камешек боя пронзает насквозь.
Ты познанием разум острей отточи,
Так Лукману напутствовать сына пришлось…
ЧЕМ ЛОТОС ГОЛУБОЙ ВИНОВЕН…
Чем лотос голубой виновен, — чем небосвод лазурный плох.
Ты, обвинитель, голословен, — упрямец к разуму оглох!
Нет, небосвод тобой не занят! Ему земное не под стать…
Познавший истину не станет незнающего упрекать.
Скинь со спины поклажу долга, по чести действовать учась.
Зачем откладывать надолго? Срок правосудию — сейчас!
Как счастья выпросишь у неба и счет предъявишь бытию,
Когда во мрак уводишь слепо звезду счастливую свою.
О человек! Ты разве ликом подобен ангелу? — Отнюдь!
В благотворении великом подобен ангелу пребудь.
В новруза день благоуханный в степи ты видишь неспроста,
Как распускаются тюльпаны, и каждый — яркая звезда!
Тюльпан блистающий, ликуя, звезде подобен почему? —
Он принял форму не другую, а ту, что надобна ему.
А ты, разумный, почему же не подражаешь тем, кто прав,
И образы берешь похуже, высоконравных не признав?
Нарцисса золото червонно и серебро его бело, —
Как Искандарова корона, земли созданье расцвело!
И померанец благовонный подобен царскому венцу, —
Плодами, цветом, пышной кроной он славе цезарской к лицу.
Но гордый тополь жаждал славы и свысока на мир глядел, —
Он прогадал — сереброглавый: ему — бесплодия удел.
А ты, — когда венцом господства твоя прельстилась голова, —
Ищи с достойнейшими сходства, пойди в учение сперва!
Дерев бесплодных древесину сожгут, и кончено для них.
И в том бесплодие повинно, — судеб не может быть иных.
Но если знание завяжет плоды на дереве твоем,
Тебе и небо честь окажет: в плодах мы солнце познаем.
Не ошибись, о брат, считая труд стихотворца баловством!
Затея, думаешь, простая писать о сложном и простом.
Ремесла праведные эти благой указывают путь:
Тебе на том — не здешнем — свете за них причтется что-нибудь.
Занятия почтенны эти, благоразумен книжный труд:
За них на том — не здешнем — свете подарки сладостные ждут!
Но если, добрый мастер слова, ты стихотворцем вздумал стать,
Ты не завидуй, что другому — быть музыкантом благодать!
Где восседать певцу в обычай, тебе не место ни на миг,
Не похваляйся глоткой бычьей, укороти-ка свой язык!..
Но есть опасность и другая… Доколе будешь ты опять,
Тысячекратно повторяя, «тюльпан» и «пальму» восхвалять.
«Явитесь, розовые щеки и стан красавицы, скорей!
Луноподобный лик жестокий и амбра черная кудрей!»
Так льешь потоки славословий на мир невежества и зла —
На тех, кто всюду наготове творить бесчинства без числа!
Нам всем их прихоти знакомы, — так для чего тебе, скажи,
Стихами прославлять законы корыстолюбия и лжи.
Обманов бездну не измеря, ты, очевидно, слишком прост!
Ложь — достояние безверья, бесчестьем пущенное в рост.
Невежд учение излечит. А я… Я — тот, благодари,
Кто перед свиньями не мечет свой жемчуг, о язык «дари»!
ШАТЕР НЕБЕС
О, доколе кружиться тебе надо мной
Днем и ночью, высокий шатер голубой?
Мчась, как бешеный конь, ты полвека меня
Обещаньем надежды влечешь за собой.
Мать ты многих и многих. Но дети твои
В униженья повергнуты, в горе тобой.
Беспредельны твои вероломство и зло.
Устыдись своей лживой природы кривой!
Мать какая и где еще, кроме тебя,
Для детей своих участи хочет худой?
Осыпаешь ты сахаром яд. Тростником
Накрываешь глубокую яму с водой.
Вот каков этот мир!! Лишь дорогой добра
Невредимо пройдешь над его западней.
В Зенд Авесте написано: гибели злых
Все их злые деяния будут виной.
Так бывает: кто яму копает другим,
В эту яму и сам попадает порой.
Если б я злодеяния не совершил,
Я бы не был в оковах, в темнице глухой.
Но доколе же своду тюрьмы тяготеть
Над твоей благородной и мудрой душой?
Поступай, как тебя наставляет худжат,
О мудрец, берегись этой бездны мирской.
Этот мир — безрассудный, бессмысленный див,
Ты один на один с этой силой слепой.
Если хочешь безумного ты укротить,
Знаний крепкий аркан ты имей под рукой.
Удались от злодеев, чтоб не возмутить
Мир душевный раскаяньем, черной тоской!
Что тебе не по нраву, того и другим
Не желай ты — чья жизнь бушевала рекой.
Ты иголку искал, а кетмень потерял,
Для смятенных исход неизбежен такой.
Завтра руки наследников жадных твоих
Достоянье растащат твое меж собой…
Сон тяжелый неведения отгони,
Солнцу знанья навстречу зеницы открой!
Если сам топором ты поранил себя,
Сам своим врачевателем будь, о больной!
«УТРОМ РАТЬ ИСПАРЕНИЙ НАД МОРЕМ ВЗОШЛА...»
Утром рать испарений над морем взошла,
Горы перлов из моря с собою взяла.
Рассмеялись зеленые лики полей,
Когда туча над ними рыдать начала.
Роза, шапочку яхонтовую надев,
С благовонной одежды росу отрясла.
Верба, жалуясь на притесненья зимы,
Воротник на груди своей разорвала.
От наветов и сплетен холодных ветров
Роза робкая взгляд от ручья отвела.
Разве ты не видал: на горах по утрам
Покрывалом собольим наброшена мгла?
Ветер просит прощенья за резкость свою
У тюльпанов, которыми степь расцвела.
Умывает он поле прохладной росой,
Где весна свое знамя с зарей подняла.
И одежды сверкающие цветникам,
Бирюзою осыпанные, соткала.
Чайной розе она подарила наряд,
В чашу красным тюльпанам вина налила.
Принесла она лилии белый венец,
А шиповнику серьги его припасла.
И короной царя в месяц Урдибихишт
Молодому нарциссу главу облекла.
Изумляйся деяньям вселенной вокруг,
Поучайся, смотря на земные дела.
Вот ликует земля, увидав, что над ней
Туча темная трауром высь облегла.
Посмотри на тюльпан и на тучу: огонь
Создал тучу, а туча огонь родила.
Тем, кто бедствовал долгой зимою, весна
В утешение свой ветерок подняла.
Если в мыслях твоих вожделенье к вину,
Если сердце красавица песней зажгла,
Ты без муки не освободишься от них,
Крепки путы у страсти, тверды удила.
В плен попав, не уйдешь ни из царских дворцов,
Ни от страха перед старшиною села.
Не уйдешь, если страсть, как веревка с кольцом,
В нос верблюду продетым, тебя повела.
Не таков человеческий подлинный путь.
Ты подумай, покамест пора не прошла.
Хочешь славы и чести, а сам говоришь:
«Я слуга властелина, носитель жезла!»
Ты добычею стал, на добычу идя,
Как лиса попадается в когти орла.
Знай, — пока ты пытался навьючить меня,
На тебя чья-то грузная ноша легла.
Ты, на взгляд мой, животное вьючное; спесь
У тебя беспредельна, а честь — умерла.
Ни на чем не основанной спеси твоей
Ты стыдился бы, если бы совесть была.
Ты животного хуже. Ты спину свою
Сам под ношу подставил, что так тяжела…
Ты лишен человечности лучших плодов,
Ты высок, но бесплоден душой, как ветла.
Хоть ветла никогда не приносит плодов,
Пусть бы знания плод твоя жизнь принесла!
Да, напрасно тебе — негодяю — судьба
Стан высокий, стройней кипариса дала.
О, когда б ты опомнился, ива твоя
Плодоносною стала бы, амброй текла!
Ну, а если останешься прежним, как див,
С сердцем полным невежества, скверны и зла,
От тебя будет нечего ждать, как в саду
От гнилого, лишенного сучьев ствола.
Человеческий образ ты носишь: так что ж
Добровольно себя превращаешь в осла?
Ты прекрасен лицом: но на стенах дворцов,
В банях наших — прекрасных картин без числа.
Помни: выше невежды в глазах мудреца
И змея, что на солнце из тьмы приползла.
РАЗМЫШЛЕНИЕ В ЮМГАНЕ
Друг отшатнулся от меня вчера,
Увидев, что прошла моя пора.
Любимая дорогу позабыла
Сюда, ко входу моего шатра.
Неужто потому, что исхудал я —
Стал тоньше соколиного пера,
Ты не узнал меня, мой собеседник,
Со мною проводивший вечера?
Мой стан, как ручка посоха, согнулся…
Когда дохнули зимние ветра,
Увял мой цвет, и лик румяный бледен
Стал, как зола угасшего костра…
Но против гнета времени слепого
Есть в сердце сила у меня одна —
Моя опора и моя защита, —
Величие духовное она.
Над разумом моим и над душою
Власть небесами диву не дана.
Хоть все, что сделать мог со мной, он сделал:
Гляди, как плоть моя измождена.
И побелела борода, что прежде
Была, как амбра свежая, черна.
Но эта плоть жемчужнице подобна,
И в ней жемчужина заключена.
Стремиться буду к действенному знанью,
Пока стена Юмгана мне верна.
Я страха перед временем не знаю,
Я независим, жизнь моя вольна.
Покамест на меня не взглянет время,
Мысль от него моя отвращена.
Судьбы-верблюда моего веревка
Не будет в руки шаху отдана.
Стремлением к презренному величью
Моя одежда не загрязнена.
И никогда, пока владею телом,
Душа врагу не будет предана.
Вовек не будет милость недостойных
Как оскорбленье мне нанесена.
По степи знаний и высоких споров
Крылатого гоню я скакуна.
В пыли его копыт тропа кривая
Противников теряется, темна.
Эй, Носиби, невежда, враг Алия,
Что так мила тебе со мной война?
Ты, как змея, шипишь и угрожаешь,
Но мне твоя угроза не страшна.
Злорадствуешь, что жизнь моя в Юмгане
Любви и состраданья лишена?
Как в недрах гор скрываются алмазы,
Так мысль моя — в горах блестит она.
«ВЫШЕЛ ВОЛК ГОЛОДНЫЙ...»
Вышел волк голодный, видит полн ягнят простор степной,
Медленно проходит стадо мирной пастьбою ночной.
Режет волк овец. А овцы щиплют сочную траву.
Волк и овцы наполняют с жадностью желудок свой.
Волк траве — ягненок мирный, а для волка он — трава.
Помни это! Редко встретишь меткий оборот такой.
Помни это выраженье, зорче в жизнь свою вглядись:
Волком быть или ягненком, бойся участи любой!
Ты в погоне за ягненком? Но, глупец, не забывай:
На тебя, как на ягненка, смотрит кто-нибудь другой.
Ты не волк и не ягненок? Почему же при дворе
Состоишь? Без оговорок дашь ли мне ответ прямой?
Не гордись, что хлеб пшеничный и ягненка ешь, а друг
Черствый хлеб, отсевков полный, ест с холодною водой.
Одинаково придется как тебе, так и ему
Вечность пролежать недвижно без обеда под землей.
Разве ты услышишь это, разве сердцем ты поймешь,
Если уши внемлют пенью, если взгляд пленен игрой?
Удивительного хочешь. Чуда в жизни ищешь ты.
Что ж в окно через решетку смотришь ты на мир земной?
Нет, гляди и удивляйся на себя, что скован ты
Цепью крепкою под этой высью вольной голубой.
Что в неведении жалком чистая твоя душа,
Как сова, живет в руинах, в сумрачной степи глухой!
Что тебе от этих пышных цветников, садов, дворцов?
Плоть твоя — чертог прекрасный, панорама — разум твой.
Спишь ты сладко. Над тобою днем и ночью небосвод
Колыбельным пеньем веет, а не громом, не грозой.
Если жизнь провесть ты хочешь, как осел, в еде и сне,
Ты душой увязнешь в муках, как в грязи осел зимой.
Чтоб с лицом, покрытым прахом, не предстать пред судией,
Чистою водою знанья лик души своей омой!
Баня, мускус и бальзамы старости не победят;
Старые стирать одежды и утюжить — труд пустой.
Ведь они не обновятся… наставления прими,
Хоть совет полезный горек, как целительный настой.
Сохрани же от худжата хорасанского навек
Слово доброго совета, слово мудрости живой!
«В ГОРЬКИХ РАЗДУМЬЯХ МОИХ...»
В горьких раздумьях моих вся истомилась душа.
Тщетно я людям внимал, мудрых возжаждав речей.
Лгал мне и тот и другой, лгали глупец и слепец,
Стал у пророка искать я указанья путей, —
Но про Корана стихи тщетно я спрашивал всех,
Молвить кому бы я смог: душу мне знаньем согрей!
Дом я покинул тогда; бросил, в скитанья спеша,
Сад, где пестрели цветы, тканей узорных пестрей.
Лгал мне и тюрк, и араб, некто из Синда, индус,
Старый румиец, и лгал так же мне сын твой, о Рей!
Спрошен был мною в пути тот, кем не чтится творец,
И манихей, и сабей, спрошен был мною еврей.
Часто, на камни ложась, из облаков свой шатер
Я мастерил и в глуши спал наподобье зверей.
Я по горам проходил выше высокой луны,
Спутником рыб по волнам несся я ветра быстрей.
То я блуждал по пескам жарче горячей золы,
То по стране, где зимой мрамора тверже ручей.
То между осыпей шел, то вдоль потоков седых,
То в бездорожье, в горах старого мира старей.
То пред верблюдами брел, тяжко веревку влача,
То, словно вьючная тварь, с ношею — мимо дверей,
В город из города шел, всюду людей вопрошал,
К берегу дальних земель плыл я по шири морей.
«В ТЕНИ ЧИНАРЫ...»
В тени чинары тыква подросла,
Плетей раскинула на воле без числа,
Чинару оплела и через двадцать дней
Сама, представь себе, возвысилась над ней.
«Который день тебе? И старше кто из нас?» —
Стал овощ дерево испытывать тотчас.
Чинара скромно молвила в ответ:
«Мне — двести… но не дней, а лет!»
Смех тыкву разобрал: «Хоть мне двадцатый день,
Я — выше!.. А тебе расти, как видно, лень?..»
«О тыква! — дерево ответило, — с тобой
Сегодня рано мне тягаться, но постой,
Вот ветер осени нагонит холода, —
Кто низок, кто высок, узнаем мы тогда!»
 Миниатюра из рукописи XVI в. Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.
Миниатюра из рукописи XVI в. Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.
АФОРИЗМЫ
* * *
Не суди, о чем не знаешь, — правило простое:
Промолчать гораздо лучше, чем сказать пустое.
* * *
Коль сам себе не хочешь накликать горя злого,
Так прикуси язык свой, сдержись от злого слова.
* * *
Не гордись пустой хвалою, никогда льстецам не верь,
Коль осмеянным не хочешь жить да каяться весь век.
* * *
Плачет, словно об увечье, о невежестве своем
Оттолкнувший в детстве книгу и заблудший человек.
* * *
Слово с делом примири, чтоб уста и сердце впредь
Не напомнили тебе позолоченную медь.
* * *
Глупостью на глупость не отвечай.
Верностью предательство обличай.
* * *
Знанье — краса твоя; с нею ль равнять
Купленный блеск драгоценной одежды.
* * *
Спорь с пустоловом и помни, что мир
Тесная клетка лишь для невежды.
* * *
Мудрый, зная много, богачом слывет,
Но богач не сможет мудрецом прослыть.
* * *
Знанием добудешь тысячи мечей,
Но мечом не сможешь знания добыть.
* * *
Человек хорош, коль светел изнутри.
На блистательную внешность не смотри.
* * *
Счастьем возможно ль гордиться, если оно
С вечною силою знанья разлучено.
* * *
Человек велик бывает лишь умом и знаньем,
А без них — неразличимы, бесприметны станем.
* * *
Ты взвешивай слово на точных весах.
Бездумное слово — лишь ветер и прах.
* * *
Если человек ты родом, волчьей злости не таи.
Не в ладу с высоким званьем низкие дела твои.
* * *
Желанное счастье послушно тому лишь,
Кто ясному разуму чутко послушен.
Все трудное — легким в учении станет,
Коль будешь с хорошею книгою дружен.
* * *
Ум рабу вручает дар свободы
И подъемлет рухнувшие своды.
* * *
Ты в людях цени только нрав благородный,
Не льстись на красу, не пленяйся нарядом.
Лишь знанье высоким достигни главенства
Над всеми, с тобою сидящими рядом.
* * *
Перед мудростью склоняться почитай себе за честь,
Если хочешь ввысь подняться и величие обресть.
* * *
Мир — дворец благого созидания.
Жить в безделье — хуже нет обычая.
Если в меру сил своих работаешь,
Счастия достигнешь и величия.
* * *
Не каждый ли день ты веру меняешь,
То снизу глядишь, а то с высоты.
В гостях всякий раз хозяину вторишь,
Боясь, что лишит своей щедроты.
Народу твердишь: «Ведь я же избранник!»
Но, жалкий, неизбранных ниже ты.
* * *
Невежеством ты осрамлен навсегда,
Невежество — вечный источник стыда.
* * *
Без ума и знаний — наг и беден ты,
Даже если будешь знатен и богат.
Если ты невежда — ты грешнее всех,
Можно ль утешаться, что не виноват?
Знанье превращая в нерушимый кров,
Обретешь защиту ото всех утрат.
* * *
Хочешь стать красноречивым — научись внимать сперва.
Тот, кто слушать не умеет, сможет ли найти слова?
* * *
Никогда от правды взора не прячь,
Не мечись туда-сюда, точно мяч.
* * *
Все, что слышишь, мерь неверия мерой.
Достоверно то, что видим мы сами.
Веруй зренью лишь, а слуху не веруй.
Требуй правды лишь и спорь с чудесами.
Жемчуг навсегда б остался химерой,
Если бы его искать словесами.
Надо увидеть! Доколь этой серой,
Мутной пелене лежать пред глазами!
* * *
Ты должен все узнать. Учись непременно
Ученье — не позор. Сокрытое манит.
Кто изощряет ум, учась откровенно —
В один счастливый день учителем станет.
* * *
К чему различие меж существами мира,
Когда ты создал всё и для всего — судья?
Но доля богача бескрайна, словно море,
А доля бедняка — лишь утлая ладья.
ОМАР ХАЙЯМ{3}
РУБАИ
* * *
Ты истины взыскуешь? Оставь жену, детей
И все, что мило сердцу, и близких, и друзей.
Все устрани, что может тебя связать в пути.
Чтоб двигаться свободно, оковы рви скорей.
* * *
Без нас пройдут года, а мир пребудет.
Исчезнем без следа, а мир пребудет.
Нас прежде не было, а мир плодился.
Уйдем — и навсегда, а мир пребудет.
* * *
Откуда мы пришли? Куда свой путь вершим?
В чем нашей жизни смысл? Он нам непостижим.
Как много чистых душ под колесом лазурным
Сгорает в пепел, в прах, — а где, скажите, дым?
* * *
О, не растите дерева печали…
Ищите мудрость в солнечном начале:
Ласкайте милых и вино любите!
Ведь не навек нас с жизнью обвенчали.
* * *
Росток мой — от воды небытия,[52]
От пламени скорбей — душа моя,
Как ветер, я кружу, ищу по свету —
Где прах, в который превратился я.
* * *
Я в этот мир пришел, — богаче стал ли он?
Уйду, — великий ли потерпит он урон?
О, если б кто-нибудь мне объяснил, зачем я,
Из праха вызванный, вновь стать им обречен.
* * *
Кто посетил сей мир, тому печаль понятна:
Вернуться должен он в небытие обратно.
Блажен душою тот, кто мир покинул рано,
А кто не приходил совсем — блажен стократно.
* * *
Кто мы? — Куклы на нитках, а кукольщик наш — небосвод.
Он в большом балагане своем представленье ведет.
Он сейчас на ковре бытия нас попрыгать заставит,
А потом в свой сундук одного за другим уберет.
* * *
Пускай ты прожил жизнь без тяжких мук, — что дальше?
Пускай твой жизненный замкнулся круг, — что дальше?
Пускай, блаженствуя, ты проживешь сто лет
И сотню лет еще, — скажи, мой друг, — что дальше?
* * *
Будь весел: не умрет вовеки мир земной,
И звездам не дано исчезнуть — ни одной.
Кирпич, сработанный из тела твоего,
В дому других людей возвысится стеной.
* * *
К чему печаль нам служит? Смелее веселись!
Неверен рок? Будь сердцу вернее, веселись!
Весь мир ничто? Тем лучше! Вообрази скорей,
Что нет тебя, и действуй вольнее, веселись!
* * *
Не так, как мы хотим, все движется кругом.
Так для чего ж пустым мы заняты трудом?
Мы каждый день грустны, — грустим из-за того,
Что поздно мы пришли, что рано мы уйдем.
* * *
Грозит нам свод небесный бедой — тебе и мне,
И надо ждать разлуки с душой — тебе и мне.
Приляг на мягком дерне! В могиле суждено
Питать все эти корни собой — тебе и мне.
* * *
Знай, в каждом атоме тут, на земле таится
Дышавший некогда кумир прекраснолицый.
Снимай же бережно пылинку с милых кос:
Прелестных локонов была она частицей.
* * *
Стебель свежей травы, что под утренним солнцем блестит,
Волоском был того, кто судьбою так рано убит.
Не топчи своей грубой ногой эту нежную травку,
Ведь она проросла из тюльпановоцветных ланит.
* * *
Сияли зори людям и до нас!
Текли дугою звезды — и до нас!
В комочке праха сером под ногою
Ты раздавил сиявший юный глаз.
* * *
Меж твердой верой в бога и безбожьем — одно мгновенье.
Меж правильным путем и бездорожьем — одно мгновенье.
Цени же это краткое мгновенье, как драгоценность:
В итоге жизни что мы вспомнить можем? Одно мгновенье!
* * *
Если все государства, вблизи и вдали,
Покоренные, будут валяться в пыли —
Ты не станешь, великий владыка, бессмертным,
Твой удел невелик: три аршина земли.
* * *
Светила ночи в высях сферических основ
Своим движеньем с толку сбивают мудрецов.
Держись за нить рассудка: он там нас проведет,
Где головы кружатся других проводников.
* * *
Будь осмотрителен — судьба-злодейка рядом!
Меч времени остер — не будь же верхоглядом!
Когда судьба тебе положит в рот халву,
Остерегись — не ешь: в ней сахар смешан с ядом!
* * *
О судьба! Ты насилье во всем утверждаешь сама.
Беспределен твой гнев, как тебя породившая тьма.
Благо подлым даришь ты, а горе — сердцам благородным,
Или ты не способна к добру, иль сошла ты с ума?
* * *
Вот снова день исчез, как ветра легкий стон,
Из нашей жизни, друг, навеки выпал он.
Но я, покуда жив, тревожиться не стану
О дне, что отошел, и дне, что не рожден.
* * *
Те, что украсили познанья небосклон,
Взойдя светилами для мира и времен,
Не расточили тьму глубокой этой ночи,
Сказали сказку нам и погрузились в сон.
* * *
Мне так небесный свод сказал: «О человек,
Я осужден судьбой на этот страшный бег.
Когда б я властен был над собственным вращеньем,
Его бы я давно остановил навек».
* * *
Тот усердствует слишком, кричит: «Это — я!»
В кошельке золотишком бренчит: «Это — я!»
Но едва лишь успеет наладить делишки —
Смерть в окно к хвастунишке стучит: «Это — я!»
* * *
Рок громоздит такие горы зол,
Их вечный гнет над сердцем так тяжел!
Но если б ты разрыл их! Сколько чудных,
Сияющих алмазов ты б нашел!
* * *
О тайнах сокровенных невеждам не кричи
И бисер знаний ценных пред глупым не мечи.
Будь скуп в речах и прежде взгляни, с кем говоришь:
Лелей свои надежды, но прячь от них ключи.
* * *
Конечно, цель всего творенья — мы,
Источник знанья и прозренья — мы.
Круг мироздания подобен перстню,
Алмаз в том перстне, без сомненья, — мы.
* * *
Если розы не нам — и шипов вместо дара довольно.
Если свет не для нас — нам очажного жара довольно.
Если нет ни наставника, ни ханаки, ни хырки —
С нас и церкви, и колокола, и зуннара довольно.
* * *
Рабы застывших формул осмыслить жизнь хотят,
Их споры мертвечиной и плесенью разят.
Ты пей вино! Оставь им незрелый виноград.
Оскомину суждений, сухой изюм цитат.
* * *
Пренебреги законом, молитвой и постом,
Зато делись, чем можешь, с голодным бедняком:
Будь добр… Твоя награда — я сам порукой в том —
Теперь земное счастье, бессмертие — потом.
* * *
Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало.
Два важных правила запомни для начала:
Ты лучше голодай, чем что попало есть,
И лучше будь один, чем вместе с кем попало.
* * *
У занимающих посты больших господ
Нет в жизни радостей от множества забот,
А вот, подите же: они полны презренья
Ко всем, чьи души червь стяжанья не грызет.
* * *
В чертогах, где цари вершили суд,
Теперь колючки пыльные растут.
И с башни одинокая кукушка
Взывает горестно: «Кто тут? Кто тут?»
* * *
Нет благороднее растений и милее,
Чем черный кипарис и белая лилея.
Он, сто имея рук, не тычет их вперед;
Она всегда молчит, сто языков имея.
* * *
Дружи с разумными людьми, чтобы не знать мытарства,
Беги за тридевять земель от подлого коварства.
Тебе отраву даст мудрец — отраву эту выпей,
Тебе лекарство даст подлец — не принимай лекарства!
* * *
Из кожи, мышц, костей и жил дана творцом основа нам.
Не преступай порог судьбы. Что ждет нас, неизвестно, там,
Не отступай, пусть будет твой противоборец сам Рустам.
Ни перед кем не будь в долгу, хотя бы в долг давал Хотам.
* * *
Кто ценит знания, кого влечет наука, —
Решил доить козла… О, жалкой жизни скука!
Не лучше ли глупцом прикинуться сегодня?
Дороже мудрости у нас головка лука!
* * *
О, если б каждый день иметь краюху хлеба,
Над головою кров и скромный угол, где бы
Ничьим владыкою, ничьим рабом не быть, —
Тогда б благословить за счастье можно б небо.
* * *
Встань! Бросил камень в чащу тьмы восток:
В путь, караваны звезд! Мрак изнемог.
И ловит башню гордую султана
Охотник-солнце в огненный силок.
* * *
Росинки на тюльпане — жемчужины цветка.
Свои головки клонят фиалки цветника.
Но как соблазна полон трепещущий бутон,
Что прячется стыдливо в одежд своих шелка!
* * *
Бегут за мигом миг и за весной весна,
Не проводи же их безпесен и вина.
Ведь в царстве бытия нет блага выше жизни, —
Как проведешь ее, так и пройдет она.
* * *
Взгляни: одежду розы раздвинул ветерок;
Как соловья волнует раскрывшийся цветок!
Не проходи же мимо: ведь роза расцвела
И распустилась пышно лишь на короткий срок.
* * *
Зачем печалью сердечный мир отягчать?
Зачем заботой счастливый день омрачать?
Никто не знает, что нас потом ожидает.
Здесь нужно всё нам, что можем мы пожелать.
* * *
О горе, горе сердцу, где жгучей страсти нет,
Где нет любви мучений, где грез о счастье нет!
День без любви — потерян: тусклее и серей,
Чем этот день бесплодный, и дней ненастья нет.
* * *
Смеялась роза: «Шалый ветерок
Сорвал мой шелк, раскрыл мой кошелек
И всю казну тычинок золотую —
Смотрите — щедро кинул на песок».
* * *
Сказала роза: «Я Юсуф египетский среди лугов,
Как драгоценный лал в венце из золота и жемчугов».
Сказал я: «Если ты — Юсуф, примета где?» А роза мне:
«Взгляни на кровь моих одежд — и все ты сам поймешь без слов».
* * *
Красой затмила ты Китая дочерей,
Жасмина нежного твое лицо нежней;
Вчера взглянула ты на шаха Вавилона
И все взяла: ферзя, ладьи, слонов, коней.
* * *
Душа моя, мечта моя — ты красоты полна!
В тебя, моя красавица, природа влюблена.
Пускай красотки к празднику свой украшают лик,
Лицо твое и праздники украсит, как луна.
* * *
Мне свят веселый смех иль пьяная истома,
Другая вера мне иль ересь незнакома.
Я спрашивал судьбу: «Кого же любишь ты?»
Она в ответ: «Сердца, где радость вечно дома».
* * *
Люблю тебя и слышу со всех сторон укор;
Терплю, боюсь нарушить жестокий договор;
И, если жизни мало, до дня Суда готов
Продлить любви глубокой и мук суровых спор.
* * *
Солнце пламенного небосклона — это любовь,
Птица счастья средь чащи зеленой — это любовь.
Нет, любовь не рыданья, не слезы, не стон соловья,
Вот, когда умираешь без стона, — это любовь.
* * *
Кумир мой — горшая из горьких неудач! —
Сам ввергнут, но не мной, в любовный жар и плач.
Увы, надеяться могу ль на исцеленье,
Раз тяжко занемог единственный мой врач?
* * *
Как полон я любви, как чуден милой лик,
Как много я б сказал и как мой нем язык.
Не странно ль, господи? От жажды изнываю,
А тут же предо мной течет живой родник.
* * *
Вот книги юности последняя страница.
Ко мне восторг весны, увы, не возвратится.
Меня задев крылом, ты промелькнула мимо,
О молодость моя, ликующая птица!
* * *
Подстреленная птица — грусть моя —
Запряталась, глухую боль тая.
Скорей вина! Певучих звуков флейты,
Огней, цветов!.. И снова весел я.
* * *
В том не любовь, кто буйством не томим.
В том хворостинок отсырелых дым.
Любовь — костер пылающий, бессонный.
Влюбленный ранен, он неисцелим.
* * *
Вновь распускаются розы под утренним ветерком,
И соловьиною песней все огласилось кругом.
Сядем под розовой сенью! Будут, как нынче, над нами
Их лепестки осыпаться, когда мы в могилу сойдем.
* * *
Дух рабства кроется в кумирне и в Каабе,
Трезвон колоколов — язык смиренья рабий,
И рабства черная печать равно лежит
На четках и кресте, на церкви и михрабе.
* * *
В кумирню, в келью иль в мечеть вступая,
Боятся люди ада, ищут рая.
Но разве там проникнут в тайну бога?
Нет, к истине ведет стезя иная.
* * *
Однажды встретился пред старым пепелищем
Я с мужем, жившим там отшельником и нищим.
Чуждался веры он, законов, божества, —
Отважнее его мы не отыщем.
* * *
Когда б небеса справедливо вершили дела,
Велениям неба не молкла бы в мире хвала.
Когда б от судьбы справедливость и милость явилась,
Ничья бы душа и в обиде тогда не была.
* * *
Добро и зло враждуют, мир в огне,
А что же небо? Небо в стороне.
Проклятия и радостные гимны
Не долетают к синей вышине.
* * *
Разум смертных не знает, в чем суть твоего бытия.
Что тебе непокорность моя и покорность моя?
Опьяненный своими грехами, я трезв в упованье,
Это значит: я верю, что милость безмерна твоя.
* * *
Давно меж мудрецами спор идет —
Который путь к познанию ведет?
Боюсь, что крик раздастся: «Эй, невежды,
Путь истинный — не этот и не тот!»
* * *
Судьба мой путь предначертала, он только след ее пера,
Так почему ж меня считают причиной зла или добра?
Ужели буду я виновен, коль завтра совершится зло?
Все без меня решили ныне, решили без меня вчера!
* * *
Ты сам ведь из глины меня изваял! — Что же делать мне?
Меня, словно ткань, ты на стане соткал. — Что же делать мне?
Все зло и добро, что я в мире вершу, ты сам предрешил,
Удел мой ты сам мне на лбу начертал! — Что же делать мне?
* * *
Пустивший колесо небес над нами в бег
Нанес немало ран тебе, о человек!
Как много алых губ и локонов душистых
Глубоко под землей он схоронил навек.
* * *
Жизнь сотворивши, смерть ты создал вслед за тем,
Назначил гибель ты своим созданьям всем.
Ты плохо их слепил? Но кто ж тому виною?
А если хорошо, ломаешь их зачем?
* * *
О небо, ты души не чаешь в подлецах!
Дворцы, и мельницы, и бани — в их руках;
А честный просит в долг кусок лепешки черствой…
О небо, на тебя я плюнул бы в сердцах!
* * *
Наполнил зернами бессмертный Ловчий сети,
И дичь попала в них, польстясь на зерна эти.
Он эту дичь назвал людьми и на нее
Взвалил вину за зло, что сам творит на свете.
* * *
О боже! Милосердьем ты велик!
За что ж из рая изгнан бунтовщик?
Нет милости — прощать рабов покорных,
Прости меня, чей бунтом полон крик!
* * *
Пусть я восстал, мятежный. Ты, всепрощенье, где?
Во тьме грехов безбрежный — ты, свет спасенья, где?
Ты рай даешь за службу, ты нам лишь платишь долг.
А милости, всещедрый, благоволенье где?
* * *
Чтоб угодить судьбе, глушить полезно ропот.
Чтоб людям угодить, полезен льстивый шепот.
Пытался часто я лукавить и хитрить,
Но всякий раз судьба мой посрамляла опыт.
* * *
Мои заслуги точно, все до одной сочти:
Грехов же, ради бога, десятки пропусти —
Их ветреность раздует все адские огни,
Уж лучше, ради праха пророка, все прости.
* * *
Восстань! Пригоршню праха в лицо брось небесам,
Конец надеждам, страхам, молитвам и постам!
Люби красу земную, земное пей вино:
Никто не встал из гроба, а все истлели там.
* * *
И слева мне и справа твердят: не пей, Хайям!
Вино — враг веры правой, сок лоз — отрава нам.
Вино — враг веры правой? Так пей же кровь лозы.
Ведь кровь врагов лукавых нам пить велит ислам!
* * *
Из сиреневой тучи на зелень равнин
Целый день осыпается белый жасмин.
Наливаю подобную лилии чашу
Чистым розовым пламенем — лучших из вин.
* * *
По утрам я слышу клики из окрестных кабаков:
«Эй, несчастный рэнд безумный, завсегдатай погребков!
К нам иди! И пусть нам кравчий поживей наполнит чаши,
Прежде чем вином наполнят чаши наших черепов».
* * *
Не доверяй ханжей пустому суесловью.
К чему тебе аллах? Свой день укрась любовью.
Покуда кровь твою не пролил злобный рок,
Ты кубок наполняй бесценных гроздий кровью.
* * *
Что мне блаженства райские «потом»!
Прошу сейчас, наличными, вином!
В кредит — не верю. И на что мне слава —
Под самым ухом барабанный гром?
* * *
Отречься от вина? Да это все равно
Что жизнь свою отдать! Чем возместишь вино?
Могу ль я сделаться приверженцем ислама,
Когда им высшее из благ запрещено?
* * *
Я пью вино не для веселья, я пью не для разврата,
Не для того, чтобы отвергнуть все, что светло и свято.
Хочу я на одно мгновенье познать самозабвенье, —
Вот почему я пью все время, горька моя расплата!
* * *
Наполнить камешками океан
Хотят святоши, — глупость иль обман?
Пугают адом, соблазняют раем, —
А где концы всех этих дальних стран?
* * *
Не правда ль, странно? Сколько до сих пор
Ушло людей в неведомый простор!
А ни один оттуда не вернулся, —
Все б рассказал, и кончен был бы спор.
* * *
Пусть буду я сто лет гореть в огне,
Не страшен ад, приснившийся во сне;
Мне страшен хор невежд неблагородных, —
Беседа с ними хуже смерти мне.
* * *
Кому он нужен, твой унылый вздох?
Нельзя, чтоб жар погас или заглох?
Обещан рай тебе? Так сам устройся,
А то расчет на будущее плох.
* * *
Поскольку только раз ты должен умереть,
Умри. Большой беды нельзя тут усмотреть.
Кровь, кости, жилы, грязь… Что ты теряешь?
Считай, их не было, как и не будет впредь!
* * *
В Коране слова из самых святых,
Но люди не часто впитывают их.
Зато припадают все к пиале:
Должно быть, на дне — священнее стих.
* * *
Вино запрещено, но есть четыре «но»:
Смотря кто, с кем, когда и в меру ль пьет вино*
При соблюдении сих четырех условий
Всем здравомыслящим вино разрешено.
* * *
Сказала рыба: «Скоро ль поплывем?
В арыке жутко! Тесный водоем…»
«Вот как зажарят нас, — сказала утка, —
Так все равно: хоть море будь кругом!»
* * *
Никто не лицезрел ни рая, ни геенны:
Вернулся ль кто-нибудь оттуда в мир наш тленный?
Но эти призраки бесплотные — для нас
И страхов и надежд источник неизменный.
* * *
Говорят, что существует ад.
В нем смола и пламя, говорят.
Но коль все влюбленные в аду,
Значит, рай, как видно, пустоват.
* * *
Не унывай, мой друг! До месяца благого
Осталось мало дней, — нас оживит он снова;
Кривится стан луны, бледнеет лик ее, —
Она от мук поста сойти на нет готова.
* * *
«Тут Рамазан, а ты наелся днем!» —
Невольный грех. Так сумрачно постом,
И на душе так беспросветно хмуро;
Я думал — ночь, и сел за ужин днем.
* * *
Вхожу в мечеть. Час поздний и глухой.
Не в жажде чуда я и не с мольбой:
Когда-то коврик я стянул отсюда,
А он истерся; надо бы другой.
* * *
Эй, небосвод неразумный! Хоть властен ты в каждой судьбе —
Ты благородным сердцем не помощник в суровой борьбе.
Ты не мужам посылаешь сокровища и жемчуга,
А мужеложцам презренным… Честь же и слава тебе!
* * *
Шейх сказал блуднице: «Ты пьяна!»
«Не скрываю! — говорит она.—
Ну, а ты похож ли на того,
Кем ты кажешься, о старина?»
* * *
Один Телец висит высоко в небесах,[53]
Другой своим хребтом поддерживает прах.
А меж обоими тельцами — поглядите —
Какое множество ослов пасет аллах!
* * *
Когда б скрижаль судьбы мне вдруг подвластна стала,
Я все бы стер с нее и все писал сначала.
Из мира я печаль изгнал бы навсегда,
Чтоб радость головой до неба доставала.
* * *
Зачем ты мой кувшин с вином разбил, господь?[54]
Врата блаженства предо мной закрыл, господь?
Розовоцветное вино зачем ты пролил наземь?
Забей мне прахом рот — иль пьян ты был, господь?
* * *
На свете можно ли безгрешного найти?
Нам всем заказаны безгрешные пути.
Мы худо действуем, а ты нас злом караешь,
Меж нами и тобой различья нет почти.
* * *
Прекрасно воду провести к полям!
Прекрасно солнце кинуть в душу нам!
И подчинить добру людей свободных.
Прекрасно, как свободу дать рабам.
* * *
На базаре я увидел как-то гончара.
Он топтал ногами глину с самого утра,
А ему глаголом тайным глина говорила:
«Пощади! Тебе подобной я была вчера!»
* * *
Нет гончара. Один я в мастерской.
Две тысячи кувшинов предо мной.
И шепчутся: «Предстанем незнакомцу,
На миг толпой разряженной людской».
* * *
Глянь на месящих глину гончаров, —
Ни капли смысла в голове глупцов.
Как мнут и бьют они ногами глину…
Опомнитесь! Ведь это прах отцов!
* * *
Та ваза, что здесь на гончарном круге была,
При жизни в объятьях любовной вьюги была;
А ручка, что видишь у горлышка этой вазы, —
Рука, что когда-то на персях подруги была.
* * *
Вон за гончарным кругом у дверей
Гончар все веселее и быстрей
В ладонях лепит грубые кувшины
Из бедер бедняков и черепов царей.
* * *
Будь весел! Не навек твоя пора, —
Пройдет сегодня, как прошла вчера.
И эти чаши-лбы вельмож надменных
Окажутся в месильне гончара.
* * *
Вчера горшечным рядом я шел через базар,
Там комья свежей глины сердито мял гончар,
И слышался — о диво! — как будто глины стон:
«Ведь гончаром была я… Смягчи же свой удар!»
* * *
Из глины чаша. Влагой разволнуй —
Услышишь лепет губ, не только струй!
Чей это прах? Целую край… и вздрогнул:
Почудилось, мне отдан поцелуй.
* * *
Лепящий черепа таинственный гончар
Особый проявил к сему искусству дар:
На скатерть бытия он опрокинул чашу
И в ней пылающий зажег страстей пожар.
* * *
Ужели бы гончар им сделанный сосуд
Мог в раздражении разбить, презрев свой труд?
А сколько стройных ног, голов и рук прекрасных,
Любовно сделанных, в сердцах разбито тут!
* * *
Много лет размышлял я над жизнью земной.
Непонятного нет для меня под луной.
Мне известно, что мне ничего не известно, —
Вот последняя правда, открытая мной.
* * *
В мире временном, сущность которого — тлен,
Не сдавайся вещам несущественным в плен.
Сущим в мире считай только дух вездесущий,
Чуждый всяких вещественных перемен.
* * *
Мне заповедь — любовь, а не Коран, о нет!
Я — скромный муравей, не Сулейман, о нет!
Найдете у меня лишь бледные ланиты
И рубище — не шелк и не сафьян, о нет!
* * *
То, что судьба тебе решила дать,
Нельзя ни увеличить, ни отнять.
Заботься не о том, чем не владеешь,
А от того, что есть, свободным стать.
* * *
В этом мире глупцов, подлецов, торгашей
Уши, мудрый, заткни, рот надежно зашей,
Веки плотно зажмурь — хоть немного подумай
О сохранности глаз, языка и ушей!
* * *
Несовместимых мы всегда полны желаний:
В одной руке — бокал, другая — на Коране.
И так вот мы живем под сводом голубым —
Полубезбожники и полумусульмане.
* * *
Мой враг меня философом нарек, —
Клевещет этот злобный человек!
Будь я философ, в эту область горя —
На муки — не пришел бы я вовек!
* * *
Скажи, за что меня преследуешь, о небо?
Будь камни у тебя, ты все их слало мне бы.
Чтоб воду получить, я должен спину гнуть,
Бродяжить должен я из-за краюхи хлеба.
* * *
О небо! Я твоим вращеньем утомлен,
К тебе без отклика вздымается мой стон.
Невежд и дурней лишь ты милуешь, — так знай же:
Не так уже я мудр, не так уж просвещен.
* * *
У тлена смрадного весь этот мир в плену;
Грешно ль, что я влекусь к душистому вину?
Твердят: «Раскаянье пошли тебе всевышний!»
Не надо! Все равно сей дар ему верну.
* * *
Не дай тискам печали себя зажать, Хайям!
Ни дня в пустых заботах нельзя терять, Хайям!
Впивай же свежесть луга, стихов и милых губ,
Потом в могиле душной ты будешь спать, Хайям.
* * *
Услышь, о муфтий, пьяницы рассказ!
Трезвей тебя я пьяный во сто раз:
Мне — кровь лозы, тебе же — кровь людей.
Так кто же кровожаднее из нас?
* * *
Если скажут, будто я пьян, — я таков!
Если «безбожник», скажут, «буян», — я таков!
Для этих — мудрец, для тех — отшельник, безумец,
А я такой, каким я дан. Я таков!
* * *
О, если б, захватив с собой стихов диван
Да в кувшине вина и сунув хлеб в карман,
Мне провести с тобой денек среди развалин, —
Мне позавидовать бы мог любой султан!
* * *
И я, седобородый, в силок любви попал,
И вот в руке сверкает искрящийся фиал!
Рассудок терпеливый мне сшил халат заслуг,
А рок мой прихотливый все в клочья изорвал.
* * *
Мой дух скитаньями пресытился вполне,
Но денег у меня, как прежде, нет в казне.
Я не ропщу на жизнь. Хоть трудно приходилось,
Вино и красота все ж улыбались мне.
* * *
Я — словно старый дуб, что бурею разбит;
Увял и пожелтел гранат моих ланит,
Все естество мое — основа, стены, кровля, —
Развалиною став, о смерти говорит.
* * *
Отшельником не буду жить в сырой и мрачной келье,
Хотя я сед, я буду пить вино, ценя безделье.
Стал ныне кубок дней моих семидесятилетним,
Когда ж, как не теперь, искать отраду и веселье?
* * *
Влек и меня ученых ореол,
Я смолоду их слушал, споры вел,
Сидел у них… Но той же самой дверью
Я выходил, которою вошел.
* * *
Будь вольнодумцем! Помни наш зарок:
«Святоша узок, лицемер жесток».
Звучит упрямо проповедь Хайяма:
«Кем хочешь стань, но сердцем будь широк!»
* * *
То не моя вина, что наложить печать
Я должен на свою заветную тетрадь:
Мне чернь ученая достаточно знакома,
Чтоб тайн своей души пред ней не разглашать.
* * *
Доколь мне в обмане жить, как в тумане бродить?
Доколь мне, о жизнь, осадки мутные пить?
Наскучила мне твоя хитрость, саки вероломный,
И жизнь я готов, как из чаши, остатки пролить.
* * *
Когда вселенную настигнет день конечный,
И рухнут небеса, и Путь померкнет Млечный, —
Я, за полу схватив создателя, спрошу:
«За что же ты меня убил, владыка вечный?»
* * *
Палаток мудрости[55] нашивший без числа,
В горнило мук упав, сгорел Хайям дотла.
Пресеклась жизни нить, и пепел за бесценок
Надежда, старая торговка, продала.
РУМИ{4}
ИЗ «МАСНАВИ»
ПЕСНЯ ФЛЕЙТЫ
Прислушайся к голосу флейты — о чем она плачет, скорбит?
О горестях вечной разлуки, о горечи прошлых обид:
«Когда с камышового поля был срезан мой ствол пастухом,
Все стоны и слезы влюбленных слились и откликнулись в нем.
К устам, искривленным страданьем, хочу я всегда припадать,
Чтоб вечную жажду свиданья всем скорбным сердцам передать.
В чужбине холодной и дальной, садясь у чужого огня,
Тоскует изгнанник печальный и ждет возвращения дня.
Звучит мой напев заунывный в собранье случайных гостей,
Равно для беспечно-счастливых, равно и для грустных людей.
Но кто бы — веселый иль грустный — напевам моим ни внимал,
В мою сокровенную тайну доселе душой не вникал.
Хоть тайна моя с моей песней, как тело с душою, слиты —
Но не перейдет равнодушный ее заповедной черты.
Пусть тело с душой нераздельно и жизнь их в союзе, но ты
Души своей видеть не хочешь, живущий в оковах тщеты…»
. . . .. . . .. .. . .
Стон флейты — могучее пламя, не веянье легкой весны,
И в ком не бушует то пламя — тому ее песни темны.
Любовное пламя пылает в певучей ее глубине,
Тот ныл, что кипит и играет в заветном, пунцовом вине.
Со всяким утратившим друга лады этой флейты дружны,
И яд в ней, и противоядье волшебно соединены.
В ней песнь о стезе испытаний, о смерти от друга вдали,
В ней повесть великих страданий Меджнуна и бедной Лейли.
Приди, долгожданная, здравствуй, о сладость безумья любви!
Верши свою волю и властвуй, в груди моей вечно живи!
И если с устами любимой уста я, как флейта, солью,
Я вылью в бесчисленных песнях всю жизнь и всю душу свою.
 Миниатюра из рукописи XVI в. Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.
Миниатюра из рукописи XVI в. Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.
ПРИТЧИ
ПОСЕЛЯНИН И ЛЕВ
Однажды, к пахарю забравшись в хлев,
В ночи задрал и съел корову лев
И сам в хлеву улегся отдыхать.
Покинул пахарь тот свою кровать,
Не вздув огня, он поспешил на двор —
Цела ль корова, не залез ли вор?
И льва нащупала его рука,
Погладил льву он спину и бока.
Льву думалось: «Двуногий сей осел,
Видать, меня своей коровой счел!
Да разве б он посмел при свете дня
Рукой касаться дерзкою меня?
Пузырь бы желчный лопнул у него
От одного лишь вида моего!»
Ты, мудрый, суть вещей сперва познай,
Обманной внешности не доверяй.
РАССКАЗ О БЕДУИНЕ, У КОТОРОГО СОБАКА ПОДОХЛА ОТ ГОЛОДА
У бедуина пес околевал,
Над ним хозяин слезы проливал.
Спросил его прохожий: «Ты о чем,
О муж могучий, слезы льешь ключом?»
Ответил: «При смерти мой верный пес.
Так жаль его… Не удержать мне слез.
Он на охоте дичь мне выгонял,
Не спал ночами, стадо охранял».
Спросил прохожий: «Что у пса болит?
Не ранен он? Хребет не перебит?»
А тот: «О нет! Он только изнурен.
От голода околевает он!»
«Будь терпелив, — сказал прохожий тот, —
Бог за терпенье благом воздает».
Потом спросил: «А что в большом мешке,
Который крепко держишь ты в руке?»
«В мешке? Хлеб, мясо… много там всего
Для пропитанья тела моего».
«О человек, — спросил прохожий, — что ж
Собаке ты ни корки не даешь?»
Ответил: «Не могу ни крошки дать, —
В пути без денег хлеба не достать;
Хоть не могу над псом я слез не лить…
А слезы — что ж… за слезы не платить…»
И тут прохожий в гневе закричал:
«Да будь ты проклят, чтобы ты пропал!
Набитый ветром ты пустой бурдюк!
Ведь этот пес тебе был верный друг!
А ты в сто раз презреннее, чем пес,
Тебе кусок еды дороже слез!
Но слезы — кровь, пролитая бедой,
Кровь, от страданья ставшая водой.
Пыль под ногой — цена твоим слезам,
И не дороже стоишь весь ты сам!»
РАССКАЗ ОБ УКРАДЕННОМ БАРАНЕ
Барана горожанин за собой
Тащил с базара, — видно, на убой,
И вдруг в толпе остался налегке
С веревкой перерезанной в руке.
Барана нет. Добычею воров
Овчина стала, и курдюк, и плов.
Тот человек, в пропаже убедясь,
Забегал, бестолково суетясь.
А вор возле колодца, в стороне,
Вопил и причитал: «Ой, горе мне!»
«О чем ты?» — обворованный спросил.
«Я кошелек в колодец уронил.
Все, что имел я, — сто динаров там!
Достанешь — я в награду двадцать дам».
А тот: «Да это целая казна!
Ведь десяти баранов в ней цена.
Я одного барана потерял,
Но бог взамен верблюда мне послал!»
В колодец он с молитвою полез,
А вор с его одеждою исчез.
О друг, по неизвестному пути
Ты должен осмотрительно идти.
Но жадность заведет в колодец бед
Того, в ком осмотрительности нет.
О ТОМ, КАК СТРАЖНИК ТАЩИЛ В ТЮРЬМУ ПЬЯНОГО
Однажды в полночь страж дозором шел
И под забором пьяного нашел.
Сказал: «Вставай, ты пьян». А тот ему:
«Я сплю и не мешаю никому».
«Что пил ты?» — стражник пьяного спросил.
«Я? Что в кувшине было, то и пил».
«А что там было? Отвечай, свинья».
«Что было? Было то, что выпил я!»
«Так что ты выпил? Толком говори».
«Я? То, что было налито внутри».
Так стражник с пьяным спорил битый час
И в споре, как осел в грязи, увяз.
Велел он пьяному: «Скажи-ка: ох».
А пьяный отвечал ему: «Хо! Хох!
От горя люди охают, кряхтят,
Хо! Хох! — за чашей праздничной кричат».
Страж рассердился: «Спору нет конца.
Вставай, пойдем. Не корчи мудреца».
«Прочь убирайся!» — пьяница ему.
А страж: «Ты — пьян, и сядешь ты в тюрьму».
А пьяный: «Ну когда же ты уйдешь?
И что с меня ты, с голого, сдерешь?
Когда б не ослабел и не упал —
Давно б я в эту пору дома спал.
Как шейх, в своей бы лавке я сидел,
Когда б своею лавкою владел!»
О ТОМ, КАК ШАХ ТЕРМЕЗА ПОЛУЧИЛ «МАТ» ОТ ШУТА
Шах в шахматы с шутом своим играл,
«Мат» получил и гневом запылал.
Взяв горсть фигур, шута он по лбу хвать.
«Вот «шах» тебе! Вот — «мат»! Учись играть!
Ферзем куда не надо — не ходи».
А шут: «Сдаюсь, владыка, пощади!»
Шах молвил: «Снова партию начнем».
А шут дрожал, как голый под дождем.
Сыграли быстро. Шаху снова «мат».
Шут подхватил заплатанный халат,
Под шесть тяжелых, толстых одеял
Забился, притаился и молчал.
«Эй, где ты там?» — шах закричал в сердцах.
А шут ему: «О справедливый шах,
Чтоб перед шахом правду говорить,
Надежно надо голову прикрыть.
«Мат» получил ты от меня опять.
Теперь твой ход — и мне несдобровать».
О ТОМ, КАК СТАРИК ЖАЛОВАЛСЯ ВРАЧУ НА СВОИ БОЛЕЗНИ
Старик сказал врачу: «Я заболел!
Слезотеченье… Насморк одолел».
«От старости твой насморк», — врач сказал.
Старик ему: «Я плохо видеть стал».
«От старости, почтенный человек,
И слабость глаз, и покрасненье век».
Старик: «Болит и ноет вся спина!»
А врач: «И в этом старости вина».
Старик: «Мне в пользу не идет еда».
А врач: «От старости твоя беда».
Старик: «Я кашляю, дышу с трудом».
А врач: «Повинна старость в том и в том.
Ведь если старость в гости к нам придет,
В подарок сто болезней принесет».
«Ах ты, дурак! — сказал старик врачу. —
Я у тебя лечиться не хочу!
Чему тебя учили, о глупец?
Лекарствами сумел бы врач-мудрец
Помочь в недомогании любом,
А ты — осел, оставшийся ослом!..»
А врач: «И раздражительность твоя —
От старости, тебе ручаюсь я!»
РАССКАЗ О ВОРЕ-БАРАБАНЩИКЕ
Однажды темной ночью некий вор
Подкапывался под чужой забор.
Старик, что на соседней кровле спал,
Услышав стук лопатки, с ложа встал.
Окликнул вора: «Бог на помощь, брат!
Ты что там делаешь, когда все спят?
Скажи на милость мне — ты кто такой?»
А вор: «Я барабанщик городской».
«А чем сейчас ты занят — знать хочу!»
«Сам видишь — в барабан я колочу!»
«Что ж грома барабана твоего
Не слышно, плут?» — старик спросил его.
А вор: «Настанет утро — и тогда
Услышишь гром и вопли: «Ай, беда!»
СПОР ВЕРБЛЮДА, БЫКА И БАРАНА
Верблюд, Баран и Бык дорогой шли
И связку сена свежего нашли.
«Как разделить? — Баран им говорит. —
Ведь ни один из нас не будет сыт!
Не лучше ли судить по старшинству?
Кто старше всех — пусть эту съест траву.
Пророк, принесший миру благодать,
Нам завещал старейших почитать».
Бык промычал: «Ну что ж, друзья, ну что ж…
Совет Барана мудрого хорош.
Расскажем о себе с начала дней.
Кто старше всех — тот и травой владей».
Сказал Баран: «Я пасся в тех стадах,
Что разводил пророк Халил-Уллах.
Дружил я с тем барашком молодым,
Которого зарезал Ибрагим».
А Бык: «Куда со мной тягаться вам!
Я — старше всех! На мне пахал Адам!»
Хоть изумлен Верблюд их ложью был,
Нагнул он шею, сено ухватил.
Высоко поднял связку и сказал:
«Пусть Бык не лгал, и пусть Баран не лгал,
Не буду спорить, кто из нас древней,
Поскольку шея у меня длинней.
И всем, конечно, ведомо, что я
Вас не моложе, добрые друзья».
РАССКАЗ О САДОВНИКЕ
Садовник увидал, войдя в свой сад,
Что трое незнакомцев в нем сидят.
«Похожи, — он подумал, — на воров!»
Суфий, сеид и третий — богослов.
А был у них троих один порок:
Душа как незавязанный мешок.
Сказал садовник: «Сада властелин
Я иль они? Их трое, я один!
Хитро на этот раз я поступлю,
Сперва их друг от друга отделю.
Как в сторону отправлю одного —
Всю бороду я вырву у него.
Ух, как поодиночке проучу,
Как только их друг с другом разлучу!»
И вот злоумный этот человек
К такой коварной выдумке прибег.
Сказал суфию: «Друг! Возьми скорей
В сторожке коврик для своих друзей!»
Ушел суфий. Садовник говорит:
«Вот ты — законовед, а ты — сеид,
Старинный род твой царственно высок,
Ведь предок твой был сам святой пророк!
А ты — ученый муж, ведь по твоим
Установленьям мы и хлеб едим!
Но тот суфий — обжора и свинья,
Да разве он годится вам в друзья?
Гоните прочь его — и у меня
Вы погостите здесь хоть два-три дня.
Мой дом, мой сад всегда для вас открыт.
Что — сад! Вам жизнь моя принадлежит!»
Поверили они словам его
И спутника прогнали своего.
Настиг суфия беспощадный враг —
Садовник с толстой палкою в руках,
Сказал: «Эй ты, суфий-собака, стой!
Как ты проворно в сад залез чужой!
Или тебя забыть последний стыд
Наставили Джанейд и Баязид?»
До полусмерти палкой он избил
Суфия. Голову раскровенил.
Сказал суфий: «Сполна мне этот зверь
Отсыпал. Ваша очередь теперь!
Того ж отведать, что отведал я,
Придется вам, неверные друзья!
Вы — обольщенные своим врагом —
Подобным же подавитесь куском!
Всегда в долине злачной бытия
К тебе вернется эхом речь твоя!»
* * *
Избив суфия, добрый садовод
Такой с гостями разговор ведет:
«О дорогой сеид, сходи ко мне
В сторожку и скажи моей жене,
Чтобы лепешек белых испекла
И жареного гуся принесла!»
Внук божьего избранника ушел.
Хозяин же такую речь завел:
«Вот ты — законовед и веры друг,
Твердыня правды, мудрый муж наук!
Бесспорно это. Но обманщик тот —
Себя он за сеида выдает!
А что его почтеннейшая мать
Проделывала — нам откуда знать?
Любой ублюдок в наши дни свой род
От корня Мухаммадова ведет!»
Все, что ни лгал он злобным языком,
То было правдою о нем самом.
Но так садовник льстиво говорил,
Что вовсе гостя он обворожил.
И многомудрый муж, законовед,
«Ты прав!» — сказал хозяину в ответ.
Тогда к сеиду садовод пошел
С дубиною, промолвив: «Эй, осел!
Вот! Иль оставил сам святой пророк
Тебе в наследство гнусный твой порок?
На льва детеныш львиный всем похож!
А ты-то на пророка чем похож?»
И тут дубиною отделал он
Сеида бедного со всех сторон.
Казнил его, как лютый хариджит,
Сразил его, как Шимр и как Езид.
Весь обливаясь кровью, тот лежал
И так в слезах законнику сказал:
«Вот ты один остался, предал нас,
Сам барабаном станешь ты сейчас!
Я в мире не из лучших был людей,
Но лучше все ж, чем этот лиходей!
Себя ты погубил, меня губя,
Плохая вышла мена у тебя!»
Тогда, к последнему из трех пришед,
Сказал садовник: «Эй, законовед!
Так ты законовед? Да нет, ты вор!
Ты — поношенье мира и позор.
Или разрешено твоей фатвой
Влезать без позволенья в сад чужой?
Где, у каких пророков, негодяй,
Нашел ты это право? Отвечай!
В «Посреднике» иль в книге «Океан»
Ты это вычитал? Скажи, болван!»
И, давши волю гневу своему,
Садовник обломал бока ему.
Мучителю сказал несчастный: «Бей!
Ты прав в законной ярости твоей:
Я кару горше заслужил в сто раз,
Как всякий, кто друзей своих предаст!
Да поразит возмездие бедой
Тех, кто за дружбу заплатил враждой».
РАССКАЗ О ВИНОГРАДЕ[56]
Вот как непонимание порой
Способно дружбу подменить враждой,
Как может злобу породить в сердцах
Одно и то ж на разных языках.
Шли вместе тюрок, перс, араб и грек.
И вот какой-то добрый человек
Приятелям монету подарил
И тем раздор меж ними заварил.
Вот перс тогда другим сказал: «Пойдем
На рынок и ангур приобретем!»
«Врешь, плут, — в сердцах прервал его араб, —
Я не хочу ангур! Хочу эйнаб!»
А тюрок перебил их: «Что за шум,
Друзья мои? Не лучше ли узум!»
«Что вы за люди! — грек воскликнул им. —
Стафиль давайте купим и съедим!»
И так они в решении сошлись,
Но, не поняв друг друга, подрались.
Не знали, называя виноград,
Что об одном и том же говорят.
Невежество в них злобу разожгло,
Ущерб зубам и ребрам нанесло.
О, если б стоязычный с ними был,
Он их одним бы словом помирил.
«На ваши деньги, — он сказал бы им, —
Куплю, что нужно всем вам четверым,
Монету вашу я учетверю
И снова мир меж вами водворю!
Учетверю, хоть и не разделю,
Желаемое полностью куплю!
Слова несведущих несут войну,
Мои ж — единство, мир и тишину».
НАСТАВЛЕНИЕ ПОЙМАННОЙ ПТИЦЫ
Какой-то человек дрозда поймал.
«О муж почтенный, — дрозд ему сказал, —
Владелец ты отар и косяков.
Ты много съел баранов и быков,
Но пищей столь обильною мясной
Не пресыщен — насытишься ли мной?
Ты отпусти меня летать, а там
Тебе я три совета мудрых дам.
Один в твоей руке прощебечу,
Другой, когда на крышу я взлечу;
А третий — с ветки дерева того,
Что служит сенью крова твоего.
Моим советам вняв, пока ты жив,
Во всем удачлив будешь и счастлив.
Вот первый мой совет в твоих руках:
Бессмыслице не верь ни в чьих устах».
Свободу птице человек вернул,
И дрозд на кровлю весело вспорхнул.
Пропел: «О невозвратном не жалей!
Когда пора прошла — не плачь о ней
И за потери не кляни судьбу!
Бесценный, редкий перл в моем зобу.
Дирхемов верных десять весит он…
Им был навеки б ты обогащен!
Такого перла больше не сыскать,
Да не тебе богатством обладать!»
Как женщина в мучениях родов,
Стонал, кричал несчастный птицелов.
А дрозд: «Ведь я давал тебе совет —
Не плачь о том, чему возврата нет!
Глухой ты, что ли, раз не внял тому
Разумному совету моему?
Совет мой первый вспомни ты теперь:
Ни в чьих устах бессмыслице не верь.
Как десять я дирхемов мог бы несть,
Когда дирхема три я вешу весь».
А человек, с трудом в себя пришед,
Просил: «Ну, дай мне третий твой совет».
А дрозд: «Ты следовал советам двум,
Пусть третий озарит теперь твой ум:
Когда болвана учат мудрецы,
Они посев бросают в солонцы,
И как ни штопай — шире, чем вчера,
Назавтра будет глупости дыра!»
ДЖУХА И МАЛЬЧИК
Отца какой-то мальчик провожал
На кладбище и горько причитал:
«Куда тебя несут, о мой родной,
Ты скроешься навеки под землей!
Там никогда не светит белый свет,
Там нет ковра да и подстилки нет!
Там не кипит похлебка над огнем,
Ни лампы ночью там, ни хлеба днем!
Там ни двора, ни кровли, ни дверей,
Там ни соседей добрых, ни друзей!
О, как же ты несчастен будешь в том
Жилье угрюмом, мрачном и слепом!
Родной! От тесноты и темноты
Там побледнеешь и увянешь ты!»
Так в новое жилье он провожал
Отца икровь — не слезы — проливал.
«О батюшка! — Джуха промолвил тут. —
Покойника, ей-богу, к нам несут!»
«Дурак!» — сказал отец. Джуха в ответ:
«Приметы наши все, сомненья нет!
Все как у нас: ни кровли, ни двора,
Ни хлеба, ни подстилки, ни ковра!»
СПОР МУСУЛЬМАНИНА С ОГНЕПОКЛОННИКОМ
Огнепоклоннику сказал имам:
«Почтенный, вам пора принять ислам!»
А тот: «Приму, когда захочет бог,
Чтоб истину уразуметь я мог».
«Святой аллах, — имам прервал его, —
Желает избавленья твоего,
Но завладел твоей душой шайтан:
Ты духом тьмы и злобы обуян».
А тот ему: «По слабости моей,
Я следую за теми, кто сильней.
С сильнейшим я сражаться не берусь,
Без спора победителю сдаюсь.
Когда б аллах спасти меня хотел,
Что ж он душой моей не завладел?»
ПОСЕЩЕНИЕ ГЛУХИМ БОЛЬНОГО СОСЕДА
«Зазнался ты! — глухому говорят. —
Сосед твой болен много дней подряд!»
Глухой подумал: «Глух я! Как пойму
Болящего? Что я скажу ему?
Нет выхода… Не знаю, как и быть,
Но я его обязан навестить.
Пусть я глухой, но сведущ и неглуп;
Его пойму я по движенью губ.
«Как здравие?» — спрошу его сперва.
«Мне лучше!» — воспоследуют слова.
«И слава богу! — я скажу в ответ. —
Что ел ты?» Молвит: «Кашу иль шербет».
Скажу: «Ешь пищу эту! Польза в ней!
А кто к тебе приходит из врачей?»
Тут он врача мне имя назовет.
Скажу: «Благословляй его приход!
Как за тебя я радуюсь, мой друг!
Сей лекарь уврачует твой недуг».
Так подготовив дома разговор,
Глухой пришел к болящему во двор.
С улыбкой он шагнул к нему в жилье,
Спросил: «Ну, друг, как здравие твое?»
«Я умираю…» — простонал больной.
«И слава богу!» — отвечал глухой.
Похолодел больной от этих слов,
Сказал: «Он — худший из моих врагов!»
Глухой движенье губ его следил,
По-своему все понял и спросил:
«Что кушал ты?» Больной ответил: «Яд!»
«Полезно это! Ешь побольше, брат!
Ну, расскажи мне о твоих врачах».
«Уйди, мучитель, — Азраил в дверях!»
Глухой воскликнул: «Радуйся, мой друг!
Сей лекарь уврачует твой недуг!»
Ушел глухой и весело сказал:
«Его я добрым словом поддержал.
От умиленья плакал человек:
Он будет благодарен мне весь век».
Больной сказал: «Он мой смертельный враг,
В его душе бездонный адский мрак!»
Вот как обрел душевный мир глухой,
Уверенный, что долг исполнил свой.
СПОР О СЛОНЕ
Из Индии недавно приведен,
В сарае темном был поставлен слон,
Но тот, кто деньги сторожу платил,
В загон к слону в потемках заходил.
А в темноте, не видя ничего,
Руками люди шарили его.
Слонов здесь не бывало до сих пор.
И вот пошел средь любопытных спор.
Один, коснувшись хобота рукой:
«Слон сходен с водосточною трубой!»
Другой, пощупав ухо, молвил: «Врешь,
На опахало этот зверь похож!»
Потрогал третий ногу у слона,
Сказал: «Он вроде толстого бревна».
Четвертый, спину гладя: «Спор пустой —
Бревно, труба… он просто схож с тахтой».
Все представляли это существо
По-разному, не видевши его.
Их мненья — несуразны, неверны —
Неведением были рождены.
А были б с ними свечи — при свечах
И разногласья не было б в речах.
РАССКАЗ ОБ УКРАДЕННОМ ОСЛЕ
Внемлите наставлениям моим
И предостережениям моим!
Дабы стыда и скорби избежать,
Не надо неразумно подражать.
В суфийскую обитель на ночлег
Заехал некий божий человек.
В хлеву осла поставил своего,
И сена дал, и напоил его.
Но прахом станет плод любых забот,
Когда неотвратимое грядет.
Суфии нищие сидели в том
Прибежище, томимые постом,
Не от усердья к богу — от нужды,
Не ведая, как выйти из беды.
Поймешь ли ты, который сыт всегда,
Что иногда с людьми творит нужда?
Орава тех голодных в хлев пошла,
Решив немедленно продать осла.
«Ведь сам пророк — посланник вечных сил —
В беде вкушать и падаль разрешил!»
И продали осла, и принесли
Еды, вина, светильники зажгли.
«Сегодня добрый ужин будет нам!» —
Кричали, подымая шум и гам.
«До коих пор терпеть нам, — говорят, —
Поститься по четыре дня подряд?
Доколе подвиг наш? До коих пор
Корзинки этой нищенской позор?
Что мы, не люди, что ли? Пусть у нас
Веселье погостит на этот раз!»
Позвали — надо к чести их сказать —
И обворованного пировать.
Явили гостю множество забот,
Спросили, как зовут и где живет.
Старик, что до смерти в пути устал,
От них любовь и ласку увидал.
Один бедняге ноги растирал,
А этот пыль из платья выбивал.
А третий даже руки целовал.
И гость, обвороженный, им сказал:
«Коль я сегодня не повеселюсь,
Когда ж еще, друзья? Сегодня пусть!»
Поужинали. После же вина
Сердцам потребны пляска и струна.
Обнявшись, все они пустились в пляс.
Густая пыль в трапезной поднялась.
То в лад они, притопывая, шли,
То бородами пыль со стен мели.
Так вот они, суфии! Вот они,
Святые. Ты на их позор взгляни!
Средь тысяч их найдешь ли одного,
В чьем сердце обитает божество?
* * *
Придется ль мне до той поры дожить,
Когда без притч смогу я говорить?
Сорву ль непонимания печать,
Чтоб истину открыто возглашать?
Волною моря пена рождена,
И пеной прикрывается волна.
Так истина, как моря глубина,
Под пеной притч порою не видна.
Вот вижу я, что занимает вас
Теперь одно — чем кончится рассказ,
Что вас он привлекает, как детей
Торгаш с лотком орехов и сластей.
Итак, мой друг, продолжим — и добро,
Коль отличишь от скорлупы ядро!
* * *
Один из них, на возвышение сев,
Завел печальный, сладостный напев.
Как будто кровью сердца истекал,
Он пел: «Осел пропал! Осел пропал!»
И круг суфиев в лад рукоплескал,
И хором пели все: «Осел пропал!»
И их восторг приезжим овладел.
«Осел пропал!» — всех громче он запел.
Так веселились люди до утра,
А утром разошлись, сказав: «Пора!»
Приезжий задержался, ибо он
С дороги был всех больше утомлен.
Потом собрался в путь, во двор сошел,
Но ослика в конюшне не нашел.
Раскинув мыслями, решил: «Ага!
Его на водопой увел слуга».
Слуга пришел, скотину не привел.
Старик его спросил: «А где осел?»
«Как где? — слуга в ответ. — Сам знаешь где!
Не у тебя ль, почтенный, в бороде?!»
А гость ему: «Ты толком отвечай,
К пустым уверткам, друг, не прибегай!
Осла тебе я поручил? Тебе!
Верни мне то, что я вручил тебе!
Да и слова Писания гласят:
«Врученное тебе отдай назад!»
А если ты упорствуешь, так вот —
Неподалеку и судья живет!»
Слуга ему в ответ: «При чем судья?
Осла твои же продали друзья!
Что с их оравой мог поделать я?
В опасности была и жизнь моя!
Когда оставишь кошкам потроха
На сохраненье, долго ль до греха!
Ведь ослик ваш для них, скажу я вам,
Был что котенок ста голодным псам!»
Суфий слуге: «Допустим, что осла
Насильно эта шайка увела.
Так почему же ты не прибежал
И мне о том злодействе не сказал?
Сто средств тогда бы я сумел найти,
Чтоб ослика от гибели спасти!»
Слуга ему: «Три раза прибегал,
А ты всех громче пел: «Осел пропал!»
И уходил я прочь, и думал: «Он
Об этом деле сам осведомлен
И радуется участи такой.
Ну что ж, на то ведь он аскет, святой!»
Суфий вздохнул: «Я сам себя сгубил,
Себя я подражанием убил
Тем, кто в душе убили стыд и честь,
Увы, за то, чтоб выпить и поесть!»
РАССКАЗ О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОМ ДОЛЖНИКЕ
Все потеряв — имущество и дом,
Муж некий деньги задолжал кругом.
И, в неоплатных обвинен долгах,
Он брошен был в темницу в кандалах.
Прожорлив, дюж — в тюрьме он голодал
И пищу заключенных поедал.
Не то что хлеба черствого кусок,
Корову он украл бы, если б мог.
Изнемогли от хищности его
Колодники узилища того
И наконец начальнику тюрьмы
Пожаловались: «Гибнем вовсе мы!
Безропотно мы жребий наш несли,
Пока злодея к нам не привели.
Он, осужденный просидеть весь век,
Всех нас погубит, подлый человек.
Едва нам пищу утром принесут,
Он у котла, как муха, — тут как тут.
На шестьдесят колодников еда
Его не насыщает никогда.
«Довольно! — мы кричим. — Оставь другим!»
А он прикидывается глухим.
Потом вечернюю несут еду
Ему — на радость, прочим — на беду.
А доводы его одни и те ж:
«Аллах велел — дозволенное ешь».
Так он бесчинства каждый день творит
И нас три года голодом морит.
Пусть от казны паек дадут ему
Или очистят от него тюрьму!
Мы умоляем главного судью —
Пусть явит справедливость нам свою».
Смотритель тут же пред судьей предстал
И жалобу ему пересказал:
Все расспросил судья и разузнал
И привести обжору приказал.
Сказал ему: «Весь долг прощаю твой.
Свободен ты! Иди к себе домой!»
«Твоя тюрьма — мой рай, — ответил тот, —
Мой дом и пища — от твоих щедрот.
Коль из тюрьмы меня прогонишь ты,
Умру от голода и нищеты».
«Когда несостоятельность твоя
Впрямь безнадежна, — говорит судья, —
То где твои свидетели?» — «Их тьма!
Свидетелей моих полна тюрьма».
Судья: «Несчастные, что там сидят,
Лишь от тебя избавиться хотят;
Они и клятву ложную дадут!»
Но тут весь при суде служащий люд
Сказал: «Хоть жди до Страшного суда,
Долгов он не заплатит никогда!
Его на волю лучше отпустить,
Чем целый век за счет казны кормить».
Судья помощнику: «Ну, если он
Действительно до нитки разорен,
Его ты на верблюда посади;
А сам — с глашатаями впереди —
Весь день его по улицам вози,
Всем о его позоре возгласи,
Что нищий он, чтоб ни одна душа
Ему не доверяла ни гроша,
Чтобы никто с ним ни торговых дел,
Ни откупных водить не захотел.
Всем возглашай, что суд ни от кого
Не примет больше жалоб на него,
Что ничего нельзя с него взыскать
И незачем в тюрьму его таскать!
О стонущий в оковах бытия!
Несостоятельность — вина твоя!
Нам от пророка заповедь дана.
«Неплатежеспособен сатана,
Но ловок он вводить людей в обман, —
Так не имей с ним дел!» — гласит Коран.
В делах твоих участвуя, банкрот
Тебя до разоренья доведет».
Был на базаре курд с верблюдом взят,
Поставивший дрова в горшечный ряд.
Бедняга курд о милости взывал,
Монету в руку стражнику совал,
Но все напрасно — так решил, мол, суд,
На целый день был взят его верблюд.
Обжора на верблюда сел. Пошли,
По городу верблюда повели,
Не умолкая, барабан гремел,
Народ кругом толпился и глазел.
И люди знатные, и голь, и рвань
Возле базаров, у открытых бань
Указывали пальцем. «Это он.
Он самый», — слышалось со всех сторон.
Глашатаи с трещотками в руках
На четырех кричали языках:
«Вот лжец! Мошенник! Низкая душа!
Он не имеет денег ни гроша!
Всем задолжать вам ухитрился он!
Да будет он доверия лишен!
Остерегайтесь дело с ним водить!
Он в долг возьмет — откажется платить!
Вы на него не подавайте в суд!
Его в темницу даже не возьмут!
Хоть он в речах приятен и хорош,
Но знайте, что ни скажет он, — все ложь.
И пусть он к вам придет в парчу одет —
Исподнего белья под нею нет.
Чужое платье поносить на час
Он выпросит и вновь обманет вас.
Он приведет корову продавать —
Не вздумайте корову покупать.
И помните, корову он украл
Иль простаку барыш пообещал.
И кто одежду купит у него,
Сам будет отвечать за воровство.
Когда невежды мудрое гласят,
Ты знай, что эта мудрость — напрокат!»
Так ездили, пока не пала тень.
Курд за верблюдом бегал целый день.
Обжора наконец с верблюда слез.
А курд: «Весь мой барыш дневной исчез.
Ты ездил целый день, и у меня
Соломы нет, не то что ячменя.
Плати!» А тот в ответ: «Соломы нет?
Как вижу я, рассудка дома нет,
Несчастный, в голове твоей пустой!
Ты сам ведь бегал целый день за мной.
Глашатаев громкоголосых крик
Седьмого неба, кажется, достиг!
Что разорен, что все я потерял,
Все слышали — ты только не слыхал.
Я от долгов судом освобожден.
«Да будет он доверия лишен!
Обманщик, надуватель он и лжец!» —
Кричали обо мне. А ты, глупец,
На что надеясь, бегал ты за мной,
Весь день терпя и духоту и зной?»
СПОР ГРАММАТИКА С КОРМЧИМ
Однажды на корабль грамматик сел ученый,
И кормчего спросил сей муж самовлюбленный:
«Читал ты синтаксис?» — «Нет», — кормчий отвечал.
«Полжизни жил ты зря!» — ученый муж сказал.
Обижен тяжело был кормчий тот достойный,
Но только промолчал и вид хранил спокойный.
Тут ветер налетел, как горы, волны взрыл,
И кормчий бледного грамматика спросил:
«Учился плавать ты?» Тот в трепете великом
Сказал: «Нет, о мудрец совета, добрый ликом!»
«Увы, ученый муж! — промолвил мореход. —
Ты зря потратил жизнь: корабль ко дну идет!»
НАПУГАННЫЙ ГОРОЖАНИН
Однажды некто в дом чужой вбежал;
От перепугу бледный, он дрожал.
Спросил хозяин: «Кто ты? Что с тобой?
Ты отчего трясешься, как больной?»
А тот хозяину: «Наш грозный шах
Испытывает надобность в ослах.
Сейчас, во исполненье шахских слов,
На улицах хватают всех ослов».
«Хватают ведь ослов, а не людей!
Что за печаль тебе от их затей?
Ты не осел благодаря судьбе;
Так успокойся и ступай себе».
А тот: «Так горячо пошли хватать,
Что и меня, пожалуй, могут взять.
А как возьмут, не разберут спроста —
С хвостом ты ходишь или без хвоста.
Готов тиран безумный, полный зла,
И человека взять взамен осла».
О ТОМ, КАК ХАЛИФ УВИДЕЛ ЛЕЙЛИ
«Ужель из-за тебя, — халиф сказал, —
Меджнун-бедняга разум потерял?
Чем лучше ты других? Смугла, черна…
Таких, как ты, страна у нас полна».
Лейли в ответ: «Ты не Меджнун! Молчи!»
Познанья свет не всем блеснет в ночи.
Не каждый бодрствующий сознает,
Что беспробудный сон его гнетет.
Лишь тот, как цепи, сбросит этот сон,
Кто к истине душою устремлен.
Но если смерти страх тебя томит,
А в сердце жажда прибыли горит,
То нет в душе твоей ни чистоты,
Ни пониманья вечной красоты!
Спит мертвым сном плененный суетой
И видимостью ложной и пустой.
О ТОМ, КАК ВОР УКРАЛ ЗМЕЮ У ЗАКЛИНАТЕЛЯ
У заклинателя индийских змей
Базарный вор, по глупости своей,
Однажды кобру сонную стащил —
И сам убит своей добычей был.
Беднягу заклинатель распознал,
Вздохнул: «Он сам не знал, что воровал!
С молитвой к небу обратился я,
Чтобы нашлась пропавшая змея.
А ей от яда было тяжело;
Ей, видно, жалить время подошло…
Отвергнута была моя мольба,
От гибели спасла меня судьба».
Так неразумный молится порой
О пользе, что грозит ему бедой.
И сколько в мире гонится людей
За прибылью, что всех потерь лютей!
О БАКАЛЕЙЩИКЕ И ПОПУГАЕ, ПРОЛИВШЕМ В ЛАВКЕ МАСЛО
Жил бакалейщик; в лавке у него
Был попугай, любимый друг его.
Как сторож, днем у входа он сидел,
За каждым покупателем глядел.
И не был он бессмысленно болтлив, —
Он, как оратор, был красноречив.
Неловко раз на полку он порхнул
И склянку с маслом розовым столкнул.
На шум хозяин в лавку прибежал,
Потерю и убыток увидал, —
Вся лавка в масле, залит маслом пол.
И вырвал попугаю он хохол.
Тот, облысев, дар слова потерял.
Хозяин же в раскаянье вздыхал
И бороду, стеная, рвал свою:
«Увы! Я сам затмил судьбу мою!
Да лучше руку мне б свою сломать,
Чем на сладкоречивого поднять!»
Всем дервишам подарки он дарил,
Молясь, чтоб попугай заговорил.
Нахохлившись, три дня молчал певец;
Хоть ласку всевозможную купец
Оказывал любимцу своему,
Надеясь, что вернется речь к нему.
Шел мимо некий странник в этот час,
Без колпака, плешивый, словно таз.
Внезапно попугай обрел язык.
Он крикнул дервишу: «Эй ты, старик!
Эй, лысый! Кто волос тебя лишил?
Ты разве масло где-нибудь разлил?»
Смеялись все стоявшие кругом,
Когда себя сравнил он с мудрецом.
Хоть в начертанье «лев» и «молоко»[57]
Похожи, нам до мудрых далеко.
Мы судим по себе о их делах,
И оттого блуждает мир впотьмах.
Повадно нам — порочным, жадным, злым,
Равнять себя пророкам и святым.
Мол, в них и в нас найдешь ты суть одну,
И всяк подвержен голоду и сну!
Ты пропасти, что разделяет вас,
Не видишь в слепоте духовных глаз.
Два вида пчел в густых ветвях снуют.
Те — только жалят, эти — мед несут.
Вот две породы серн. Одна дает
Чистейший муск, другая — лишь помет.
Два рода тростника встают стеной,
Но пуст один, и сахарный другой.
А что таким сравненьям счета нет,
Поймешь в пути семидесяти лет.
РАССКАЗ О ТОМ, КАК ШУТ ЖЕНИЛСЯ НА РАСПУТНИЦЕ
Сказал сеид шуту: «Ну что ж ты, брат!
Зачем ты на распутнице женат?
Да я тебя — когда б ты не спешил —
На деве б целомудренной женил!»
Ответил шут: «Я на глазах у вас
На девушках женился девять раз —
Все стали потаскухами они,
Как почернел я с горя — сам взгляни!
Я шлюху ввел женой в свое жилье —
Не выйдет ли жены хоть из нее…
Путь разума увлек меня в беду,
Теперь путем безумия пойду!»
РАССКАЗ О НАПАДЕНИИ ОГУЗОВ
Разбой в степях привольных полюбя,
Огузы налетели, пыль клубя.
В селении добычи не нашли
И, старцев двух схватив, приволокли.
Скрутив арканом руки одному,
Кричали: «Выкуп — или смерть ему!»
А старец им: «О сыновья князей,
Что вам за прибыль в гибели моей?
Я — беден, гол, убог. Какая стать
Вам старика бесцельно убивать?»
В ответ огузы: «Мы тебя казним,
Чтобы пример твой страшен был другим,
Чтоб сверстник твой, лишась душевных сил,
Открыл нам, где он золото зарыл».
Старик им: «Верьте седине моей,
Как я ни беден — он меня бедней».
А тот, несвязанный, вопил: «Он лжет!
Он в тайнике богатства бережет!»
А связанный сказал: «Ну, если так,
Я думал: я бедняк и он бедняк.
Но если будете предполагать,
Что мы условились пред вами лгать,
Его сперва убейте, чтобы я
Открыл от страха, где казна моя!»
КРИКИ СТОРОЖА
При караване караульщик был,
Товар людей торговых сторожил.
Вот он уснул. Разбойники пришли,
Все взяли и верблюдов увели.
Проснулись люди: смотрят — где добро:
Верблюды, лошади и серебро?
И прибежали к сторожу, крича,
И бить взялись беднягу сгоряча.
И молвили потом: «Ответ нам дай:
Где наше достоянье, негодяй?»
Сказал: «Явилось множество воров.
Забрали сразу все, не тратя слов…»
«А ты где был, никчемный человек?
Ты почему злодейство не пресек?»
Сказал: «Их было много, я один…
Любой из них был грозный исполин!»
А те ему: «Так что ты не кричал:
«Вставайте! Грабят!» Почему молчал?»
«Хотел кричать, а воры мне: молчи!
Ножи мне показали и мечи.
Я смолк от страха. Но сейчас опять
Способен я стонать, вопить, кричать.
Я онемел в ту пору, а сейчас
Я целый день могу кричать для вас».
РАССКАЗ О ДВУХ МЕШКАХ
В пыли верблюд араба-степняка
Нес на себе огромных два мешка.
Хозяин дюжий сам поверх всего
Уселся на верблюда своего.
Спросил араба некий пешеход,
Откуда он, куда и что везет.
Ответил: «У меня в мешке одном —
Пшеница и степной песок — в другом».
«Спаси аллах, зачем тебе песок?»
«Для равновесия», — сказал ездок.
А пешеход: «Избавься от песка,
Рассыпь свою пшеницу в два мешка.
Когда верблюду ношу облегчишь —
Ты и дорогу вдвое сократишь».
Араб сказал: «Ты — истинный мудрец!
А я-то — недогадливый глупец…
Что ж ты — умом великим одарен —
Плетешься гол, и пеш, и изнурен?
Но мой верблюд еще не стар и дюж.
Я подвезу тебя, достойный муж!
Беседой сократим мы дальний путь.
Поведай о себе мне что-нибудь.
По твоему великому уму —
Ты царь иль друг халифу самому?»
А тот: «Не ходят в рубищах цари.
Ты на мои лохмотья посмотри».
Араб: «А сколько у тебя голов
Коней, овец, верблюдов и коров?»
«Нет ничего». — «Меня не проведешь.
Ты, вижу я, заморский торг ведешь.
О друг, скажи мне, истину любя,
Где на базаре лавка у тебя?»
«Нет лавки у меня», — ответил тот.
«Ну, значит, из богатых ты господ.
Ты даром сеешь мудрости зерно.
Тебе величье знания дано.
Я слышал: в злато превращает медь
Сумевший эликсиром овладеть».
Ответил тот: «Клянусь аллахом — нет!
Я — странник, изнуренный в бездне бед.
Подобные мне странники бредут
Туда, где корку хлеба им дадут.
А мудрость награждается моя
Лишь горечью и мукой бытия».
Араб ответил: «Прочь уйди скорей,
Прочь со злосчастной мудростью своей,
Чтоб тень тебя постигнувшего зла
Проказой на меня не перешла!
Ты на восход пойдешь, я — на закат,
Вперед пойдешь — я поверну назад.
Пшеница пусть лежит в мешке одном,
Песок останется в мешке другом.
Твои никчемны знанья, лжемудрец.
Пусть буду я, по-твоему, глупец, —
Благословенна глупость, коль она
На благо от аллаха мне дана!»
Как от песка, от мудрости пустой
Избавься, чтоб разделаться с бедой.
ЗОЛОТЫХ ДЕЛ МАСТЕР И ЕГО ВЕСЫ
Раз, к золотому мастеру пришед,
Сказал старик: «Весы мне дай, сосед».
Ответил мастер: «Сита нет у нас».
А тот: «Не сито! Дай весы на час».
А мастер: «Нет метелки, дорогой».
Старик: «Ты что? Смеешься надо мной?
Прошу я: «Дай весы!» — а ты в ответ —
То сита нет, а то метелки нет».
А мастер: «Я не глух. Оставь свой крик!
Я слышал все, но дряхлый ты старик.
И знаю я, трясущейся рукой
Рассыплешь ты песок свой золотой,
И за метелкою ко мне придешь,
И золото с землею подметешь,
Придешь опять и скажешь: «Удружи
И ситечко на час мне одолжи».
Начало зная, вижу я конец.
Иди к соседям с просьбою, отец!
Богатые соседи ссудят вам
Весы, метелку, сито… Вассалам!»
 Миниатюра из рукописи XVI в. Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.
Миниатюра из рукописи XVI в. Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.
РАССКАЗ О ФАКИХЕ В БОЛЬШОЙ ЧАЛМЕ И О ВОРЕ
Факих какой-то (бог судья ему)
Лохмотьями набил свою чалму,
Дабы в большой чалме, во всей красе,
Явиться на собранье в медресе.
С полпуда рвани он в чалму набил,
Куском красивой ткани обкрутил.
Чалма снаружи — всем чалмам пример.
Внутри она — как лживый лицемер.
Клочки халатов, рваных одеял
Красивый внешний вид ее скрывал.
Вот вышел из дому факих святой,
Украшенный огромною чалмой.
Несчастье ждет, когда его не ждем, —
Базарный вор таился за углом.
Сорвав чалму с факиха, наутек
Грабитель тот со всех пустился ног.
Факих ему кричит: «Эй, ты! Сперва
Встряхни чалму, пустая голова!
Уж если ты как птица полетел,
Взгляни сначала, чем ты завладел.
А на потерю я не посмотрю,
Я, так и быть, чалму тебе дарю!»
Встряхнул чалму грабитель. И тряпье
И рвань взлетели тучей из нее.
Сто тысяч клочьев из чалмищи той
Рассыпалось по улице пустой.
В руке у вора лишь кусок один
Остался, не длиннее, чем в аршин.
И бросил тряпку, и заплакал вор:
«Обманщик ты! Обманщику позор!
На хлеб я нынче заработать мог,
Когда б меня обман твой не увлек!»
РАССКАЗ О КАЗВИНЦЕ И ЦИРЮЛЬНИКЕ
Среди казвинцев жив и посейчас
Обычай — удивительный для нас —
Накалывать, с вредом для естества,
На теле образ тигра или льва.
Работают же краской и иглой,
Клиента подвергая боли злой.
Но боль ему приходится терпеть,
Чтоб это украшение иметь.
И вот один казвинский человек
С нуждою той к цирюльнику прибег.
Сказал: «На мне искусство обнаружь!
Приятность мне доставь, почтенный муж!»
«О богатырь! — цирюльник вопросил. —
Что хочешь ты, чтоб я изобразил?»
«Льва разъяренного! — ответил тот. —
Такого льва, чтоб ахнул весь народ.
В созвездье Льва — звезда судьбы моей!
А краску ставь погуще, потемней».
«А на какое место, ваша честь,
Фигуру льва прикажете навесть?»
«Ставь на плечо, — казвинец отвечал, —
Чтоб храбрым и решительным я стал,
Чтоб под защитой льва моя спина
В бою и на пиру была сильна!»
Когда ж иглу в плечо ему вонзил
Цирюльник, «богатырь» от боли взвыл:
«О дорогой! Меня терзаешь ты!
Скажи, что там изображаешь ты?»
«Как что? — ему цирюльник отвечал. —
Льва! Ты ведь сам же льва мне заказал!»
«С какого ж места ты решил начать
Столь яростного льва изображать?»
«С хвоста». — «Брось хвост! Не надобно хвоста!
Что хвост? Тщеславие и суета!
Проклятый хвост затмил мне солнце дня,
Закупорил дыханье у меня!
О чародей искусства, светоч глаз,
Льва без хвоста рисуй на этот раз».
И вновь цирюльник немощную плоть
Взялся без милосердия колоть.
Без жалости, без передышки он
Колол, усердьем к делу вдохновлен.
«Что делаешь ты?» — мученик вскричал.
«Главу и гриву», — мастер отвечал.
«Не надо гривы мне, повремени!
С другого места рисовать начни!»
Колоть пошел цирюльник. Снова тот
Кричит: «Ай, что ты делаешь?» — «Живот».
Взмолился вновь несчастный простота:
«О дорогой, не надо живота!
Столь яростному льву зачем живот?
Без живота он лучше проживет!»
И долго, долго, мрачен, молчалив,
Стоял цирюльник, палец прикусив.
И, на землю швырнув иглу, сказал:
«Такого льва господь не создавал!
Где, ваша милость, льва видали вы
Без живота, хвоста и головы?
Коль ты не терпишь боли, прочь ступай,
Иди домой, на льва не притязай!»
* * *
О друг, умей страдания сносить,
Чтоб сердце светом жизни просветить.
Тем, чья душа от плотских уз вольна,
Покорны звезды, солнце и луна.
Тому, кто похоть в сердце победил,
Покорны тучи и круги светил.
И зноем дня не будет опален
Тот, кто в терпенье гордом закален.
РАССКАЗ ОБ АПТЕКАРЕ И ЛЮБИТЕЛЕ ГЛИНЫ
Жил горожанин… чем-то он болел;
Он, как халву, простую глину ел.
Аптекаря однажды посетить
Пришлось ему, чтоб сахару купить.
Аптекарь вмиг (он плут великий был)
Комками глины гири заменил.
Сказал: «Торгую без обмана я —
По гирям глина взвешена моя!
Что вы хотите?» — «Сахар нужен мне,
А глина гири заменит вполне».
А сам подумал: «Гирь в аптеке нет.
Пустое! Глина лучше, чем шербет».
Вот так же сваха к юноше пришла:
«Ох и невесту я тебе нашла!
Боюсь — неровня вам. Беда одна —
Дочь нашего кондитера она».
А он в ответ: «Что слаще и жирней
Кондитерских любезных дочерей!»
«Ты не имеешь гирь, но глина мне
Ценней и слаще сахара вдвойне».
Аптекарь тот весы установил
И вместо гири глину положил.
И не спеша пошел в покой другой
Колоть индийский сахар дорогой.
Сказал: «Простите мне, как на беду,
Топорик свой никак я не найду».
Пока топорик он, ворча, искал,
Тот покупатель глину колупал.
Пихал он воровато глину в рот,
Боясь: «Аптекарь невпопад придет,
Заметит: глину ем я, скажет — «вор».
Тогда — увы — беда мне и позор!»
Но про себя аптекарь от души
Смеялся: «Ешь, несчастный, не спеши.
Ты у меня желанное нашел.
Меня боишься, ибо ты — осел.
Ешь, ешь, любезный, досыта… А мне ж
Одна опаска — вдруг ты мало съешь?
За съеденную глину я прощу,
По весу глины сахар отпущу.
Не ведаю, поймешь ли ты потом,
Кто был из нас разиней и глупцом!»
О НАБОЖНОМ ВОРЕ И САДОВНИКЕ
Бродяга некий, забредя в сады,
На дерево залез и рвал плоды.
Тут садовод с дубинкой прибежал,
Крича: «Слезай! Ты как сюда попал?
Ты кто?» А вор: «Я — раб творца миров —
Пришел вкусить плоды его даров.
Ты не меня, ты бога своего
Бранишь за щедрой скатертью его».
Садовник, живо кликнув батраков,
Сказал: «Видали божьих мы рабов!»
Веревкой вора он велел скрутить
Да как взялся его дубинкой бить.
А вор: «Побойся бога, наконец!
Ведь ты убьешь невинного, подлец!»
А садовод несчастного лупил
И так при этом вору говорил:
«Дубинкой божьей божьего раба
Бьет божий раб! Такая нам судьба.
Ты — божий, божья у тебя спина,
Дубинка тоже божья мне дана!»
СПАСШИЙСЯ ВОР
Какой-то человек, войдя в свой дом,
Увидел вора, шарящего в нем.
Погнался он за вором, в пот вогнал.
И уж совсем он вора настигал,
Но закричал в ту пору вор другой:
«Эй, не беги, почтеннейший! Постой!
Поди сюда, взгляни-ка — вот следы
К твоим дверям крадущейся беды!
Иди по ним, о добрый человек,
Чтоб не утратить все добро навек».
Подумал тот: «А вдруг ко мне опять
Другой злодей забрался воровать?
Бегущего ловить какой мне прок?
Вернусь-ка я скорей на свой порог.
А вдруг забравшийся ко мне злодей
Жену мою зарежет и детей!
Тот муж, — видать, доброжелатель мой, —
Не зря советует спешить домой».
«О друг! — второго вора он спросил. —
Какие ты следы еще открыл?»
А вор ответил: «Видишь — три следа?
Вор этот подлый убежал туда!
За ним скорей, почтенный, поспешай,
Чтобы не скрылся этот негодяй».
«Ах ты осел! — несчастный завопил. —
Ведь этот вор в моем жилище был,
Ведь я его почти уже догнал!
Ты задержал меня — и он удрал.
Ты мелешь о следах какой-то вздор!..
Что мне в следах, когда вот сам он — вор?»
А вор ему: «Увидя вора след,
Полезным счел я дать тебе совет».
Тот вору: «Или ты совсем дурак,
Иль сам ты вор. Всего вернее — так.
Я догонял, почти схватил его,
Ты закричал — я упустил его!»
РАССКАЗ ОБ УЧИТЕЛЕ
Один учитель был не в меру строг.
Был детям ад любой его урок.
И, становясь день ото дня лютей,
Он до отчаянья довел детей.
Однажды перед школою, в тиши,
Советоваться стали малыши:
«Придет он скоро; как ему не лень
Томиться здесь, томить нас целый день?
Хоть заболел бы он — спаслись бы мы
От злой зубрежки, словно от тюрьмы.
Да крепок он, как каменный сидит,
Кому бы дать затрещину — глядит».
Сказал один малыш, смышленей всех:
«И обмануть мучителя не грех.
Условимся: один из нас войдет —
Посмотрит и ладонями всплеснет:
«Салам! Храни вас благодать творца!
Что с вами стало? Нет на вас лица!»
Другой войдет: «Учитель дорогой,
Какой вы бледный, вы совсем больной!»
И третий и четвертый… Так подряд
Все тридцать это слово повторят:
«Что с вами? Дай вам боже добрый час, —
Да уж не лихорадка ли у вас?»
Ему покажется от наших слов,
Что он и в самом деле нездоров.
Как он больным себя вообразит —
Воображение его сразит.
И умный человек с ума сойдет,
Коль верх воображение возьмет».
«Ай, молодец! У нас ты всех умней», —
Обрадовались тридцать малышей
И клятву дали заодно стоять
И тайну никому не выдавать.
Вот мальчик тот, что всех смелее был,
Дверь в помещенье школьное открыл:
«Салам, учитель! Сохрани вас бог!
Как здравье ваше? Вид ваш очень плох».
Учитель буркнул: «Я вполне здоров.
Садись и не болтай-ка пустяков».
Но все ж от замечанья малыша
Тревоге поддалась его душа.
Второй малыш сказал: «Как вы бледны!
Учитель дорогой, вы не больны?»
И третий мальчик то же повторил.
Четвертый, пятый то же говорил…
И так все тридцать школьников подряд —
Тревогою учитель был объят,
От страха он невольно ослабел:
«Да я и впрямь, как видно, заболел!»
Вскочил, свернул поспешно коврик свой
И через дворик побежал домой.
Ужасно на свою жену сердит:
«Я страшно болен, а она молчит.
Я при смерти, а ей и дела нет!»
Бежит домой, бегут ребята вслед.
Жена спросила, увидав его:
«Что с вами? Не случилось ли чего?
Ведь вы не возвращались никогда
Так рано! Да минует нас беда!»
«Ты что, ослепла, что ли? — муж в ответ.
Ты моего лица не видишь цвет?
Все люди мне сочувствуют, одна
Не видит мук моих моя жена!»
«Да ты вполне здоров, — жена ему, —
С чего ты вдруг взбесился, не пойму».
«Негодная! — учитель возопил. —
Я бледен, я дрожу, валюсь без сил.
Взгляни, как изменился я с лица —
Да я на грани смертного конца!»
Жена: «Я дам вам зеркало сейчас,
Не изменился цвет лица у вас».
«Да провались ты с зеркалом своим! —
Вскричал учитель, яростью палим. —
Постель мне постели, чтоб я прилег.
Живей! Я от болезни изнемог».
Постель ему устроила жена.
«Бесцельно спорить, — думала она. —
Он не послушает разумных слов.
Хоть вижу я, что он вполне здоров.
Ведь от дурной приметы человек
Порой больным становится навек»,
Под несколько тяжелых одеял
Учитель лег, и охал, и стонал.
Ученики, забившись в уголок,
Бубнили хором заданный урок.
Малыш, что всю затею изобрел
И на учителя болезнь навел,
Сказал: «Вот мы бормочем и кричим —
И нашему учителю вредим.
От шума головная боль сильней,
А стоит ли болеть из-за грошей?»
«Он прав, — сказал учитель, — Полно вам!
Ступайте-ка сегодня по домам».
И малыши, прервавши свой урок,
Порхнули птичьей стайкой за порог,
А матери, их крики услыхав,
Не в школе — за игрой их увидав,
Спросили с гневом: «Кто вас отпустил?
Сегодня разве праздник наступил?»
А дети отвечали матерям:
«Нас отпустил домой учитель сам.
Он вышел утром к нам, на коврик сел
И вдруг внезапно чем-то заболел».
А матери в ответ: «Обман и ложь!
Да нас ведь сказками не проведешь.
Учителя мы завтра навестим,
Мы ваш обман, лгуны, разоблачим».
Пришли они к учителю домой,
Глядят: лежит он тяжело больной.
Вспотев от жарких, толстых одеял,
Он, с головой укутанный, стонал.
Сказали женщины: «Помилуй бог!
Учитель наш и впрямь уж очень плох.
Ведь если он умрет, то как нам быть?
Кто будет наших сорванцов учить?
Не знали мы, что впрямь недуг напал
На вас, учитель!» — «Я и сам не знал,
Да за уроком ваши сыновья
Увидели, что очень болен я.
Кто весь в трудах — почувствует не вдруг,
Что силы подточил ему недуг.
Кто очень занят, некогда тому
Прислушаться к здоровью своему».
ИЗ «ДИВАНА ШАМСА ТЕБРИЗСКОГО»
ГАЗЕЛИ
* * *
В счастливый миг мы сидели с тобой — ты и я,
Мы были два существа с душою одной — ты и я.
Дерев полутень и пение птиц дарили бессмертием нас
В ту пору, как в сад мы спустились немой — ты и я.
Восходят на небо звезды, чтоб нас озирать;
Появимся мы им прекрасной луной — ты и я.
Нас двух — уже нет, в восторге в тот миг мы слились,
Вдали от молвы суеверной и злой — ты и я.
И птицы небесные кровью любви изойдут
Там, где мы в веселье ночною порой — ты и я.
Но вот что чудесно: в тот миг, как мы были вдвоем —
Мы были: в Ираке — один, в Хорасане — другой, — ты и я.
* * *
Без границы пустыня песчаная,
Без конца — сердца повесть избранная.
Ищет образов мир, чтобы форму принять, —
Как узнаю в них свой без обмана я?
Если срубленной встретишься ты голове,
Что катится в полях, неустанная,
Ты спроси, ты спроси тайны сердца у ней —
Так откроется тайна желанная.
Что бы было, когда уху стал бы сродни
Говор птицы — их песня слиянная?
Что бы было, когда бы от птицы узнал
Драгоценности тайн Сулеймана я?
Что сказать мне? Что мыслить? В плену бытия
Весть понятна ли, свыше нам данная?
Как молчать, когда с каждым мгновеньем растет
В нас тревога неслыханно странная?
Куропатка и сокол летят в ту же высь,
Где гнездо их — вершина туманная,
В эту высь, где Сатурна на сфере седьмой
Звезда миру сияет багряная.
Но не выше ль семи тех небес — эмпирей?
И над ним знаю вышние страны я!
Но зачем эмпирей нам? Цель наша — земля
Единения благоуханная.
Эту сказку оставь. И не спрашивай нас:
Наша сказка лежит бездыханная.
Пусть лишь Салах-эд-Дином воспета краса
Царя всех царей первозданная.
* * *
Любовь — это к небу стремящийся ток,
Что сотни покровов прорвал и совлек.
В начале дороги — от жизни уход,
В конце — шаг, не знавший, где след его лег.
Не видя, приемлет любовь этот мир,
И взор ее — самому зренью далек.
«О сердце, — вскричал я, — блаженно пребудь,
Что в любящих ты проникаешь чертог,
Что смотришь сверх грани, доступной для глаз,
В извилинах скрытый находишь поток.
Душа, кто вдохнул в тебя этот порыв?
Кто в сердце родил трепетанье тревог?
О птица! Своим языком говори —
Понятен мне тайн сокровенный намек».
Душа отвечала: «Я в горне была,
Чтоб дом мой из глины создатель испек;
Летала вдали от строенья работ —
Чтоб так построенья исполнился срок;
Когда же противиться не было сил —
В ту круглую форму вместил меня рок».
* * *
Вчера я послал тебе сказать с вечерней звездою:
«Привет тому, чей лик сквозь тьму глядит луной молодою».
Склонился я, сказал: «Ты солнцу отдай мой поклон —
Чьим жаром спален, как золото, склон под горной грядою».
Я грудь обнажил, и можно на ней кровавые раны счесть,
Снеси любимому весть, кто кровью не сыт, как стебель водою!
Качался я взад, вперед — пусть уснет сердце-дитя в груди:
Чтоб уснуло оно — люльку качать надо мерной чредою.
Сердцу-дитяти дай молока, чтоб стих его плач,
О ты, помогающий всем, как я, отягченным бедою!
Сердца приют — лишь в мире один — единения град.
Долго ли будешь сердце вдали плена держать уздою?
Я смолкаю, но дай опьянеть, кравчий, мне поскорей,
Чтоб голове моей не болеть болью худою.
* * *
Когда бы дан деревьям был шаг или полет —
Не знать ни топора им, ни злой пилы невзгод.
А солнце если б ночью не шло и не летело —
Не знал бы мир рассвета и дней не знал бы счет.
Когда бы влага моря не поднялась до неба —
Ручья бы сад не видел, росы не знал бы плод,
Уйдя и вновь вернувшись, меж створок перламутра —
Так станет капля перлом в родимом лоне вод.
Не плакал ли Иосиф, из дома похищаем,
И не достиг ли царства и счастья он высот?
И Мухаммад, из Мекки уехавший в Медину, —
Не основал ли в славе великой власти род?
Когда путей нет внешних — в себе самом ты странствуй,
Как лалу — блеск пусть дарит тебе лучистый свод.
Ты в существе, о мастер, своем открой дорогу —
Так к россыпям бесценным в земле открылся ход.
Из горечи суровой ты к сладости проникни —
Как на соленой почве плодов душистый мед.
Чудес таких от Шамса — Тебриза славы — ждите,
Как дерево — от солнца дары своих красот.
* * *
Когда мой труп перед тобой, что в гробе тленом станет, —
Не думай, что моя душа жить в мире бренном станет,
Не плачь над мертвым надо мной и не кричи «увы!».
Увы — когда кто жертвой тьмы во сне забвенном станет.
Когда увидишь ты мой гроб, не восклицай «ушел!».
Ведь в единении душа жить несравненном станет.
Меня в могилу проводив, ты не напутствуй вдаль:
Могила — скиния, где рай в дне неизменном станет.
Кончину видел ты, теперь ты воскресенье зри;
Закат ли солнцу и луне позорным пленом станет?
В чем нисхожденье видишь ты, в том истинный восход:
Могилы плен — исход души в краю блаженном станет.
Зерно, зарытое в земле, дает живой росток;
Верь, вечно жить и человек в зерне нетленном станет.
Ведро, что в воду погрузишь, — не полно ль до краев?
В колодце ль слезы Иосиф-дух лить, сокровенном, станет?
Ты здесь замкни уста, чтоб там открыть — на высоте,
И вопль твой — гимном торжества в непротяженном станет.
* * *
О вы, рабы прелестных жен! Я уж давно влюблен!
В любовный сон я погружен. Я уж давно влюблен.
Еще курилось бытие, еще слагался мир,
А я, друзья, уж был влюблен! Я уж давно влюблен.
Семь тысяч лет из года в год лепили облик мой —
И вот я ими закален: я уж давно влюблен.
Едва спросил аллах людей: «Не я ли ваш господь?» —
Я вмиг постиг его закон! Я уж давно влюблен.
О ангелы, на раменах держащие миры,
Вздымайте ввысь познанья трон! Я уж давно влюблен.
Скажите Солнцу моему: «Руми пришел в Тебриз!
Руми любовью опален!» Я уж давно влюблен.
Но кто же тот, кого зову «Тебризским Солнцем»[58] я?
Не светоч истины ли он? Я уж давно влюблен.
Я видел милую мою в тюрбане золотом,
Она кружилась, и неслась, и обегала дом…
И выбивал ее смычок из лютни перезвон,
Как высекают огоньки из камешка кремнем.
Опьянена, охмелена, стихи поет она
И виночерпия зовет в своем напеве том.
А виночерпий тут как тут: в руках его кувшин,
И чашу наполняет он воинственным вином.
(Видал ли ты когда-нибудь, чтобы в простой воде,
Змеясь, плясали языки таинственным огнем?)
А луноликий чашу ту поставил на крыльцо,
Поклон отвесил и порог поцеловал потом.
И ненаглядная моя ту чашу подняла
И вот уже припала к ней неутолимым ртом.
Мгновенно искры понеслись из золотых волос…
Она увидела себя в грядущем и былом:
«Я — солнце истины миров! Я вся — сама любовь!
Я очаровываю дух блаженным полусном».
* * *
Я — живописец. Образ твой творю я каждый миг!
Мне кажется, что я в него до глубины проник.
Я сотни обликов создал — и всем я душу дал,
Но всех бросаю я в огонь, лишь твой увижу лик.
О, кто же ты, краса моя: хмельное ли вино?
Самум ли, против снов моих идущий напрямик?
Душа тобой напоена, пропитана тобой,
Пронизана, растворена и стала как двойник.
И капля каждая в крови, гудящей о тебе,
Ревнует к праху, что легко к стопам твоим приник.
Вот тело бренное мое: лишь глина да вода…
Но ты со мной — и я звеню, как сказочный родник!
* * *
«Друг, — молвила милая, — в смене годов
Ты видел немало чужих городов.
Который из них всех милее тебе?»
«Да тот, где искал я любимых следов.
Туда сквозь игольное мог бы ушко
Я к милой пройти на воркующий зов.
Везде, где блистает ее красота,
Колодезь — мой рай и теплица — меж льдов.
С тобою мне адовы муки милы,
Темница с тобой краше пышных садов;
Пустыня сухая — душистый цветник;
Без милой средь розовых плачу кустов.
С тобою назвал бы я светлым жильем
Могилу под сенью надгробных цветов.
Тот город я лучшим бы в мире считал,
Где жил бы с любимой средь мирных трудов».
Я ловчим соколом летел с ладони всеблагого
Туда, куда вело меня божественное слово.
Я облетел все семь планет, все девять сфер небесных,
Вершин Сатурна достигал и возвращался снова.
Еще Адам не создан был, а я был стражем рая,
И с гуриями я вкусил блаженства неземного.
На царском троне восседал, владел кольцом с печатью,
До Сулеймана я смирял любого духа злого.
В огонь входил — и пламя вмиг преображалось в розы,
Шел по цветам я, по огню багряного покрова.
Став перлом, с неба я упал в ларец земной юдоли,
А вознесусь — и небо вмиг венчать меня готово.
Все времена поют вослед за Шамсом песню эту,
Но спета мною до времен ее первооснова.
Паломник трудный путь вершит, к Каабе устремлен,
Идет без устали, придет — и что же видит он?
Тут камениста и суха бесплодная земля,
И дом высокий из камней на ней сооружен.
Паломник шел в далекий путь, чтоб господа узреть,
Он ищет бога, но пред ним стоит как бы заслон.
Идет кругом, обходит дом — все попусту; но вдруг
Он слышит голос изнутри, звучащий, словно звон:
«Зачем не ищешь бога там, где он живет всегда?
Зачем каменья свято чтишь, им отдаешь поклон?
Обитель сердца — вот где цель, вот Истины дворец,
Хвала вошедшему, где бог один запечатлен».
Хвала не спящим, словно Шамс, в обители своей
И отвергающим, как он, паломничества сон.
Вы, взыскующие бога средь небесной синевы,
Поиски оставьте эти, вы — есть Он, а Он — есть вы.
Вы — посланники господни, вы пророка вознесли,
Вы — закона дух и буква, веры твердь, ислама львы,
Знаки бога, по которым вышивает вкривь и вкось
Богослов, не понимая суть божественной канвы.
Вы в источнике бессмертья, тленье не коснется вас,
Вы — циновка всеблагого, трон аллаха средь травы.
Для чего искать вам то, что не терялось никогда?
На себя взгляните — вот вы, от подошв до головы.
Если вы хотите бога увидать глаза в глаза —
С зеркала души смахните муть смиренья, пыль молвы.
И тогда, Руми подобно, истиною озарясь,
В зеркале себя узрите, ведь всевышний — это вы.
* * *
Ты к возлюбленной стремишься? Будь же сам с собой жесток:
Для свечи души и тела не жалеет мотылек.
Был бы вечности причастен, богом был бы, если б ты
Отказался от богатства, стать рабом смиренным смог.
Только истиной любуйся, говори лишь о любви,
Хвастай четками безумья, взвейся, как хмельной клинок.
Что за польза в промедленье, если с миром ты одно!
Путь у нас с тобой совместный — так идем же в погребок!
Пей вино из кубка страсти к похищающей сердца,
Вера и безверье — басни, болтовня — какой в них прок!
Страсть — вино и виночерпий, в ней начала и концы,
Сказано о чистых сердцем: «Напоил их сам пророк».
Знай, одна лишь ночь свиданья стоит жизни вечной всей;
Песня же Руми об этом — клад, закопанный в песок.
* * *
О правоверные, себя утратил я среди людей.
Я чужд Христу, исламу чужд, не варвар и не иудей.
Я четырех начал лишен, не подчинен движенью сфер,
Мне чужды запад и восток, моря и горы — я ничей.
Живу вне четырех стихий, не раб ни неба, ни земли,
Я в нынешнем, я в прошлом дне — теку, меняясь, как ручей.
Ни ад, ни рай, ни этот мир, ни мир нездешний — не мои,
И мы с Адамом не в родстве — я не знавал эдемских дней.
Нет имени моим чертам, вне места и пространства я,
Ведь я — душа любой души, нет у меня души своей.
Отринув двойственность, я вник в неразделимость двух миров,
Лишь на нее взираю я, и говорю я лишь о ней.
Но скорбь, раскаянье и стыд терзали бы всю жизнь меня,
Когда б единый миг провел в разлуке с милою моей.
Ты до беспамятства, о Шамс, вином и страстью опьянен,
в целом мире ничего нет опьянения нужней.
* * *
То любят безмерно, а то ненавидят меня,
То сердце дарят, то мое сокрушают, казня;
То властвую я, как хозяин, над мыслью своей,
То мысль моя держит в тисках меня, как западня;
То, словно Иосиф, чарую своей красотой,
То, словно Иакова, скорби одела броня;
То, словно Иов, терпелив я, покорен и тих,
То полог терпенья сжигает страстей головня;
То полон до края, то пуст я, как полый тростник,
То чувств не сдержать, то живу, безучастность храня;
То жадно за золотом брошусь я в самый огонь,
То золото щедро бросаю в объятья огня;
То страшен лицом я, уродлив, как ада гонец,
То лик мой сияет, красою прекрасных дразня;
То вера благая внушает смирение мне,
То мною владеет безверья и блуда возня;
То лев я свирепый, волк алчущий, злая змея,
То общий любимец, подобье прохладного дня;
То мерзок и дерзок, несносен и тягостен я,
То голос мой нежен и радует сердце, звеня;
Вот облик познавших: они то чисты и светлы,
То грязью позора клеймит их порока ступня.
* * *
Бываю правдивым, бываю лжецом — все равны,
То светлый араб я, то черен лицом — все равны.
Я солнцем бываю, крылатым Симургом души,
Царя Сулеймана волшебным кольцом — все равны.
Я — буря и прах, я — вода и огонь, я слыву
Порой благородным, порой подлецом — все равны.
Таджиком ли, тюрком ли — быть я умею любым,
Порой прозорливым, порою слепцом — все равны.
Я — день, я — неделя, я — год, Рамазан и Байрам,
Светильник, зажженный Всевышним Отцом, — все равны.
Я цвет изменяю, я сменой желаний пленен,
Лишь миг — и за новым иду бубенцом — все равны.
Мой месяц — над небом, при мне барабаны и стяг,
Шатер мой сравнялся с небесным дворцом — все равны.
Я — выше людей. Див и ангел — родня мне. Они
Одним осиянны нездешним венцом — все равны.
У ног моих — пери, и знатные родом — в пыли,
Они предо мною, певцом и жрецом, все равны.
Я бога взыскую; мне ведома сущность вещей:
Все ночи и дни, что даны нам творцом, — все равны.
Так сказано мною. Таков и сияющий Шамс:
То тучами скрыт, то горит багрецом — все равны.
* * *
Всему, что зрим, прообраз есть, основа есть вне нас,
Она бессмертна — а умрет лишь то, что видит глаз.
Не жалуйся, что свет погас, не плачь, что звук затих:
Исчезли вовсе не они, а отраженье их.
А как же мы и наша суть? Едва лишь в мир придем,
По лестнице метаморфоз свершаем наш подъем.
Ты из эфира камнем стал, ты стал травой потом,
Потом животным — тайна тайн в чередованье том!
И вот теперь ты человек, ты знаньем наделен,
Твой облик глина приняла, — о, как непрочен он!
Ты станешь ангелом, пройдя недолгий путь земной,
И ты сроднишься не с землей, а с горней вышиной.
О Шамс, в пучину погрузись, от высей откажись —
И в малой капле повтори морей бескрайних жизнь.
* * *
Что Кааба для мусульман, то для тебя душа.
Свершай вкруг этой Каабы обход свой не спеша.
Паломничество совершать нам заповедал бог,
Чтоб душу правде обрекли, чтоб жили не греша.
Так откажись от серебра — лишь сердцем обладай:
Душа святая и в гробу пребудет хороша.
Сто раз ты можешь обойти вкруг черной Каабы,
Но что же в этом, если ты бесстрастней палаша?
Превыше неба самого я сердце возношу,
Которое считаешь ты тростинкой камыша.
Оно велико, ибо сам великий в нем живет —
И оттого-то стук его ты слушай не дыша.
Прислушайся же к тем стихам, что вписаны в Коран:
«Небес бы я не сотворил, когда б не ты, душа!»
КАСЫДА
Открой свой лик: садов, полных роз, я жажду,
Уста открой: меда сладостных рос я жажду,
Откинув чадру облаков, солнце, лик свой яви,
Чтоб радость мне блеск лучезарный принес, я жажду.
Призывный звук твой слышу и вновь лететь,
Как сокол в руке царя, — к свершению грез я жажду,
Сказала ты мне с досадой: «Прочь от меня!»
Но голос твой слышать и в звуке угроз я жажду,
Сурово ты молвишь: «Зачем не прогнали его?»
Из уст твоих слышать и этот вопрос я жажду.
Из сада друга, о ветер, повей на меня,
Вдохнуть аромат тех утренних рос я жажду.
Та влага, что небо дает, — мгновенный поток;
Безбрежного моря лазури и гроз я жажду.
Как Иакова вопль — «Увы мне!» — звучит мой крик:
Иосифа зреть, что — любимый — мне взрос, я жажду.
Мне без тебя этот шумный город — тюрьма;
Приютом избрать пустынный утес я жажду.
На площади с чашей, касаясь любимых кудрей,
Средь пляски вкусить сок сладостных лоз я жажду.
Мне скучно средь духом убогих людей:
Чтоб дружбу Али или Рустама рок мне принес, я жажду.
Лишь мелкая пыль — красота в руках у людей;
Такой, как руды в земле мощный нанос, я жажду.
Я нищий, но мелким камням самоцветным не рад:
Таких, как пронизанный светом утес, я жажду.
Мне горько, что в грустном унынии люди вокруг;
Веселья, что дарит напиток из лоз, я жажду.
На сердце скорбь, что в плену у египтян народ:
Что лик сын Имрана Моисей меж нами вознес, я жажду.
Иные скажут: «Искали мы — не нашли».
Того лишь, чего не найти, как венца моих грез, я жажду.
Мне черни бессмысленной брань замкнула уста,
И вместо песен лишь горестных слез я жажду.
Светильник зажегши, ходил вкруг города шейх:
«Чтоб путь к человеку мне не зарос, я жажду».
Но дух мой чрез жадность стремлений давно перешел:
Чтоб к вечной основе чрез мир он пророс, я жажду.
От зренья он скрыт, но всякое зрение — он;
Чтоб дух меня к тайне творящей вознес, я жажду.
Вот исповедь веры, и сердце мое пьяно,
Стать веры напитком из жертвенных лоз я жажду.
Я — лютня любви, и, ее напевом звуча,
Быть звуком, что в рай Османа унес, я жажду.
Та лютня поет, что в страстном желании — все;
Владыки всех благ милосердия слез я жажду.
Певец искусный, вот песни твоей конец,
Вложить лишь в нее страстный вопрос я жажду:
Шамс, — гордость Тебриза, зажжешь ли любви нам зарю?
Как весть о Балкис, аромата тех слов я жажду.
ЧЕТВЕРОСТИШИЯ ЛЮБВИ
* * *
Я песнь о ней сложил, но вознегодовала
Она за то, что ей пределом служит стих.
«Как мне тебя воспеть?» Она мне отвечала:
«Стиху ли быть красот вместилищем моих?»
* * *
Тому, в ком сердца есть хоть доля небольшая,
Несносно без любви к тебе прожить свой век,
Но цепь твоих кудрей сплетенных разбирая,
Окажется глупцом и умный человек.
* * *
Любовь приятнее, когда несет нам муки.
Не любит, кто в любви от мук бежит назад.
Муж — тот, кто, все забыв, когда наложит руки
Любовь на жизнь его, всю жизнь отдать ей рад.
* * *
Любовь должна быть тем, что нас бы услаждало.
Любовь нам радости без счета может дать.
Я в матери-любви обрел свое начало.
Благословенна будь навеки эта мать!
* * *
Она — живой рубин, в котором все прелестно.
И блещут радости неведомых миров.
Сказать ли, кто она? Но имя неуместно:
Поклонник я того, кто враг излишних слов.
* * *
О, я еще не сыт тобою, друг мой милый,
И много ты еще мне сладости должна.
Былинка над моей возросшая могилой, —
И та еще любви останется верна.
* * *
Мое случайное общение с другою
Не значит, что отдать я сердце ей хочу:
Тот, солнце чье с небес уйдет, спеша к покою,
Поставит пред собой взамен его свечу.
* * *
Не верь, что по тебе я больше не тоскую
И что отсутствием твоим не огорчен:
Вина твоей любви я выпил кадь такую,
Что ею вечно был и буду упоен.
* * *
Я пользы ожидал от временной разлуки, —
Я думал: милая раскается моя.
Довольно я терпел, довольно принял муки —
Не смог. Тебе ль солгу я, правду утая?
* * *
В любви забудь свой ум, хоть мудростью ты славен,
Дорожным прахом стань, хоть в небе будь свой дом,
Будь старцам, юношам, и злым, и добрым равен,
Будь ферзью, пешкою, потом уж — королем.
СААДИ{5}
ИЗ «ГУЛИСТАНА»
* * *
Хорошо одна старушка сыну молвила, когда
Стал он вровень леопарду, стал он сильным, словно слон:
«Если б ты, сынок мой, помнил, как в младенческие дни
На руках моих ютился ты в плену своих пелен, —
Никакой бы ты обиды мне теперь не причинил,
Потому, что я — бессильна, потому, что ты — силен».
* * *
О, как счастлив глаз влюбленный, как блажен, коль этот глаз
Может видеть лик подобный всякий день и в миг любой!
Опьяненный чашей винной отрезвится поутру.
Только в Судный день очнется опьянившийся тобой.
* * *
Коль пристанища ты ждешь — не торопись.
Старикам внимать ты слух свой приучи.
По пескам лишь два прогона мчится конь,
А верблюд бредет и в полдень и в ночи!
* * *
Прося у вельможи, жмут руку к груди, —
Пред богом я в памяти это храню.
Когда ж он низвержен, проситель его
Ему на чело свою ставит ступню.
* * *
Однажды я старца увидел в горах,
Избрал он пещеру, весь мир ему — прах.
Сказал я: «Ты в город зачем не идешь?
Ты там для души утешенье найдешь».
Сказал он: «Там гурии нежны, как сны,
Такая там грязь, что увязнут слоны».
* * *
Расписан айван у хозяина,
А стен искрошилась окраина,
Слова лекаря ждет ли веского?
Здесь бы он лишь руками всплескивал.
Старика, что уже там, за гранями,
Трет старуха, трет притираньями.
Коль распалось все, то не надобно
Никаких уже больше снадобий.
* * *
О ты, кто исполнен знанья, о ты, чья сильна рука, —
Грешишь, когда угнетаешь бессильного бедняка.
Страшись! Пожалей упавших — иль помни: коль в черный час
Ты в яму падешь, то люди не кинут тебе мостка.
Ты попусту не надейся, на благо не уповай,
Коль злое посеял семя — благого не жди ростка.
Из уха ты вырви вату, ко всем справедливым стань.
Не станешь — есть день возмездья, расплата за все близка.
* * *
Все племя Адамово — тело одно,
Из праха единого сотворено.
Коль тела одна только ранена часть,
То телу всему в трепетание впасть.
Над горем людским ты не плакал вовек, —
Так скажут ли люди, что ты человек?
* * *
Был в школу царевич отправлен для выучки встарь.
В оправе серебряной доску вручил ему царь.
И золотом с краю отец начертал для гонца:
«Угрозы учителя лучше, чем нежность отца».
* * *
Для сытого и жирное жаркое
На пиршестве равно листку порея.
Не ждет голодный курицы, — хоть репу
Вареную подай ему скорее.
* * *
В безводной пустыне и жемчуг и ракушка
Кажутся ценностью равной, единой.
Не все ли равно им, дороги не знающим,
Кисет у них с золотом или же с глиной!
* * *
Для чего тебе, о друг мой, полный розами поднос?
Лучше б, друг, из «Гулистана» лепесточек ты унес.
Свежим розам красоваться суждено немного дней.
«Гулистан» мой не утратит вечной свежести своей.
* * *
Саади, боязни чужда твоя речь,
К победе иди, если поднял ты меч!
Всю правду яви! Все, что знаешь, открой!
Прочь речи корысти с их лживой игрой!
Иль смолкни, чтоб жар твоей мудрости чах,
Иль, алчность отринув, будь волен в речах!
 Миниатюра из рукописи XV в. Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.
Миниатюра из рукописи XV в. Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.
ИЗ «БУСТАНА»
Присловие ПРИЧИНА НАПИСАНИЯ КНИГИ
По дальним странам мира я скитался,
Со многими людьми я повстречался
И знанье отовсюду извлекал,
Колосья с каждой жатвы собирал.
Но не встречал нигде мужей, подобных
Ширазцам, — благородных и беззлобных.
Стремясь к ним сердцем, полон чистых дум,
И Шам покинул я, и пышный Рум.
Но не жалел, прощаясь с их садами,
Что я с пустыми ухожу руками.
Дарить друзей велит обычай нам,
Из Мисра сахар в дар везут друзьям.
Ну что ж, хоть сахару я не имею,
Я даром слаще сахара владею.
Тот сахар в пищу людям не идет,
Тот сахар в книгах мудрости растет.
Когда я приступил к постройке зданья,
Воздвиг я десять башен воспитанья.
Одна — о справедливости глава,
Где стражи праха божьего — слова,
Благотворительность — глава вторая,
Велит добро творить, не уставая.
О розах — третья, об огне в крови,
О сладостном безумии любви.
В четвертой, в пятой — мудрость возглашаю,
В шестой — довольство малым прославляю,
В седьмой — о воспитанье говорю,
В восьмой — за всю судьбу благодарю.
В девятой — покаянье, примиренье,
В главе десятой — книги заключенье.
В день царственный, в счастливый этот год
На пятьдесят пять свыше шестисот,
В день, озаренный праздника лучами,
Наполнился ларец мой жемчугами.
Я кончил труд, хоть у меня была
В запасе перлов полная пола.
Душа еще даров своих стыдится,
Ведь с перлами и перламутр родится.
Средь пальм непревзойденной высоты
В саду растут и травы и кусты.
И к недостаткам моего творенья,
Надеюсь, мудрый явит снисхожденье.
Плащу, что из парчи бесценной шьют,
Кайму из грубой бязи придают.
Нет в этой книге пестроты сугубой,
Ты примирись с ее каймою грубой.
Я золотом хвастливо не блещу,
Сам, как дервиш, я милости ищу.
Слыхал я: в день надежды и смятенья
Аллах дурным за добрых даст прощенье.
Дурное услыхав в моих словах,
Ты поступай, как повелел аллах.
Коль будет бейт один тебе по нраву,
Прочти всю книгу, истине во славу.
Мои стихи, ты знаешь, в Фарсистане —
Увы — дешевле мускуса в Хотане.
Свои грехи я на чужбине скрыл
И в этот гулкий барабан забил.
И шутки ради розу Гулистану
Я приношу, а перец — Индостану.
Так — финик: кожа у него сладка,
Да косточка внутри ее крепка…
Глава первая. О СПРАВЕДЛИВОСТИ, МУДРОСТИ И РАССУДИТЕЛЬНОСТИ
Ануширван, когда он умирал,
Призвал Хормуза[59] и ему сказал:
«Покинь чертоги мира и покоя,
Взгляни, мой сын, на бедствие людское!
Как можешь ты довольным быть судьбой,
Несчастных сонмы видя пред собой?
Мобеды оправданья не отыщут,
Что спит пастух, а волки в стаде рыщут.
Иди пекись о нищих, бедняках,
Заботься о народе, мудрый шах!
Царь — дерево, а подданные — корни.
Чем крепче корни, тем ветвям просторней.
Не утесняй ни в чем народ простой.
Народ обидев, вырвешь корень свой.
Путем добра и правды, в божьем страхе
Иди всегда, дабы не пасть во прахе.
Любовь к добру и страх пред миром зла
С рождения природа нам дала.
Когда сияньем правды царь украшен,
То подданным и Ахриман не страшен.
Кто бедствующих милостью дарит,
Тот волю милосердного творит.
Царя, что людям зла не причиняет,
Творец земли и неба охраняет.
Но там, где нрав царя добра лишен,
Народ в ярме, немотствует закон.
Не медли там, иди своей дорогой,
О праведник, покорный воле бога!
Ты, верный, не ищи добра в стране,
Где люди заживо горят в огне.
Беги надменных и себялюбивых,
Забывших судию, владык спесивых.
В ад, а не в рай пойдет правитель тот,
Что подданных терзает и гнетет.
Позор, крушенье мира и оплота —
Последствия насилия и гнета.
Ты, шах, людей безвинно не казни!
Опора царства твоего они.
О батраках заботься, о крестьянах!
Как жить им в скорби, нищете и ранах?
Позор, коль ты обиду причинил
Тому, кто целый век тебя кормил».
И Шируйэ сказал Хосров, прощаясь,[60]
Навек душой от мира отрекаясь:
«Пусть мысль великая в твой дух войдет:
Смотри и слушай, как живет народ.
Пусть в государстве правда воцарится, —
Иль от тебя народ твой отвратится.
Прочь от тирана люди побегут,
Дурную славу всюду разнесут.
Жестокий властелин, что жизни губит,
Неотвратимо корень свой подрубит.
Ушедшего от тысячи смертей
Настигнут слезы женщин и детей.
В ночи в слезах свечу зажжет вдовица —
И запылает славная столица.
Да, только тот, который справедлив,
Лишь тот владыка истинно счастлив.
И весь народ его благословляет,
Когда он в славе путь свой завершает».
И добрые и злые — все умрут,
Так лучше пусть добром нас помянут.
* * *
Правителей правдивых назначай,
Умеющих благоустроить край.
Кто, правя, тружеников обижает,
Тот благу всей державы угрожает.
А власть злодея — сущая беда!
Да не уйдет он грозного суда!
Кто добр поистине — добро увидит,
Злодей же сам детей своих обидит.
О правде ли к насильникам взывать,
Когда их с корнем надо вырывать!
Казни судей, в неправде закоснелых,
Трави, как хищников заматерелых.
Бесчинствам волка положи конец,
От истребленья огради овец.
* * *
Купец какой-то хорошо сказал,
Когда он в плен к разбойникам попал:
«Толпе старух подобно войско шаха,
Когда грабители не знают страха!
Беда в стране, где властвует разбой,
Не будет прибыли стране такой.
И кто поедет в край, забытый богом,
Где спит закон, где грабят по дорогам?»
Чтоб славу добрую завоевать,
Шах чужеземцев должен охранять.
Уважь пришельцев, что приюта просят,
Они ведь славу добрую разносят.
А если гостелюбья нет в стране,
Ущерб и царству будет, и казне.
Ты по обычаям, по доброй вере
Не запирай пред странниками двери.
Гостей, купцов, дервишей бедных чти,
Очисти от грабителей пути.
Но слух и зренье будут пусть на страже,
Чтоб не проник в твой дом лазутчик вражий.
* * *
Людей, несущих смуту, не казни,
А из своих пределов изгони.
Не гневайся на пришлеца дурного,
Сам жертва своего он нрава злого.
Но если Фарс — смутьяна отчий край,
В Рум, в Санаан его не изгоняй.
Ведь неразумно бедствие такое
На государство насылать другое,
Чтоб нас не проклинал иной народ, —
От них, мол, к нам несчастие идет.
* * *
Люби друзей, чей посвящен был труд
Всю жизнь тебе, — они не предадут.
И старого слугу изгнать постыдно,
Забвение заслуг его обидно.
Хоть стар, не в силах он тебе служить, —
Как прежде, должен ты его дарить.
Когда Шапур, состарясь, стал недужен,
Хосрову он на службе стал не нужен.
И в бедствие Шапур, и в бедность впал,
И он письмо Хосрову написал:
«Царь, я служил тебе в былые лета!
Стар стал… Неужто изгнан я за это?»
* * *
На должности богатых назначай,
Кормило власти нищим не вручай.
С них ничего ты — царской пользы ради —
Не взыщешь, кроме воплей о пощаде.
Коль на своем посту вазир не бдит,
Пусть наблюдатель твой за ним следит.
Коль наблюдателя вазир подкупит,
Пусть к делу сам твой грозный суд приступит.
Богобоязненным бразды вручай,
Боящимся тебя не доверяй.
Правдивый лишь пред богом полн боязни,
За правду он не устрашится казни.
Но честного едва ль найдешь из ста;
Сам проверяй все книги и счета.
Двух близких на одну не ставь работу,
Дабы от них не возыметь заботу.
Столкуются и станут воровать
И пред тобой друг друга покрывать.
Когда боится вора вор, то мимо
Проходят караваны невредимо.
* * *
Когда слугу решаешь ты сместить,
Ты должен позже грех его простить.
Порой больной росток трудней исправить,
Чем сотню пленных от цепей избавить.
Ты знай: надеждой изгнанный живет,
Хоть рухнул жизни всей его оплот.
Шах справедливый, истинный мудрец,
Глядит на слуг, как на детей отец.
Порой правдивым гневом пламенеет,
Но он и слезы отереть умеет.
Коль будешь мягок — обнаглеет враг.
Излишняя жестокость сеет страх.
Как врач, что ткань больную рассекает,
Но и бальзам на раны налагает,
Так мудр поистине владыка тот,
Что к добрым — добр, а злым отпор дает.
Будь благороден, мудр. Добром и хлебом
Дари людей; ведь одарен ты небом.
Никто не вечен в мире, все уйдет,
Но вечно имя доброе живет.
Ввек не умрет оставивший на свете
После себя мосты, дома, мечети;
Забыт, кто не оставил ничего,
Бесплодным было дерево его.
И он умрет, и всяк его забудет,
И вспоминать добром никто не будет.
* * *
Во имя доброй славы, в дни правленья
Мужей великих не топи в забвенье.
Скрижаль твою великих имена
На вечные украсят времена.
И до тебя здесь шахи подвизались,
И все ушли; лишь надписи остались.
Один прославлен до конца времен,
Другой — навек проклятьем заклеймен.
* * *
Не верь доносчикам-клеветникам,
А, вняв доносу, в дело вникни сам.
Не верь словам, коль честного поносят,
И пощади, когда пощады просят.
Просящих крова — кровом осени.
Слугу за шаг неверный не казни.
Но если пренебрег он добрым словом
И вновь грешит — предай его оковам.
Когда же не пойдут оковы впрок,
Ты вырви с корнем тот гнилой росток.
Но, все вины преступника исчисля,
Ты, прежде чем казнить его, размысли:
Хоть бадахшанский лал легко разбить,
Но ведь осколки не соединить.
РАССКАЗ
Раз из Омана прибыл человек,
Он обошел весь мир за долгий век.
Таджиков, тюрков и руми встречал он,
Все, что узнал у них, запоминал он.
Всю жизнь он странником бездомным был,
Но в странствиях он мудрость накопил.
Он был, как дуб могучий, но при этом
Не красовался ни листвой, ни цветом, —
Убог и нищ, лишь разумом богат.
Халат его был в тысяче заплат.
Томимый голодом, изнемогал он,
И от жары и жажды высыхал он.
Вот он явился в городе одном,
Где некий муж великий был царем.
Страннолюбив и чужд мирской забавы,
Тот царь хотел себе лишь доброй славы.
Велел пришельца шах во двор впустить,
Насытить, в бане мраморной омыть.
И, пыль и пот отмывши в царской бане,
Предстал он перед шахом на айване,
Приветствие султану возгласил
И руки на груди своей сложил.
А царь: «Поведай, из каких ты далей?
Какие беды к нам тебя пригнали?
Что в мире видел ты за долгий век?
Ответствуй нам, о добрый человек!»
Открыл уста пришелец: «О владыка!
Тебе да будет в помощь бог великий!
Я долго по стране твоей блуждал
И — честь тебе — несчастных не видал.
Не пьянствуют здесь, дух святой бесславя:
Закрыты кабаки в твоей державе.
И людям здесь обиду причинять
Запрещено, хоть негде пировать;
Зато в стране народ живет счастливо!»—
Так говорил пришлец красноречиво,
Как будто перлы сыпал океан…
Пленен его речами был султан,
Он гостя посадил с собою рядом
И милостей его осыпал градом.
Тот жизнь свою владыке рассказал
И ближе всех душе султана стал.
И в сердце шахском родилось решенье:
Пришедшему вручить бразды правленья.
«Но нужно постепенно! — думал он, —
Чтоб я в глазах вельмож не стал смешон.
Сперва в делах я ум его проверю,
А уж потом печать ему доверю!»
Печали тот испытывает гнет,
Кто власть бездарным в руки отдает.
Судья, ты взвесил приговор сначала б,
Чтоб не краснеть от укоризн и жалоб.
Обдумай все, кладя стрелу на лук,
А не тогда, как выпустишь из рук.
Проверь сперва, — завещано от века, —
Как мудрого Юсуфа, человека.
Пока его познаешь — целый год
И даже больше времени пройдет.
Так изучал пришельца шах. На диво,
Он видит, честен муж благочестивый:
Нрав добрый, золотая голова,
Знаток людей, не ронит зря слова.
Разумней всех вельмож, исполнен миром.
И сделал царь тогда его вазиром.
Стал править царством этот человек
Так мудро, будто правил целый век.
Так все привел он под своё начало,
Что ни одна душа не пострадала.
Ни разу повода дурным словам
Он не дал. Рты закрыл клеветникам.
Не видя в нем изъяна ни на волос,
Завистник трепетал, клонясь, как колос.
Правитель новый солнцем всех согрел,
Вазир же старый завистью горел.
В том мудреце не находя изъяна,
Наклеветать не мог он невозбранно.
А праведник и клеветник-злодей —
Как бронзовый сосуд и муравей.
Хоть муравья сосудом придавили,
Да бронзу муравей прогрызть не в силе.
И было два гулама у царя,
Красивых, словно солнце и заря;
Как солнце и луна; а ведь на свете
Им равный светоч не рождался третий.
Сказал бы ты: у них лицо одно
В другом, как в зеркале, отражено.
Мудрец очаровал юнцов речами,
Невольно овладел он их сердцами.
Они, увидя добрый нрав его,
Искали дружбы мудреца того.
И, сердцем чуждый низкому желанью,
Сам поддался мудрец их обаянью.
Дабы духовный охранить покой,
Беги, о мудрый, зависти людской!
Будь сдержанным, дружи с людьми простыми,
Чтоб клеветник твое не пачкал имя.
Вазир гуламов этих полюбил,
Для чистой дружбы сердце им открыл.
Завистник, дружбой возмущен такою,
Явился к шаху с гнусной клеветою.
Сказал: «Не знаю — кто он, кем рожден,
Но честно жить у нас не хочет он.
Чужак он, странник, здесь корней лишенный,
Что царь ему? Что царство и законы?
Он двух твоих рабов сердца пленил
И с ними в связь развратную вступил.
Имея власть в руках, не зная страха,
Бродяга сей позорит имя шаха,
А милостей твоих мне не забыть,
И я не мог его проделок скрыть.
Я долго сам сначала сомневался,
Пока до гнусной правды не дознался.
Один слуга мой верный наблюдал,
Как он их, улыбаясь, обнимал.
Ты сам, о царь мой, можешь убедиться!»
Вот так на свете клевета родится.
Пусть подлый злопыхатель пропадет,
Пусть клеветник отрады не найдет.
В сопернике он мелочь замечает,
Пожар из малой искры раздувает.
Три щепки подожжет — и запылал
Огонь, и дом, и двор, и сад объял.
Царь выслушал донос. И запылал он,
Как на огне котел, заклокотал он.
И кровь дервиша он пролить хотел,
Но гнев смирил, собою овладел.
Вскормленного тобою человека
Казнить — постыдным числится от века.
Насильем света правды не добыть
И правосудия не совершить.
Не оскорбляй вскормленного тобою!
С ним связан ты и честью и судьбою.
Безумие пролить живую кровь,
Того, кому ты оказал любовь.
Кого приблизил к своему айвану,
Найдя в нем доблесть, чуждую изъяну.
О всех его делах дознайся сам
И на слово не верь клеветникам.
Царь подозренья черные скрывал,
Сам за вазиром наблюдать он стал.
Ты, мудрый, помни: сердце — тайн темница,
Коль тайна вырвется — не возвратится.
Стал он дела вазира изучать,
Изъяна отыскать хотел печать.
И вот случайно тайны он коснулся,
Вазир его гуламу улыбнулся.
Когда людей связует душ сродство,
Невольно взгляды выдают его.
И как не может Деджлою напиться
Водяночный, что жаждою томится,
Так на вазира юный раб глядел…
И в этом царь недоброе узрел.
Но гнев свой укротил он и спокойно
Сказал вазиру: «О мой друг достойный!
Досель светила мудрость мне твоя,
Тебе бразды правленья вверил я.
Я чтил твой дух и разум твой высокий,
Но я не знал, что ты не чужд порока.
Нет, не к лицу тебе, увы, твой сан!..
Виновен в этом сам я — твой султан.
Змею вскормившего удел печален,
Он будет рано ль, поздно ли ужален».
Главой поник в раздумье муж-мудрец
И так царю ответил наконец:
«Я не боюсь наветов и гонений,
У вас не совершал я преступлений.
Не знаю я, ты в чем меня винишь,
И не пойму, о чем ты говоришь!»
Шах молвил: «Чтоб исчезла тень сомненья,
Ты и в лицо услышишь обвиненье».
И здесь, вазира старого навет
Открыв, спросил: «Что скажешь ты в ответ?»
Тот молвил: «Спор внимания не стоит!
Завистник подо мной подкопы роет.
Он должен был мне место уступить…
И разве может он меня хвалить?
Ты, государь, сместив, его обидел…
Он в тот же час врага во мне увидел.
Неужто царь, прославленный умом,
Не знал, что станет он моим врагом?
До дня Суда он злобы не избудет,
И лгать всю жизнь, и клеветать он будет.
И я тебе поведаю сейчас
Когда-то мною читанный рассказ.
Невольно мне он в память заронился:
Иблис сновидцу некому приснился.
Он обликом был светел, как луна,
Высок и строен телом, как сосна.
Спросил сновидец: «Ты ли предо мною
Столь ангельскою блещешь красотою?
Как солнце, красота твоя цветет,
А ты известен в мире как урод.
Тебя художник на стене чертога
Уродиной малюет длиннорогой».
Бедняга див заохал, застонал
И так ему сквозь слезы отвечал:
«Увы, мой лик художник искажает.
Он враг мне, ненависть ко мне питает!»
Поверь, мой шах, я чист перед тобой,
Но враг мой искажает облик мой.
От зависти и злобы, как от яда,
Бежать, мой шах, за сто фарсангов надо.
Но не опасен гнев твой мне, о шах,
Кто сердцем чист, тот смел всегда в речах.
Где мухтасиб идет, лишь тот горюет,
Кто гирями неверными торгует.
И так как только с правдой я дружу,
На клевету с презреньем я гляжу!»
Царь поражен был речью этой смелой,
Душа его от гнева пламенела.
«Довольно, — крикнул он, — не обмануть
Тебе меня! Увертки позабудь.
Мне не нашептано клеветниками,
Нет, все своими видел я глазами.
Средь сонма избранных моих и слуг
Ты не отводишь глаз от этих двух».
И засмеялся муж велеречивый:
«Да, это правда, о мой шах счастливый.
Скрыть истину мне запрещает честь,
Но в этом тонкий смысл сокрытый есть.
Бедняк, что в горькой нищете страдает,
С печалью на богатого взирает.
Цвет юности моей давно увял,
Я жизнь свою беспечно растерял.
На красоту, что юностью богата,
Любуюсь. Сам таким я был когда-то.
Как роза цвел, был телом как хрусталь,
Смотрю — и в сердце тихая печаль.
Пора мне скоро к вечному покою…
Я сед, как хлопок, стан согбен дугою.
А эти плечи были так сильны,
А кудри были, словно ночь, черны.
Два ряда жемчугов во рту имел я,
Двумя стенами белыми владел я.
Но выпали они, о властелин,
Как кирпичи заброшенных руин.
И я с тоской на молодость взираю
И жизнь утраченную вспоминаю.
Я драгоценные утратил дни,
Осталось мало, минут и они!»
Когда слова, как перлы, просверлил он,
Как будто книгу мудрости открыл он.
Шах посмотрел на мощь своих столпов,
Подумав: «Что есть выше этих слов?
Кто мыслит так, как друг мой, благородно,
Пусть смотрит на запретное свободно.
Хвала благоразумью и уму,
Что я обиды не нанес ему.
Кто меч хватает в гневном ослепленье,
Потом кусает руки в сожаленье.
Вниманье оклеветанным являй,
Клеветников же низких покарай!»
И друга честью он возвысил новой,
Клеветника же наказал сурово.
И так как мудр, разумен был вазир,
Не позабыл того султана мир.
Пока был жив, он был хвалим живыми
И доброе, уйдя, оставил имя.
* * *
Тот шах, что в вере истинной живет,
Рукою правды счастья меч берет.
Таких не знал я, кроме сына Са'да,
Средь нынешнего общего разлада.
Как древо райское — ты, славный шах!
Ты — верных сень на жизненных путях!
Хотел я, чтоб Хумай ширококрылый
Отрадой озарил мой дом унылый.
Но разум говорит — Хумая нет…
И к дому шаха я иду на свет.
Спаси владыку, вечный вседержитель,
И доброй сей земли храни обитель.
Молю тебя за шаха и людей,
Да не лиши их милости твоей!
* * *
Не торопись виновного казнить,
Потом не сможешь голову пришить.
Тот царь, в котором правды свет не тмится,
От просьб о помощи не утомится.
Та голова для власти не годна,
Что лишь пустой надменностью полна.
Не будь в боях с врагом нетерпеливым,
Разумным будь во всем, неторопливым.
Лишь тот в совете — солнце, в битвах —
Кто разумом смирять умеет гнев.
А если силы злобы и досады
Свои войска выводят из засады,
И честь и веру — всё они сметут,
От этих дивов ангелы бегут.
* * *
По шариату воду пить — не грех,
Злодея по суду казнить — не грех.
Кто по закону казни лишь достоин,
Казни его, не бойся, будь спокоен.
Но если он семьей обременен,
Раскаявшись, пусть будет он прощен.
Преступник за вину свою в ответе,
Но не должны страдать жена и дети.
* * *
Ты войском обладаешь, сам ты смел,
Но не вводи войска в чужой предел.
Султан в надежном замке отсидится,
А подданный несчастный разорится.
* * *
Сам узников расспрашивай своих,
Быть может, есть невинные средь них.
* * *
Когда у вас умрет купец чужой,
Забрать его богатство — грех большой.
Пятно бесчестья на султана ляжет,
Родня, умершего оплакав, скажет:
«Он, бедный, умер среди чуждых стран,
А все добро его забрал тиран!»
Помысли, мудрый, о его сиротах,
Подумай — нищета и голод ждет их.
Полвека в доброй славе можно жить
И делом низким имя омрачить.
Цари, что вечной славой засияли,
У подданных добра не отнимали.
А тот, кто отбирал, — грабитель он,
Будь он над всей вселенной вознесен.
Муж благородный в бедности скончался,
Он хлебом бедняков не объедался.
* * *
Слыхал я: некий повелитель был,
Из грубой бязи платье он носил.
Ему сказали: «О султан счастливый,
Китайские б шелка носить могли вы!»
«Зачем? Я добрым платьем облачен!
Шелк — это роскошь, — так ответил он. —
Харадж я собираю для того ли,
Чтоб наряжаться, в неге жить и в холе?
Когда, как женщина, украшусь я,
Угаснет доблесть ратная моя.
Когда бы суета владела мною,
Что стало б с государственной казною?
Не для пиров и роскоши казна —
Она для мощи воинской нужна».
* * *
Султаном обездоленная рать
Не станет государство охранять.
Коль враг овец крестьянских угоняет,
За что султан с крестьян харадж взимает?
И будет ли народ царя любить,
Коль царь страну не может защитить?
Когда народ, как яблоня, ухожен,
Тогда лишь урожай его возможен.
И ты его под корень не руби
И, как глупец, себя не погуби.
Тот подл, кто меч над подданным подымет,
Кто зернышко у муравья отнимет.
А царь, не угнетающий людей,
Награду примет от судьбы своей.
Ты пуще стрел остерегись рыданий
Людей под гнетом непосильной дани!
* * *
Коль можешь миром покорить страну,
Не затевай напрасную войну.
О смерти помни, мощь и славу множа.
Ведь капля крови царств земных дороже.
Джамшид великий как-то, я слыхал,
У родника на камне начертал:
«Здесь сотни сотен жажду утоляли
И, не успев моргнуть, как сон, пропали.
Мы покорили царства всей земли,
Но взять с собой в могилу не могли!»
* * *
Когда враги в полон к тебе попали,
Ты не терзай их, хватит с них печали.
Кто покорился, с миром пусть живет.
Кровь пролитая небу вопиет.
РАССКАЗ
Дара однажды, воин знаменитый,
Охотясь на горах, отстал от свиты.
И увидал он, оглядясь кругом,
Что муж-пастух бежит к нему бегом.
И вот Дара подумал благородный:
«Не зло ли умышляет сей негодный.
Сейчас его стрелой я поражу,
Предел его стремленью положу…»
«О властелин Ирана и Турана! —
Пастух воскликнул, страхом обуянный. —
Всю жизнь я службу царскую несу,
Твоих коней отборных я пасу!»
Дара, слугу увидев, рассмеялся:
«О дурачок, добро, что ты назвался.
Видать, Суруш судьбу твою хранил,
Ведь чуть было тебя я не убил!»
С улыбкою сказал пастух смиренно:
«Советом не побрезгуй, царь вселенной!
Тот царь не будет в мире знаменит,
Что друга от врага не отличит.
Знать должен слуг своих ты, царь великий,
И в этом суть могущества владыки.
Ты часто звал к себе меня, о шах,
Расспрашивал меня о табунах.
Навстречу я бежал к тебе любовно,
А ты — за лук, как будто враг я кровный!
Из тысячного табуна любой
Скакун на свист предстанет предо мной.
Чтоб помнить всех, в делах мирских участвуй,
Хоть раз в году, мой царь, общайся с паствой.
И помни: участь подданных плоха
В краю, где царь глупее пастуха!»
* * *
Не ставь, султан, престол свой на Кейване,
Там не услышишь стонов и рыданий.
Спи чутко, чтобы слышать крик истца
На ложе неги, за стеной дворца.
Кто злую власть клянет, ее насилье,
Знай — он клянет твой гнет, твое насилье.
Не пес полу прохожего порвал,
А муж, что пса такого воспитал.
Речь Саади, как меч в его деснице.
Рази! И пусть нечестье покорится!
Разоблачай бесстрашно злость и ложь,
Ведь ты не грабишь, взяток не берешь.
Перед корыстью мира не склоняйся
Иль с мудростью и правдой попрощайся.
* * *
Иракский царь, что захватил полмира,
У врат своих услышал речь факира:
«Эй, царь! Внимай истцам у врат дворца!
Ты сам — проситель у дверей творца!»
* * *
Когда не хочешь жить со счастьем в ссоре —
Иди, спасай людей из бездны горя.
Был не один повергнут падишах
Стенаньями народными во прах.
В прохладе, в полдень, дремлешь ты, не зная,
Что гибнет странник, от жары сгорая.
Пусть небо правосудие свершит,
Коль в мире правосудие молчит.
РАССКАЗ
Поведал древле муж благочестивый:
Был у Абдулазиза сын счастливый.
Он драгоценным камнем обладал,
Что, словно солнце, и во тьме блистал.
Игрою дивной изумлял он взоры,
Вселенной темной расширял просторы.
И вот в стране случился недород,
И страшный голод наступил в тот год.
Сын ал-Азиза, бедствие такое
Увидя, пребывать не мог в покое.
Ведь мужу честному не до еды
При виде общей муки и беды.
И продал камень он без сожаленья,
Чтоб прекратить народные мученья.
Хоть он без счета денег получил,
Но все в одну неделю расточил.
Его вельможи горько упрекали:
«О шах! Какой вы камень потеряли!
Увы, такой ущерб невосполним!..»
И тихо, строго он ответил им:
«Противны государю украшенья,
Когда страна изнемогла в мученье.
Без камня я кольцо носить могу,
Чтоб пред голодными не быть в долгу!»
Велик тот царь, что роскошь презирает,
Но подданных от бедствий охраняет.
Муж благородный радостей нигде
Не ищет, коль народ его в беде.
* * *
Когда правитель дремлет недостойный,
Не думаю, чтоб спал бедняк спокойно.
Когда ж владыка мудрый бодро бдит,
Тогда и люд простой спокойно спит.
Хвала аллаху, что такого склада
Разумное правленье сына Са'да!
И смуты здесь при нем не закипят;
Здесь смуту сеет лишь красавиц взгляд!
Пять или шесть двустиший в обаянье
Вчера держали некое собранье.
И пели мы: «Я счастие познал!
Ее вчера в объятьях я держал.
И, увидав, что сном опьянена,
Склонилась головой моя луна.
Сказал я: «О проснись же на мгновенье,
Дай слышать голос сладкий, словно пенье.
О смута века — время ль нынче спать?
Давай вино веселья пить опять!»
Она спросонья: «Смутой называешь
Меня и мне не спать повелеваешь?
Не знаешь разве ты, что смута спит,
Когда владыка истинный царит?»
РАССКАЗ
В преданьях наших древних я читал:
Когда Тукла престол Занги приял,
Хоть человеком сам он был незнатным,
Но правил мудро царством необъятным.
Учась у древних, к правде устремлен,
Он правды чистой утвердил закон.
И своему мобеду благородный
Сказал: «Я жив… И жизнь ушла бесплодно.
Отец, хочу я на покой уйти,
Итог Познанью жизни подвести.
Владыка, умирая, все теряет,
А счастье лишь отшельник обретает».
Мобед же, чья душа была светла,
Вспылив, сказал: «Довольно, о Тукла!
Ты знай, наш тарикат — служенье людям;
Его в молитвах мы искать не будем.
Пускай на троне царском ты сидишь,
И здесь — суфий ты истый и дервиш.
Отшельничество — истины не мера,
В делах лишь добрых истинная вера!
Дела для тариката нам нужны,
Слова без действий смысла лишены.
Деяний власяницу под Кабою
Пусть носят вознесенные судьбою!»
РАССКАЗ
Пред старым другом о беде великой
В слезах румийский говорит владыка:
«Хозяйничает враг в моей стране…
Одна осталась крепость эта мне!
В законах правды воспитал я сына,
Чтоб по себе оставить властелина,
Но яростный напор враждебных сил
Моей десницы локоть сокрушил.
Беда над государством распростерлась…
Душа моя от мук во прах истерлась.
Дай мне совет — где силу мне собрать,
Чтобы из царства выгнать вражью рать?»
Мудрец ответил: «О душе подумай!
Не предавайся горести угрюмой.
Есть крепость у тебя. Когда умрешь,
С собой и эту крепость не возьмешь.
Что мог, для царства сделал все ты…
Пусть сын твой примет все твои заботы!
Мир целый взять и выпустить из рук —
Напрасный этот труд не стоит мук.
Не обольщайся жизнью быстротечной.
К уходу приготовься, к жизни вечной.
Ведь были Фаридун, Заххак и Джам —
Владыки, что прославили Аджам.
И все исчезли. Персти — персть награда.
Один лишь в мире вечен трон Изада.
Конец постигнет всех земных владык,
Любого, как бы ни был он велик.
Пусть власть над миром утвердить он тщится,
Умрет он — все величье истребится.
Но души тех, чья жизнь в добре тверда,
Благословенны будут навсегда.
Но по себе и праха не оставит,
Кто век свой добрым делом не прославит.
Взрасти добра и щедрости сады,
Дабы вкусить от жизни сей плоды.
Твори добро теперь, иль поздно будет —
Гореть в геенне вечной злых осудят.
Тот, кто добро творит всю жизнь, лишь тот
Величье истинное обретет.
Но, как изменник, казни пусть страшится,
Кто делать дело доброе боится.
«Эй, раб! — суровый прозвучит упрек, —
Остыла печь! Ты хлеба не испек!»
Не слабоумье ль прахом жизнь развеять —
Вспахать поля и позабыть засеять?
РАССКАЗ
Муж некий в Шаме в горы удалился,
Оставил мир, в пещере поселился.
Там, в созерцанье погрузясь душой,
Постиг он свет, и счастье, и покой.
В дервишеском обличье величавом
Он звался Худадуст, был ангел нравом.
И на поклон, как к Хызру самому,
Великие с дарами шли к нему.
Но не прельщен мирскою суетою,
Смирял он дух свой мудрой нищетою.
Блажен, кто плоть в лишениях влачит,
Не внемля, как она «давай» кричит.
А в том краю, где жил он одиноко,
Народом правил некий царь жестокий.
В насильях, в грабеже неумолим,
Он злой тиран был подданным своим.
Все жили в страхе, плача и печалясь,
Иные, все покинув, разбегались;
В другие царства от него ушли
И славу о тиране разнесли.
Другие ж — по беспечности — застряли
И день и ночь султана проклинали.
В стране, где черный царствует злодей,
Улыбок не увидишь у людей.
Порой тиран к отшельнику являлся,
Но тот лицом от шаха отвращался.
И царь сказал ему: «О светоч дня,
Не отворачивайся от меня
С презреньем, с беспредельным отвращеньем
Я с дружеским пришел расположеньем.
Считай, что я — не царь перед тобой!
Ужель я хуже, чем бедняк любой?
Мне от тебя не нужно почитанья,
Ты мне, как всем, дари свое вниманье».
И внял ему отшельник и в сердцах
Сказал сурово: «Выслушай, о шах.
В тебе — источник бедствия народа,
А мне любезны радость и свобода.
Ты — враг моих друзей. И не могу
Я другом стать моих друзей врагу.
С тобой сидеть мне рядом непотребно,
Тебе и небо вечное враждебно.
Уйди, не лобызай моих ты рук!
Стань другом беднякам, кому я друг!
И хоть сдерешь ты с Худадуста кожу,
И на огне тебе он скажет то же.
Дивлюсь, как может спать жестокий шах,
Когда томится весь народ в слезах!»
* * *
О царь, не угнетай простой народ,
Знай: и твое величие пройдет.
Ты слабых не дави. Когда расправят
Они свой стан, они тебя раздавят.
Знай — не ничтожна малого рука!
Иль ты не видел горы из песка?
Где муравьи все вместе выступают —
То льва могучего одолевают.
Хоть волос тонок, если ж много их —
И цепь не крепче пут волосяных.
Творишь насилье ты, неправо судишь.
Но помни — сам беспомощен ты будешь.
Душа дороже всех богатств земных,
Казна пустая лучше мук людских.
Нельзя над бедняками издеваться,
Чтоб не пришлось в ногах у них валяться.
* * *
Терпи, бедняк, тирана торжество…
День будет: станешь ты сильней его.
Будь, мудрый, щедр, подобно вешней туче, —
Рука щедрот сильней руки могучей.
Встань, молви: «Улыбнитесь, бедняки!
Мы скоро вырвем изверга клыки!»
* * *
Звук барабана шаха пробуждает,
А жив ли, нет ли сторож — он не знает.
Рад караванщик — кладь его цела,
Пусть ноют раны на спине осла.
Не зная бедствий, весь свой век живешь ты;
Что ж помогать несчастным не идешь ты?
Здесь, о жестокосердые, для вас
Рассказ я в поучение припас.
РАССКАЗ
Такой в Дамаске голод наступил,
Как будто бог о людях позабыл.
В тот год ни капли не упало с неба,
Сгорело все: сады, посевы хлеба,
Иссякли реки животворных вод,
Осталась влага лишь в глазах сирот.
Не дым, а вздохи горя исходили
Из дымоходов. Пищи не варили.
Деревья обезлиствели в садах,
Царило бедствие во всех домах.
Вот саранчи громады налетели…
И саранчу голодных толпы съели.
И друга я в ту пору повстречал, —
Он, как недужный, страшно исхудал,
Хоть он богатствами владел недавно,
Хоть был из знатных муж тот достославный.
Его спросил я: «Благородный друг,
Как бедствие тебя постигло вдруг?»
А он в ответ: «С ума сошел ты, что ли?
Расспрашивать об этом не грешно ли!
Не видишь разве, что народ в беде,
Что людям нет спасения нигде,
Что не осталось ни воды, ни хлеба,
Что стоны гибнущих не слышит небо?»
А я ему: «Но, друг, ведь ты богат!
С противоядием не страшен яд.
Другие гибнут, а тебе ль страшиться?
Ведь утка наводненья не боится».
И на меня, прищурившись слегка,
Взглянул он, как мудрец на дурака:
«Да — я в ладье! Меня разлив не тронет!
Но как мне жить, когда народ мой тонет?
Да, я сражен не горем, не нуждой —
Сражен я этой общею бедой!
При виде мук людских я истомился,
О пище позабыл и сна лишился.
Я голодом и жаждой не убит,
Но плоть мою от ран чужих знобит!
Покой души утратит и здоровый,
Внимая стонам горестным больного.
Ведь ничего здесь люди не едят!..
И пища стала горькой мне, как яд».
Муж честный не смыкает сном зеницы
В то время, как друзья его в темнице.
РАССКАЗ
Однажды ночью весь почти Багдад
Был океаном пламенным объят.
И некто ликовал средь искр и дыма,
Что сам он цел и лавка невредима.
Мудрец ему сказал: «О сын тщеты!
Лишь о себе заботой полон ты!
Ты рад тому, что все вокруг сгорело,
Что лишь твоя лавчонка уцелела?»
Бездушный лишь спокойно ест и пьет
В те дни, как голодает весь народ.
И как богач не давится кусками,
Когда бедняк питается слезами?
Во дни беды — бедой людей болей,
Дели с другими тяжесть их скорбей!
Друзья не спят, хоть к месту доберутся,
Когда в степи отставшие плетутся.
Пусть мудрый царь заботится везде,
Где труженика видит он в беде:
Осел ли дровосека вязнет в глине
Иль заблудился караван в пустыне.
Ты, мудрый, внемля Саади, поймешь:
Посеяв терн, жасмина не пожнешь!
* * *
Слыхал ли ты преданий древних слово
О злых владыках времени былого?
В забвенье рухнул их величья свод,
Распались их насилие и гнет!
Что ж он — насильник — в мире добивался?
Бесследно он исчез, а мир остался.
Обиженный в день Страшного суда
Под сень Иездана станет навсегда.
И небом тот храним народ счастливый,
Где царствует владыка справедливый.
Но разоренье и погибель ждет
Страну, где в лапы власть тиран берет.
Служить тирану муж не станет честный.
Тиран на троне — это гнев небесный.
Султан, твое величье создал бог,
Но знай: он щедр, но и в расплате — строг.
Ты горше нищих будешь там унижен,
Коль будет слабый здесь тобой обижен!
Позор царю, коль он беспечно спит,
Когда в стране насилие царит.
Во всех заботах бедняков участвуй,
Будь с ними как пастух заботлив с паствой.
А если в царстве правды глас умолк,
То шах для стада не пастух, а волк.
Когда от сердца он добро отринет,
Он мир с недобрым будущим покинет.
Воспрянут люди. Бедствия пройдут,
А извергов потомки проклянут.
Будь справедливым, чтоб не проклинали!
Чтоб век твой добрым словом поминали!
 Миниатюра из рукописи XVI в. Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.
Миниатюра из рукописи XVI в. Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.
РАССКАЗ
Жил муж в пределах западной страны,
И были им два сына взращены.
Взросли богатырями, удальцами,
Разумными, с отважными сердцами.
Отец нашел: они повелевать
Способны и водить на битву рать.
И сыновьям своим он на две части
Всю разделил страну и бремя власти,
Чтоб не поссорились между собой
И не затеяли за царство бой.
Все разделив и дав им поученье,
Он отошел в блаженные селенья.
Меч Азраила нить его пресек,
Чем жил он век — утратил все навек.
А в государстве том два шаха стало.
Войск и казны досталось им немало.
И каждый у себя по своему
Уменью править начал и уму.
Один избрал добро. Другой — поборы,
Насилье, чтоб собрать сокровищ горы.
Один природным нравом был таков,
Что думал сам о нуждах бедняков,
Давал голодным хлеб, жилище строил,
Угодных богу странников покоил;
Хоть тратил деньги, войско пополнял,
Простой народ нужды при нем не знал.
И мир в стране царили, и отрада,
Как средь людей Шираза в дни ибн-Са'да.
Да принесет плоды для всех живых,
Владыка, древо чаяний твоих!
Послушай о султане благородном,
Который в процветании народном
Трудов своих награду находил
И справедлив ко всем, и ласков был.
И благодать его страной владела,
Его землей Карун прошел бы смело.
И не была ничья душа при нем
Уколота и розовым шипом.
Добром так прочно царство утвердил он.
Что выше всех царей вселенной был он.
А брат другой, чтобы казну собрать,
Харадж с крестьян стал непосильный брать.
Купцов же пошлинам таким подверг он,
Что разорил их, в бедствие поверг он.
Брал у людей он — людям не давал.
Он в лихоимстве меру потерял.
И хоть казна его — гляди! — скоплялась,
От голода все войско разбежалось.
Слух средь купцов до дальних стран прошел,
Что в царстве том — грабеж и произвол.
Купцы в ту землю ездить перестали
Полей своих крестьяне не пахали.
Беда постигла край царя того.
И тут враги напали на него.
И с корнем вырвал гнев его небесный…
Земля ему, ты скажешь, стала тесной.
Враги же становились все наглей,
Топча поля копытами коней.
Как защититься? Войска не осталось,
Густое населенье разбежалось.
Чего от жизни тот несчастный ждет,
На чью главу проклятие падет?
Забыл, отверг он слово назиданья
И, прогневив судьбу, погиб в изгнанье.
И люди к брату доброму пришли,
Сказали: «Будь царем его земли.
Добром обрел ты мощь и изобилье,
То, что напрасно он искал в насилье!»
На сук забравшись, некто сук рубил,
В саду в ту пору сам владелец был.
Сказал он: «Дерево мое он рубит,
Но не меня он, а себя погубит!»
Услышь совет мой: «В мудрости живи,
Рукою сильной слабых не дави.
Тот завтра будет к вечному приближен,
Кто ныне в прах перед тобой унижен.
Чтоб стать великим завтрашнего дня,
Живи сегодня, малых не тесня.
Когда величье минет — мгле подобно,
Тебя за полы нищий схватит злобно.
Гляди — простерты бедных пятерни!
Возьмут и сбросят в прах тебя они.
По мненью мудрых, знаний свет приявших
Постыдно, страшно пасть от длани павших.
Султан! Дорогой праведной иди!
Чтоб ведать правду — внемли Саади!
* * *
Не говори, что царь всего превыше!
Я царству предпочту покой дервиша.
О мудрый муж, кто нагружен легко,
Тот и пойдет, ты знаешь, далеко.
Хлеб бедняка и воля — радость сердца,
Но целый мир забот у миродержца.
Бедняк, на бедный ужин хлеб добыв,
Как Шама царь, и весел и счастлив.
Но скорбь и радость — дней летящих злоба, —
Как дым, исчезнут за вратами гроба.
И тот, на чьем челе венец блестит,
И тот, кто весь свой век ярмо влачит,
И тот, чей трон вознесся до Кейвана,
И тот, кто стонет в глубине зиндана,
Едва лишь войско смерти нападет,
Не различишь их — этот или тот?
Слыхал, когда я Хиллу посетил,
Как с духовидцем череп говорил:
«Когда-то царским фарром обладал я,
Войсками грозными повелевал я.
Передо мной бежал в смятенье враг,
И я пошел — завоевал Ирак.
И на Кирман я двинулся с войсками…
Но все прошло, и пожран я червями!»
Вынь вату из ушей, дабы внимать
Словам, что могут мертвые сказать.
* * *
Да не увидит дел исхода злого,
Кто никогда не делает дурного.
Злодей же злом повсюду окружен,
Как сам себя язвящий скорпион.
Коль добрых чувств вы к людям не храните,
Вы сердце замуруете в граните.
Нет, я ошибся, говорить не след,
Что в камне, в меди, в стали пользы нет!
Для крепких стен идущий камень вечный
Не лучше ли, чем изверг бессердечный?
Цари-тираны хищников лютей.
И тигр и лев не лучше ль злых людей?
Ведь ближних, словно хищник, не терзает
Тот, кто душой и сердцем обладает.
И зверь быть нами должен предпочтен
Тому, чья жизнь еда, питье и сон.
Коль всадник в пору в путь коня не тронет,
Тогда и пешеход его обгонит.
Чтоб урожай надежд твоих созрел,
Сей семена любви и добрых дел.
Но никогда я в жизни не слыхал,
Что тот, кто сеял зло, добро пожал.
РАССКАЗ
Тиран, которого и лев страшился,
В колодец как-то ночью провалился.
Зломыслящий — он сеял зло и грех,
И стал он вдруг беспомощнее всех.
Всю ночь стенал он, ужасом объятый.
И кто-то сверху крикнул: «А! Проклятый!
Кого ты ждешь? Ты разве помогал
Несчастным, кто на помощь призывал?
Ты мир засеял злобы семенами!
Теперь любуйся дел своих плодами.
Никто к тебе на помощь не придет…
Ты истомил, измучил весь народ.
Ты яму рыл под нашими ногами,
И — волей судеб — сам теперь ты в яме.
Знай: розно ямы роют для людей
Муж, благородный духом, и злодей:
Один — колодец водоносный роет,
Другой — для ближнего ловушку строит.
Кто по весне ячмень посеял, тот
Ведь не пшеницу, а ячмень пожнет.
Не жди добра, злодей с душою низкой!
Не снимешь сладких гроздей с тамариска
И древо яда стоит ли трудов?
Не снимет садовод с него плодов.
Ведь финик от колючки не родится,
Посев злодейств бедою обратится».
РАССКАЗ
О неком муже повесть я слыхал,
Что честью он Хаджаджу не воздал.
Тот отражникам: «Схватить его — живее!
Казнить его за дерзость, как злодея!»
Когда добром не может зла пресечь,
Тиран безумный обнажает меч.
Бедняк пред казнью плакал и смеялся —
Тиран от изумленья приподнялся:
«Постой-ка! — молвил, — не руби, палач!
Что значат этот смех и этот плач?»
«Беспомощных сирот я оставляю, —
Сказал бедняк, — и потому рыдаю.
Я радуюсь, что честного конца
Здесь удостоен — милостью творца,
Что я иду в блаженную обитель,
Как светлый мученик, а не мучитель!»
Хаджаджу сын сказал: «О мой отец!
Пусть он живет! Суфий он и мудрец.
Помысли! Он большой семьи опора,
Нельзя судьбу людей решать так скоро.
Подумай о сиротах. И прости.
Его великодушно отпусти!»
Слыхал я: тщетным было увещанье…
Что ж: каждому свое предначертанье.
Был некто этой казнью потрясен,
Казненного во сне увидел он.
Тот молвил: «Смерть моя была — мгновенье,
На нем же гнет — до светопреставленья.
Не спят несчастные — так берегись!
Стенаний угнетенного страшись!
В ночи бессонной вежды не сомкнет он.
Сто раз «Избави боже!» — воззовет он…
Иблис дорогой света не пойдет,
На ниве зла добро не возрастет».
* * *
Достойных непозорь во имя мести!
Сам не безгрешен ты, сказать по чести.
Не вызывай напрасно в бой. Глядишь,
Дойдет до распрей — ты не устоишь.
Ты не чуждайся мудрого совета
Наставника подростку в оны лета.
Не обижай слабейшего, дитя!
Сильнейший враг побьет тебя, шутя.
Волчонок глупый, не пускайся в игры,
Где можешь ты попасться в лапы тигра.
Я также в детстве малым крепким был
И маленьких и беззащитных бил.
Но вот меня однажды так побили,
Что пальцем трогать слабых отучили.
* * *
Не спи беспечно, ставни затворя!
Запретен сон для мудрого царя!
О подданных пекись, о люде сиром.
С соседями старайся ладить миром.
Совета не приправит лестью друг,
Бальзам, хоть горек, исцелит недуг.
РАССКАЗ
Один правитель тяжко заболел,
Подкожный червь владыку одолел.
От той болезни страшно ослабел он,
На всех здоровых с завистью глядел он.
Пусть шах на поле шахматном силен,
А проиграл — так хуже пешки он.
Вазир ему сказал: «О шах великий!
Да будет вечным в мире трон владыки,
Живет у нас один почтенный муж,
Благочестив он и умен к тому ж.
Он не творит неправды в мире праха,
Его молитве внемлет слух аллаха.
Кто б к мудрецу тому ни прибегал,
Желаемого тут же достигал.
Ты позови его без промедленья,
И вымолит тебе он исцеленье!»
Тут приближенным шах велел пойти
И старца из пещеры привести.
И вот пришел подвижник знаменитый,
Дервишеской одеждою покрытый.
«О старец, помоги мне! — шах сказал. —
Недуг цепями ноги мне сковал».
А старец, об пол посохом ударя,
Так в гневе закричал на государя:
«Бог к правосудным милостив! А что ж,
Немилосердный, ты от бога ждешь?
Гляди — в твоих темницах люди стонут!
Твои молитвы в стонах их потонут.
Ты, царь, народа участь облегчи,
Не то — страдай, и гибни, и молчи!
За все свои грехи и преступленья
Сперва у бога испроси прощенья.
Заботу людям страждущим яви,
Потом и шейха для молитв зови!
Покамест власть твоя страданья множит,
Тебе ничья молитва не поможет!»
Когда султан словам дервиша внял,
Он от стыда и гнева запылал.
Но, овладев собой, сказал: «На что же
Я гневаюсь? Ведь прав он — старец божий!..»
С колодников велел он цепи сбить
И всех их на свободу отпустить.
Велел народ освободить от муки…
Тогда дервиш воздел с мольбою руки:
«О ты, возжегший звезды над землей,
Ты оковал его в войне с тобой!
Он просит мира; дал он волю сирым, —
Ты отпусти его на волю с миром!»
Когда молитву старец заключил,
Султан — здоровый — на ноги вскочил.
На радостях он чуть не в пляс пустился;
Он от недуга мигом исцелился,
Сокровищницу он велел открыть
И царственно дервиша одарить.
И старец молвил шаху в назиданье:
«Знай, прятать правду — тщетное старанье.
Коль против бога снова ты пойдешь,
Ты в худшие несчастья попадешь.
Ты раз упал. Ходи же осторожно, —
Иначе снова поскользнуться можно!»
Кто раз упал и, встав, упал опять,
Кто знает? Может быть — не сможет встать.
Величье мира этого не вечно,
Все в нем неверно, бренно, быстротечно.
Ведь, рассекая крыльями эфир,
Трон Сулеймана облетел весь мир;[61]
Но ветер смерти и его развеял.
Блажен, кто мудро жил и правду сеял.
При ком народ в довольстве процветал,
Кто себялюбцем низменным не стал!
Блажен, кто груз добра с собой уносит,
И жалок тот, кто собранное бросит…
* * *
Правитель в Мисре жил. Внезапно он
Был грозным войском смерти осажден.
Страданья тело шаха иссушили.
Лик пожелтел, как солнце в туче пыли.
И стал немил врачам премудрым свет,
Что в их науке средств от смерти нет.
Всему конец наступит во вселенной,
Одно лишь царство вечного нетленно.
Правитель к своему концу предстал
И, шевеля губами, прошептал:
«Таких, как я, владык земля не знала,
Но все мое величье прахом стало.
Я целый мир собрал — и вот во мрак
Прочь ухожу, гонимый, как бедняк!»
Ты собирай, тебя мы славить будем,
Коль щедрым будешь и к себе и к людям.
Бери и благом наделяй народ,
А что оставишь — прахом пропадет.
Кто в смертных муках руку прижимает
Одну к груди — другую простирает.
Он знак руками делает в тот миг,
Как ужас оковал ему язык.
Длань щедрости ты простирай при жизни,
А длань насилья сокращай при жизни!
Благотвори, спасай людей от мук,
Из савана не сможешь вынуть рук.
Умрешь — сиять, как прежде, солнце будет,
Тебя же только Судный день разбудит.
РАССКАЗ
Шах Кзыл Арслан твердыней обладал,
Алванда выше гребень стен вставал.
В том замке он врагов не опасался,
Путь к замку краем бездны извивался.
Тот замок восхищал невольно взор,
Он красовался средь зеленых гор,
Яйцом белея в чаще изумрудной…
Дервиш явился раз в тот замок чудный.
Тот муж был избранных суфиев пир,
Правдоречивый, видевший весь мир,
Искусом долгой жизни умудренный,
Мудрец великий, златоуст, ученый.
«Всю землю обошел ты, — шах сказал, —
Ты замок крепче моего видал?»
Дервиш ответил: «Ах, осел ты пьяный,
Не испытал ты крепкого тарана!
Да прежде разве не было царей,
Сильней тебя, богаче и славней?
Они покрепче стены воздвигали
И, в них побыв мгновенье, пропадали.
Другие шахи вслед к тебе придут
И древа твоего плоды сорвут.
Отца ты вспомни — истинного шаха!
Освободи свой дух от гнета страха.
Что говорить — был славен твой отец,
А что ему осталось под конец?
Тот, кто надежду в жизни сей теряет,
Пусть лишь на милость божью уповает.
Для мудрого все блага мира — прах,
Ведь завтра же им быть в чужих руках!»
* * *
Сказал юродивый царю Аджама:
«О ты, наследник всех владений Джама,
Коль вечно б ими сам Джамшид владел,
То разве бы на троне он сидел?
Хотя б казной Каруна обладал ты,
Уйдя, с собой дирхема бы не взял ты!»
Как Алп-Арслана взял к себе творец,
То принял сын державу и венец.
И мертвый шах был предан погребенью,
А трон остался стрел судьбы мишенью.
Увидев сына шаха на коне,
Дервиш воскликнул: «Жалким зрится мне
Величье тех, которых скосит время, —
Отец ушел, сын ставит ногу в стремя!..»
Таков круги светил несущий мир,
Неверный и быстробегущий мир.
Когда дыханью смерти старец внемлет,
Дитя из люльки голову подъемлет
С надеждой новой… Мир с его тщетой
Тебя влечет, но он тебе — чужой.
Как музыкант, что сердце утешает,
Но в месте новом каждый день играет.
Достойна ль женщина любви твоей,
Меняющая каждый день мужей?
Твори добро, пока ты — бек селенья,
Ведь через год другим ты сдашь правленье.
РАССКАЗ
Слыхал я: в Гуре некогда султан
Насильно брал ослов у поселян.
Два дня иль три ослы свой груз таскали
И, ослабев без корма, погибали.
Когда судьба возносит подлеца,
Он бедных истязает без конца.
Подлец, воздвигший дом, соседних выше,
Сметает мусор на чужие крыши.
Вот о царе жестоком том рассказ:
Охотился он в поле как-то раз.
За быстроногой дичью он стремился,
От свиты, не заметил как, отбился.
И нехотя в селение одно
Он въехал, так как было уж темно.
В одной из хижин бедной той деревни
Жил некий сердцеведец, старец древний.
Царь, слыша говор, слух свой навострил;
Старик в ту пору сыну говорил:
«О сын мой, — божья милость над тобою, —
Ты в город не бери осла с собою!
Наш царь — неблагородный, царь — подлец.
Пошли, о боже, злой ему конец!
В насильях лютых не смыкает глаз он,
Он на служенье бесам опоясан.
С тех пор как этот изверг сел на трон,
В стране повсюду слышен плач и стон.
Ввек не испить до дна нам горькой чаши,
Коль не убьют царя проклятья наши!»
Сын отвечал: «Отец! В такую даль —
До города — пешком дойду едва ль.
Ты поразмысли, мудрый муж, вначале,
Чтоб я поехал — и осла не взяли!»
«Добро, мой сын! — сказал старик ему, —
Прислушайся к совету моему.
Возьми ты острый камень иль дубину
И в кровь изрань ослу бока и спину.
Авось осла с израненной спиной
Не заберет мучитель этот злой.
Хызр корабли морского каравана
Крушил, дабы спасти их от тирана;
Хоть грабил тот тиран один лишь год,
Ну, а дурная слава все живет.
Пусть будет наш тиран добычей тленья!
Проклятье же на нем — до воскресенья!»
Сын речь отцову мудрою почел,
Он с болью в сердце в хлев к ослу пошел.
И, взявши суковатую дубину,
Ослу изранил ноги он и спину.
Сказал отец: «Теперь спокоен будь,
О сын мой, и пускайся с миром в путь!»
Сын с караваном двинулся в печали;
Все в караване шаха проклинали.
Старик, оставшись в хижине один,
Взмолился богу: «Вечный властелин!
Продли мой срок! С одной мольбой к тебе
Дай мне увидеть смерть царя-злодея!
Пусть грянет и над ним твоя гроза,
Чтоб с миром я сомкнул свои глаза!
Да лучше матерью дракона быть,
Чем сына нравом дива породить.
Собака лучше злого властелина,
Блудница лучше, чем злодей-мужчина.
Да мужеложец даже — выше он
Насильника, воссевшего на трон!»
Царь слышал все. Ни слова не сказал он,
Коня к приколу молча привязал он.
Сойдя с коня, попону сняв, прилег,
Но, мыслями томим, заснуть не мог.
Лишь на рассвете под пастушье пенье
Вздремнул, забыв ночное злоключенье.
Всю ночь искали слуги царский след.
Нашли в степи, когда блеснул рассвет.
Верхом они султана увидали,
И спешились, и к шаху побежали,
И раболепно ниц пред ним легли,
Как будто волны по морю пошли.
Один, что самым близким был у шаха,
С поклоном низким так спросил у шаха:
«Ища тебя, мы выбились из сил!
Как подданными, шах мой, принят был?»
Но хоть ответ на языке вертелся,
Скрыл все же царь, чего он натерпелся.
Он голову советника пригнул
И тихо на ухо ему шепнул:
«Мне здесь и ножки не дали куриной,
Но претерпел я от ноги ослиной!..»
Вот слуги поспешили стол накрыть,
И сели все. И стали есть и пить.
Султан припомнил, хмелем отуманен,
Как проклинал его старик-крестьянин.
Он сделал знак, и воины пошли,
Связали старца, к трону привели.
Меч обнажил султан неумолимый,
Несчастный, видя — смерть неотвратима,
Сказал: «Увы! Нельзя и дома спать
Тем, кто должны безвинно погибать!..
Да, царь, я проклинал тебя, не скрою;
Но проклят ты и небом и судьбою!
Зачем же гнев твой на меня падет?
Не я один — народ тебя клянет!
Творя всю жизнь насилье, ты едва ли
Дождешься, чтоб тебя благословляли.
Ты отомстить мне хочешь? Что ж, казни,
Но за обиду сам себя вини.
А если хочешь, чтоб тебя любили,
Ты откажись от казней и насилий.
Опомнись, или скоро ты падешь,
Ты тяжести проклятий не снесешь.
Внемли совету: пред судьбою грозной
Смирись, покайся! Или будет поздно.
Тем разве царь прославлен и силен,
Что хором блюдолизов восхвален?
Тебя толпа придворных прославляет,
Старуха же за прялкой проклинает».
Так перед смертью старец говорил
И словом душу, как щитом, укрыл.
«Режь горло мне! Но чем калам острее,
Тем и язык работает быстрее!..»
Тут отрезвился шах — губитель душ,
Явился и шепнул ему Суруш:
«Меч убери! Правдиво старца слово.
Иль помни — ждет тебя удел суровый!»
Шах крепко старца за ворот держал,
Опомнясь, руку он свою разжал,
Аркан с него своими снял руками
И обнял правдолюбца со слезами.
За то, что был правдив и смел он с ним,
Назначил соправителем своим.
Тот случай стал сказаньем во вселенной.
Иди дорогой правды неизменно,
Во всем учись у мудрости живой,
И доброй будешь охранен судьбой.
И пусть твои пороки враг осудит,
Друг мягок, он тебя хулить не будет.
Нельзя больного сахаром кормить,
Где нужно горьким снадобьем целить.
От близких не услышишь правды слова,
Но совесть судит пусть тебя сурово.
Коль ты разумен и душой высок,
Достаточен тебе простой намек.
РАССКАЗ
В тот год, когда Мамун халифом стал,
Невольницу одну себе он взял.
Сиял, как солнце, лик ее красивый;
Нрав был у ней веселый, не сварливый.
И были ногти у нее от хны,
Как кровью обагренные, красны.
На белоснежном лбу, сурьмой блистая,
Чернели брови, сердце похищая.
Вот ночь настала, звездами горя…
Но гурия отвергла страсть царя.
И в гневе он хотел мечом возмездья
Рассечь ее, как Близнецов созвездье.
Воскликнула она: «Руби скорей,
Но близко подходить ко мне не смей!»
«Скажи на милость, — ал-Мамун смягчился,
Чем я перед тобою провинился?»
«Да лучше смерть! — рабыня говорит. —
Так мне зловонье уст твоих мерзит!
Мгновенно насмерть меч разящий рубит,
А уст зловонье ежечасно губит».
Разгневан страшно и обижен был
Халиф, владыка необъятных сил.
Всю ночь продумав, вежды не смыкал он,
Врачей ученых поутру собрал он.
Чтоб мудрецы, что знают суть всего,
От бедствия избавили его.
И вот его дыханье чистым стало,
Нет, больше — розой заблагоухало.
И сделал эту пери царь царей
Ближайшею подругою своей.
Ведь молвил мудрый, разумом высокий:
«Тот друг, кто мне открыл мои пороки!»
Благожелатель, искренне любя,
Не скроет горькой правды от тебя.
«Идете правильно!» — тем, кто блуждает,
Сказавший грех великий совершает.
Когда порок твой скроют лесть и ложь,
Ты сам порок свой доблестью сочтешь.
«Мне нужен мед!» — не говори упрямо.
Нет! Горечь — свойство чистого бальзама!
Присловье вспомни мудрых лекарей:
«Ты исцелиться хочешь? Горечь пей!»
О друг, чтобы избегнуть заблуждений.
Пей в этих бейтах горечь наставлений.
Сквозь сито притчей процедил я их
И сдобрил медом шуток золотых.
РАССКАЗ
Разгневался какой-то царь надменный
На то, что молвил муж благословенный.
Был мудрый муж дервиш правдоречив,
А падишах заносчив и гневлив.
И мудреца в темницу заточили, —
Творить насилье любо злобной силе.
Друг, к заточенному придя, сказал:
«Ты прав, отец… Но лучше б ты молчал…»
А тот: «Всегда кричать я правду буду!
Что мне тюрьма? Я здесь лишь час пробуду!»
И вот, подслушан кем-то, в тот же миг
Их разговор ушей царя достиг.
Царь засмеялся: «Час лишь проведет он
В моей тюрьме? Глупец! В тюрьме умрет он!»
Весть эту мудрецу слуга принес,
Ответил тот: «Иди, презренный пес!
Скажи тирану: «Не в твоей я воле!
Весь этот мир нам дан на час — не боле.
Освободишь — не буду ликовать,
Казнить велишь — не буду горевать.
Сейчас ты властвуешь, твой трон — высоко,
А нищий — в бедствии, в нужде жестокой.
Но скоро — там, за аркой смертных врат,
Тебя от нищего не отличат.
Не лги себе, что жить ты будешь вечно,
Живых людей не угнетай беспечно!
Немало было до тебя царей,
Сильней тебя, богаче и славней.
Где все они?.. Как дым, как сон пропали…
Ты так живи, чтоб люди не сказали:
«Вот изверг был! Да будет проклят он,
Что беззаконие возвел в закон!»
Какой бы славы ни достиг властитель,
Возьмет его могильная обитель!»
Низкосердечный царь рассвирепел
И вырвать мудрецу язык велел.
И молвил осененный божьей славой:
«Я не боюсь тебя, тиран кровавый!
Пусть безъязыким буду! И без слов
Читает помыслы творец миров!
Страшись! Труба суда для грешных грянет,
А правый перед господом предстанет!»
О мудрый! Праздником и смерть почти,
Коль не свернул ты с правого пути!
РАССКАЗ
Жил некогда один боец кулачный,
Он угнетаем был судьбиной мрачной.
Устал он кулаками добывать
Свой хлеб. И начал глину он таскать.
Изнемогал он. Тело изнывало.
На пропитанье денег не хватало.
Трудом измучен, полон горьких дум,
Он стал лицом печален и угрюм.
Смотря, как сладко жизнь других слагалась,
Гортань бедняги желчью наполнялась.
Он втихомолку плакал: «Бедный я!..
Чья жизнь на свете горше, чем моя?
Одним — барашек, сласти, дичь степная,
А мне — лепешка черствая, сухая.
И кошка носит шубку в холода…
Я — гол. Зима настанет — мне беда.
О смилостивься, боже, надо мною,
Пошли мне клад, когда я глину рою!
Я смыл бы с тела эту пыль и грязь
И зажил бы, в блаженство погрузясь!»
Вот так, ропща, трудом томил он тело
И вырыл древний череп почернелый.
Как перлы ожерелья, ряд зубов
Рассыпался давно — во мгле веков.
Но речью череп тот гласил немою:
«О друг, поладь покамест с нищетою!
Мой рот забит землей… И кто поймет,
Что пил, что ел я — слезы или мед?
Не огорчайся же из-за мгновенья
Своих скорбей в превратном мире тленья!»
Борец немому гласу тайны внял,
Он бремя горя с плеч широких снял.
И вольно к небу голову подъял он.
«О плоть безумная! — себе сказал он. —
Хоть будь ты раб с согбенною спиной,
Хоть будь ты самовластный царь земной,
Но ведь исчезнет в некое мгновенье
Все — и величие и униженье.
Растает радость; скорбь — как не была…
Останутся лишь добрые дела!»
Все тленно. Все могил поглотят недра,
Богат ты, счастлив? Раздавай же щедро.
Не верь величью блеска своего, —
Все будет вновь, как было до него.
Богатства, блага мира — все минует,
Лишь правда чистая восторжествует.
Ты хочешь царство укрепить? Трудись.
В благодеяньях сердцем не скупись.
Благотвори, яви свои щедроты,
Отринь о бренном мелкие заботы!
Нет золота, мой друг, у Саади,
Тебе он перлы высыпал — гляди!
РАССКАЗ
Читал я: где-то жил султан один,
Страны, забытой богом, властелин.
Был людям каждый шаг его — невзгода,
Дни превратил он в ночи для народа.
Ночами в горе бедный люд не спал,
Проклятия он шаху посылал.
Не зная, как им дольше жить на свете,
Столпились горожане у мечети.
И обратились к шейху, говоря:
«О мудрый старец, образумь царя!
Авось твоих седин он устыдится,
Скажи ему — пусть бога побоится!»
А шейх: «Напрасно бога поминать!
Он слову истины не сможет внять».
Не говори об истине высокой
С тем, чья душа — вместилище порока.
С невеждой о науках рассуждать —
Что злак пшеничный в солончак бросать.
Твоих советов добрых не поймет он,
Обидится, тебя врагом сочтет он.
О друг, правдолюбивому царю
Я правду с чистым сердцем говорю.
Печатка перстня свойством обладает
Тем, что на воске оттиск оставляет.
Тиран моею речью разъярен?
Ну что ж, я сторож, а грабитель — он.
Так стой, с господней помощью, на страже,
Без страха отражая натиск вражий.
Не следует тебя благодарить.
Хвалу лишь богу можно возносить.
На службу благу бог тебя направил,
Как друг, без дела в мире не оставил.
Хоть по тропе деяний всяк идет,
Но ведь не каждый славы меч возьмет.
О, наделенный ангелоподобным
Высоким нравом, кротким и беззлобным!
Ставь ноги твердо на стезе твоей,
Дай бог тебе побольше ясных дней.
Пусть жизнь твоя добром и счастьем дышит,
И пусть твою молитву бог услышит.
* * *
Где можно мудростью уладить спор,
Не затевай с мечом в руках раздор.
Порою, чем напрасно крови литься,
От грозной смуты лучше откупиться.
В войне урон великий в наши дни.
Подарком лучше рот врагам заткни.
Ведь мудростью сильнейших побеждают,
Дары и зубы тигра притупляют.
С врагами в мире и в ладу живи,
В деяньях рассудительность яви.
Ведь старческою мудростью Рустама
Был побежден Исфандиар упрямый.
Врага, как друга, надобно ласкать,
Успеешь кожу ты с него содрать.
Но ты страшись проклятий малых сих! —
Ведь сель растет из капель дождевых.
Твой гнев кипенья злобы не остудит,
И слабый враг пусть лучше другом будет.
Чем меньше у кого-нибудь друзей,
Тем будут и враги его сильней.
Коль враг сильнейшим войском обладает.
Глупец лишь безрассудный в бой вступает.
А если в битве ты врага сильней,
Топтать того нечестно, кто слабей.
Будь, как у льва, крепки твои запястья.
Мир все же — благо, а война — несчастье.
* * *
Коль видишь: разума бесплодна речь,
Тогда лишь можно обнажить свой меч.
Коль просит мира враг — не уклоняйся,
А ищет брани — то иди, сражайся,
А если первым враг войну начнет,
Давай отпор. Всевышний все зачтет.
И если враг врата войны закроет,
Он тем твое значение утроит.
Готовым будь на правые труды,
Не льсти любезно ищущим вражды.
Кто с дерзким мягок, тот не разумеет,
Что дерзкий только пуще обнаглеет.
С войсками на арабских скакунах
Скачи, неправых поражай в боях.
Но если кроток, мягок он с тобою,
Не гневайся, не рвись напрасно к бою.
Коль враг покорно ко вратам твоим
Идет с поклоном, ты не ссорься с ним.
С врагом разбитым будь великодушен,
Покамест мир им снова не нарушен.
Советникам, прожившим долгий век,
Внимай!.. Разумен старый человек.
Порой где сила сладить не сумеет,
Там все преграды мудрость одолеет.
* * *
В разгаре битв отхода путь проведай,
Покамест не увенчан ты победой.
И если дрогнул войск смятенный строй,
Ты безрассудно не бросайся в бой.
Когда проигран бой, уйти старайся,
Для новых битв себя спасти старайся.
Пусть в пять раз больше у тебя бойцов,
Беспечно ты не спи в стране врагов.
Ведь дома враг силен и с горстью малой,
Пять конных стоят пятисот, пожалуй.
Вперед в походе устремляя взгляд,
Остерегайся вражеских засад.
Коль от врага пути не меньше суток,
Ты ставь шатры, но зорок будь и чуток,
Чтоб нападение предотвратить
И череп Афрасьяба размозжить.
У тех для боя сил не остается,
Кому проделать путь дневной придется.
И разгромишь врагов ты без труда,
Невежда сам себе вредит всегда.
Стяг сокруши сперва во вражьем стане,
В сраженье будь Рустама неустанней.
Но вслед врагу далеко, в глубь степей,
Не уходи, не оставляй друзей,
Не то увидишь: в темной туче пыли
Тебя враги в засаде окружили.
Но хуже пораженья, — сам поймешь, —
Коль войско разбежится на грабеж.
Ведь если войско грабить разбежится,
Защиты сам великий шах лишится.
* * *
Бойца, что подвиг совершил хоть раз,
Ты возвеличь достойно в тот же час.
Чтоб с новой силой он на бой стремился,
Чтоб и с яджуджем схватки не страшился.
В дни мира войско ты свое устрой,
Дабы всегда готово было в бой.
А воин, бедствующий ежечасно,
В бой за тебя не выйдет в день опасный.
Сейчас корми войска, а не тогда,
Как грянет у ворот твоих беда.
Являй добро и ласку ратным людям,
Тогда и в мире жить спокойно будем,
Тот падишах силен и знаменит,
Когда боец его одет и сыт.
Лишеньям подвергать несправедливо
Тех, кто хранит тебя, султан счастливый.
Когда обижен воин, обделен,
То и за меч свой не возьмется он.
Голодный, чуждый милости и благу,
И на войне не явит он отвагу.
* * *
Ты храбрых посылай на бой с врагом,
Чтоб каждый воин тигром был и львом.
Да будет твой советник — муж нескорый,
В решеньях — волк испытанный, матерый.
Не бойся храбрых юных удальцов,
Остерегайся мудрых стариков.
В бой молодой боец несется яро,
Не зная хитрости лисицы старой.
Тот мудр, кто и людей и мир познал,
Кто зной и стужу в жизни испытал.
В тех царствах, что сильны и процветают.
Юнцам бразды правленья не вручают.
Ставь полководца ты главой в войсках,
Испытанного в боевых делах.
Кто поручит юнцам войны веденье,
Тот сам себе готовит пораженье.
Войска водить и царством управлять —
Не в нарды и не в шахматы играть.
И на невежд не надо полагаться,
Чтоб горьким бедствиям не подвергаться.
Разумный пес и тигра уследит,
А молодого льва лиса страшит.
Охотою воспитывай, борьбою
Юнцов, чтобы привычны были к бою
Вот воспитанье лучшее: стрельба
Из лука в цель, охота и борьба.
Но много мук претерпит в ратном поле
Возросший в неге, роскоши и холе.
Тот, кто без слуг в седло не может сесть,
Твою в сраженье не украсит честь.
* * *
Коль воин твой бежит — убей его,
Нет трусости презренней ничего.
И мужеложец более достоин
Почета, чем бегущий с поля воин.
Так сыну своему Гургин сказал,
Когда его в доспехи облачал:
«Когда ты ратного боишься спора —
Останься, не клади на нас позора!»
Трус, на войне спасающий себя,
Бежит, отважных воинов губя.
Отважней всех в бою два побратима,
Что бок о бок идут нерасторжимо.
Два равных, будто в них одна душа,
Идут на бой, все впереди круша.
Позор — уйти от тучи стрел крылатой,
Врагам оставив пленником собрата.
Дух ополченья — в этом мощь твоя,
Когда твои соратники — друзья.
* * *
О шах, чтоб твердо свой корабль вести,
Ты мудрецов и воинов расти.
Без воинов и без мужей познанья
Не возведешь ты царственного зданья.
Перо и меч — надежный твой оплот,
Которого и время не сотрет.
Забудь пиры, веселье, чанга звуки,
А укрепляй войска, лелей науки.
Не почерпнешь ты мужества в вине,
Когда враги готовятся к войне.
Мы царств великих видели крушенье,
Где властвовали роскошь и растленье.
Не бойся, если враг тебе грозит,
Страшись, когда о мире он кричит.
Ведь многие о мире днем кричали,
А в ночь, врасплох, на спящих нападали.
Муж брани чутко спит в броне с мечом,
А не на мягком ложе пуховом.
И тот не полководец и не воин,
Чей сон в покоях мирен и спокоен.
К войне тайком готовься, ибо так —
Тайком — всегда и нападает враг.
И пусть разведка будет неустанной,
Она — ограда боевого стана.
* * *
Меж двух врагов ты зорким будь, хотя бы
Они перед тобой и были слабы.
Ведь, сговорившись за спиной твоей,
Они внезапно могут стать сильней.
Ты одному приветливое слово
Пошли и вырви горло у другого.
И если враг на край твой налетит,
Хитри с ним, помни: мудрость победит.
Иди, дружи с его врагами смело,
Его броню его темницей сделай.
Когда средь вражьих войск кипит раздор,
Ты отойди, оставь напрасный спор.
Коль волки меж собой перегрызутся,
То овцы мирно на лугах пасутся.
* * *
Пусть враг с врагами спорит; отойди,
В беседе с другом искренним сиди.
А вынуть меч войны тебя принудят —
Добро, коль тайный путь и к миру будет.
Великие цари былых веков
Искали мира и громя врагов.
Ты привлекай сердца клевретов вражьих,
Вниманьем, лаской, щедростью уважь их.
Вождя ль удастся чуждого пленить,
Ты в гневе не спеши его казнить.
Он может пригодиться для обмена,
Чтоб выручить людей своих из плена.
Ты помни, что заложники нужны
На темных и кривых стезях войны.
Взять и тебя арканом может время,
Так облегчай несчастных пленных бремя.
Тот муж не будет пленных угнетать,
Кому пришлось неволю испытать,
Кто пленного по-царски обласкает,
Сердца других невольно привлекает.
Привлечь к себе сердца десятерых
Не лучше ль сотни вылазок ночных.
* * *
Когда твой друг в родстве с врагом твоим,
Ты берегись, будь осторожен с ним.
Ведь может голос чувств заговорить в нем
И жажды мести дух воспламенить в нем.
Хоть сладко злоумышленник поет —
Не верь, отравлен ядом этот мед.
Лишь тот избегнет бедствий и невзгоды.
Кто видит двойственность людской природы.
Порою вор имеет честный вид, —
Будь зорким, пусть духовный взор не спит.
* * *
К себе на службу ты б не нанимал
Того, кто в чуждом войске бунтовал.
Не оценив добра, вождя он сменит,
И твоего добра он не оценит.
Ты перебежчику не доверяй,
А взяв на службу, зорко наблюдай.
И неука ты подтяни поводья,
Не то в свои ускачет он угодья.
* * *
Когда ты боем город взял чужой,
Все тюрьмы, все зинданы там открой.
Ведь испытавший гнет и муки узник
Против тирана — ярый твой союзник.
* * *
Когда тобой предел врага пленен,
Ты подданных дари щедрей, чем он,
Чтоб прежний шах им скрягой показался,
Чтоб у ворот их он не достучался.
Но если вред ты людям причинишь,
Лазеек мести ты не уследишь.
Не говори: врага, мол, выгнал прочь я!..
Он здесь, он рядом — в самом средоточье.
* * *
Ты мудростью войну предотвращай,
Будь дальновиден, замыслы скрывай.
Будь как источник тайны непочатой
И помни: рядом ходит соглядатай.
Шах Искандар с Востоком воевал,
А дверь шатра на Запад открывал.
Бахман сказал, вступив на путь кровавый:
«Иду налево…» А пошел направо.
И помни: в прахе замысел поник,
Коль враг в твой тайный замысел проник.
Будь щедр и добр, не рвись к войне, к насилью,
И мир у ног твоих поляжет пылью.
Зачем война, и смута, и раздор,
Где можно мягкостью уладить спор?
Освобождай от мук сердца несчастных,
Коль сам ты мук не хочешь ежечасных.
Благословенье страждущих людей
Могучих войск и рук твоих сильней.
Молитвы гибнущих, тобой спасенных,
Сильнее войск, на битву устремленных.
Перед молением дервишей слаб
Пыль до небес поднявший Афрасьяб.
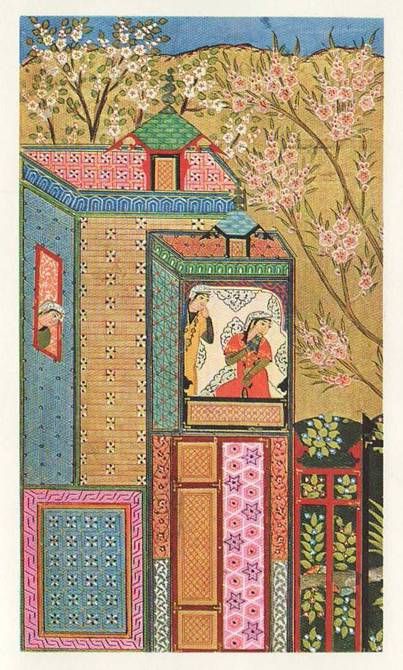 Миниатюра из рукописи XVI в. Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.
Миниатюра из рукописи XVI в. Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.
Глава вторая. О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
Суть обрети в сей жизни быстротечной:
Покров истлеет, суть пребудет вечно.
Кто высшим знанием не овладел,
Тот в оболочке сути не имел.
Когда добро и мир несем мы людям,
То и в земле спокойно спать мы будем.
Ты здесь о жизни будущей своей
Заботься, не надейся на друзей.
Дабы не испытать страданий многих,
Не забывай о страждущих, убогих.
Сокровища сегодня раздавай,
Назавтра все, смотри, не потеряй!..
Возьми в далекий путь запас дорожный,
Знай — состраданье близких ненадежно.
Кто долю здесь для будущего взял,
Тот счастья мяч перед собой погнал.
Ничья молитва душу не утешит,
И всяк своей рукою спину чешет.
Все, что имеешь, миру открывай
И в землю, словно клад, не зарывай.
Блажен, кто в стужу бедняка укроет,
Грехи того творца рука прикроет.
От двери прочь скитальца не гони,
Чтоб не скитаться в будущие дни.
Мудрец, благодеяний грех чуждаться!
Твори добро, чтоб после не нуждаться.
Иди давай бальзам больным сердцам,
Кто знает — вдруг больным ты будешь сам.
Иди врачуй горенье ран душевных,
Не забывай о днях своих плачевных.
Давай просящим у твоих дверей,
Ведь ты не нищий у чужих дверей.
* * *
Ты сироту-ребенка приюти,
Как сына, щедрой тенью защити,
Занозу вынь ему, омой от пыли,
Росток погибнет, что корней лишили.
Коль сироту увидишь пред собой
С опущенною низко головой,
Ты не ласкай пред ним своих детей.
Кто сироту утешит средь людей?
Он плачет! Кто ему осушит слезы?
Он зол, кто стерпит сироты угрозы?
Страшись! Когда рыдает сирота,
Колеблется над миром высота.
Склонись к нему, о мудрый, милосердный,
Утешь его, ходи за ним усердно.
Он сень утратил — отчую семью;
Взлелей его, прими под сень свою.
Я был превыше венценосцев мира
В объятиях отца, на лоне мира.
Не смела муха моего лица
Коснуться перед взорами отца.
Теперь один я. Если враг нагрянет,
Моим уделом плен и рабство станет.
Утратив сень родную с детских лет,
Изведал долю я сиротских бед.
* * *
Раз плут к ученому, что жил в соседстве,
Придя, сказал: «Увяз я в глине бедствий!
Меня терзает жадный ростовщик,
Тюрьмой грозит, хоть долг мой невелик.
Но срок прошел, и вымогатель старый
Взамен дирхемов требует динары.
Я по ночам не сплю! И каждый день
Он по пятам идет за мной, как тень.
Угрозами мне душу истомил он,
Дверь моего жилища сокрушил он.
Ведь он богат, но хищный, словно волк,
Содрать с меня он хочет этот долг.
Он в книге веры ничего не смыслит,
Он честь и разум лишь на счетах числит.
Чуть из-за гор возникнет солнца лик,
Стучится в дом мой этот ростовщик.
Как мне уйти от происков бесчестных,
Где взять мне два червонца полновесных?»
Ученый муж добросердечен был,
И два червонца плуту он вручил.
Как золото от радости сияя,
Ушел он, золото в горсти сжимая.
Хозяину сказали: «О мудрец!
Ведь это — попрошайка и хитрец.
Обманом даже льва он оседлает
И сам свои проделки прославляет!»
«О человек, ты лучше бы молчал! —
Ему хозяин в гневе отвечал, —
Ведь если впрямь попал он в сеть к невзгодам,
То честь его я спас перед народом.
А если он провел меня, ну что ж —
Я не жалею, ты и сам поймешь, —
Я дал червонец, честь свою спасая
От этого дрянного негодяя».
Зло отстраняй, мудрец, добро твори, —
И злым и добрым серебро дари.
Блажен, кто в круге мудрых и счастливых
Воспринимает нрав благочестивых.
Когда ты мудр, то мудро и суди,
С благоговеньем внемли Саади.
Не о кудрях и родниках поет он,
О добрых нравах речь свою ведет он.
РАССКАЗ
В пустыне странник увидал усталый
Собаку, что от жажды издыхала.
Он в колпаке своем воды принес,
Но даже встать не мог несчастный пес.
И он простер собаке длань служенья,
Приподнял, напоил, принес спасенье.
Избранник видел все, что делал он,
И был тот муж во всех грехах прощен.
Ты, злой тиран, возмездья опасайся!
Стань щедрым, искупить свой грех старайся!
Собаку спасший был прощен. Итак,
Благотвори!Ведь выше пса — бедняк.
Будь щедрым, милосердным, сколько можешь,
Тем выше ты, чем больше щедрость множишь.
Пусть богачи кинтарами дарят,
Ты беден, но дороже твой кират.
Судья предвечный лишнего не спросит,
Пусть каждый в меру сил своих приносит.
Слона степной кузнечик тяжелей,
Коль им придавлен жалкий муравей.
* * *
Будь к людям мягок, мудрый муж, всегда,
Дабы найти защиту в день Суда.
Тот, кто от века стал щитом несчастных,
Тебя не бросит на путях опасных.
Не обижай и жалкого раба,
Вдруг сделает царем его судьба.
Униженных и слабых не гони ты,
Подай им помощь, не лишай защиты.
Круговращенья лет изменчив круг,
Не ждешь — и ферзем пешка станет вдруг.
И тот, кто судьбы взглядом прозирает,
В сердца посева злобы не бросает.
Чтоб сохранить свой щедрый урожай,
Идущих вслед жнецам не обижай.
Не бойся к бедным щедрым быть, как море,
Чтоб самого себя не ввергнуть в горе.
Смотри: вчерашний царь в беде, а там —
Владыкою вчерашний стал гулам.
Не причиняй обид сердцам подвластным,
Страшись, чтобы не стал ты сам подвластным
РАССКАЗ
Дервиш, придя в суфийскую обитель,
Поведал: «Жил в Йемене повелитель.
Он счастья мяч перед собою гнал,
Он равных в щедрости себе не знал.
Весенней тучей над землей вставал он,
На бедных дождь дирхемов изливал он.
Но он к Хатаму неприязнен был,
С насмешкой о Хатаме говорил:
«Кто он такой? Мне он докучней тени!..
Нет у него ни царства, ни владений!»
Вот царь Йемена небывалый пир,
Как говорят, на весь устроил мир.
Вдруг раздалось Хатаму славословье,
Все гости стали пить его здоровье.
И зависть омрачила дух царя,
Раба он кликнул, злобою горя:
«Иди найди и обезглавь Хатама!
Со мною в славе спорит он упрямо».
В степь, где Хатам в ту пору кочевал,
Подосланный убийца поскакал.
И некий муж, как бы посланник бога,
Раба-посланца повстречал дорогой.
Сладкоречив тот муж, приветлив был,
Гонца к себе в шатер он пригласил.
Его в степи безлюдной обласкал он,
Вниманием его очаровал он.
А утром молвил: «Добрый гость, прости,
Но все ж у нас останься, погости!»
А тот в ответ: «Промедлить ни мгновенья
Нельзя!.. Дано мне шахом порученье!»
Сказал хозяин: «Тайну мне открой,
Я помогу тебе, пойду с тобой!»
«О благородный муж! — гонец ответил. —
Ты доблестен, и тверд, и духом светел,
Ты тайну нашу сохранишь. Так знай,
Хатама я ищу в становье Тай.
Хоть муж Хатам прославлен во вселенной,
Убить его велел мне шах Йемена.
О добрый друг! Мне милость окажи,
Дорогу мне к Хатаму укажи!»
Хозяин рассмеялся: «Меч свой смело
Бери, руби мне голову от тела.
Ведь я — Хатам. Пусть я хозяин твой,
Я поступлюсь для гостя головой!»
Когда Хатам склонился добровольно
Под меч, посланец издал крик невольно.
Не в силах от стыда поднять зениц,
Перед Хатамом он простерся ниц.
И, руки на груди сложив покорно,
Сказал: «Когда бы умысел позорный
Исполнил я и вред тебе нанес,
Не человек я был бы, гнусный пес!»
И встал он, и, поцеловав Хатама,
Через пески в Йемен пустился прямо.
Султан Йемена меж бровей его
Прочел, что тот не сделал ничего.
«Где голова? — спросил. — Какие вести
Ты мне привез? Скажи во имя чести!
Быть может, в поединок ты вступил
И у тебя в бою не стало сил?»
Посланец пал на землю пред владыкой
И так ответил: «О султан великий!
Хатама видел я. Среди людей
Он всех великодушней и мудрей.
В нем доблесть, мужество и благородство,
Ему дано над всеми превосходство.
Груз милостей его меня сломил.
Великодушьем он меня сразил!»
Все рассказал гонец. Ему внимая,
Йеменский царь восславил племя Тая.
И щедро наградил султан посла…
Хатаму щедрость свойственна была,
Как солнцу — свет, цветам — благоуханье.
Хатаму славу принесли деянья.
РАССКАЗ
Отец в дороге сына потерял,
Он всю стоянку ночью обыскал.
У всех шатров расспрашивал — и где-то
Нашел, как в темноте источник света.
И людям каравана своего
Сказал: «Ведь как я отыскал его?
Из встречных никого не пропустил я…
«Он это!» — тень завидя, говорил я».
Так люди истины в толпу идут,
Надеясь, что достойного найдут.
Лишений горьких груз несут тяжелый
И терпят множества шипов уколы,
Чтобы живое сердце обрести
И розы цвет средь терниев найти.
РАССКАЗ
Юнец, над нищим сжалясь стариком,
Пожертвовал последним медяком.
Потом проступок некий совершил он,
И осужден на казнь султаном был он.
Заволновались люди — стар и мал;
Глядеть на казнь весь город прибежал.
А тот старик, на перекрестке сидя
И юношу средь палачей увидя,
Душой скорбя, его спасти решил;
На весь майдан он громко завопил:
«Эй! Люди! Царь наш умер! Мир остался,
Как был, а справедливый царь скончался!»
Услышав эти вести, палачи
Остановились, опустив мечи.
Старик вопил, стенанья испуская.
А стража вся, друг друга обгоняя,
В смятении бежит в чертог царев
И видит: шах на троне — жив, здоров.
Преступник скрылся той порой. Схватили
Дервиша и к султану притащили.
Султан ему: «Ты что смущал людей?
Иль впрямь ты смерти захотел моей?
Я добр к народу; правлю справедливо,
Так что ж колдуешь ты, отродье дива?»
Дервиш не оробел перед царем,
Сказал: «Да будет мир тебе во всем!
Я лгал, но ложь, как видишь, не опасна,
Ты жив, и спасся тем один несчастный!»
Царь изумлен был. Старца он простил,
И одарил, и с миром отпустил.
Меж тем по закоулкам, задыхаясь,
Бежал несчастный, от людей скрываясь.
Спросил его знакомый: «Не таись,
Скажи: как удалось тебе спастись?»
«О друг! — тот молвил, полн еще боязни. —
Я откупился медяком от казни!»
Бросает в землю пахарь семена,
Чтоб житница зерном была полна.
Горсть ячменя предотвращает голод,
Дракон был странника жезлом заколот.
Избранника я притчу приведу:
«Благодеянье истребит беду!»
И здесь бояться нам врагов не надо,
Пока на троне Абу-Бакр сын Са'да.
О государь, улыбкою лица
Мир озаряй и покоряй сердца!
Закон твой правый — слабому защита.
Кошница милосердия открыта.
Кошница — ты, что нам послал аллах,
О муж, благословенный в двух мирах.
Пускай не всякий мыслит так! Наверно,
В ночь кадр молиться не встает неверный.
* * *
Конем однажды сброшен норовистым,
Сказал Бахрам — охотник в поле чистом:
«Другого должен выбрать я коня,
Такого, чтобы слушался меня!»
Плотину ставь, чтоб не был труд бесплоден,
Покамест Тигр могучий мелководен.
Бей насмерть волка, что в капкан попал,
Чтоб он опять овец твоих не рвал.
Как от Иблиса богопочитанья,
От злых людей не жди благодеянья,
Лишай злодеев сил, пока ты жив;
Пусть будет враг в тюрьме, в бутыли — див.
Увидевши змею — бежать не время
За палкой. Камнем размозжи ей темя.
Коль вор и лихоимец — твой писец,
Мечом хищенью положи конец.
Советник твой, простых людей гнетущий,
Не друг, а демон — в ад тебя ведущий,
Не говори, что мудр его совет,
Когда виновник он народных бед!
Кто поученьям Саади внимает,
Тот зданье царства мудро созидает.
Глава третья. О ЛЮБВИ, ЛЮБОВНОМ ОПЬЯНЕНИИ И БЕЗУМСТВЕ
Прекрасны дни влюбленных, их стремленья
К возлюбленной, блаженны их мученья.
Прекрасно все в любви — несет ли нам
Страдания она или бальзам.
Влюбленный власть и царство ненавидит,
Он в бедности свою опору видит.
Он пьет страданий чистое вино;
Молчит, хоть горьким кажется оно.
Его дарят похмельем сладким слезы.
Шипы — не стражи ли царицы Розы?
Страданья ради истинной любви
Блаженством, о влюбленный, назови!
Вьюк легок опьяненному верблюду,
Стремись, иди к единственному чуду!
Не сбросит раб с себя любви аркан.
Когда огнем любви он обуян.
Живут в тиши печального забвенья
Влюбленные — цари уединенья.
Они одни сумеют повести
Блуждающих по верному пути.
Проходят люди, их не узнавая,
Они — как в мире тьмы вода живая,
Они подобны рухнувшим стенам
Снаружи. А внутри — прекрасный храм.
Они, как мотыльки, сжигают крылья,
И шелкопряда чужды им усилья.
У них всегда в объятьях красота,
Но высохли от жажды их уста.
Не говорю: источник вод закрыт им,
Но жажду даже Нил не утолит им.
РАССКАЗ
Сын нищего, что век в нужде влачился,
Увидев шах-заде, в него влюбился.
В каких мучениях, — поймешь ли ты? —
Бедняк лелеял тщетные мечты…
На всех путях царевича стоял он,
У стремени коня его бежал он.
Он проливал потоки жгучих слез,
Не внемля ни насмешек, ни угроз.
Придворные его с дороги гнали:
«Эй ты, бродяга, отойди подале!»
Он уходил. Но вновь, презрев позор,
Близ шах-заде свой разбивал шатер.
Его избили слуги. «Убирайся! —
Сказали. — На глаза не попадайся!»
Ушел факир. Но вновь вернулся он,
Покоя и терпения лишен.
Хоть в двери изгонялся он, как муха,
В окошко возвращался он, как муха.
Ему сказали: «Эй ты, дуралей!
Ты сколько терпишь палок и камней?»
Ответил он: «Погибель друга ради
Приму! И не взмолюсь я о пощаде!
Пусть ненавистью полон он ко мне, —
В него влюблен я! Брежу им во сне!
Пусть на любовь мою он не ответит,
Я жив, пока он мне, как солнце, светит.
Всех этих мук снести я не могу.
И прочь — увы! — уйти я не могу.
«Прочь от шатра его!» — не говорите,
Хоть голову у входа пригвоздите.
Не лучше ль мотыльку в огне сгореть,
Чем в пустоте и мраке умереть!»
«Мяч! Ты получишь рану от човгана!»
Факир ответил им: «А что мне рана?»
«Тебе отрубят голову мечом!»
А он им: «Голова мне нипочем!
Кто о пути своем грядущем знает, —
Венец его иль плаха ожидает?
Увы! Терпения лишился я,
И от покоя отрешился я!
Пусть, как Иаков, я ослепну, все же
К Юсуфу приведешь меня ты, боже![62]
Не будет прахом мира ослеплен
Тот, кто любовью вечной опьянен».
Раз к стремени царевича припал он.
Разгневался царевич. «Прочь!» — сказал он.
Факир с улыбкой молвил: «Никого
Не гонит шах от солнца своего!
Из-за тебя свою забыл я душу.
Коль от тебя уйду, обет нарушу!
Тобой одним живу я и дышу,
Будь благосклонен, если я грешу!..
Твоих стремян коснулся я рукою
Затем, что я не дорожу собою!
Любви к тебе я предан целиком
И ставлю крест на имени своем.
Я насмерть поражен стрелою взгляда
И обнажать свой меч тебе не надо!
Ты сам зажег меня. Так не беги.
И все леса души моей сожги!»
* * *
Раз на пиру под звуки струн и ная
Кружилась в пляске пери молодая.
Не помню: жар сердец иль огонек
Светильни полу платья ей поджег.
Она, увидев это, рассердилась.
«Не гневайся! — сказал я. — Сделай милость!
Ведь у тебя сгорела лишь пола,
А весь мой урожай сгорел дотла».
Влюбленные друг в друга — дух единый.
Коль суть цела — не жаль мне половины
* * *
Есть люди, чистой преданы любви, —
Зверями ль, ангелами их зови, —
Они, как ангелы, в хвале и вере
Не прячутся в пещерах, словно звери.
Они воздержанны, хоть и сильны,
Они премудры, хоть опьянены.
Когда они в священный пляс вступают,
То в исступленье рубище сжигают.
Они забыли о себе. Но все ж,
Непосвященный, ты к ним не войдешь
Их разум — в исступлении, а слух
К увещеваниям разумным глух.
Но утка дикая не тонет в море.
Для саламандры ведь пожар — не горе.
Вот так и многотерпцы, — ты скажи, —
В пустыне живы божии мужи!
Они от взоров всех людей сокрыты,
Они не знатны и не имениты.
Не добиваются людской любви,
Довольно вечной им одной любви,[63]
Они — плодовый сад щедрот безмерных,
А не злодеи в облаченье верных.
Они скрываются от глаз людских,
Как жемчуга в жемчужницах своих.
Не хвастаются, не шумят, как море,
Блестя жемчужной пеной на просторе.
Они — не вы! Вы — внешне хороши,
Но в обликах красивых нет души.
И не прельстите вы царя вселенной
Ни красотой, ни роскошью надменной.
Когда бы стала перлами роса,
То перлов не ценилась бы краса.
Как по канату, доблестный и верный
Пройдет и без шеста над бездной скверны.
Дервиш в блаженном хмеле изнемог,
Внимая зову: «Эй! Не я ль твой бог?»
Кому любовь — стекло, а ужас — камень,
Не страшны ни мечи вражды, ни пламень.
РАССКАЗ
Жил в Самарканде юноша. Был он
Индийскою красавицей пленен.
Она, как солнце, чары расточала,
Твердыню благочестья разрушала.
Казалось, красоту, какую мог,
В ней воплотил миров зиждитель — бог.
За нею вслед все взгляды обращались.
Ее встречавшие ума лишались.
Влюбленный наш тайком ходил за ней.
И раз она сказала гневно: «Эй!
Глупец, не смей, как тень, за мной влачиться.
Не для твоих тенет такая птица.
Не смей за мною по пятам ходить.
Не то рабам велю тебя убить!»
И тут влюбленному промолвил кто-то:
«О друг, займи себя другой заботой.
Боюсь, ты не достигнешь цели здесь,
А потеряешь даром жизнь и честь!»
Упреком этим горьким уязвленный,
Вздохнув, ответил юноша влюбленный:
«Пусть под мечом я голову мою
В прах уроню и кровь мою пролью,
Но скажут люди: «Вот удел завидный!
Пасть от меча любимой — не обидно».
Меня позорить можешь ты, бранить, —
Я не уйду. Мне без нее не жить.
Что мне советуешь ты, ослепленный
Тщетою мира, лишь в себя влюбленный?
Она добра и благости полна,
Пусть хоть на казнь пошлет меня она!
Мечта о ней меня в ночи сжигает,
А утром снова к жизни возрождает.
Пусть у ее порога я умру,
Но жив, как прежде, встану поутру!»
Будь стоек всей душою, всею кровью.
Жив Саади, хоть и сражен любовью.
* * *
Сказал от жажды гибнущий в пустыне:
«Счастлив, кто гибнет в водяной пучине!»
Ему ответил спутник: «О глупец,
В воде иль без воды — один конец».
«Нет! — тот воскликнул. — Не к воде стремлюсь я,
Пусть в океане Духа растворюсь я!»
Кто жаждет истины, я знаю, тот
Без страха бросится в водоворот.
Не дрогнет в жажде знанья, не остынет,
Хоть знает он, что в тех волнах погибнет.
Любовь, влюбленный, за полу хватай.
«Дай душу!» — скажет. Душу ей отдай.
Ты внидешь в рай блаженства и забвенья,
Пройдя геенну самоотреченья.
Труд пахаря в пору страды суров,
Но пахарь сладко спит после трудов.
На сем пиру блаженства достигает
Тот, кто последним чашу получает.
РАССКАЗ
Раз молодая женщина пришла
К отцу и жаловаться начала:
«Отец мой! Муж меня совсем не любит…
Ах, вижу я, он жизнь мою загубит!
Гляжу, как к женам ласковы мужья,
И плачу. Знать, одна несчастна я.
Всяк льнет к жене, как голубок к голубке,
Как дольки миндаля в одной скорлупке,
Все люди, погляжу я, кроме нас!
А муж мой улыбнулся ль мне хоть раз?»
Отец ее был мудр и духом светел;
И он с улыбкой дочери ответил:
«Неласков, говоришь, с тобою он?
Зато хорош собой, умен, учен!
Жаль человека потерять такого
И худшего в сто раз искать другого…
Будь с ним поласковей. Коль он уйдет,
Ведь на тебя бесчестие падет».
РАССКАЗ
Железные перчатки раздобыл
Один борец и биться с львом решил.
Но лапа льва к земле его прижала,
И сила у борца в руках увяла.
А зрители: «Эй, муж! Ты что лежишь,
Как женщина? Что льва ты не разишь?»
А тот вздохнул, не в силах приподняться:
«Увы, со львом не кулаками драться!»
Как лев могучий был сильней борца,
Так страсть порой сильнее мудреца.
Кулак — будь он в железной рукавице —
В бою со львом свирепым не годится.
О пленник страсти, позабудь покой!
Ты — мяч, гонимый по полю клюкой.
РАССКАЗ
Раз юноша и дева, что дружили
От детских лет, в супружество вступили.
Жена была счастлива. А супруг —
Смотри! — ее возненавидел вдруг.
Он прелестью подруги не пленялся,
Прочь от нее лицом он отвращался.
Она, как роза, красотой цвела,
А для него как смерть она была.
Ему сказали: «Эй ты, непонятный,
Не любишь, так ушли ее обратно».
А тот: «Овец хоть тысячу голов
Отдам, чтоб разрешиться от оков!»
А им жена: «Приму любые муки,
Но знайте — с ним не вынесу разлуки.
На все отары мира не польщусь
И разлучиться с ним не соглашусь».
Порою друг, что друга отвергает,
Отвергнутому лишь милей бывает.
РАССКАЗ
Спросили раз Меджнуна: «Что с тобой?
Что ты семьи чуждаешься людской?
И что с Лейли, с твоей любовью, сталось?
Ужель в тебе и чувства не осталось?»
Меджнун ответил, слез поток лия:
«Молю, отстаньте от меня, друзья,
Моя душа изнемогла от боли,
Не сыпьте же хоть вы на рану соли.
Да, друг от друга мы удалены,
Необходимости подчинены».
А те: «О светоч верности и чести,
Вели — Лейли передадим мы вести!»
А он им: «Обо мне — ни слова ей,
Чтобы не стало ей еще больней».
Вы червячка видали на полях,
Что, словно свечка, теплится в ночах?
Его спросили: «Вот ты ночью светишь,
А что же днем нигде тебя не встретишь?»
И в темноте светящийся червяк
По мудрости своей ответил так:
«Я здесь и днем! Мне ваш вопрос обиден.
Я только из-за солнца днем не виден!»
* * *
О муж любви, иди своей тропой,
Чуждайся блеска роскоши людской!
Иди путем любви! Душой беспечен,
Пусть ты погибнешь — дух твой будет вечен.
Ведь из зерна и злак не прорастет,
Когда само зерно не пропадет.
Тогда лишь сможешь истины добиться,
Коль от себя сумеешь отрешиться.
И знай — ты истины не обретешь,
Пока в самозабвенье не впадешь.
Как музыка, поют шаги верблюда,
Когда тебе любви открыто чудо.
И тайну в крыльях мухи не узришь,
Когда ты страстью чистою горишь.
И, изумленный, в просветленье духа
За голову ты схватишься, как муха.
Влюбленный плачет, слыша пенье птиц,
Хоть небо пасть пред ним готово ниц.
Да — истинный певец не умолкает,
Но не всегда, не всяк ему внимает.
Пусть к нам на пир влюбленные придут
И упоенью души предадут!
Пусть кружатся, как чаша круговая,
Главу у врат смиренья опуская!
Когда дервиш в самозабвенье впал,
Не смейся, пусть он ворот разодрал.
И машет, словно крыльями, руками…
Он — в море, он объят любви волнами!
«Где бубны, флейты ваши? — спросишь ты, —
Откуда песня льется с высоты?»
Не знаю я. Хоть песня мир объемлет.
Но ей лишь сердце избранного внемлет.
Коль птица с башни разума взлетит,
То ангелов небесных восхитит.
А низкий, в ком пристрастье к миру живо,
Готовит в сердце логово для дива.
Кто потакать готов своим страстям —
Не спутник он и не застолец нам.
Когда садами вечер пролетает,
Он не дрова, а розы рассыпает.
Мир, полный музыки, нам дал творец…
Но что увидит в зеркале слепец?
Ты не видал, как в пляс верблюд вступает,
Когда арабской песне он внимает?
Верблюда, знать, в восторг напев привел…
А тот, кто глух, тот хуже, чем осел.
РАССКАЗ
Играть на флейте юноша учился.
И совершенства в музыке добился.
Сердца сгорали, как сухой камыш,
Когда звучал его живой камыш.
Отец сердился, флейту отнимал он.
«Бездельник!» — сына гневно упрекал он.
Но как-то ночью, услыхав сквозь сон,
Игрою сына был он потрясен.
Сказал: «Неправ я был, его ругая,
Его искусства дивного не зная!»
Видал дервишей ты летящий круг?
Что означают эти взмахи рук?
Знай: в дверь они глядят иного мира,
Отмахиваясь от земного мира.
Но тот лишь видит, у кого жива
Душа в мельчайших складках рукава.
Так опытный пловец лишь обнаженный
В пучине не потонет разъяренной.
Намокнет грузный плащ, пловца губя, —
Ты скинь притворства рубище с себя!
Привязанный, в оковах ты плетешься,
Порвав все связи — с Истиной сольешься.
РАССКАЗ
«Бедняга! — кто-то мотыльку сказал. —
Себе ты лучше б ровню поискал!
Горящая свеча тебя не любит,
Влечение твое тебя погубит.
Не саламандра ты, не рвись в огонь!
Надежная нужна для битвы бронь.
Как без нее с железноруким биться?
От солнца мышь летучая таится.
И тот, кто здравым наделен умом,
Не обольщается своим врагом.
Где разум твой? Свеча — твой враг смертельный.
Зачем ты рвешься к гибели бесцельно?
Бедняк, прося царевниной руки,
Получит в лучшем случае пинки.
Свеча султанам и царям сияет
И о любви твоей, поверь, не знает.
Она, блистая в обществе таком,
Прельстится ли ничтожным мотыльком?
Твоя любимая вельможам светит:
А ты сгоришь — она и не заметит!»
И мотылек ответил: «О глупец,
Пусть я сгорю, не страшен мне конец.
Влюблен я, сердце у меня пылает,
Свеча меня, как роза, привлекает.
Огонь свечи в груди моей живет,
Не я лечу, а страсть меня влечет.
Аркан захлестнут у меня на шее,
И мне не страшно, рад сгореть в огне я.
Сгорел я раньше, а не здесь — в огне,
Который обжигает крылья мне.
Она в такой красе, в таком сиянье,
Что глупо говорить о воздержанье.
Пусть я на миг в огонь ее влечу
И смертью за блаженство заплачу!
Я в жажде смерти рвусь к чужому чуду.
Она горит! И пусть я мертвым буду!..
А ты мне говоришь: «Во тьме кружи.
Ищи достойную и с ней дружи!»
Скажи ужаленному скорпионом:
«Не плачь!» — не станет вмиг он исцеленным.
Советы бесполезно расточать
Пред тем, кто не желает им внимать.
Не говорят: «Полегче, сделай милость!» —
Возничему, чья четверня взбесилась.
В «Синдбаде» также сказано о том:[64]
«Сравни советы с ветром, страсть — с огнем».
Костер под ветром ярче пламенеет,
Тигр, если ранен, пуще свирепеет.
Я прежде думал: ты мне добрый друг.
Не ждал я от тебя дурных услуг.
Советуешь мне: «Ровню, мол, ищи ты,
Пусть будут сердце и душа убиты!..»
Не дорожишь душой, так не взыщи,
Ты сам иди и ровню поищи.
К себе подобным лишь самовлюбленный
Идет, как пьяный в мрак неозаренный.
Я сам решил — во тьме ль погибнуть мне
Или сгореть в ее живом огне!
Тот, кто влюблен, тот смело в пламя мчится.
Трус, что влюблен в себя, всего боится.
От смерти кто себя убережет?
Пусть жар влюбленной и меня сожжет!
И если смерть для нас неотвратима,
Не лучше ли сгореть в огне любимой,
Вкусить блаженство, пасть у милых ног,
Как я — в свечу влюбленный мотылек!»
РАССКАЗ
Однажды темной ночью я не спал
И слышал — мотылек свече шептал:
«Пусть я сгорю! Ведь я люблю… Ты знаешь…
А ты что плачешь и о чем рыдаешь?»
Свеча ему: «О бедный мотылек!
Воск тает мой, уходит, как поток.
А помнишь, как ушла Ширин-услада,
Огонь ударил в голову Фархада».
И воск, подобный пламенным слезам,
Свеча струила по своим щекам.
«О притязатель! Вспыхнув на мгновенье,
Сгорел ты. Где же стойкость? Где терпенье?
В единый миг ты здесь спалил крыла,
А я стою, пока сгорю дотла.
Ты лишь обжегся. Но, огнем пылая,
Вся — с головы до ног — сгореть должна я!»
Так, плача, говорила с мотыльком
Свеча, светя нам на пиру ночном.
Но стал чадить фитиль свечи. И пламя
Погасло вдруг под чьими-то перстами.
И в дыме вздох свечи услышал я:
«Вот видишь, друг, и смерть пришла моя!»
Ты, чтоб в любви достигнуть совершенства,
Учись в мученьях обретать блаженство.
Не плачь над обгоревшим мотыльком,
С любимой он слился, с ее огнем.
Под ливнем стрел, хоть смерть неотвратима,
Не выпускай из рук полу любимой.
Не рвись в моря — к безвестным берегам,
А раз поплыл, то жизнь вручи волнам!
Глава четвертая. О СМИРЕНИИ
Из тучи капля долу устремилась
И, в волны моря падая, смутилась.
«Как я мала, а здесь простор такой…
Ничто я перед бездною морской!»
Она себя презрела, умалила;
Но раковина каплю приютила;
И перл, родившийся из капли той,
Царя венец украсил золотой.
Себя ничтожной капля та считала —
И красотой и славой заблистала.
Смиренье — путь высоких мудрецов,
Так гнется ветвь под тяжестью плодов,
РАССКАЗ
Однажды утром, по словам преданий,
Премудрый вышел Баязид из бани.
И некто полный таз золы печной
На старца высыпал — без мысли злой.
Чалма у Баязида распустилась,
А он, приемля это, словно милость,
Отер лицо, сказал: «Мой дух — в огне,
Так от золы ли огорчаться мне?»
Пренебрежет собой познавший много.
Не жди от себялюбца веры в бога.
Высокий дух исканьям славы чужд,
И в почестях величью нету нужд.
Превыше всех подымет лишь смиренье,
Но душу в грязь повергнет самомненье.
Надменный, непокорный в прах падет.
Величье — само избранных найдет.
Нет правды в низменном земном исканье,
Нет света бога в самолюбованье.
Беги, мой дух, завистливых и злых,
С презрением глядящих на других.
Тот одарен высокою судьбою,
Кто не запятнан гневом и враждою.
Иди тобою избранным путем,
Прославься правдолюбьем и добром.
У тех, кто над тобой превозносился,
Безумием, ты скажешь, ум затмился.
И сам ты осужденье обретешь,
Коль над людьми себя превознесешь.
Высоко ты стоишь, но не надейся
На вечное… Над падшими не смейся.
Стоявшие всех выше — все ушли,
А падшие на место их взошли.
Ты беспорочен, с низменным не смешан,
Но ты не осуждай того, кто грешен.
Тот носит перстень Кабы на руке,
А этот, пьян, свалился в погребке.
Но кто из них войдет в чертоги света
Там — на Суде последнего ответа?
Тот — верный внешне — в бездну упадет,
А этот в дверь раскаянья войдет.
РАССКАЗ
Бедняк-ученый — в рвани и в грязи —
Сел среди знатных на ковре кази.
Взглянул хозяин колко — что за чудо?
И служка подбежал: «Вошел отсюда!
Ты перед кем сидишь? Кто ты такой?
Сядь позади иль на ногах постой!
Почета место здесь не всем дается,
Сан по достоинству лишь достается.
Зачем тебе позориться средь нас?
Достаточно с тебя на первый раз!
И честь тому, кто ниже всех в смиренье,
Не испытал позора униженья.
Ты впредь на месте не садись чужом,
Средь сильных не прикидывайся львом!»
И встал мудрец, в ответ не молвив слова.
Судьба его в те дни была сурова.
Вздох испустил он, больше ничего,
И сел в преддверье сборища того.
Тут спор пошел средь знатоков Корана.
«Да, да!» — «Нет, нет!» — орут как будто спьяна.
Открыли двери смуты вековой,
И всяк свое кричит наперебой.
Их спор над неким доводом старинным
Сравнить бы можно с боем петушиным.
Так спорили в неистовстве своем
Факихи о Писании святом,
Так узел спора туго завязали,
Что, как распутать узел, и не знали.
И тут в одежде нищенской мудрец
Взревел, как лев свирепый, наконец:
«Эй, знатоки святого шариата,
Чья память знаньем истинным богата!
Не брань и крик, а доводы нужны,
Чтобы бесспорны были и сильны.
А я владею знания човганом».
Тут общий смех поднялся над айваном:
«Ну, говори!» И он заговорил,
Раскрыл уста и глотки им закрыл.
Острей калама доводы нашел он,
От ложной их премудрости ушел он,
И свиток сути смысла развернул,
И, как пером, их спор перечеркнул.
И закричали всем собраньем: «Слава!
Тебе, мудрец, твоим познаньям — слава!»
Как конь, он обогнал их. А кази
Был как осел, увязнувший в грязи.
Вздохнув, свою чалму почета снял он,
Чалму свою пришельцу отослал он.
Сказал: «Прости! Хоть нет на мне вины,
Что я не угадал тебе цены!
Средь нас ты выше всех! И вот — унижен…
Мне жаль. Но да не будешь ты обижен!»
Пошел служащий к пришлецу тому,
Чтоб на главу его надеть чалму.
«Прочь! — тот сказал. — Иль сам уйду за дверь я!
Твоя чалма — венец высокомерья!
Слыть не хочу в народе как святой
С чалмою в пятьдесят локтей длиной.
«Маулана» нарекусь я, несомненно,
Но это званье будет мне презренно.
Вода да будет чистою в любом
Сосуде — глиняном иль золотом.
Ум светлый должен в голове таиться,
А не чалмой высокою кичиться.
Как тыква, велика твоя чалма,
Но в тыкве нет ни мозга, ни ума.
Не чванься ни усами, ни чалмою!
Чалма — тряпье, усы — трава травою.
Те, кто подобны людям лишь на взгляд,
Но мертвы, как картины, — пусть молчат.
Сам одолей высоты перевала;
Зла людям не неси, как знак Зуала.
На плетево идет тростник любой,
Но ценен сахарный самим собой.
Тебя, с душою низкою такою,
Я званья «Человек» не удостою.
Стеклярусную понизь отыскал
В грязи глупец. Стеклярус так сказал:
«Ты брось меня! Я бисер самый бедный!
Я весь не стою и полушки медной».
Пусть в цветнике свинарь свинью пасет,
Но на свинью цена не возрастет.
Осел ослом останется вовеки.
По платью не суди о человеке!»
* * *
Так жгучим словом он обиду смыл
И чванных и надменных устыдил.
Обижен ими, он не пощадил их
И речью, как оружьем, поразил их.
Да не потерпит гнета и обид
Муж правды и неправых истребит!
Казн сидел, подавленный — в позоре:
«О стыд мне перед всеми! Стыд и горе!»
Он руки был свои кусать готов,
Молчал, не находя достойных слов.
А тот пришлец в убогом одеянье
Стремительно покинул их собранье.
Опомнились вельможи наконец,
Воскликнули: «Кто этот молодец?»
Слуга его разыскивал повсюду,
Вопросы обращал к простому люду.
И все в ответ: «Напрасно не ходи!
Был это наш учитель — Саади.
Стократ хвала ему, что речью меткой
Так отхлестал он вас — умно и едко!»
РАССКАЗ
Мудрец Лукман был черен, как арап,
Невзрачен, ростом мал и телом слаб.
Приняв за беглого раба, связали
Вождя людей и строить дом пригнали.
Хозяин издевался над рабом;
Но в год ему Лукман построил дом.
И тут внезапно беглый раб вернулся,
Хозяин все узнал и ужаснулся.
Валялся у Лукмана он в ногах.
А тот, смеясь: «Что мне в твоих слезах?
Как я свою обиду вмиг забуду?
Твою жестокость век я помнить буду!
Но я тебя прощаю, человек.
Тебе — добро, мне — выучка навек.
Теперь ты в новом доме поселился,
Я новой мудростью обогатился:
Раб у меня есть; я жесток с ним был,
Работой непосильною томил.
Но мучить я его не буду боле, —
Так тяжко было мне в твоей неволе».
Кто сам не знает, что такое гнет,
Тот состраданья к слабым не поймет.
Ты оскорблен правителем законным?
Не будь же груб с бесправным подчиненным!
Как тут Бахрамовых не вспомнить слов:
«Не будь, правитель, к подданным суров!»
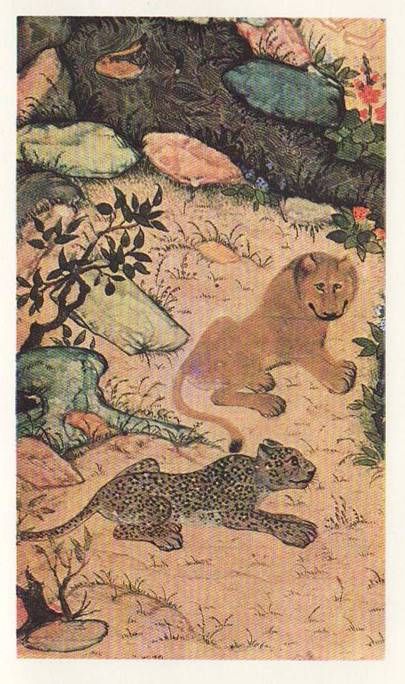 Миниатюра из рукописи XVI в. Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.
Миниатюра из рукописи XVI в. Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.
Глава пятая. О ДОВОЛЬСТВЕ ЮДОЛЬЮ
В ночи раздумий зажигал я лен,
И светоч речи мною был зажжен…
Стал восхвалять меня пустоголовый,
Пути признанья не найдя иного,
Но в похвалу он влил немало зла,
И зависть в каждом слове проросла.
Писал он: «Мысли Саади высоки!
Гласили так лишь древние пророки.
Но как он слаб, кого ты ни спроси,
В картинах битв — в сравненье с Фирдуси!»
Должно быть, он не знал, что мир мне нужен,
Что с громом браней сердцем я не дружен.
Но если нужно, как булатный меч,
Язык мой может жизнь врага пресечь.
Что ж, вступим в бой, но заключим условье:
Нам вражий череп будет — изголовье…
Но в битве меч сильнейшим не помог, —
Победу лишь один дарует бог.
Коль счастье озарять нас перестанет,
Храбрейший муж судьбу не заарканит.
И муравей по-своему силен,
И лев по воле неба насыщен.
Бессильный перед волей небосклона,
Иди путем предвечного закона!
А тот, кому столетний век сужден,
Львом и мечом не будет истреблен.
Коль осужден ты небом, — не во власти
Врага спасти тебя от злой напасти.
Рустама не злодей Шагад сгубил,
А смертный срок Рустама наступил.
РАССКАЗ
Жил в Исфагане войска повелитель,
Мой друг — отважный, дерзостный воитель.
Всю жизнь он воевать был принужден,
Был город им и округ защищен.
С утра, разбужен шумом, ратным гулом,
Его в седле я видел с полным тулом.
Он львов отважным видом устрашал,
Быков рукой железной поражал.
Когда стрелу во вражий строй пускал он,
Без промаха противника сражал он.
Так лепесток колючка не пронзит,
Как он пронзал стрелой железный щит.
Когда копье бросал он в схватке ратной,
Он пригвождал к челу шелом булатный.
Как воробьев, он истреблял мужей, —
Так саранчу хватает муравей.
Коль он на Фаридуна налетел бы,
Тот обнажить оружье не успел бы.
С его дороги пардус убегал,
Он пасти львов свирепых раздирал.
Схватив за пояс вражьих войск опору,
Богатыря он подымал на гору.
Он настигал врага быстрей орла
И разрубал секирой до седла.
Но в мире был он добрым и беззлобным,
Нет вести ни о ком ему подобном.
Он с мудрыми учеными дружил
В те дни, как лучший друг он мне служил.
Но вот беда на Исфаган напала,
Судьба меня в иной предел угнала.
В Ирак ушел я, переехал в Шам,
И прижился я, и остался там.
Я жил в стране, где помнили о боге
В заботах, и надежде, и тревоге.
Довольство там царило и покой.
Но потянуло вдруг меня домой.
Пути судьбы затаены во мраке…
И снова очутился я в Ираке.
В бессоннице я там обрел досуг.
Мне вспомнился мойисфаганский друг.
Открылась память дружбы, словно рана:
Ведь с одного с ним ел я дастархана.
Чтоб повидать его, я в Исфаган
Пошел, найдя попутный караван.
И, друга увидав, я ужаснулся:
Его могучий стан в дугу согнулся.
На темени — седины, словно снег;
Стал хилым старцем сильный человек.
Его настигло небо, придавило,
Могучей длани силу сокрушило.
Поток времен гордыню преломил;
Главу к коленям горестно склонил.
Спросил я: «Друг мой, что с тобою стало?
Лев превратился в старого шакала».
Он усмехнулся: «Лучший божий дар
Я растерял в боях против татар.
Я, как густой камыш, увидел копья,
Как пламя — стягов боевых охлопья.
Затмила туча пыли белый свет.
И понял я: мне счастья больше нет.
Мое копье без промаху летало,
Со вражеской руки кольцо сбивало.
Но окружил меня степняк кольцом,
Звезда погасла над моим челом.
Бежал я, видя — сгинула надежда,
С судьбой сражаться выйдет лишь невежда.
Ведь не помогут щит и шлем, когда
Погаснет счастья светлая звезда.
Когда ты ключ победы потеряешь,
Руками дверь победы не взломаешь.
На воинах моих была броня
От шлема мужа до копыт коня.
Как только рать туранская вспылила,
Вся поднялась на битву наша сила.
Мы молнии мечей, — сказать могу, —
Обрушили на войско Хулагу.
Так сшиблись мы, — сказать хотелось мне бы, —
Как будто грянулось об землю небо.
А стрелы! Как от молний грозовых,
Нигде спасенья не было от них.
Арканы вражьи змеями взлетали,
Сильнейших, как драконы, настигали.
Казалась небом степь под синей мглой,
Во мгле мерцал, как звезды, ратный строй.
Мы скоро в свалке той коней лишились
И, пешие, щитом к щиту сразились.
Но счастье перестало нам светить,
И наконец решил я отступить.
Что сделать сильная десница может,
Коль ей десница божья не поможет?
Не дрогнули мы, не изнемогли —
Над нами звезды бедствия взошли.
Никто из боя не ушел без раны,
В крови кольчуги были и кафтаны.
Как зерна, — прежде в колосе одном, —
В тумане мы рассыпались степном.
Рассыпались бесславно те, а эти,
Как стая рыб, к врагу попали в сети.
Хоть наши стрелы сталь пробить могли,
Ущерба степнякам не нанесли.
Когда судьбы твоей враждебно око,
Что щит стальной перед стрелою рока?
Что воля перед волею судьбы,
О вы, предначертания рабы.
Глава шестая. О ДОВОЛЬСТВЕ МАЛЫМ
В стяжании пекущийся о многом
Не знает бога, недоволен богом.
Сумей богатство в малом обрести
И эту правду жадным возвести.
Чего ты ищешь, прах алчбой гонимый?
Злак не растет ведь на праще крутимой!
Живущий духом чужд телесных нег.
Забыв свой дух, убьешь его навек.
Живущий духом — доблестью сияет.
Живущий телом — доблесть убивает.
Суть человека постигает тот,
Кто сущность пса сперва в себе убьет.
О пище — мысли бессловесной твари,
Мысль человека — о духовном даре.
Блажен, кто сможет на земном пути
Сокровища познаний припасти.
Кому творенья тайна явной станет,
Тот света правды отрицать не станет.
А для не видящих, где мрак и свет,
Меж гурией и дивом розни нет.
Как ты в колодец, путник, провалился
Иль твой — в степи открытой — взор затмился?
Как сокол в высь небесную взлетит,
Коль птицу камнем алчность тяготит?
Коль от алчбы себя освободит он,
Как молния, к зениту воспарит он.
Как можешь ты с крылатыми сравняться,
Когда привык вседневно объедаться?
Ведь ангелом парящим, как звезда,
Не станет жадный хищник никогда.
Стань Человеком в помыслах, в делах,
Потом мечтай об ангельских крылах.
Ты скачешь, как несомый злобным дивом,
На необъезженном коне строптивом.
Скрути узду, иль волю он возьмет,
Сам разобьется и тебя убьет.
Обжора тучный, духом полусонный,
Ты человек иль чан обремененный?
Утроба домом духа быть должна,
А у тебя она едой полна.
Бурдюк словам о боге не внимает,
И алчный от обжорства умирает.
Кто вечными пирами пресыщен,
Тот мудрости и знания лишен.
Глаза и плоть вовек не будут сыты,
И хоть кишки твои едой набиты,
Бездонная геенна, твой живот, —
Еще, еще прибавьте! — вопиет.
Ел мало сам Иса, светильник веры,
Что ж кормишь ты осла его без меры?
Что приобрел ты в этом мире зла,
Сменивши откровенье на осла?
Ведь алчностью свирепой обуянных
Зверей и птиц находим мы в капканах.
Тигр над зверями царь, а поглядишь —
Попался на приманку, словно мышь.
И как бы мышь к еде ни кралась ловко,
Ее поймает кот иль мышеловка.
РАССКАЗ
Мне человек, что речь мою любил,
Слоновой кости гребень подарил.
Но, за слово обидевшись, однако,
Он где-то обозвал меня собакой.
Ему я бросил гребень, молвив: «На!
Мне кость твоя, презренный, не нужна».
Да, сам к себе я отношусь сурово,
Но не стерплю обиды от другого!
В довольстве малым мудрые сильны,
Дервиш и сам султан для них равны.
Зачем склоняться с просьбой пред владыкой,
Когда ты сам себе Хосров великий?
А себялюбец ты? Ну что ж, смирись:
Ходи, проси, у всех дверей стучись!
РАССКАЗ
Однажды скряга некий, полный страха,
Явился с просьбой к трону Хорезмшаха.
В прах перед шахом он лицо склонил,
Подобострастно просьбу изложил.
А скряге сын сказал недоуменно:
«Ответь на мой вопрос, отец почтенный,
Ведь кыбла там, на юге, где Хиджаз,
Что ж ты на север совершал намаз?»
Будь мудр, живи, страстями управляя,
У жадных кыбла каждый день другая.
Кто страсти низкой буйство укротит,
Себя от горших бедствий защитит.
Два зернышка ячменных жадный взял,
Зато подол жемчужин растерял.
Ты, мудрый, вожделенья укроти,
Чтобы с сумою после не пойти.
Укороти десницу! Свет надежды
Не в длинном рукаве твоей одежды!
Кто от стяжанья духом не ослаб,
Тот никому не пишет: «Я твой раб!»
Просителя, как пса, порою гонят.
Кто мужа независимого тронет?
Глава седьмая. О ВОСПИТАНИИ
Не о конях, ристалищах и славе,
Скажу о мудрости и добром нраве.
Враг твой — в тебе; он в существе твоем,
Зачем другого числишь ты врагом?
Кто победит себя в борьбе упрямой,
Тот благородней Сама и Рустама.
Не бей в бою по головам людей,
Свой дух животный обуздать сумей.
Ты правь собой, как Джам — смятенным миром.
Пусть будет разум у тебя вазиром.
В том царстве хор несдержанных страстей
Сравню с толпой вельмож и богачей.
Краса державы — мудрость и смиренье,
Разбойники — порывы вожделенья.
Где милость шаха злые обретут,
Там мудрецы покоя не найдут.
Ведь алчность, зависть низкая и злоба,
Как в жилах кровь, в тебе живут до гроба.
Коль в силу эти все враги войдут,
Они восстанут, власть твою сметут.
Но страсть, как дикий зверь в плену, смирится,
Когда могуча разума десница.
Ведь вор ночной из города бежит,
Где стража ночи бодрая не спит.
Царь, что злодеев покарать не может,
Своей державой управлять не может.
Но полно говорить, ведь все равно,
Что я сказал, до нас говорено.
Держи смиренно ноги под полою,
И ты коснешься неба головою.
Эй, мудрый, лучше ты молчи всегда,
Чтоб не спросили много в день Суда.
А тот, кто тайну подлинную знает,
Слова, как жемчуг, изредка роняет.
Ведь в многословье праздном смысла нет,
Молчащий внемлет мудрого совет.
Болтун, который лишь собою дышит,
В самозабвенье никого не слышит.
Слов необдуманных не изрекай,
В беседе речь других не прерывай.
Тот, кто хранит молчанье в шумных спорах,
Мудрее болтунов, на слово скорых.
Речь — высший дар; и, мудрость возлюбя,
Ты глупым словом не убей себя.
Немногословный избежит позора;
Крупица амбры лучше кучи сора.
Невежд болтливых, о мудрец, беги,
Для избранного мысли сбереги.
Сто стрел пустил плохой стрелок, все мимо
Пусти одну, но в цель неуклонимо.
Не знает тот, кто клевету плетет,
Что клевета потом его убьет.
Ты не злословь, злословия не слушай!
Ведь говорят, что и у стен есть уши.
Ты сердце, словно крепость, утверди
И зорко за воротами следи.
Мудрец закрытым держит рот, он знает,
Что и свеча от языка сгорает.
РАССКАЗ
Такаш в беседе как-то не сдержался,
Рабам о некой тайне проболтался.
И тайна та, что в сердце береглась,
По всей округе за день разошлась.
И встал Такаш, и палача позвал он,
Казнить рабов несчастных приказал он.
Один вскричал, отчаяньем объят:
«Не убивай! Ведь сам ты виноват!
Сам разболтал ты, что хранил глубоко…
Открыв плотину, не сдержать потока.
Сам ты виновен, на тебе твой грех, —
Ты сделал тайну достояньем всех!»
Пусть страж хранит казны потайной дверцы,
Но тайну сам храни в твердыне сердца.
Молчи о тайном! А произнесешь —
Сам в руки разнотолков попадешь.
Ведь слово — див, в колодце заточенный;
Но власти нет над тайной изреченной.
Див этот вырваться на волю рад,
Но не заманишь ты его назад.
Ведь если злобный див с цепей сорвется,
Он в плен без высшей воли не вернется.
Ребенок Рахша выпустит. Но сам
Его едва ль стреножит и Рустам.
Коль тайна станет сплетен достоянье,
Отравишь ты свое существованье.
Есть назиданье — мудрости ключи:
Скажи, что знаешь твердо, иль молчи!
Честь береги, как светлую зеницу;
Ячмень посеяв, не пожнешь пшеницу.
Хорош завет брахмана одного:
«Честь каждого — зависит от него!»
Ни суета, ни многоговоренье
Тебе не завоюют уваженья.
Браня людей, привета не найдешь;
Сам знаешь: что посеял — то пожнешь!
Шаг соразмерь, узнав, долга ль дорога.
Ведь мера нам во всем дана от бога.
Коль будешь резок, ближних невзлюбя,
Все люди разбегутся от тебя.
Великий грех — насилье, угнетенье;
Но также грех — и робость униженья.
РАССКАЗ
Сын разболелся сильно у Азада —
Его любовь надежда и отрада.
Дервиш сказал: «На волю отпусти
Всех птиц, чтобы несчастье отвести».
Азад пошел — все клетки отворил он,
Дроздов, синиц на волю отпустил он.
Оставил соловья лишь одного
На пышной арке сада своего.
Встал поутру здоровым сын Азада,
Увидел соловья на арке сада.
«Соловушка! — окликнул он его. —
Ты в клетке из-за пенья своего!»
Мысль высказав, подашь ты к спору повод;
Утихнет спор, коль приведешь ты довод.
До времени молчание храни,
Как Саади в его былые дни.
Пусть тайна сердца вызреет в покое!
Ей вреден шум и сборище людское.
Ты о людских пороках не кричи, —
Сперва свои пороки изучи!
Не слушай лжи и клеветы обидной
И отвернись от наглости бесстыдной.
РАССКАЗ
Рассказывал мне старец, — век бы стал их
Я слушать, славных стариков бывалых:
«Однажды в Индии, в толпе людей,
Я встретил негра — тьмы ночной черней.
Нес девушку в руках тот негр громадный,
К ее устам прильнув губами жадно.
Ты не ошибся бы, его сравнив
С Иблисом; он уродлив был, как див.
Так девушку ту крепко обнимал он,
Что мнилось: словно тьма на день напал он.
Коня души не смог я осадить, —
Решил я девушку освободить.
Я негра по спине ударил палкой,
Крича: «Скотина! Раб! Невольник жалкий!»
И эту девушку, — я говорю, —
От мрака отделил я, как зарю.
Негр спасся бегством, туча улетела…
Но под вороною яйцо белело.
Едва бежал тот черный, тьмы темней,
Повисла дева на руке моей,
Кричала: «Ты, дорогой лжи идущий,
За благо мира правду продающий!
Пойми — я в негра влюблена того!
А ты, о подлый, палкой бил его?
Ты отнял у меня, когда сварилась
Та пища, по которой я томилась!»
Она вопила, всех смутив кругом,
Что, видно, нет сочувствия ни в ком.
И что она кричала, погляди ты, —
Что нет, мол, ей от старика защиты.
«Запретной части тела моего
Коснулся он! Держи, хватай его!»
И так она визжала, так кричала,
Так крепко за полу меня держала,
Что только разум ясный мне помог:
«Из оболочки вырвись, как чеснок!»
И убежал я, голый, бога славя,
Хитон в руках у женщины оставя.
И срок спустя, ее я повстречал:
«Ты узнаешь меня? — я ей сказал. —
Я дал зарок, сумев с тобой расстаться,
В дела чужие больше не вторгаться!»
О мудрый, делом занятый своим,
Будь чужд деяньям низменным, чужим.
И да минет лучей живого взора —
В толпе безумной — зрелище позора.
Крепись, о мудрый, за собой следи,
Молчи! Иль говори, как Саади!
* * *
Хорошего ты встретишь иль плохого —
Не говори о людях злого слова.
Плохого сделаешь своим врагом,
А доброго хулить — считай грехом.
Когда один хулить другого будет, —
Знай: по себе самом о нем он судит.
Когда ты их поступки разберешь,
Поймешь — где правда, где таится ложь.
Коль ты о людях говоришь плохое,
Пускай ты прав — нутро в тебе дурное.
Ушедших некто жалил речью злой;
Мудрец прервал: «Почтеннейший, постой!
Ты не черни людей, которых знал я,
Чтоб думать плохо о тебе не стал я!
Ты много злобных слов о них нашел,
Но доброго и сам не приобрел!»
Мне молвил некто мудрое присловье:
«Разбой, ей-богу, лучше, чем злословье!»
«О друг! — смущенно молвил я ему, —
Я притчи этой странной не пойму.
Как? Лучше преступление разбоя,
Чем об отсутствующем слово злое?»
А он: «Чтоб лютый голод утолить,
Разбойник должен смелость проявить.
А этот, — человека очернил он, —
Но что, скажи, за это получил он?»
* * *
Когда в Низамийе я поселился,
Упорно, днем и ночью я учился.
И пиру молвил раз: «О знанья свет!
Завидовать мне начал мой сосед.
Когда я смысл хадиса открываю,
Он злобится в душе — я это знаю».
Когда моим словам наставник внял,
Нахмурился он гневно и сказал:
«Как? Ты в его молчанье зависть ловишь,
А за спиной его о нем злословишь?
Пусть зависть — путь в геенну для него,
Другой тропой догонишь ты его!»
* * *
Поститься в детстве я решил со славой,
Хоть левую не отличал от правой.
А омовению лица и рук
Взялся меня учить отцовский друг:
«Скажи-ка: «Дух, о боже, укрепи мой!»
И укрепись душой и руки вымой.
И рот и нос прополощи бодрей,
Прочисть мизинцем крылышки ноздрей.
А указательным протри все зубы,
В посте зубная щетка — грех сугубый.
Теперь же — от волос до бороды —
Плесни в лицо три пригоршни воды.
И до локтей потом омывши руки,
Святых имен творца промолви звуки.
По омовенье головы и ног,
Промолви: «Бог — един! Велик пророк!»
Учись, сынок! Обряд я знаю древний
Всех лучше. Я ведь старше всех в деревне!»
Когда об этом староста узнал,
Письмо он старцу тайное послал:
«Ты славно говоришь, прекрасно учишь,
За что же ты людей злословьем мучишь?
Сказал ты — в пост, мол, зубочистка грех!
Ну а не грех ли клеветать на всех?
Ты учишь: «Рот после еды очисти»…
Ты лучше рот от клеветы очисти.
И чье бы имя ни произнесли,
Ты похвали хоть раз, а не хули!
Ты называешь всех людей ослами,
А знаешь ли, как сам ты назван нами?
Когда б ты мне в лицо сказал, старик,
Что обо мне тайком болтать привык!
Коль нам глядеть в глаза тебе не стыдно,
Ты знай, слепец: есть тот, кому все видно.
Ты не стыдишься пред самим собой —
Так устыдись, услыша голос мой».
* * *
Три рода в мире знаю я людей, —
Скажи о каждом прямо: он — злодей!
И первый — царь, творящий утесненья,
Всеобщего достойный осужденья.
О нем гласить всю правду не страшись,
Чтоб люди изверга остереглись.
Второй — святоша, грешник лицемерный,
Благочестивый внешне, полный скверны.
Всем о его обмане объяви,
Завесу благочестия сорви!
А третий — плут с неверными весами,
Его поступки вы судите сами.
С женой разумною, чей нрав не злобен,
Бедняк царю становится подобен.
Пять раз стучи ты в дверь, — ведь там она —
Друг искренний твой — ждет тебя жена.
Ты огорчен, — не мучь души напрасно! —
Тебя утешит дома друг прекрасный.
Коль в доме мир и добрая жена —
Жизнь у того поистине полна.
Коль женщина скромна, умна, красива,
Стремится к ней супруг ее счастливый.
В единодушье с милою женой
Найдешь ты в мире бренном рай земной.
Когда жена добра, мягкоречива,
Она прекрасна, пусть и некрасива.
Душа, исполненная доброты,
И светлый разум выше красоты.
И добронравная, лицом дурная,
Не лучше ли, чем пери, нравом злая?
Жизнь мужа нрав подруги облегчит,
А злая горем сердце отягчит.
Жена доброжелательная — счастье.
От злой жены беги, как от напасти.
Индийский попугай и ворон злой
Не уживутся в клетке золотой.
От злой жены или душой отчайся,
Иль по миру бродяжить отправляйся.
Да лучше в яме у судьи сидеть,
Чем дома на лицо врага глядеть.
От злой жены, сутяжницы завзятой,
Рад за моря отправиться богатый.
Та кровля благодати лишена,
Где целый день ругается жена.
Жену-гуляку ты побей хотя бы,
Не можешь — дома сам сиди, как бабы.
Ты мужа, что не справится с женой,
Одень в шальвары и подкрась сурьмой.
Когда жена груба, лукава, лжива,
Ты не жену привел, а злого дива.
Коль в долг жена возьмет и не вернет,
Весь дом твой прахом по ветру пойдет.
А добрая, без тени подозренья —
То не жена — творца благословенье.
Когда жена перед лицом твоим
Мужчинам улыбается чужим,
Когда она разврату предается,
Тут у меня и слова не найдется.
Когда твоя жена начнет блудить,
То лучше больше ей живой не быть.
Лицо жены твоей должно быть скрыто,
Ведь это женской скромности защита.
Когда в жене ни разуменья нет,
Ни твердости в ее сужденье нет,
Ты скройся от нее хоть в бездну моря…
Ведь лучше умереть, чем жить в позоре.
Женою доброй, честной дорожи,
А злую отпусти и не держи.
Как говорили меж собой два мужа,
Преступных жен поступки обнаружа, —
Один: «От жен все беды к нам идут!»
Другой: «Да пусть их вовсе пропадут!»
Друг! Надо снова каждый год жениться, —
Ведь старый календарь не пригодится.
Ходи босой, коль тесны сапоги,
В пустыню от домашних ссор беги.
О Саади, сдержи насмешки слово,
Увидевши несчастного иного,
Которого жена его гнетет;
Ты сам ведь испытал весь этот гнет.
Муж некий жаловался старику:
«Беды такой не ждал я на веку.
Жена моя беременна, сварлива,
А я, как нижний жернов, терпеливо
Сношу такое, что не дай вам бог».
Старик ответил: «Что ж, терпи, сынок.
Ты ночью — верхний жернов, почему же
Днем нижним камнем стыдно быть для мужа?
Иль розу ты с куста решил сорвать
И боли от шипов не испытать?
Иль думал, что на дерево взберешься
И на его колючки не наткнешься?»
* * *
Прекрасным ликом некто поражен —
Был потрясен, души лишился он.
На нем так много пота выступало,
Как на листве росы не выпадало.
Букрат, что мимо проезжал верхом,
Спросил: «Что с ним? Что за недуги в нем?»
Ответили Букрату: «Честно жил он,
Зла никому вовек не причинил он.
Теперь, завидя нас, бежит он прочь,
Один в пустыне бродит день и ночь.
Он обольщен был образом прекрасным —
И разобщен навек с рассудком ясным.
Мы все его пытались увещать,
А он в ответ: «Не нужно мне мешать!
Я ухожу от мира, полн кручины…
В моей беде — вина Первопричины.
Не образ милый сердце мне сразил,
А тот, кто этот образ сотворил!»
Тот возглас был услышан престарелым
Бывалым странником — в сужденье зрелым.
И молвил странник: «Пусть добра молва,
Не все в мирской молве верны слова.
Пусть, образом творца запечатленный,
Прекрасный некто дух смутил смятенный, —
Что ж он дитятею не восхищен?
Ведь и в дитяти вечный отражен!
Верблюды и красавицы Чигиля
Равны для тех, кто Тайну видеть в силе».
Чадру стихов соткавший мой язык
Красы волшебной занавесил лик.
Глубокий смысл за черным строк узором
Скрыт, как невеста, пред нескромным взором.
Не знает Саади докучных дней,
Скрыв красоту за завесью своей.
Я, как светильник пламени ночного,
Принес Вам озаряющее слово.
И не в жару ль «Персидского огня»
Толпа возненавидевших меня?
* * *
Жил юноша — ученый, много знавший,
Искусством красноречия блиставший,
С красивым почерком; но розы щек
Еще красивей оттенял пушок;
И только численного букв значенья
Не мог запомнить он при всем стремленье.
Сказал я раз про шейха одного,
Что впереди нет зуба у него.
Мой собеседник, посмотрев сурово,
Ответил: «Ты сказал пустое слово.
Ущерб в зубах заметить ты успел,
А доблести его не разглядел!»
Когда умерших сонм из тьмы изыдет,
То добрые плохого не увидят.
Коль поскользнется на пути своем
Муж, благородством полный и умом,
Ты, низкий, не суди его за это,
Когда он весь — живой источник света.
И пусть в шипах кустарники цветов,
Не избегают роз из-за шипов.
Ведь у павлинов видят люди злые
Не красоту, а ноги их кривые.
Когда ты темен ликом — убелись,
А в темное зерцало не глядись.
Дорогу правды сам найти старайся,
К ошибкам ближнего не придирайся
И о чужих изъянах не кричи,
Сам на себя взгляни и замолчи.
Запретной не клади черты пороку,
Когда тому же предан ты пороку,
И с униженными не будь суров,
Когда ты сам унизиться готов.
Когда ты зла не будешь делать в жизни,
Тогда лишь будешь прав и в укоризне.
Что в кривизну мою иль прямоту
Вам лезть, коль я являю чистоту.
Хорош я или дурен, сам я знаю,
Сам за свои убытки отвечаю.
В душе моей хорош я или плох —
Не вам судить! Об этом знает бог!
Имам тогда вину мюрида мерит,
Когда мюрид в его величье верит.
У бога дело доброе одно
Тебе за десять будет зачтено.
Ты тоже за одно благодеянье
Дай щедро, как за десять, воздаянье.
Не обличай у ближнего изъян,
Коль в нем живет величья океан.
Когда невежда мой диван откроет
И пробежать глазами удостоит,
Плевать ему, что мыслей мир велик…
Но чуть огрех — какой подымет крик!
Ему глубинный книги смысл не светит,
Но он описку каждую заметит.
Не одинаков смертного состав;
Бог создал нас, добро и зло смешав.
Хоть в самом добром деле есть помеха,
Из скорлупы добудь ядро ореха.
Глава восьмая. О БЛАГОДАРНОСТИ ЗА БЛАГОПОЛУЧИЕ
Как благодарность вечному скажу,
Когда достойных слов не нахожу?
Чтоб восхвалить его, мой каждый волос
Хотел бы обрести и речь и голос.
Хвала дарящему, чьей волей я
Был вызван к жизни из небытия!
Но все слова людского восхваленья —
Его предвечной славы приниженье.
Он смертного из глины сотворил
И разумом и сердцем одарил,
Смотри, как он вознес тебя высоко
С рождения до старости глубокой!
Рожденный чистым, чистоту храни!
Не завершай в грязи земные дни!
Пыль вытирай с прекрасного зерцала,
Чтобы поверхность ржа не разъедала.
Ты был ничтожной каплею сперва
И возмужал по воле божества.
Велик твой труд, но ты не возвышайся,
На силу рук своих не полагайся.
Ведь это вечный, в мудрости своей,
Из праха создал кисть руки твоей.
Тогда твой труд казну твою умножит,
Когда тебе всевидящий поможет.
Не сделал ты ни шага одного
Без постоянной помощи его.
Младенец, в пустословье не повинный,
Питается посредством пуповины.
Рожденный, блага прежнего лишен,
Приникнет к груди материнской он;
Так на чужбине странника больного
Поят водой из города родного.
Ведь он в утробе матери взращен
И соком тела матери вспоен.
А грудь ему теперь — источник жизни,
Два родника в покинутой отчизне.
Они младенцу райская река,
Чье русло полно меда и млека.
Мать, как туба, сияющая светом,
Младенец — нежный плод на древе этом.
* * *
Сосуды-груди — в сердце глубоко;
Кровь сердца — материнское млеко.
Глянь, как дитя сосцы кусает жадно, —
Скажи: любовь младенца кровожадна.
И нужно сок алоэ применить,
Чтобы дитя от груди отлучить.
И так дитя, ночуя горечь сока,
Забудет сладость млечного истока.
О ищущий — младенец в сединах,
Забудь, вкушая горечь, о грехах!
РАССКАЗ
Царевич некий с лошади упал
И шейный позвонок себе сломал.
Он повернуть был голову не в силах,
Такая боль была в костях и жилах.
Исчезла шея; в тулово она
Втянулась у него, как у слона.
Что делать, как помочь, — врачи не знали.
И вот врача из Греции сыскали.
Он вывих вправил, шею распрямил,
И вскоре стал больной здоров, как был.
Но о беде забыл царевич вскоре,
Забыл врача, что спас его от горя.
Просить о чем-то врач его хотел —
Царевич на него не поглядел.
Врач устыдился, голову склонил он,
И, уходя, такое говорил он:
«Ведь если бы ему я не помог,
Он отвернуться б от меня не мог!»
И вот он шлет царевичу куренье,
Мол, это — всех недугов исцеленье.
То снадобье к владыке принесли
И, всыпавши в курильницу, зажгли.
Чиханье на царевича напало,
Болеть, как до леченья, шея стала.
Велел врача он грека привести,
Пошли искать — и не могли найти.
Запомни! Если ты добро забудешь —
В последний день ты воскрешен не будешь.
Глава девятая. О ПОКАЯНИИ И ПРАВОМ ПУТИ
Семидесятилетний, чем ты жил?
Ты жизнь проспал и по ветру пустил?
Ты над мошной своей, как скряга, трясся.
Что ж, уходя, ничем ты не запасся?
В последний день, в день грозного Суда,
Таким, как ты, поистине беда
Отдавший все — придет обогащенный,
Ни с чем — стяжатель будет пристыженный.
Ведь чем базар богаче, тем больней
На сердце обездоленных людей.
Теперь, отдавший пять дирхемов, споря,
Ты ночь не спишь; тебе утрата — горе.
И вот полвека прожил ты почти, —
Оставшиеся дни добром сочти.
Когда б мертвец заговорил, наверно,
Он в горе бы вопил нелицемерно:
«Живой! Пока ты в силах говорить,
Не забывай предвечного хвалить!
Ведь мы не знали, тратя жизнь беспечно,
Что каждый миг подобен жизни вечной!»
* * *
В дни юности, не ведая беды,
Мы пировать с утра пришли в сады,
А под вечер, к смущению народа,
Шутя, возню затеяли у входа.
А невдали, в распахнутых дверях,
Сидел почтенный старец в сединах.
Шутили мы и весело смеялись,
Но губы старика не улыбались.
Сказал один из нас: «Нельзя весь век
Сидеть в печали, добрый человек!
Встряхнись! Забудь, что удручен годами,
Иди и раздели веселье с нами!»
Старик взглянул, губами пожевал,
И вот как он достойно отвечал:
«Когда весенний ветер повевает,
Он с молодой листвой в садах играет.
Шумит под ветром нива — зелена…
А пожелтев, ломается она.
Смотри, как свеж весенний лист сегодня
Над высохшей листвою прошлогодней.
Как пировать я с юными могу,
Когда я весь в сединах, как в снегу?
Я сам был соколом! Но старость — путы…
Слабею. Сочтены мои минуты.
Как уходящий, я смотрю на мир;
А вы впервой пришли на этот пир.
Тому, кто всем вам в прадеды годится,
Вином и флейтой не омолодиться.
Мой волос был как ворона крыло,
Теперь в моих кудрях белым-бело.
Павлин великолепен — кто перечит.
А как мне быть, коль я бескрылый кречет?
От всходов ваша пажить зелена,
А на току у старца — ни зерна.
Все листья у меня в саду опали,
Все розы в цветнике моем увяли.
Моя опора — посох. Больше нет
Опоры в жизни мне — на склоне лет.
Ланиты-розы стали желтым злаком…
И солнце ведь желтеет пред закатом.
Даны вам, юным, крепких две ноги,
А старец просит: «Встать мне помоги!»
Молва простит юнцу страстей порывы,
Но мерзок людям старец похотливый.
Как вспомню я минувшие года,
Клянусь — мне впору плакать от стыда!
Лукман сказал: да лучше не родиться,
Чем долгий век прожить и оскверниться!
И лучше вовсе жизни не познать,
Чем жить — и дар бесценный растерять!
Коль юноша идет навстречу свету,
Старик идет к последнему ответу».
РАССКАЗ
Два мужа меж собою враждовали,
Дай волю им — друг друга б разорвали.
Друг друга обходили стороной,
Да так, что стал им тесен круг земной.
И смерть на одного из них наслала
Свои войска: его твердыня пала.
Возликовал другой; решил потом
Гробницу вражью посетить тайком.
Вход в мавзолей замазан… Что печальней,
Чем вид последний сей опочивальни…
Злорадно улыбаясь, подошел
Живой к могиле, надписи прочел.
Сказал: «Вот он — пятой судьбы раздавлен!
Ну наконец я от него избавлен.
Я пережил его и рад вполне,
Умру — пускай не плачут обо мне.
И, наклонясь над дверцей гробовою,
Сорвал он доску дерзкою рукою.
Увидел череп в золотом венце,
Песок в орбитах глаз и на лице,
Увидел руки как в оковах плена
И тело под парчой — добычей тлена.
Гробницу, как владения свои,
Заполонив, кишели муравьи.
Стан, что могучим кипарисом мнился,
В трухлявую гнилушку превратился.
Распались кисти мощных рук его,
От прежнего не стало ничего.
И, к мертвому исполнясь состраданьем,
Живой гробницу огласил рыданьем.
Раскаявшись, он мастера позвал
И на могильном камне начертал:
«Не радуйся тому, что враг скончался,
И ты ведь не навечно жить остался».
Узнав об этом, живший близ мудрец
Молился: «О всевидящий творец!
Ты смилостивишься над грешным сим,
Коль даже враг его рыдал над ним!»
Мы все исчезнем — бренные созданья…
И злым сердцам не чуждо состраданье.
Будь милостив ко мне, Источник сил,
Увидя, что и враг меня простил!
Но горько знать, что свет зениц погаснет
И ночь могил вовеки не прояснет.
Я как-то землю кетменем копал
И тихий стон внезапно услыхал:
«Потише, друг, не рой с такою силой!
Здесь голова моя, лицо здесь было!»
* * *
Я, на ночлеге пробудившись рано,
Пошёл за бубенцами каравана.
В пустыне налетел самум, завыл,
Песком летящим солнце омрачил.
Там был старик, с ним дочка молодая,
Все время пыль со щек отца стирая,
Она сама измучилась вконец.
«О милая! — сказал старик отец. —
Ты погляди на эти тучи пыли,
Ты от нее укрыть меня не в силе!»
Когда уснем, навеки замолчав,
Как пыль, развеют бури наш состав.
Кто погоняет к темному обрыву,
Как вьючного верблюда, душу живу?
Коль смерть тебя с седла решила сбить,
Поводья не успеешь ухватить.
Глава десятая. ТАЙНАЯ МОЛИТВА И ОКОНЧАНИЕ КНИГИ
Подъемли длань в мольбе, о полный сил!
Не смогут рук поднять жильцы могил.
Давно ль сады плодами красовались,
Дохнула осень — без листвы остались.
Пустую руку простирай в нужде!
Не будешь ты без милости нигде.
И пусть ты в мире не нашел защиты,
Ты помни — двери милости открыты.
Пустая там наполнится рука,
Судьба в парчу оденет бедняка.
РАССКАЗ
В мечеть однажды пьяный ворвался
И пал перед михрабом, голося:
«Яви, о боже, надо мною чудо,
В небесный рай возьми меня отсюда!»
Схватил его за ворот муэдзин:
«Ты осквернил мечеть, собачий сын.
Взгляни, на что лицо твое похоже?
Не пустят в рай с такою гнусной рожей!»
Заплакал тут навзрыд хмельной буян:
«Не тронь меня, ходжа, пускай я пьян!
Ты милости творца понять не можешь,
Ты грешника надежд лишить не можешь!»
Я не молю прощенья, но открой
Врата раскаяния предо мной.
Мой грех велик в сравнении с прощеньем
И пристыжен твоим благоволеньем.
Старик, от слабости упавший с ног,
Без помощи подняться бы не смог.
Я старец ослабевший… О, внемли мне,
Дай руку и подняться помоги мне.
Я не хочу высокий сан нести, —
Ты слабость и грехи мои прости!
Пусть люди, что грехов моих не знают,
Меня в неведении прославляют.
Но ты — всевидящий, ни за какой
Завесою не скрыться пред тобой.
Пусть мир людской шумит и суетится,
Дай за твоей завесой мне укрыться.
Коль раб зазнался, возгордится он,
Но может быть владыкою прощен.
Коль ты прощаешь людям щедрой мерой,
Пройду легко свой путь, исполнен верой.
Но на Суде не надобно весов,
Коль будет Суд безжалостно суров.
Поддержишь — к цели я дойду, быть может,
А бросишь — то никто мне не поможет.
Кто сделает мне зло, коль ты мой щит?
Кто помощи твоей меня лишит?
В тот день, когда из праха я восстану,
Направо я или налево встану?
Как могут указать мне путь прямой,
Когда я в мире шел кривой стезей?
Не верю я, что сжалится Единый,
Увидя на Суде мои седины!
Не устыжусь его, как солнца дня,
Страшусь — не устыдился б он меня.
Ведь не Юсуф зиждитель мирозданья,
Юсуф изведал цепи и страданья.
Глубокий духом — он прекрасен был,
Великодушный — братьев он простил.
Он им не мстил, в тюрьму не заточил их,
Он одарил — и с миром отпустил их.
Как те к Юсуфу — брату своему,
К тебе в мольбе я руки подыму.
Лет прожитых я раскрываю свиток,
В нем сплошь пестрит грехов моих избыток.
Когда б не всепрощение твое,
То я перечеркнул бы бытие.
Припал я — ниц… Прости мне прегрешенья,
Не отнимай надежды на прощенье!
 Миниатюра из рукописи XVI в. Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.
Миниатюра из рукописи XVI в. Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.
КАСЫДЫ
* * *
Не привязывайся сердцем к месту иль к душеживой.
Не сочтешь людей на свете, не измеришь мир земной.
Бьет собаку городскую деревенский псарь за то, что
Не натаскана на птицу и на зверя нюх дурной.
Знай: цветок ланит прекрасных не единственный на свете,
Каждый сад обильным цветом покрывается весной.
Что ты квохчешь в загородке глупой курицей домашней?
Почему, как вольный голубь, не умчишься в край иной?
Вот запутался, как цапля, ты в сетях у птицелова,
А ведь мог порхать свободным соловьем в листве лесной?
Ведь земля копыт ослиных терпит грубые удары,
Потому что неподвижна, не вращается луной.
Встреть хоть тысячу красавиц — всех равно дари вниманьем,
Но удел твой будет жалок, коль привяжешься к одной.
Смейся и шути со всеми, беззаботный собеседник,
Только сердце от пристрастья огради стальной стеной.
Человек ли, в шелк одетый, привлечет тебя, ты вспомни —
Шелку много на базаре и за деньги шьет портной.
Лишь безумец доброй волей оковать себя позволит,
Совесть чистую захочет отягчить чужой виной.
Сам виновен, коль заботой ты охвачен за другого
Или тяготы чужие искупил своей спиной.
И зачем лелеять корень, зная впредь, что будет горек
Плод его и что сладчайший плод возьмешь ты в миг любой?
Так же скорбен злополучный, в рабство угнанный любовью,
Как за всадником бегущий заарканенный немой.
Нет, мне добрый друг потребен, на себе несущий ношу,
А не тот, кому служить я должен клячей ломовой.
Ты склонись на дружбу, если верного отыщешь друга,
Если ж нет — отдерни руку, то не друг, а недруг злой.
Что болеть мне о бездушном! Он самим собою занят
И не думает о грозных бедах, стрясшихся со мной!
Если друг обидой черной на любовь тебе ответил —
Где же разница меж дружбой и смертельною враждой?
Если даже целовать он станет след твоих сандалий,
Ты не верь — то плут коварный стал заигрывать с тобой.
Он воздаст тебе почтенье — это вор в карман твой метит,
Птицелов, что сыплет просо перед птичьей западней.
Если дом доверишь вору — жизнь, как золото, растратишь:
Быстро он тебя оставит с опустевшею мошной.
Не ввергай себя в геенну ради радости мгновенной,
Не забудь о злом похмелье за попойкою ночной.
Дело каждое вначале обстоятельно обдумай,
Чтоб не каяться напрасно за пройденною чертой.
Знай: повиноваться лживым, покоряться недостойным —
Значит идолам молиться, поругать закон святой.
Темному влеченью сердца не вручай бразды рассудка,
Не кружись над бездной страсти, словно мошка над свечой.
Сам все это испытал я, вынес муки, горше смерти.
Опасается веревки кто ужален был змеей.
Если дашь ты волю сердцу — голос разума забудешь,
И тебя безумье скроет в бурных волнах с головой;
Будешь ты бежать и падать, словно пленник за арканом
Всадника, полузадушен беспощадною петлей!..»
Так однажды долгой ночью, погружен в свои раздумья,
Я лежал без сна и спорил до рассвета сам с собой.
Сколько душ людских на свете жаждут благ живого чувства,
Словно красок и картинок — дети, чистые душой!
Я же сердцем отвратился от единственного друга…
Но меня схватила верность властно за полу рукой.
«О, как низко поступил ты! — гневно мне она сказала. —
Иль забыл ты малодушно клятвы, данные тобой?
Сам любви ты недостоин, коль отвергнул волю милой.
Верный друг не отвратится от души, ему родной.
Ведь, избрав подругой розу, знал, что тысячи уколов
Перенесть ты должен будешь, — у любви закон такой.
Как сорвать ты смог бы розу, о шипы не уколовшись,
Не столкнувшись с клеветою и завистливой молвой?
Что вопросы веры, деньги, жизнь сама, все блага мира,
Если друг с тобой, когда он всей душой навечно твой!
Неужель твой ясный разум кривотолками отравлен?
Берегись доверья к лживым и общенья с клеветой!
Сам ты знаешь — невозможно обязать молчанью зависть,
Так стремись ко благу друга, прочих — из дому долой!
Не скажу я, что ты должен выносить обиды друга,
Но обиду недоверья сам сначала с сердца смой.
От любви не отпирайся. Запирательства любые,
Помни, приняты не будут проницательным судьей.
Мудрый истины не строит на одном предположенье,
Света истины не скроешь никакою чернотой.
Ты не верь словам старухи, что плодов она не любит,
Просто до ветвей с плодами не дотянется рукой.
Человек с душой широкой, но, увы, с пустой казною
И хотел бы, да не может сыпать золото рекой.
Ты же, Саади, владеешь морем сказочных сокровищ, —
Пусть же царственная щедрость вечно дружит с красотой…
Так оставим словопренья, дай залог любви высокой:
Приходи, сладкоречивый, к нам с газелью золотой!»
* * *
О роднике спроси того, кто знал пустыни желтый ад,[65]
А ты что знаешь о воде, когда перед тобой Евфрат?
О яр моя, сахибджамал! Красавица моя, о яр!
Когда ты здесь — я как роса, а нет тебя — я словно яд…
Омиде ман, омиде ман, надежды, чаянья мои!
Хоть мы с тобой разлучены, но наших душ не разлучат.
Ман на дидам, не видел я, на шоиндам, не слышал я,
Чтобы затмили где-нибудь твоих очей горячий взгляд.
Глухая ночь моих надежд вдруг освещается тобой,
Ва субхе руе то башад, как будто блещет звездопад…
Команде ман, страшусь тебя. Калиде ман, зову тебя.
Ты мой капкан и ключ к нему, ты мой восход и мой закат.
О, сколько раз, моя краса, о яр моя сахибджамал,
Испепелишь и вдруг опять переселишь в свой райский сад.
Я обоняю запах роз — курбане зольфе то башам!
Мою любовь и жизнь мою я, дорогая, ставлю в ряд.
Бывало, мир я мог воспеть, омиде ман, омиде ман!
Но вот уж год — утратил гуд моих касыд певучий лад.
Зе чашме дустам фетадам — с глазами друга разлучась, —
На произвол души врага я пал, бессилием объят.
Авах! Газели Саади не тронут сердца твоего…
Но если птицам их спою — от боли гнезда завопят!
* * *
«Не спите!» — рок сказал моим глазам.
Я приподнялся, точно буква лам…
О мои очи! не мешайте мне
Любовь делить с бесстыдством пополам.
Мой ятаган в чехол я опустил:
Не без того, кто просит мира сам.
Обагрены, о яр, твои персты…
Не кровь моя ль залубенела там?
Ты овладела сердцем до конца —
Ты для меня отныне мой ислам!
Я для тебя отныне, как дервиш:
За гнев молитвой я тебе воздам.
Не изменяй мне, о сахибджамал,
Ведь мой обет — столетьям и векам!
О ветвь бана! Поток твоей листвы
Едва-едва под стать ее кудрям…
Бессмысленно таиться от любви:
Как Азраил, она приходит к нам.
Моя любовь предсказана была
В самом Коране — верь моим словам!
Оставьте же меня с моею джан…
Свечой сгорю я — говорю я вам.
Что значит грош в руке Хатама Тай?
Легко с душой расстаться беднякам.
До смертной тьмы я твой цепной бургут,
А дух навек прильнул к твоим цепям.
О гурия! Не обнажай лица,
Иначе — смерть и старцам и юнцам!
Не вслушивайся в стон мой, о душа:
Здесь не поможет никакой бальзам.
Терпения не требуй от меня:
Любовь не пост, но пир! Она — байрам!
Краса моя… Она во мне, как див,
Так что мне сплетен воробьиный гам?
Уже само мечтанье это — клад!
Пади же, Саади, к ее ногам…
ГАЗЕЛИ
* * *
В зерцале сердца отражен прекрасный образ твой,
Зерцало чисто, дивный лик пленяет красотой.
Как драгоценное вино в прозрачном хрустале,
В глазах блистающих твоих искрится дух живой.
Воображение людей тобой поражено,
И говорливый мой язык немеет пред тобой.
Освобождает из петли главу степная лань,
Но я захлестнут навсегда кудрей твоих петлей.
Так бедный голубь, если он привык к одной стрехе,
Хоть смерть грозит, гнезда не вьет под кровлею другой.
Но жаловаться не могу я людям на тебя,
Ведь бесполезен плач и крик гонимого судьбой.
Твоей душою дай на миг мне стать и запылать,
Чтоб в небе темном и глухом сравниться с Сурайей.
Будь неприступной, будь всегда как крепость в высоте,
Чтобы залетный попугай не смел болтать с тобой.
Будь неприступной, будь всегда суровой, красота!
Дабы пленяться пустозвон не смел твоей хвалой.
Пусть в твой благоуханный сад войдет лишь Саади!
И пусть найдет закрытым вход гостей осиный рой.
* * *
Коль спокойно ты будешь на муки страдальца взирать —
Не смогу я свой мир и душевный покой отстоять.
Красоту свою гордую видишь ты в зеркале мира —
Но пойми: что влюбленным приходится претерпевать!
О, приди! Наступила весна. Мы умчимся с тобою,
Бросим сад и в пустыне оставим других кочевать.
Почему над ручьем не шумишь ты густым кипарисом?
Кипарисом тебе подобает весь мир осенять.
Ты такой красотою сияешь, таким совершенством,
Что и красноречивым каламом их не описать.
Кто сказал, что смотреть я не должен на лик твой чудесный?
Стыдно годы прожить и лица твоего не видать.
Так тебя я люблю, что из рук твоих чашу любую
Я приму, пусть мне яд суждено в том напитке принять.
Лика Азры не видел невежда, бранящий Вамика,
И презренный невежда лишь может меня укорять.
Я от горя в молчанье горю. Ты об этом не знаешь!
Ты не видишь: слеза на глазах моих блещет опять!
Ты ведь знал, Саади: твое сердце ограблено будет…
Как набегу разбоя грозящего противостать?
Но надежда мне брезжит теперь, что придет исцеленье.
Ночь уходит, глухая зима удаляется вспять.
* * *
В ночь разлуки с любимой мне завесы парча не нужна, —
В темной опочивальне одинокая ночь так длинна.
Люди мудрые знают, как теряет свой ум одержимый.
У влюбленных безумцев впереди безнадежность одна.
Пусть не плод померанца — свою руку безумец порежет,
Зулейха невиновна, недостойна укоров она.
Чтобы старец суровый не утратил душевного мира,
Скрой лицо кисеею, ибо ты так нежна, так юна.
Ты подобна бутону белой розы, а нежностью стана —
Кипарису: так дивно ты гибка, и тонка, и стройна.
Нет, любой твоей речи я ни словом не стану перечить,
Без тебя нет мне жизни, без тебя и светлая радость бедна.
Я всю ночь до рассвета просидел, своих глаз не смыкая,
К Сурайе устремляя блеск очей-близнецов из окна.
Ночь и светоч зажженный, — вместе радостно им до рассвета
Любоваться тобою, упиваться, не ведая сна.
Перед кем изолью свои жалобы? Ведь по закону
Шариата влюбленных — на тебе за убийство вина.
Ты похитила сердце обещаний коварной игрою…
Скажешь: племенем Са'да так разграблена вражья казна,
Не меня одного лишь — Саади — уничтожить ты можешь,
Многих верных… Но сжалься! Ты ведь милостью дивной полна!
* * *
Мы живем в неверье, клятву нарушая то и знай.
Всемогущий! Это слово ты забвенью не предай!
Клятву верных нарушает и цены любви не знает
Низкий духом, кто средь верных оказался невзначай.
Если в день Суда на выбор мне дадут — мол, что желаешь?
Я скажу: подругу дайте! Вам отдам небесный рай.
Пусть расстанусь с головою, но любви останусь верным,
Даже в час, когда над миром грянет ангела карнай.
Умирал я, но здоровым стал, едва пришла подруга.
Врач! Подобным мне — недужным — ты бальзама не давай!
Болен я. Но ты явилась и болезни удивилась.
Исцели меня, вопросов праздных мне не задавай!
Ветерок, что веет в пуще, позабудет луг цветущий,
Если кос твоих коснется благовонных, словно май.
И зубами изумленья разум свой укусит палец.
Если ты с лица откинешь кисеи летучий край.
Мне отрада пред тобою пламенеть, сгорать свечою,
Не гаси меня до срока, с головы до ног сжигай!
Не для глаз недальновидных красота, но ты, о мудрый,
Кисти самого аллаха след в ней тайный различай.
Взоры всех к тебе стремятся, но любовь и откровенье
Не для низких себялюбцев, не для наглых черных стай.
Ты у Саади, о верный, научись живому чувству,
На твоей могиле бедной мандрагоры насаждай.
Темным душам недоступны все восторги опьяненья,
Прочь уйди, советчик трезвый, в пьянстве нас не упрекай.
* * *
Терпенье и вожделенье выходят из берегов.
Ты к страсти полна презренья, но я, увы, не таков.
Сочувствия полным взглядом хоть раз на меня взгляни,
Чтоб не был я жалким нищим в чертоге царских пиров.
Владыка жестокосердный рабов несчастных казнит,
Но есть ведь предел терпенья и в душах его рабов.
И жизни своей не мыслю, любимая, без тебя,
Как жить одному, без друга, средь низменных и врагов?
Когда умру, будет поздно рыдать, взывать надо мной,
Не оживить слезами убитых стужей ростков.
Моих скорбей и страданий словами не описать,
Поймешь, когда возвратишься, увидишь сама — без слов.
Дервиш богатствами духа владеет, а не казной.
Вернись! Возьми мою душу, служить я тебе готов!
О небо, продли подруге сиянье жизни ее,
Чтоб никогда не расстались мы в темной дали веков.
В глазах Красоты презренны богатство и блеск владык,
И доблесть, и подвиг верных, как ни был бы подвиг суров.
Но если бы покрывало упало с лица Лейли, —
Врагов Меджнуна убило б сиянье ее зрачков.
Внемли, Саади, каламу своей счастливой судьбы
И, что ни даст, не сгибайся под ношей ее даров!
* * *
Я нестерпимо жажду, кравчий! Скорей наполни чашу нам
И угости меня сначала, потом отдай ее друзьям.
Объятый сладостными снами, ходил я долго между вами,
Но, расставаяся с друзьями, «Прощайте», — молвил прежним снам.
Перед мечетью проходила она, и сердце позабыло
Священные михраба своды, подобные ее бровям.
Я не онагр степной, не ранен, ничьей петлей не заарканен,
Но от стрелы ее крылатой по вольным не уйду степям.
Я некогда испил блаженство с той, что зовется Совершенство…
Так рыба на песке, в мученьях, тоскует по морским волнам.
До пояса не доставал мне ручей, и я пренебрегал им;
Теперь он бурным и бездонным вдруг уподобился морям.
И я тону… Когда ж судьбою я буду выброшен на берег,
О грозном океанском смерче в слезах поведаю я вам.
И вероломным я не стану, и не пожалуюсь хакану,
Что я сражен ее очами, подобно вражеским мечам.
Я кровью сердца истекаю, от ревности изнемогаю,
Так бедный страж дворца рыдает, певцам внимая по ночам.
О Саади, беги неверной! Увы… Ты на крючке, как рыба, —
Она тебя на берег тянет; к ней — волей — не идешь ты сам.
* * *
Коль с лица покров летучий ты откинешь, моя луна,
Красотой твоею будет слава солнца посрамлена.
Сбить с пути аскета могут эти пламенные глаза,
А от глаз моих давно уж отогнали отраду сна.
И давно бразды рассудка уронила моя рука.
Я безумен. Мне святыня прежней истины не видна.
Но Меджнуна не избавит от мучений встреча с Лейли,
Изнуренному водянкой чаша полная не полна.
Тот не искренний влюбленный, кто не выпьет из милых рук
Чашу огненного яда вместо искристого вина.
Как жалка судьба лишенных человечности и любви!
Ведь любовь и человечность неразрывная суть одна.
Принеси огня скорее и собрание озари!
А с пустых руин налога не потребует и казна.
Люди пьют вино надежды, но надежд они лишены.
Я не пью, душа любовью к ней навеки опьянена.
Саади в себе не волен, он захлестнут петлей любви,
Сбит стрелой, чьим жалом ярость Афрасьяба сокрушена.
В дни пиров та красавица сердце мое привлекла,
Кравчий, дай нам вина, чтобы песню она завела.
В ночь на пиршестве мудрых ты нас красотой озарила.
Тише! Чтобы кутилы не знали, за кем ты ушла!
Ты вчера пировала. Все видят — глаза твои томны.
Я от всех утаю, что со мною вино ты пила.
Ты красива лицом, голос твой мое сердце чарует,
Хорошо, что судьба тебе голос волшебный дала.
Взгляд турчанки — стрела, брови темные выгнуты луком.
Боже мой! Но откуда у ней эти лук и стрела?
Я — плененный орел, я сижу в этой клетке железной.
Дверцу клетки открой. И свои распахну я крыла!
Саади! Был проворен в полете, а в сети попался;
Кто же, кроме тебя, мог поймать его, словно орла?
* * *
Я влюблен в эти звуки, в это сердце мне ранящий стон.
Я беспечен; и день мой проплывает неясно, как сон.
Ночи… Ночи бессонные, в ожиданье моей светлоокой,
Но тускнеет пред нею свет, которым весь мир озарен.
Если вновь приведется мне лицо ее нежное видеть —
Сам себя я счастливым буду звать до скончанья времен.
Я — не муж, если скрою свою грудь от камней порицанья,
Муж душой своей твердой, как щитом, от копья огражден.
Не изведав несчастий, не достигнешь заветного счастья,
Кто дождался Новруза, стужу зимнюю вытерпел он.
Хоть жнецы были мудры, но Лейли они тайны не знали.
Лишь Меджнун ее ведал, кем был весь урожай их спален.
Сонм влюбленных, что верой и богатством мира играет,
Жатвы не собирает, а несметным добром наделен.
Ты другого арканом уловляй! Мы же — верные слуги,
Ведь не нужно треножить скакуна, что давно приручен.
День вчерашний умчался, ну, а завтра пока не настало.
Саади, лишь сегодня ты и волен в себе, и силен!
* * *
О, если бы мне опять удалось увидеть тебя ценой любой,
На все время до Судного дня я был бы доволен своею судьбой!
Но вьюк с моего верблюда упал… В туманную даль ушел караван.
Я брошен толпой вероломных друзей, что заняты были только собой.
Когда чужестранец в беду попадает, ему и чужой сострадает народ.
Друзья же обидели друга в пути, покинув его в пустыне глухой.
Надеюсь я — долгие дни пройдут, раскаянье тронет души друзей.
Я верю — придут они, друга найдут, измученные своею нуждой.
Ведь воля, — о муж, — это воля твоя! Захочешь — воюй, захочешь — мирись.
Я волю свою давно зачеркнул — иду за тобой безвестной тропой.
А кто на чужбине осла завязил в трясине и сам свалился без сил,
Ты молви ему, что в сладостном сне увидит он край покинутый свой.
Ты счастья, ты радости ищешь себе. На образ красавицы этой взгляни!
А если взглянул — с отрадой простись, навеки забудь свой сон и покой.
Огнепоклонник, и христианин, и мусульманин — по вере своей, —
Молятся кыбле своей. Только мы, о пери, твоей пленены красотой!
Я прахом у ног ее пасть захотел. «Помедли! — она промолвила мне. —
Я не хочу, чтоб лежал ты в пыли и мучился вновь моею виной!»
Я гурию-деву увидел вчера, которая в сборище шумном друзей
Сказала возлюбленному своему, поникшему горестно головой:
«Желанья ты хочешь свои утолить? Ты больше ко встрече со мной не стремись!
Иль вовсе от воли своей откажись, тогда насладишься любовью со мной».
Коль сердце печаль свою в тайне хранит, то, кровью оно истекая, горит.
Не бойся предстать пред глазами врагов, открыто, с израненною душой.
Пусть море мучений клокочет в тебе, но ты никому не жалуйся, друг,
Пока утешителя своего не встретишь ты здесь — на дороге земной.
О стройный, высокий мой кипарис, раскрой окрыленные веки свои.
Чтоб тайны покров над скорбью моей я снял пред тобой своею рукой!
Друзья говорят: «Саади! Почему ты так безрассудно любви предался?
Унизил ты гордость и славу свою пред этой невежественной толпой».
Мы в бедности, мы в униженье, друзья, и гордость и славу свою утвердим!
Но каждый из нас — по воле своей — пусть выберет сам тот путь иль иной.
* * *
Что не вовремя, ночью глухой, барабан зазвучал?
Что, до света проснувшись, на дереве дрозд закричал?
Миг иль целую ночь приникал я устами к устам…
Но огонь этой страсти пылающей не потухал.
Я и счастлив и грустен. Лицо мое, слышу, горит.
Не вмещается в сердце все счастье, что в мире я взял.
Головою склоняюсь к твоим, о мой идол, ногам.
На чужбину с тобой я ушел бы и странником стал.
О, когда бы судьба помирилась со счастьем моим,
Онемел бы хулитель и низкий завистник пропал.
В мир явился кумир. И прославленный ваш Саади
Изменился душой, — поклоняться он идолу стал.
* * *
Мне опостылело ходить в хитоне этом голубом!
Эй, друг, мы осмеем ханжей с их «святостью» и плутовством.
Кумиру поклонялись мы, весь день молитвы бормоча.
Ты нас теперь благослови — и мы свой идол разобьем.
Среди иных хочу сидеть, и пить вино, и песни петь,
Чтобы бежала детвора за охмелевшим чудаком.
В служенье верен был Китмир, из пса он человеком стал,
А возгордившись, Валаам из человека станет псом.
В простор пустынь меня влечет из этой душной тесноты,
Несется радостная весть ко мне с рассветным ветерком.
Пойми, когда разумен ты! Не прозевай, когда ты мудр!..
Возможно, лишь одним таким ты одарен счастливым днем,
Где одноногий кипарис шумит, колеблясь на ветру,
Пусть пляшет юный кипарис, блистая чистым серебром.
Ты утешаешь сердце мне, ты радуешь печальный взор,
Но разлучаешь ты меня с покоем сердца, с мирным сном!
Терпенье, разум, вера, мир теперь покинули меня,
Но может ли простолюдин взывать пред Кейевым шатром?
Пусть льется дождь из глаз твоих и в молниях — гроза скорбей,
Ты пред невеждой промолчи, откройся перед мудрецом.
Смотри: не внемлет Саади укорам низких и лжецов.
Суфий, лишения терпи! Дай, кравчий, мне фиал с вином!
* * *
Тяжесть печали сердце мне томит,
Пламя разлуки в сердце моем кипит.
Розы и гиацинта мне не забыть,
В памяти вечно смоль твоих кос блестит.
Яда мне горше стал без тебя шербет,
Дух мой надежда встречи с тобой живит.
На изголовье слезы я лью в ночи,
Днем — ожиданье в сердце моем горит.
Сотнею кубков пусть упоят меня,
В чаши отравы разлука их превратит.
Предан печалям, как палачам, Саади!
Не измени мне, иль пусть я буду убит!
* * *
Кто предан владыке — нарушит ли повиновенье?
И мяч пред човганом окажет ли сопротивленье?
Из лука бровей кипарис мой пускает стрелу,
Но верный от этой стрелы не отпрянет в смятенье.
Возьми мою руку! Беспомощен я пред тобой,
Обвей мою шею руками, полна сожаленья!
О, если бы тайны завеса открылась на миг —
Сады красоты увидал бы весь мир в восхищенье…
Все смертные пламенным взглядом твоим сражены,
И общего больше не слышно теперь осужденья.
Но той красоты, что я вижу в лице у тебя,
Не видит никто. В ней надежда и свет откровенья.
Сказал я врачу о беде моей. Врач отвечал:
«К устам ее нежным устами прильни на мгновеньем.
Я молвил ему, что, наверно, от горя умру,
Что мне недоступно лекарство и нет исцеленья.
Разумные по наковальне не бьют кулаком,
А я обезумел. Ты — солнце. А я? Только тень!
Но тверд Саади, не боится укоров людских, —
Ведь капля дождя не боится морского волненья.
Кто истине предан, тот голову сложит в бою!
Лежит перед верным широкое поле сраженья.
* * *
Эй, виночерпий! Дай кувшин с душою яхонта красней!
Что — яхонт? Дай мне ту, чей взгляд вина багряного хмельней!
Учитель старый, наш отец, вино большою чашей пил,
Чтоб защитить учеников от брани лжеучителей.
Скорбей на жизненном пути без чаши не перенести,
Верблюду пьяному шагать с тяжелой ношей веселей.
Ты утешаешь нам сердца. Бессмысленной была бы жизнь
Без солнца твоего лица, что солнца вечного светлей.
Что я о красоте твоей, о сущности твоей скажу?
Немеет пред тобой хвала молящихся тебе людей.
Пусть держит медоносных пчел разумный старый пчеловод.
Но тот, кто пьет из уст твоих, мед соберет вселенной всей.
Ты сердце, как коня, взяла и в даль степную угнала,
Но если сердце увела, то и душой моей владей!
Или отравленной стрелой меня ты насмерть порази,
Или спасительной стрелы душе моей не пожалей.
Предупреди меня, молю, пред тем, как выпустить стрелу,
Пред смертью дай поцеловать туранский лук твоих бровей.
Какие муки снес, гляди, с тобой в разлуке Саади,
Так обещай же встречу мне, надеждой радости новей!
Но хоть целительный бальзам затянет рану, может быть, —
Останутся рубцы от ран, как видно, до скончанья дней.
* * *
Кто дал ей в руки бранный лук? У ней ведь скор неправый суд.
От оперенных стрел ее онагра ноги не спасут.
Несчастных много жертв надет, когда откроешь ты колчан,
Твой лик слепит, а свод бровей, как черный лук Турана, крут.
Тебе одной в пылу войны ни щит, ни панцирь не нужны,
Кольчугу локонов твоих чужие стрелы не пробьют.
Увидев тюркские глаза и завитки индийских кос,
Весь Индостан и весь Туран на поклонение придут.
Покинут маги свой огонь, забудут идолов своих;
О идол мира, пред тобой они курильницы зажгут.
На кровлю замка можешь ты забросить кос твоих аркан,
Коль башни замка под твоим тараном гневным не падут.
И был как на горах Симург. Но ты меня в полон взяла.
Так когти сокола в траве индейку горную берут.
Уста увидел я. И лал в моих глазах дешевым стал.
Ты слово молвила — пред ним померкли перл и изумруд.
Твои глаза громят базар созвездий вечных и планет,
Где чудеса творит Муса, убогий маг, — при чем он тут?
Поверь, счастливую судьбу не завоюешь силой рук!
Запечатленной тайны клад откапывать — напрасный труд.
О Саади! Ты знаешь: тот, кто сердце страсти отдает, —
И нрав избранницы снесет, и сонмище ее причуд.
* * *
Не нужна нерадивому древняя книга познанья,
Одержимый не может вести по пути послушанья.
Пусть ты воду с огнем — заклинания силой сольешь,
Но любовь и терпенье — немыслимое сочетанье.
Польза глаз только в том, чтобы видеть возлюбленной лик.
Жалок зрячий слепец, что не видит кумира сиянье.
Что влюбленному хохот врагов и упреки друзей?
Он тоскует о дальней подруге, он жаждет свиданья.
Мил мне светлый весенний пушок этих юных ланит,
Но не так, как онагру весенней травы колыханье.
В некий день ты пришла и разграбила сердце мое,
Потерял я терпенье, тоска мне стесняет дыханье.
Наблюдай всей душою кумира приход и уход.
Как движенье планет, как луны молодой нарастанье.
Не уйдет, коль прогонишь, — уйдя, возвратится она.
В этом вечном кругу непостижном — ее обитанье.
Не прибавишь ни слова ты в книге печали моей,
Суть одна в ней: твоя красота и мое пониманье.
Саади! О, как долго не бьет в эту ночь барабан!
Иль навек эта ночь? Или это — любви испытанье?
* * *
Нет, истинно царская слава от века ущерба не знала,
Когда благодарность дервишам и странникам бедным являла.
Клянусь я живою душою! — осудит и злой ненавистник
Того, чья калитка для друга в беде запертою бывала.
Нет, милость царей-миродержцев от прежних времен и доныне
Из хижины самой убогой всегда нищету изгоняла.
А ты меня все угнетаешь, ты жизнь мою горько стесняешь,
Ну что ж! Я тебе благодарен за боль, за язвящие жала.
Заботятся люди на свете о здравии, о многолетье.
Ценою здоровья и жизни душа моя все искупала.
Невежда в любви, кто ни разу мучений любви не изведал
И чья на пороге любимой в пыли голова не лежала.
Вселенную всю облетела душа и примчалась обратно.
Но, кроме порога любимой, пристанища не отыскала.
О, внемли моленьям несчастных, тобою покинутых в мире!
Их множество шло за тобою и прах твоих ног целовало.
Не видел я платья красивей для этого бедного тела,
И тела для пышного платья прекрасней земля не рождала.
Коль ты ослепительный лик свой фатою опять не закроешь,
Скажи: благочестье из Фарса навеки откочевало.
Не мучь меня болью разлуки, ведь мне не снести этой муки —
Ведь ласточка мельничный жернов вовек еще не подымала.
Едва ли ты встретишь на свете подобных — мне преданно верных,
Душа моя, верная клятве, как в бурю скала, устояла.
Услышь Саади! Он всей жизнью стремится к тебе, как молитва.
Услышь! И надежды и мира над ним опусти покрывало!
* * *
Я лика другого с такой красотою и негой такой не видал,
Мне амбровых кос завиток никогда так сердце не волновал.
Твой стан блистает литым серебром, а сердце, кто знает — что в нем?
Но ябедник мускус дохнул мне в лицо и тайны твои рассказал.
О пери с блистающим ликом, ты вся — дыхание ранней весны.
Ты — мускус и амбра, а губы твои — красны, словно яхонт и лал.
Я в мире скиталец… И не упрекай, что следую я за тобой!
Кривому човгану желаний твоих мячом я послушным бы стал.
Кто радости шумной года пережил и горя года перенес,
Тот весело шуму питейных домов, и песням, и крикам внимал.
Всей жизни ценой на базаре любви мы платим за сладкий упрек,
Такого блаженства в пещере своей отшельник бы не испытал.
Не ищет цветник взаймы красоты, живет в нем самом красота,
Но нужно, чтоб стройный, как ты, кипарис над звонким потоком стоял.
О роза моя! Пусть хоть тысячу раз к тебе возвратится весна,
Ты скажешь сама: ни один соловей так сладко, как я, не певал.
Коль не доведется тебе, Саади, любимой ланит целовать,
Спасение в том, чтобы к милым ногам лицом ты скорее припал.
* * *
Встань, пойдем! Если ноша тебя утомила —
Пособит тебе наша надежная сила.
Не сидится на месте и нам без тебя,
Наше сердце в себе твою волю вместило.
Ты теперь сам с собой в поединок вступай! —
Наше войско давно уж оружье сложило.
Ведь судилище верных досель никому
Опьянение в грех и вину не вменило.
Идол мира мне преданности не явил, —
И раскаянье душу мою посетило.
Саади, кипариса верхушки достичь —
Ты ведь знал — самой длинной руки б не хватило!
* * *
Я в чащу садов удалился, безумьем любви одержимый.
Дыханьем цветов опьяненный, забылся — дремотой долимый.
Но роза под плач соловьиный разорвала свои ризы,
Раскаты рыдающей песни бесследно покой унесли мой.
О ты, что в сердцах обитаешь! О ты, что, как облако, таешь,
Являешься и исчезаешь за тайною неисследимой!
Тебе принеся свою клятву, все прежние клятвы забыл я.
Обетов и клятв нарушенье — во имя твое — несудимо.
О странник, в чьих полах застряли шипы одинокой печали,
Увидя цветущий весенний цветник, обойди его мимо.
О сваленный с ног своим горем дервиш, безнадежно влюбленный,
Не верь ни врачам, ни бальзаму! Болезнь твоя неисцелима!
Но если любовь нам запретна и сердца стремление тщетно,
Мы скроемся в дикой пустыне, ветрами и зноем палимой.
Все остро-пернатые стрелы в твоем, о кумир мой, колчане
Пронзят меня… Жертв твоих сонмы умножу я, раной томимый.
Кто взглянет на лик твой, на брови, подобные черному луку,
Пусть мудрость свою и терпенье подымет, как щит нерушимый.
«Зачем, Саади, ты так много поешь о любви?» — мне сказали.
Не я, а поток поколений несметных поет о любимой!
* * *
Когда б на площади Шираза ты кисею с лица сняла,
То сотни истых правоверных ты сразу бы во грех ввела.
Тогда б у тысяч, что решились взглянуть на образ твой прекрасный,
У них у всех сердца, и разум, и волю б ты отобрала.
Пред войском чар твоих я сердце открыл, как ворота градские,
Чтоб ты мой город разрушенью и грабежу не предала.
Я в кольцах кос твоих блестящих запутался стопами сердца,
Зачем же ты, блестя кудрями, лучом лица меня сожгла?
Склонись, послушай вкратце повесть моих скорбей, моих страданий!
Ведь роза, освежась росою, стенанью жаждущих вняла.
Но ветер, погасив светильник, вдаль беспечально улетает.
Печаль светильни догоревшей луна едва ль бы поняла.
Пусть отдан я на поруганье, но я тебя благословляю,
О, только б речь сахарноустой потоком сладостным текла.
Насмешница, задира злая, где ныне смех твой раздается?
Ты там — на берегу зеленом. Меня пучина унесла.
Я пленник племени печалей, но я не заслужил упреков.
Я ждал — ты мне протянешь руку, ведь ты бы мне помочь могла.
При виде красоты подруги, поверь, терпенье невозможно.
Но я терплю, как терпит рыба, что на песке изнемогла.
Ты, Саади, на воздержанье вновь притязаешь? Но припомни.
Как притязателей подобных во все века толпа лгала!
* * *
До рассвета на веки мои не слетает сон.
О, пойми, о, услышь, — ты, чей временем взгляд усыплен.
Толпы жаждущих умерли там, в пустынных песках,
Хоть из Хиллы Куфийской поток в пески устремлен.
Ты — с натянутым луком, обетам ты неверна,
Разве это клятва асхабов, чье слово — закон?
Без тебя мое тело колючки пустыни язвят,
Хоть лежу я на беличьих шкурах, в шелка облачен.
Как к михрабу глаза правоверных обращены,
Так мой взгляд на тебя обращен, лишь в тебя я влюблен.
Сам по собственной воле жертвою страсти я стал.
Стариком в этой школе подростков попал я в полон.
Смертным ядом, из розовой чаши ладоней твоих,
Я, как сладким гулабом, как чистым вином, упоен.
Я — безумец. Близ кельи красавиц кружусь я всю ночь.
Мне привратник с мечом и копьем его жалким смешон.
Нет, никто и ничто Саади не властно убить,
Но разлукой с любимой высокий дух сокрушен.
* * *
Не беги, не пренебрегай, луноликая, мной!
Кто убил без вины — отягчил свою душу виной.
Ты вчера мне явилась во сне, ты любила меня,
Этот сон мне дороже и выше всей яви земной.
Мои веки в слезах, а душа пылает огнем,
В чистых водах — во сне я, а днем — в беде огневой.
Слыша стук у дверей моих, думаю: это она.
Так мираж умирающих манит обманной водой.
Для стрелы твоей цель хороша — дервиша душа.
Кровь его на ногтях твоих рдеет багряною хной.
Твоя речь, как река, в беспредельность уносит сердца,
Что же соль ты на раны мне сыплешь беспечной рукой?
Ты прекрасна, и роскошь одежды лишь портит тебя,
Кисея на лице, словно туча над ясной луной.
Эту за ухом нежную впадинку ты позабудь,
Ты приникни к поле, пропитай ее красной росой.
Да, тюрчанка соблазна полна со свечою в руке,
В сладком уединенье с тобой, с головою хмельной,
Ты бы вешнего солнца затмила сиянье и блеск,
Если б солнечный лик не скрывала густой кисеей.
Саади, если хочешь, как чанг, быть в объятьях ее, —
Претерпи эту боль, чтобы струн своих выверить строй.
* * *
О караванщик, сдержи верблюдов! Покой мой сладкий, мой сон уходит.
Вот это сердце за той, что скрутит любое сердце, в полон уходит.
Уходит злая, кого люблю я, мне оставляя одно пыланье.
И полыхаю я, словно пламень, и к тучам в дымах мой стон уходит.
Я о строптивой все помнить буду, покуда буду владеть я речью.
Хоть слово — вестник ее неверный, едва придет он и вон уходит.
Приди, — и снова тебе, прекрасной, тебе, всевластной, служить я стану.
Ведь крик мой страстный в просторы неба, себе не зная препон, уходит.
О том, как души бросают смертных, об этом люди толкуют разно.
Я ж видел душу свою воочью: она — о, горький урон! — уходит.
Не должен стоном стонать Саади, — но все ж неверной кричу я: «Злая!»
Найду ль терпенье! Ведь из рассудка благоразумья канон уходит!
* * *
Тайну я хотел сберечь, но не уберег, —
Прикасавшийся к огню пламенем объят.
Говорил рассудок мне: берегись любви!
Но рассудок жалкий мой помутил твой взгляд.
Речи близких для меня — злая болтовня.
Речи нежные твои песнею звенят.
Чтоб умерить страсти пыл, скрой свое лицо,
Я же глаз не отведу, хоть и был бы рад.
Если музыка в саду — слушать не пойду,
Для влюбленных душ она как смертельный яд.
Этой ночью приходи утолить любовь, —
Не смыкал бессонных глаз много дней подряд.
Уязвленному скажу о моей тоске,
А здоровые душой горя не простят.
Не тверди мне: «Саади, брось тропу любви!»
Я не внемлю ничему, не вернусь назад.
Пусть пустынею бреду, счастья не найду, —
Невозможен все равно для меня возврат.
Пускай друзья тебя бранят — им все простится, верь,
Хулою друга верный друг не оскорбится, верь.
Когда разлад войдет в твой дом и все пойдет вверх дном,
Не раздувай огня — судьба воздаст сторицей, верь.
Пока найдешь заветный клад, измучишься стократ, —
Пока не минет ночь, рассвет не возвратится, верь.
Пусть будет ночь любви длинна, — как музыка она,
Не сонной скуки — волшебства она страница, верь.
Но ты у глаз моих спроси, какой бывает ночь?
Как бред больного, ах, она — как огневица, верь.
Когда отрублена рука, о перстне не тужи, —
Стремленьям нет преград, они лишь небылица, верь.
Я знаю, нет увольных птиц несбыточных надежд,
Они у пленных птиц, — тому виной темница, верь.
Как будто в зеркале, в лице душа отражена,
Коль не грешна душа, она не замутится, верь.
О Саади, когда тебя заботы ввергнут в сон,
То нежный ветер на заре и не приснится, верь.
* * *
Пусть будет выкупом мой дух за дух и плоть твою, о друг!
Готов отдать я целый мир за твой единый волосок.
Речей я слаще не слыхал, чем из медовых этих губ.
Ты — сахар, влага уст твоих — цветка благоуханный сок.
Мне милость окажи — направь в меня разящую стрелу,
Чтоб я рукой, держащей лук, в тот миг полюбоваться мог.
Когда от взоров скрыв лицо, сворачиваешь ты с пути,
Слежу я, не блеснет ли вдруг украдкой глаза уголок.
Ах, не скупись, не закрывай лица пред нами; вид его
Бальзам для тех, кто от любви неразделенной изнемог.
Ты — полная луна, но где ж стан кипариса у луны?
Ты — кипарис, но кипарис не блещет полнолуньем щек.
Увы, тебя не описать, твоей улыбки не воспеть!
Где подобрать сравненья, как найти тебя достойный слог?
Знай, всякий, кто осудит нас за страсть палящую к тебе,
Тебя, увидев раз, тотчас возьмет обратно свой упрек.
Ах, вновь приди! Твой лик еще на сердце не запечатлен.
Сядь, посиди! В глазах твой блеск еще сиянья не зажег.
* * *
Я к твоим ногам слагаю все, чем славен и богат.
Жизнь отдам без сожаленья за один твой нежный взгляд.
Счастлив тот, кто облик милый созерцает без конца,
Для кого твоя улыбка выше всех земных наград.
Стан твой — кипарис в движенье, сердце он пленил мое.
Ты, волшебница, по капле в грудь мою вливаешь яд.
Сжалься, пери, надо мною! Ради прихоти твоей
Я готов пойти на плаху, — за тебя погибнуть рад.
Ты сияющий светильник. Ослепленный мотылек,
Вспыхну в пламени палящем… и тебя не обвинят.
Я терплю покорно муку, душу выжег мне огонь,
Но уста твои, о пери, исцеленья не сулят.
Саади — властитель мира, но отвергнет царства он, —
Быть рабом у ног любимой мне дороже во сто крат.
* * *
Бранишь, оскорбляешь меня? Напрасно! Не стоит труда!
Из рук своих руку твою не выпущу я никогда.
Ты вольную птицу души поймала в тенета свои.
И что ж! прирученной душе не нужно другого гнезда.
Того, кто навеки простерт, в цепях благовонных кудрей,
Ужели посмеешь топтать? Нет, жалости ты не чужда!
«Не правда ли, стан-кипарис живых кипарисов стройней?» —
Садовника я вопросил. Садовник ответил мне: «Да».
Пусть солнцем и тихой луной земной озаряется мир, —
Мой мир озарен красотой; твой взгляд надо мной — как звезда.
Бесценно-прекрасна сама, чужда драгоценных прикрас,
Не хочешь себя украшать: ты юностью светлой горда.
Хочу, чтоб ко мне ты пришла, осталась со мной до утра, —
Вот было бы счастье, друзья, а недругам нашим — беда!
Лишенная сердца толпа, я знаю, дивится тому,
Что черные вздохи мои готовы лететь сквозь года.
Но если пылает жилье, то рвется из окон огонь.
Чему тут дивиться, скажи? Так в мире бывает всегда.
Кто встретил однажды тебя, не в силах вовек разлюбить.
Не вижу и я, Саади, в любви ни греха, ни стыда.
КЫТА
* * *
О утренний ветер, когда долетишь до Шираза,
Друзьям передай этот свиток рыдающих строк.
Шепни им, что я одинок, что я гибну в изгнанье,
Как рыба, прибоем извергнутая на песок.
* * *
Если в рай после смерти меня поведут без тебя, —
Я закрою глаза, чтобы светлого рая не видеть.
Ведь в раю без тебя мне придется сгорать, как в аду,
Нет, аллах не захочет меня так жестоко обидеть!
* * *
Спросил я: «В чем вина моя, что ты не смотришь на меня?
Куда ушла твоя любовь и ласковость минувших лет?»
Она мне: «В зеркало взгляни, увидишь сам — ты сед и стар.
Тебе не свадебный наряд, а траурный приличен цвет».
* * *
Красавица и в рубище убогом,
И в бедности всех будет затмевать.
А той — уродине в парче и злате —
Покойников пристало обмывать.
* * *
Эй, пустомеля и болтун, как о любви ты смеешь петь?
Ведь стройно ты за жизнь свою десятка бейтов не связал!
Смотри, как в помыслах высок владыка слова Саади, —
Он пел любовь, одну любовь, — земных владык не восхвалял.
* * *
Я хочу в уединенье до рассвета быть с тобой.
В неизвестности и в тайне от врагов и от друзей.
Это яблоко блестящей выи выгнутой твоей
Я привлечь к себе хотел бы за човган твоих кудрей.
За грехи да будет кара! Почему же за любовь
Вкруг меня все гуще злоба и гоненья все сильней?
* * *
Тысячекратно идолопоклонник
Лобзает изваянье бога.
Его кумир гранитный безответен —
Ни блага от него, ни зла.
А ты не изваяние из камня,
Но тверже, холодней, чем камень:
Ведь целовать тебя тысячекратно
Ты мне позволить бы могла.
* * *
Меня корят: «Зачем напрасно к ней, недостойной, ты стремишься?
Иль жаждой самоистребленья ты, как безумец, обуян?»
Отвечу я: «У ней спросите! Я — в тороках ее как пленник,
Меня расспрашивать напрасно, на шее у меня — аркан».
* * *
Доколе ты твердить мне будешь: «Пора, мол, цепь любви расторгнуть!
Мол, ты бы в мудрости, в терпенье спасения себе искал!»
Соломинка не виновата, что к янтарю она стремится:
Ты лучше янтарю сказал бы, чтоб он ее не привлекал.
* * *
Побежденным, угнетенным и томящимся в оковах
Молви: «Мука не навечно послана судьбою вам.
Срок настанет — ваши руки онемевшие развяжут
И, во сне схватив тирана, крепко свяжут по рукам».
* * *
Ты, падишах, не обольщайся словами низкого льстеца!
Ища корысти, он умеет коварства сети расставлять.
Невежда, пьющий кровь народа, — будь он носителем венца,
Не будет мудр от слов хатиба, не может справедливым стать.
* * *
Мне говорят: «Иди сразись с врагом, не зная страха,
Ты мужествен и духом бодр, и твой надежен конь!»
Но за кого я должен стать, скажите, грудой праха?
Не пьян я, не владеет мной безумия огонь.
Ты, шах, мне бросить на ладонь два золотых жалеешь.
Что ж, воин голову свою положит на ладонь?
* * *
Слышал я, промолвил кто-то: «Наши доблести — богатство!
Нам пособники — дирхемы на любой тропе земной.
Без богатства власть ничтожна и величье невозможно.
Без казны султан не сможет повести войска на бой.
Человек и с громкой славой, но без денег схож, ты скажешь,
С женщиною безобразной под красивою чадрой.
Муж прославленный, но бедный сходен с птицею заморской
С птицей в ярком оперенье, заморенной и больной».
Восхваляющему деньги собеседник так ответил:
«Муж бывает возвеличен только доблестью прямой.
Властелин с дурною славой вызывает отвращенье,
Хоть бы он, кичась богатством, дом построил золотой.
Не сокровища, а доблесть подобает государю!
Доблесть мудрых не заменишь всей Каруновой казной».
БЕЙТЫ И РУБАИ
* * *
Всем людям странствий помогает конь,
Я ж мыслю: как бы мне коню помочь?
Ах, до того мой конь убогий тощ,
Что с шахматным конем он схож точь-в-точь.
* * *
Чем яростней огонь в крови моей,
Тем ближние к страданьям холодней.
Лишь тот, кто заглянул в лицо Лейли,
Постигнет боль Меджнуновых скорбей.
* * *
Пусть нет зубов — хлеб разжуешь всегда,
Коль хлеба нет — вот горшая беда!
* * *
Пред слепым зажигаем свечу,
Если злого к спасенью зовем.
Кто к злодею приходит с добром, —
Солончак засевает зерном.
 Миниатюра из рукописи XV в. Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.
Миниатюра из рукописи XV в. Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.
ХАФИЗ{6}
ГАЗЕЛИ
* * *
Песня, брызнуть будь готова — вновь, и вновь, и вновь, и снова!
Чашу пей — в ней снов основа — вновь, и вновь, и вновь, и снова!
Друг, с кумиром ты украдкой посиди в беседе сладкой, —
Поджидай к лобзаньям зова — вновь, и вновь, и вновь, и снова!
Насладимся ль жизнью нашей, коль не склонимся над чашей?
Пей же с той, что черноброва, — вновь, и вновь, и вновь, и снова!
Не найти от вас защиты, взоры, брови и ланиты, —
Вы моим очам обнова — вновь, и вновь, и вновь, и снова!
Ветер! Ты в воздушной ризе, мчась к любимой, о Хафизе
Ей бросай за словом слово — вновь, и вновь, и вновь, и снова!
* * *
Что святош во власяницах вся гурьба?
Греховодная милей мне голытьба!
Грязь покрыла власяницы, — а взгляни,
Как ярка бродяги вольного каба!
Опьянил меня твой глаз — так пей вино:
Тяготит нас взоров трезвых ворожба.
Лик твой нежен, стан твой хрупок! Я страшусь:
Ведь гурьба святош драчлива и груба.
Я мучений лживых суфиев не зрел —
Так не мучьте тех, чья радостна гульба!
Взор твой — хмель, а губы — алое вино,
И вино кипит, и в нем — к тебе мольба.
Погляди на лицемеров: ведь от них
Плачет чанг, вину горька его судьба.
Дух Хафиза пламенеет. Берегись:
Перед ним и сила пламени слаба.
* * *
Хмельная, опьяненная, луной озарена,
В шелках полурасстегнутых и с чашею вина
(Лихой задор в глазах ее, тоска в изгибе губ),
Хохочущая, шумная, пришла ко мне она.
Пришла и села, милая, у ложа моего:
«Ты спишь, о мой возлюбленный? Взгляни-ка: я пьяна!»
Да будет век отвергнутым самой любовью тот,
Кто этот кубок пенистый не осушит до дна.
Поди же прочь, о трезвенник, вина не отбирай!
Ведь господом иная нам отрада не дана.
Все то, что в кубки легкие судьбою налито,
Мы выпили до капельки, до призрачного сна!
Нектар ли то божественный? Простой ли ручеек,
В котором безысходная тоска разведена?
Об этом ты не спрашивай, о мудрый мой Хафиз:
Вино да косы женские — вот мира глубина.
* * *
Дам тюрчанке из Шираза Самарканд, а если надо[66] —
Бухару! А в благодарность жажду родинки и взгляда.
Дай вина! До дна! О кравчий! Ведь в раю уже не будет
Мусаллы садов роскошных и потоков Рокнабада.
Из сердец умчал терпенье — так с добычей мчатся турки —
Рой причудниц, тот, с которым больше нет ширазцу слада.
В нашем жалком восхищенье красоте твоей нет нужды.
Красоту ль твою украсят мушки, краски иль помада?
Красота Юсуфа, знаю, в Зулейхе зажгла желанья,
И была завесы скромной ею сорвана преграда.
Горькой речью я утешен, — да простит тебя создатель! —
Ведь в устах у сладкоустой речь несладкая — услада.
Слушай, жизнь моя, советы: ведь для юношей счастливых
Речи о дороге жизни — вразумленье, не досада.
О вине тверди, о пляске — тайну вечности ж не трогай:
Мудрецам не поддается эта темная шарада.
Нанизав газели жемчуг, прочитай ее, — и небом
В дар тебе, Хафиз, зажжется звезд полуночных плеяда.
* * *
Розу брось: без уст и она не приманчива!
Если нет вина — и весна не приманчива.
Без тюльпанов щек вся прохлада лужайки,
Всех душистых трав пелена не приманчива.
Вся-то прелесть уст, вся-то прелесть любимой
Без лобзанья не полна, не приманчива.
И долина в качании роз и платанов,
Коли песнь соловья не слышна, — не приманчива.
Роза, сад и вино — отрада, но радость
Одинокой душе не нужна, не приманчива.
Если облик милой не впишешь ты в роспись,
Будет роспись эта грустна, не приманчива.
Жизнь растрать, о Хафиз! Но для радостной траты
Не находка она: скудна, не приманчива.
* * *
Сердце, воспрянь! Пост прошел, настала весна.
В хумах вино отстоялось, требуй вина.
Минуло время клятв и молитв лицемерных.
Рэндов пора наступила — веселья полна.
Пусть утешаются рэнды песней за чашей.
В чем преступление пьющих? В чем их вина?
Лучше уж пьяница искренний, не лицемерный,
Чем этот постник-ханжа, чья совесть черна.
Мы не аскеты, мы — чистосердечные рэнды.
Знание правды — вот наша тайна одна.
Зла мы не делаем людям, покорны Йездану.
Но если скажут: «Не пей!» — мы выпьем до дна.
Лучше уж быть винопийцей, чем кровопийцей.
Кровь виноградной лозы для уст не грешна.
Кто без греха? Есть ли грех в опьяняющей чаше?
Грех мой на мне, если чаша мне эта вредна!
* * *
Чашу полную, о кравчий, ты вручи мне, как бывало.
Мне любовь казалась легкой, да беда все прибывала.
Скоро ль мускусным дыханьем о кудрях мне скажет ветер?
Ведь от мускусных сплетений кровь мне сердце заливала.
Я дремал в приюте милой, тихо звякнул колокольчик:
«В путь увязывай поклажу!» Я внимал: судьба взывала.
На молитвенный свой коврик лей вино, как то позволил
Старый маг, обретший опыт переправы и привала.
Ночь безлунна, гулки волны. Ужас нас постичь не сможет,
Без поклаж идущих брегом над игрой седого вала.
Пламя страстных помышлений завлекло меня в бесславье:
Где ж на говор злоречивый ниспадают покрывала?
Вот Хафиза откровенье: если страсти ты предашься,
Все отринь — иного мира хоть бы не существовало.
* * *
О суфий, розу ты сорви, дай в рубище шипам вонзиться!
Снеси ты набожность в кабак, — не стоит с показной возиться!
Безумным бредням, болтовне ты предпочти напевы чанга,
Ты четки отнеси в заклад — и заживи, как винопийца!
Твои молитвы и посты отвергли кравчий и подруга,
Так лучше восхвали весну, хотя она и озорница!
Смотри, владычица сердец, я разорен вином багряным,
Но ради родинки твоей готова кровь моя пролиться!
О боже! В дни цветенья роз прости рабу его проступки, —
Пусть радуется кипарис и весело ручей струится!
О ты, чей путь меня привел к желанной влаге высшей цели, —
Хотя бы каплей должен ты со мной, ничтожным, поделиться!
За то, что никогда глаза не видели красу кумиров,
Да будет мне теперь дана от божьей милости частица!
Когда подруге поутру нальешь вино, скажи ей, кравчий:
«Хафизу чашу подари, — всю ночь не спал он, чаровница!»
* * *
О, боже, ты вручил мне розу, но я верну ее назад, —
Затем что на меня лужайка завистливый бросает взгляд.
Хотя подруга удалилась на сто стоянок от любви,
Пусть от подруги удалятся тоска и горе, дождь и град.
Когда ты над ее стоянкой повеешь, вешний ветерок,
Надеюсь, ты ей нежно скажешь, что я всегда служить ей рад.
Ты кудри вежливо разгладишь, а в них сердца заключены,
Не ударяй их друг о друга, не разоряй пахучий сад.
Моя душа, — скажи любимой, — тебе на верность поклялась,
Так пусть в твоих кудрях — в темнице — живет, не ведая утрат.
В саду, где пьют вино во здравье живительных, желанных уст,
Презренен тот, кто ей не предан, кто пожелал иных отрад.
Не надо думать о наживе, спускаясь в винный погребок:
Тот, кто испил любовной влаги, не жаждет никаких наград.
Пускай растопчет нас пятою иль разрешит поцеловать, —
Любовь запретна лишь для робких, боящихся ее преград.
Хвала поэзии Хафиза, она — познанье божества.
За светлый дух, за прелесть речи везде его благодарят!
* * *
Не прерывай, о грудь моя, свой слезный звездопад:
Удары сердца пусть во мне всю душу раздробят!
Ты скажешь нам: «Тюрчанку ту я знаю хорошо, —
Из Самарканда род ее!» Но ты ошибся, брат.
Та девушка вошла в меня из строчки Рудаки:[67]
«Ручей Мульяна к нам несет той девы аромат».
Скажи: кто ведает покой под бурями небес?
О виночерпий, дай вина! Хоть сну я буду рад.
Не заблужденье ли — искать спокойствия в любви?
Ведь от любви лекарства нет, — нам старцы говорят.
Ты слаб? От пьянства отрекись! Но если сильный трезв,
Пускай, воспламенив сердца, испепелит разврат!
Да, я считаю, что пора людей переродить:
Мир надо заново создать — иначе это ад!
Но что же в силах дать Хафиз слезинкою своей?
В потоке слез она плывет росинкой наугад.
* * *
Где правоверных путь, где нечестивых путь?
О, где же?
Где на один вступить, с другого где свернуть?
О, где же?
Как сравниваешь ты дом праведных и дом беспутных?
Где лишь в молитвах суть, где только в лютнях суть?
О, где же?
Постыла келья мне, и лицемерье рясы — также.
Где магов тайный храм? Где мне к вину прильнуть?
О, где же?
Все вспоминаю дни, когда с тобою был я рядом.
Где ревность, где слова, лукавые чуть-чуть?
О, где же?
Прах у твоих дверей к глазам своим прижму —
О, сладость!
Где жить мне без тебя, где свой огонь задуть?
О, где же?
Хафиз тебе не даст ни мира, ни услад покоя.
Где он найдет покой, свою утешит грудь?
О, где же?
* * *
Я отшельник. До игрищ и зрелищ здесь дела нет мне.
До вселенной всей, если твой переулок есть, дела нет мне.
Эй, душа! Ты меня бы спросила хоть раз, что мне нужно!
До того ж, как до райских дверей мне добресть, дела нет мне.
Падишах красоты! Вот я — нищий, дервиш, погорелец…
До понятий: достаток, достоинство, честь дела нет мне.
Просьба дерзкая есть у меня: до всего же другого,
Коль пред богом ее не могу произнесть, дела нет мне.
Нашей крови ты хочешь. Ты нас предаешь разграбленью.
До пожитков убогих — куда их унесть — дела нет мне.
Разум друга — как чаша Джамшида, что мир отразила.
И дошла ль до тебя или нет эта весть — дела нет мне.
Благодарен я жемчуголову. Пусть море полудня
Эту отмель песками решило заместь — дела нет мне.
Прочь, хулитель! Со мною друзья! До того, что решился,
Сговорившись с врагами, меня ты известь, — дела нет мне.
Я влюбленный дервиш. Коль султанша меня не забыла,
До молитв, до того, как их к небу вознесть, — дела нет мне.
Я Хафиз. Моя доблесть — со мной. До клевет и наветов,
Что сплетают презренная зависть и месть, дела нет мне.
* * *
На сердце роза, на губах лозы душистый сок.
Владыка мира, в эту ночь ты раб у наших ног.
Гасите свечи! Ночь и так светла, как знойный день.
Здесь в полнолунии своем тот лик, что тьму отвлек.
Не чтим запрета на вино, но мы храним запрет,
Когда его не делишь с той, чье тело как цветок.
Прикован взгляд к рубинам уст, к вращенью пенных чаш,
В ушах журчащий говор флейт и чанга звонкий слог.
Ты благовоний на пиру хмельном не разливай,
Вдыхаю запах, что струит тяжелых кос поток.
Сластей ты мне не подноси: что сахар, пряный мед?
Сладка лишь сладость губ твоих, что хмель вина обжег.
Безумец — имя мне. Позор стал славою моей.
Так почему ж безумье все мне ставите в упрек?
Зря мухтасибу шлют донос: и он, подобно нам,
Услады ищет на земле, обманывая рок.
Хафиз, ни мига без вина, ни часа без любви!
Пора жасминов, время роз пройдут. Недолог срок!
Эй, проповедник, прочь поди! Мне надоел твой нудный крик.
Я сердце потерял в пути. А ты что потерял, старик?
Среди всего, что сотворил из ничего творец миров,
Мгновенье есть; в чем суть его — никто доселе не постиг.
Все наставленья мудрецов — лишь ветер у меня в ушах,
Пока томят, влекут меня уста, как сахарный тростник.
Не сменит улицу твою дервиш на восемь райских кущ,
Освобожден от двух миров — своей любовью он велик.
Хоть опьянением любви я изнурен и сокрушен,
Но в гибели моей самой высокий строй души возник.
В несправедливости ее, в насилии не обвиняй!
Скажи: то милостей поток и справедливости родник!
Уйди, Хафиз, и не хитри! И сказок мне не говори!
Я прежде много их слыхал и много вычитал из книг.
* * *
«Владычица, — сказал я, — сжалься. Ты видишь — погибает странник»
Она ж: «Влекомый волей сердца, свой путь всегда теряет странник»
Я умолял ее: «Помедли». Она: «Увы! Нельзя мне медлить,
Хотя — привычный к мирной неге — в пути изнемогает странник»
Да и какая ей забота, на ложе из мехов и шелка,
Что на камнях и на колючках в пустыне засыпает странник?
Опутан черными кудрями, как неразрывными цепями,
Пред родинкой твоей индийской безмолвно замирает странник.
И на лице, рассвета краше, играет отблеск винной чаши,
Так отблеск листьев аргавана на розах замечает странник.
Любуюсь: нежный лик округлый очерчен тонкой тенью смуглой
Так письмена с благоговеньем в святилище читает странник.
И я сказал: «О ты, чьи косы темнее полночи безлунной,
Остерегись! Ведь на рассвете, как туча, зарыдает странник».
Она ж: «Хафиз! Влюбленных доля печальна в скорбной сей юдоли.
Не диво, что лишь униженья, что лишь гоненья знает странник!»
* * *
Мне вечор музыкант — да утешится он! —
Дух свирелью смутил, дух мой ввергнул в полон.
Всей тоскою людской тосковала свирель,
И на мир ниспадал ее трепетный стон.
Но предстал предо мной виночерпий, чей лик
Словно солнце сиял, мглой кудрей окаймлен.
Он восторг мой постиг, он подлил мне вина,
И я молвил, ища в чаше сладостной сон:
«Ты от зла бытия избавляешь меня, —
И да будет к тебе милосерд небосклон».
Для Хафиза в хмелю — Кей с Кавусом ничто:
Ячменя не ценней жемчуга их корон!
* * *
Пусть вечно с сердцем дружит рок, — и большего не надо.
Повей, ширазский ветерок, — и большего не надо!
Дервиш, вовек не покидай своей любви обитель.
Есть в келье тихий уголок? И большего не надо!
Ты к продавцу вина приди, явись к его святыням,
Чтоб скорбь из сердца он извлек, — и большего не надо!
Почетно на скамье сидеть и пить из полной чаши:
Так станешь знатным в краткий срок, — и большего не надо!
Кувшин багряного вина, кумир луноподобный, —
Иное не идет нам впрок, — и большего не надо!
Бразды желаний вручены невежественным людям,
Твой грех, что ты — наук знаток, — и большего не надо!
Любимой давней верен будь, привязан будь к отчизне,
Далеких не ищи дорог, — и большего не надо!
Не радуйся, что все вокруг тебе хвалу возносят:
Пусть бог к тебе не будет строг, — и большего не надо!
Хафиз, в моленьях нет нужды: молитва страстной ночи
Да сладкий утренний урок, — и большего не надо!
* * *
Весть пришла, что печаль моих горестных дней — не навечно.
Время — ток быстротечный. И бремя скорбей — не навечно.
Стал я нынче презренным в глазах моего божества,
Но надменный соперник мой в славе своей — не навечно.
Всех равно у завесы привратник порубит мечом.
И чертог, и престол, и величье царей — не навечно.
Так зачем возносить благодарность иль горько роптать?
Ведь и громкая слава великих мужей — не навечно.
На пирах у Джамшида певали: «Несите вина!
И Джамшид с его чашей в обители сей — не навечно!»
Так пылай же, ночная свеча, привлекай мотылька!
Близко утро. И ночь, и сиянье свечей — не навечно.
Эй, богач! Загляни в глубину своей нищей души!
Горы злата, монет, самоцветных камней — не навечно.
Видишь надпись на своде сияющем: «Все на земле,
Кроме добрых деяний на благо людей, — не навечно».
Верь во встречу, надейся на память любви, о Хафиз!
А неправда, насилье и бремя цепей — не навечно!
* * *
Не откажусь любить красавиц и пить вино, и пить вино!
Я больше каяться не буду, что б ни было, — мне все равно!
Прах у порога луноликой мне райских цветников милей,
Всех гурий за него отдам я и все чертоги заодно!
Как надоели мне намеки, увещеванья мудрецов,
Я не хочу иносказаний, — ведь их значенье так темно!
Нет, не пойму я, что творится с моей беспутной головой,
Покуда в кабаке не станет кружиться быстро и хмельно.
Советчик мне сказал с укором: «Ступай, от страсти откажись».
Нет, братец, буду страсти верен: подруге предан я давно.
Того довольно, что в мечети не стану девушек ласкать,
А большей набожности, право, мне, вольнодумцу, не дано!
К наставнику виноторговцев я всей душой стремлюсь, Хафиз,
Его порогу поклоняться, — я твердо знаю, — не грешно.
* * *
Аромат ее крова, ветерок, принеси мне
И покой, — я ведь болен, — хоть на срок принеси мне!
Для души изнуренной дай хоть малость бальзама,
С доброй вестью о друге хоть пять строк принеси мне!
Взор и сердце в боренье. С тетивы ее взгляда
И от стрелки-ресницы хоть намек принеси мне!
На чужбине в разлуке постарел я, — из чаши
Сладкой юности, ветер, хоть глоток принеси мне!
Дай ту чашу пригубить всем понурым, но если
Этот будет напиток им не впрок, — принеси мне!
Брось о завтрашнем, кравчий, размышлять, — иль охранный
За печатями рока ты листок принеси мне!
Так над плачущим сердцем пел Хафиз неустанно:
«Аромат ее крова, ветерок, принеси мне!»
* * *
Ты, чье сердце — гранит, чьих ушей серебро — колдовское литье.
Унесла ты мой ум, унесла мой покой и терпенье мое!
Шаловливая пери, тюрчанка в атласной каба,
Ты, чей облик — луна, чье дыханье — порыв, чей язык — лезвие!
От любимого горя, от страсти любовной к тебе
Вечно я клокочу, как клокочет в котле огневое питье.
Должен я, что каба, всю тебя обхватить и обнять,
Должен я хоть на миг стать рубашкой твоей, чтоб вкусить забытье.
Пусть сгниют мои кости, укрыты холодной землей, —
Вечным жаром любви одолею я смерть, удержу бытие.
Жизнь и веру мою, жизнь и веру мою унесли
Грудь и плечи ее, грудь и плечи ее, грудь и плечи ее!
Только в сладких устах, только в сладких устах, о Хафиз, —
Исцеленье твое, исцеленье твое, исцеленье твое!
* * *
Душа — лишь сосуд для вмещенья ее,
И в зеркале глаз — отраженье ее.
Вовек я главы ни пред кем не склонял, —
Ниц падаю в миг приближенья ее.
Вам — древо в раю, мне — возлюбленной стан,
Вам — небо, а мне — постиженье ее.
Был в мире Меджнун, — мой черед наступил,
Повторна судьба и круженье ее.
Сокровища нег — вот влюбленных страна,
Вся доблесть моя в достиженье ее.
Не страшен душе сумрак небытия —
Не видеть бы лишь в униженье ее!
Цветник в цветнике распустившийся вдруг —
Нежданное преображенье ее.
Пусть с виду Хафиз непригляден и нищ,
В груди его — изображенье ее.
* * *
Ушла любимая моя, ушла, не известила нас,
Ушла из города в тот час, когда заря творит намаз.
Нет, либо счастие мое пренебрегло стезей любви,
Либо красавица не шла дорогой правды в этот раз.
Я поражен! Зачем она с моим соперником дружна!
Стеклярус на груди осла никто ж не примет за алмаз!
Я буду вечно ждать ее, как белый тополь ветерка.
Я буду оплывать свечой, покуда пламень не погас.
Но нет! Рыданьями, увы, я не склоню ее к любви:
Ведь капли камня не пробьют, слезами жалобно струясь.
Кто поглядел в лицо ее, как бы лобзал глаза мои:
В очах моих отражено созвездие любимых глаз.
И вот безмолвствует теперь Хафиза стертое перо:
Не выдаст тайны никому его газели скорбный глас.
* * *
Вчера на исходе ночи от мук избавленье мне дали,
И воду жизни во тьме, недоступной зренью, мне дали.
Утратил я чувства свои в лучах того естества!
Вина из чаши, что духа родит возвышенье, мне дали.
И благостным утром была и стала блаженства зарей
Та ночь — повеленьем судьбы, — когда отпущенье мне дали.
Небесный голос в тот день о счастье мне возвестил,
Когда к обидам врагов святое терпенье мне дали.
И взоры теперь устремил на зеркало я красоты:
Ведь там в лучезарность ее впервые прозренье мне дали!
Дивиться ли нужно тому, что сердцем так весел я стал?
Томился скудостью я — и вот всиоможенье мне дали.
Весь этот сахар и мед, в словах текущий моих,
То плата за Шахнабат, что в утешенье мне дали.
Увидел я в тот же день, что я к победе приду,
Как верный стойкости дар врагам в посрамленье мне дали.
Признателен будь, Хафиз, и лей благодарности мед
За то, что красавицу ту, чьи прелестны движенья, мне дали.
* * *
Одиночество мое! Как уйти мне от тоски?
Без тебя моя душа бьется, сжатая в тиски.
Что ты сделала со мной? Одержим я! Исступлен!
Даже днем я вижу ночь. Впереди меня — ни зги.
О любимая моя! Снизойди ко мне: я слаб.
Будем снова мы вдвоем и по-прежнему близки.
Но, увы, я не один! Сто соперников грозят:
Сто весенних ветерков оплели твои виски.
Виночерпий! Подойди! Ороси пустынный дол!
Белый тополь, поднимись! Осени мои пески!
Сердце бедное в крови от познания вещей…
Дай хмельного! Без вина мысли горькие низки.
Черным циркулем судьбы круг начертан вкруг меня.
В этом круге — точка я. Пешка шахматной доски.
Но донесся аромат приближенья твоего!
Надо мной опять луна, нет и не было тоски…
* * *
В царство розы и вина — приди!
В ту рощу, в царство сна, — приди!
Утиши ты песнь тоски моей:
Камням эта песнь слышна! — приди!
Кротко слез моих уйми ручей:
Ими грудь моя полна, — приди!
Дай испить мне здесь, во мгле ветвей,
Кубок счастия до дна! — приди!
Чтоб любовь дотла моих костей
Не сожгла — она сильна! — приди!
Не дождись, чтоб вечер стал темней!
Но тихонько и одна — приди!
* * *
Верь, Юсуф вернется поздно или рано, — не тужи!
Сень печали сменят розы, тень платана, — не тужи!
Было плохо, станет лучше, к миру злобы не питай,
Был низвергнут, но дождешься снова сана, — не тужи.
На престол холма восходит с опахалом роз весна.
Что ж твоя, о пташка ночи, ноет рана? — Не тужи!
Друг! Не чудо ли таится за завесой, — каждый миг
Могут радости нахлынуть из тумана, — не тужи!
День иль два путем нежданным шел времен круговорот,
Все не вечно, все добыча урагана, — не тужи!
Коль стопы свои направишь ты в Каабу по пескам
И тебя шипы изранят мугиляна, — не тужи!
Если путь опасный долог, будто нет ему конца,
Все ж он кончится, на радость каравана, — не тужи!
Все нам назначает благодатная судьба:
Час разлуки, ночь лобзаний, день обмана, — не тужи!
Коль, Хафиз, проводишь время в доме бедном, в тишине,
Постигая всю премудрость аль-Корана, — не тужи!
* * *
Ханша тех, чьи станы — бамбук, чьи уста — как мед полевой,
Чьи ресницы — копий страшней для бесстрашно рвущихся в бой,
Мимо дервиша прошла, взором страстным его сожгла,
Так сказала: «О сладкоуст! О зеница песни людской!
Долго ль будет не отягчен звонким золотом твой карман?
Покорись мне и обнимай сребротелых дерзкой рукой!
Ты — пылинка. Значит, не мал! Так люби же! Вечно люби,
Чтоб, вращаясь, солнца достичь, постучаться в дом огневой!»
Старец-кравчий — благословен золотой напиток его! —
Так сказал мне: «Будешь блажен, коль к неверным станешь спиной.
За одежды друга держись, от врага живи вдалеке,
Пред Йезданом склонись — падет Ахриман перед тобой!»
Тут спросил я у ветерка на тюльпанном свежем лугу:
«Эти, в саванах, для чего здесь стоят кровавой толпой?»
Он ответил: «Полно, Хафиз! Нам с тобой — не все ли равно?
Пей рубиновое вино! Среброшеих девушек пой!»
* * *
В этом городе немало счастья взыскан я звездой,
Время бросить этот омут, взяв достаток мой худой!
Пальцы я грызу в досаде и вздыхаю без конца,
Что горю я весь, как роза, страсти огненной бедой.
Был вчера я очарован песней звонкой соловья, —
Роза уши распустила и бутон свой молодой.
Сердце, радуйся! Подруга, что жестокою была,
Ныне, связана сурово рока жесткою уздой.
Чтоб ты слабости не видел и жестокости не знал, —
Избегал обетов дряблых, слов, подсказанных враждой.
Если злых напастей волны и до неба поднялись —
Мудрых доля и пожитки не подмочатся водой.
О, Хафиз, когда бы вечным обладанье быть могло,
Трон Джамшид бы свой не отдал року в древности седой.
* * *
Рассветный ветер с доброй вестью влетел в проем моих дверей,
Шепнул: «Идет на убыль время твоих несчастий и скорбей!»
Так отдадим певцам в награду свои разорванные платья
За вести утреннего ветра! Он прежних вестников добрей.
О красота, с высот эдема в мир принесенная Ризваном,
Внемли моленьям сокровенным! О гурия, приди скорей!
В Шираз вступаю я под сенью небесного благоволенья;
Хвала тебе — любовь дарящей, хвала владычице моей!
С твоим венцом хотел сравняться мой войлочный колпак дервиша,
Склонись к раскаянью безумца, тревогу дум моих развей!
Луна безмолвная, бывало, моим рыданиям внимала,
Когда твой голос доносился из пышного шатра царей.
Хафиз до солнца подымает победоносные знамена,
Найдя прибежище у трона прекрасной гурии своей!
* * *
День отрадных встреч с друзьями — вспоминай!
Все, что было теми днями, — вспоминай!
Ныне верных не встречается друзей —
Прежних, с верными сердцами, — вспоминай!
Всех друзей, не ожидая, чтоб они
Вспоминали тебя сами, — вспоминай!
О душа моя, в тенетах тяжких бед
Всех друзей ты с их скорбями вспоминай!
И, томясь в сетях настигнувшего зла,
Ты их правды сыновьями вспоминай!
И когда польются слезы в сто ручьев,
Зандеруд с его ручьями вспоминай!
Тайн своих, Хафиз, не выдай! И друзей,
Их скрывавших за замками, — вспоминай!
* * *
Взгляни, как праздничный стол расхищен девой-судьбой!
По кругу чашу ведет горящий серп молодой.
Паломник добрый! Стократ тебе воздастся за пост,
Коль ты в трущобу любви вошел смиренной стопой.
Для нас в трущобах любви всегда готов уголок,
А тот, кто их возводил, был движим волей святой.
И пусть свершает намаз под сводом милых бровей,
Кто кровью сердца омыл любовный помысел свой!
Ведь сам имам городской, носящий коврик молитв,
Омыл одежду свою хмельной пурпурной струей.
Но этот шейх-лицемер с презреньем смотрит на тех,
Чья бочка нынче полна, а завтра станет пустой.
Пусть шейх искусно поет, — к Хафизу, друг, приходи!
Его любовным псалмам и слух и сердце раскрой!
* * *
Свершая утром намаз, я вспомнил своды бровей, —
И вопль восторга потряс михраб мечети моей.
Терпенья больше не жди, к рассудку впредь не взывай!
Развеял ветер полей терпенье тысячи дней.
Прозрачным стало вино, пьянеют птицы в саду,
Вернулось время любви, — вздохнуло сердце нежней.
Блаженный ветер полей цветы и радость принес.
Приди, невеста любви! Весь мир дыханьем согрей!
Укрась свой брачный покой, — жених ступил на порог.
И зелень — радость сердец — сверкает все зеленей.
Благоухает весь мир, как будто счастьем дышу:
Любовь цветет красотой, что небо вверило ей.
Пускай деревья согнет тяжелый их урожай, —
Будь счастлив, мой кипарис, отвергший бремя скорбей!
Певец! На эти слова газель прекрасную спой!
О том, как счастлив Хафиз, пусть помнит память людей!
* * *
Ханжа — мне имя, если я в молитвенник взгляну,
Когда в свой розовый цветник влетает ветерок.
Сиятельного солнца[70] дар, как милости динар,
Отвергну я, хоть мой наряд и беден и убог.
Мой старый плащ дороже всей султанской мишуры, —
Так что же даст мне небосвод — изменчивый игрок?
Хоть нищ — горю своим огнем! И пусть ослепну я,
Коль отраженьем божества заблещет мой зрачок.
Любовь — жемчужина на дне. Нырнул я глубоко.
Где ж выплыву? Мой океан — всего лишь погребок.
Когда любимая моя пошлет меня в огонь —
Я и не вспомню про Ковсар! Столь сладостен мойрок!
Я, у которого сейчас блаженство всех миров,
Польщусь ли на грядущий рай, что обещал пророк?
Не слишком доверяю я дарам седьмых небес —
До гроба верен лишь вину. Вздымайся ж, пенный рог!
Мне образ рэнда,[71] признаюсь, не очень по душе,
Но раз вступив на этот путь, не улизну я вбок.
Полуулыбкою блеснул рисунок алых уст, —
Могу ли, слушая муллу, презреть такой намек?
Высокий свод ее бровей — убежище мое.
И в нем я буду, как Меджнун, твердить любви урок.
И не прельщай меня постом во дни цветенья роз:
К вину и гурии бегу в укромный уголок.
В весеннем опьянении гони, Хафиз, святош
Заклятием: «От дьявола да сохранит нас бог!»[72]
* * *
Вчера из мечети вышел наш шейх — и попал в погребок.
Друзья мои, суфии! Нам-то какой же в этом урок?
Лицом повернуться ль к Каабе нам, мюридам простым,
Когда наш почтенный учитель прямо глядит в кабачок?
Давайте станем жильцами трущобы магов и мы, —
То в день предвечный решили. Таков уж, видно, наш рок!
Узнать бы мудрым, как сладко сердцу в оковах кудрей, —
За теми цепями в погоне безумцы сбились бы с ног.
Едва лишь сердцу в добычу попался душевный покой,
Ты кольца кудрей распустила, и он ускользнул под шумок.
Раскрыл мне твой лик благодатный, как милости чудо понять
И вот — кроме «благо» и «милость» — в Писанье не вижу я строк
Из камня пускай твое сердце — неужто не вспыхнет оно
Огнем пепелящим стенаний, в которых мой сон изнемог?
Кудрей твоих ветер коснулся, и мир почернел предо мной —
Вот прибыль одна, что из мрака кудрей я любимых извлек!
Стрелою стенаний пронзаю я небо — замолкни, Хафиз!
Щади свою бедную душу: убьет тебя этот стрелок!
* * *
К этой двери искать не чины и почет я пришел, —
Чтоб убежище здесь мне найти от невзгод, я пришел.
Я к жилищу любви — от черты, где нет жизни, иду,
И в страну бытия, совершив переход, я пришел.
Я твой смуглый увидел пушок, и из райских садов
Мандрагоры потребовать сладостный плод я пришел.
С тем сокровищем разума, что под охраной небес,
К двери шаха просить благодатных щедрот я пришел.
О спасенья корабль! Твоих милостей якорь ищу —
Увязающий в скверне, к тебе, мой оплот, я пришел.
Гибнет честь! Изойди же дождем, омывающим грех!
До конца подведя черных дел моих счет, я пришел.
Брось, Хафиз, власяницу свою! Вздохов жарким огнем
Истребить лицемеров неправедный род я пришел.
* * *
В дни, когда наш луг покрыт райским цветущим ковром,
Кравчий, с пурпурным вином в светлое поле пойдем!
«Ржавчину горя с души снимет рубиновый хмель», —
Так говорил мне вчера друг, одаренный умом.
Если твой винный сосуд камнем пробьет мухтасиб,
Тыкву его головы ты проломи кирпичом!
Пусть я невежда, ты мудр, — мы перед небом равны.
Честный ты, подлый, — слепцу мало заботы о том.
Праведник! Что мне кредит! Только наличность я чту:
Гурия есть у меня, раю подобен мой дом!
Христианин, даже тот молвил мне как-то: «Хафиз!
Как опостылел мне звон там, под высоким крестом».
* * *
Вероломство осенило каждый дом,
Не осталось больше верности ни в ком.
Пред ничтожеством, как нищий, распростерт
Человек, богатый сердцем и умом.
Ни на миг не отдыхает от скорбей
Даже тот, кого достойнейшим зовем.
Сладко дышится невежде одному:
За товар его все платят серебром.
Проструятся ли поэтовы стихи
В наше сердце, зажигая радость в нем, —
Здесь поэта — хоть зовись он Санаи —
Не одарят и маисовым зерном!
Вот что мудрость говорила мне вчера:
«Нищетой своей прикройся, как плащом!
Будь же радостен и помни, мой Хафиз:
Прежде сгинешь ты — прославишься потом!»
* * *
Долго ль пиршества нам править в коловратности годин?
Мы ступили в круг веселый. Что ж? Исход у всех один.
Брось небесное! На сердце буйно узел развяжи:
Ведь не мудрость геометра в этом сделает почин.
Не дивись делам превратным, колесо судеб земных
Помнит тысячи рассказов, полных тысячью кручин.
Глину чаш с почетом трогай, знай — крупинки черепов
И Джамшида и Кубада в древней смеси этих глин.
Кто узнал, когда все царство Джама ветер разметал?
Где Кавус и Кей укрылись, меж каких они равнин?
И теперь еще я вижу: всходит пурпурный тюльпан —
Не из крови ли Фархада в страсти к сладостной Ширин?
Лишь тюльпан превратность понял: все он с чашею в руке, —
В час рожденья, в час кончины! Нет прекраснее кончин.
Поспешай ко мне: мы скоро изнеможем от вина.
Мы с тобою клад поищем в этом городе руин.
Ведай, воды Рокнабада и прохлада Мусаллы
Говорят мне, что пускаться в путь далекий нет причин.
Как Хафиз, берись за кубок лишь при звуке нежных струн.
Струны сердца перевиты нежной вязью шелковин.
* * *
Красоты твоей сиянье вспыхнуло во тьме времен, —
Так любовь явилась миру, жгучий пламень разожжен.
Холоден остался ангел, щек твоих увидев блеск.
Хлынул огненным потоком гнев твой, местью раскален.
Я хотел от искры этой светоч разума зажечь, —
Молнией сверкнула ревность, мир потряс тяжелый стон.
К тайнику во тьме приникнуть злобный недруг захотел,
Но чудесною рукою был назад отброшен он.
Падают удачно кости, радости сулят другим,
Как ни кину я на счастье, все на горе обречен.
Сердце жаждало прохлады этой розовой щеки,
Протянулись пальцы к прядям, туго свитым, как бутон.
Стих восторженный составил о любви к тебе Хафиз
В день, когда калам усладу вычеркнул из сердца вон.
* * *
Кому удел не тлетворный в тлетворных столетьях дан?
Что прочно? — Ладья газелей. Что вечно? — Пьянящий жбан.
Возьми же вина в дорогу, — ведь жизнь не сравнишь ни с чем.
Путь к раю подобен чаще, и мало на нем полян.
Один ли познал я тленность? — ученый, что знает мир,
Постиг и свое бессилье, и знаний вечный изъян.
Взгляни же премудрым оком на мудрый, бегущий мир:
Весь мир, все дела мирские, все смуты его — обман.
Достигнуть встречи с тобою мечтала душа моя,
Но смерть на дорогах жизни — грабитель и злой буян.
Всем ведомо: знак, что роком начертан на смертном лбу,
Не смоешь ничем, о смертный, с челом он твоим слиян.
Все зданья падут, разрушась, и травы на них взрастут, —
Лишь зданье любви нетленно, на нем не взрастет бурьян.
Прохожие люди трезвым не встретят меня вовек!
О вечность! Хмельная чаша! Хафиз этой чашей пьян.
* * *
Нету в мире счету розам, да одной мне довольно.
Тень одна лишь кипариса надо мной — мне довольно.
Да избегну богословов! Из весомостей мира
Этой чаши, полновесной и хмельной, мне довольно.
Видишь волны? Это — образ быстротечного мира.
Все постиг я над струистой пеленой — мне довольно.
От базара нашей жизни — вся беда нашей жизни.
День удачный, за удачным — день дурной. Мне довольно.
Не один ты, ты с любимой! Ничего и не надо!
Речи милой, с уст которой дышит зной, — мне довольно.
Не гони же, я — у двери; божий рай мне не нужен.
Переулка, где живешь ты под луной, — мне довольно.
На свой нрав, Хафиз, не сетуй, ведь души — той, что сродна
Плавным струям и газелям, столь родной, — мне довольно.
* * *
Страсть бесконечна; страстным дорогам нет пресеченья, нет!
«Души отдайте!» — страстным другого нет назначенья, нет!
Миг зарожденья сладостной страсти — благожеланный миг.
В деле отрадном ждать ли гаданья, предвозвещенья? Нет!
Нас не страши ты разумом властным, нам подливай вина!
К нам не причастен стражи начальник, нам запрещенья нет!
Глянуть на лик, схожий с месяцем юным, может лишь чистый взор,
В ликах других подобного блеска и обольщенья нет.
Сердце Хафиза в горести страждет: сердце твое — гранит.
Сколько ни плакал, сколько ни звал я, — нет мне прощенья, нет!
* * *
Те, кто взглядом и прах в эликсир превратят,
Хоть однажды на жизнь эту бросят ли взгляд?
Утаю от врачей мои скорби. Быть может,
За чертой бытия мой недуг исцелят.
Мой кумир не снимает с лица покрывала,
Что же столько о нем небылиц говорят?
И гуляка и постник равны перед богом.
Лучше в добрых делах ты найди тарикат.
Я — отступник любви, устремленный к Познанью,
Стал мужам просветленным поистине брат.
Смутно там — за завесой. Когда же завеса
Упадет — что увидим? Что нам возгласят?
Плачут, внемля мне, камни, и круг прозорливых
Слушать повести сердца поистине рад.
Пей вино! Даже сотня грехов твоих скрытых
Благочестия ложного лучше в сто крат.
Я боюсь, что завистники платье Юсуфа
Разорвут, чистоту клеветой омрачат.
Пусть в руинах окраин пред лавкою винной
Толпы рэндов вершат винопитья обряд.
Буду втайне скорбеть, ибо чистые сердцем
О несчастье и счастье своем не кричат.
Пей, Хафиз! Ты едва ль удостоишься встречи…
Ведь султанши на жалких бродяг не глядят!
* * *
Мой скудный жребий тяжек, подъем дороги крут,
Унижен я пред теми, кто гордостью надут.
И, только лишь коснувшись кудрей в безумье страсти,
Я гордо выпрямлюсь, не зная рабьих пут.
Что делается в небе, у глаз моих спроси ты:
Я до утра считаю по звездам без минут.
Я в знак благодаренья уста целую чаши —
Здесь ключ великой тайны и знанья тихий пруд.
И также благодарен рукам моим я слабым:
Терзать они не могут насильем бедный люд.
Когда в стихах воздал я хвалу винопродавцам,
Я мздою справедливой почтил их добрый труд.
Ведь ты не пожелаешь поднять меня из праха,
Хотя б из глаз катился слезами изумруд!
Не укоряй, что плачу я кровью в этих долах:
Как муки коз мускусных, удел прозренья лют.
Пусть голова Хафиза пьяна, но мне надеждой
Иной главы забота и милостивый суд.
* * *
Проповедники, как только службу с важностью в мечети совершат,
В кабачках совсем иное — тайно, чтоб не быть в ответе, — совершат.
Даже мудрым не понятно: те, что учат отрешеньям весь народ,
Сами эти отрешенья, может быть, на том лишь свете совершат.
Эти новые вельможи тюрка в мула обращают. О господь!
Сделай их ослами с ношей! Пусть на них свой танец плети совершат.
Если ты, дервиш, желаешь, чтоб тебе вручили чашу бытия,
Это в тайном храме магов — так в их сказано завете — совершат.
Красота ее безмерна и влюбленных убивает, но они,
Возродясь, ей поклоненья вновь и вновь в среде столетий совершат.
Ах, менялы без познаний, с побрякушкой для уздечек жемчуга
Вечно путали! Ужели это вновь они, как дети, совершат!
«Нет, пусть молвят стих Хафиза, — голос Разума раздался с высоты, —
И по памяти пусть это в ночь они и на рассвете совершат!»
* * *
Коль туда, куда стремлюсь, я направлю полет, —
Так за дело я возьмусь, что тоска запоет!
Сильных мира я бегу, словно зимних ночей,
Жду от солнца одного лучезарных щедрот.
Благородства не ищи у надменных владык:
Прежде чем откроют дверь, жизнь бесследно пройдет.
Пусть же сгинет эта жизнь — умерщвляющий ад!
Славь, певец, другую жизнь — услаждающий сот!
Пожелай, мой соловей, чтоб земля наконец
Стала садом, где твой дух к нежной розе придет!
Здесь упорство с торжеством в давней дружбе живут:
Кто упорство впустит в дом — торжество призовет.
Мудрено ли, что всегда беззаботен Хафиз:
Вольный странник на земле не страшится тягот!
* * *
Уйди, аскет! Не обольщай меня, аскет!
Ах, что мне святости твои и твой скелет!
Пыланье роз, пыланье роз меня пьянит.
Увы, не вечен аромат и нежный цвет!
Приди же, милая моя! Свою любовь
В твои я косы заплету среди бесед.
Тюльпаном чаша предо мной полна вина:
Оно как плавленый рубин! Оно — рассвет!
Прекрасней трезвости, друзья, веселый хмель, —
О виночерпий, окропи ты наш обед!
А ты, о суфий, обходи мой грешный дом —
От воздержанья воздержусь я: дал обет!
Увы, прошла моя весна… Прошла весна…
Я это чувствую по тысяче примет.
Но не в раскаянье спасение для нас.
Не станет суфием Хафиз на склоне лет.
* * *
Ты не шли упреков в буйстве в гульбищах не новичку,
Ведь его грехов не впишут, праведник, тебе в строку.
Будь самим собой, что сеял — то и жни, не следуй мне:
Я тебя в свои молитвы и грехи не вовлеку.
Ведь любовь живет в мечетях, и живет она в церквах.
Нужен друг святоше, нужен вольному весельчаку.
Не один с порога дома благочестия я пал,
И Адам не добыл рая на земном своему веку.
Коль, Хафиз, пригубишь кубок в Судный день — из кабачка
Мигом в рай ты будешь поднят, хоть был мил и кабачку.
* * *
Я вышел на заре, чтоб роз нарвать в саду,
И трелей соловья услышал череду;
Несчастный, как и я, любовью к розе болен,
И на лужайке он оплакивал беду.
По той лужайке я прогуливался часто;
На розу я смотрю, на соловья и жду;
С шипом она дружит, но так же неразлучен
С любовью соловей, — все в том же он бреду!
Стенанья соловья мне в сердце болью пали,
И утешенья сам себе я не найду…
Так много роз цветет, но кто сорвать их может,
Не испытав шипов опасную вражду?
Хафиз, надежду брось на счастье в этом мире:
Нет блага в нем, и все нам к скорби и вреду!
* * *
Лекарю часто нес я моленья, —
Все ж он скитальцу не дал исцеленья.
Вымолви розе, колющей пташку:
«Как не стыдишься ты преступленья!»
Другу поведай тайную муку
Иль в исцеленье жди промедленья.
С ликом влюбленного лику любимой
Сблизиться, боже, дай повеленья!
Боже! Над яством лакомым, близким
Буду ль я вечно ждать утоленья?
В мир не неслись бы вопли Хафиза,
Если б он старцев чтил наставленья.
РУБАИ
Твой лик блистал, как солнце, лишь для нас.
Твой переулок был нам в поздний час
Пристанищем. И пусть все крепко спали,
Воистину мы не сомкнули глаз.
* * *
Фиал вина мне нацеди, приди!
От стража злобного уйди, приди!
Врага не слушай! Внемли зову мысли
И песни у меня в груди! — Приди!
* * *
Ты лицом нежна, станом, как кипарис, стройна.
Можешь в зеркало солнца смотреться лишь ты одна!
…Я ей шаль подарил. И, смеясь, сказала она:
«Назначаю свиданье тебе в видениях сна».
* * *
Что ни день, то новое бремя — на сердце мое.
Что ни день, то новое горе — вдали от нее.
Мне судьба говорит: «Много дел других у меня!
Что мне слезы твои? Что, Хафиз, мне томленье твое?»
* * *
О луна! Ты у солнца взяла свой блеск и свет.
На виске твоем бьется Ковсар… О весна и цвет!
Ты повергла меня в эту ямочку на подбородке,
Как в зиндан, и оттоль — из-под амбры — мне выхода нет.
* * *
Спать я лягу в мученьях, усну в крови.
В лоне горя усну, не в лоне любви.
А не веришь, ко мне хоть во сне сойди!
Хоть во сне моей скорби вниманье яви!
* * *
О сиянье далекой чигильской свечи — лучше молчи.
О мученьях моих — как они горячи — лучше молчи.
Нет со мною друзей, перед кем я открою тайну свою!
О сердечной тоске моей лучше молчи — лучше молчи!
* * *
Ты сперва свиданья кубок мне с любовью поднесла.
Опьянел я. Ты дала мне горечь бедствия и зла.
Молча плачу я. Мне сердце ярость пламени сожгла.
Стал я прахом. Прах мой буря в даль пустыни унесла.
* * *
Все богатства земли и слезинки не стоят твоей!
Все услады земли не искупят неволь и цепей!
И веселье земли — всех семи ее тысячелетий, —
Бог свидетель, не стоит семи твоих горестных дней!
* * *
Тот, кто клялся мне в верности, стал мне врагом.
Муж — вчера добродетельный — стал подлецом.
Ночь делами, что завтра свершатся, чревата.
Но едва ль она добрым чревата плодом.
* * *
Скоро осень у роз лепестки оборвет,
И, как чашу, нарцисс приподымет свой плод.
Тот блажен, кто как легкий пузырик в арыке,
Головою ко входу в кабак припадет.
* * *
С вином вблизи ручья уединись.
Забудь о прошлом, скорби сторонись.
Срок нашей жизни — срок цветенья розы.
Вину, ручью и солнцу улыбнись.
* * *
Ты от судьбы обмана жди и лжи.
Будь мудр, как листья ивы, не дрожи.
Ты нас учил: цвет черный — цвет последний.
Что ж головой я побелел, скажи?
* * *
Ты пей во младости вино, встречай весельем дней исток.
Ты с теми пей, чей лик румян и нежен на губе пушок.
Весь этот мир — в пыли руин забытый караван-сарай.
Блажен, кто, пьяный, средь руин кабацкий разыскал порог.
* * *
Развалины жизни кипящий разлив окружил,
Наполнил нам чаши, согрел остывающий пыл.
Проснись же, приятель! Взгляни, как проворно пожитки
Из хижины жизни носильщик судьбы потащил!
* * *
Ни на миг не отрывай уст от уст чаши!
Радость мира, сладость чувств — от уст чаши.
В чаше мира — благо всё: уста милой
И отстой, что горько-густ, — от уст чаши.
* * *
Я от жажды палящих лобзаний твоих умираю.
Я в тоске по тебе — средь пустынь, средь чужих — умираю.
Многословья не нужно… Вернись! О, вернись! О, вернись!
Жду тебя! Но мой зов безотзывный затих… Умираю.
* * *
Жизнь сгубил я в бреду вожделений, как в тягостном сне,
Сам не знаю — по воле светил, по моей ли вине.
Те, кому я открыл свое сердце, мне стали врагами.
Ну и странность судьбы! Ну и доля же выпала мне!
* * *
Никаким не владею я в мире добром — кроме скорби.
Ничего не нашел я ни в добром, ни в злом — кроме скорби.
И ни преданности, ни любви я не встретил ни в ком.
Друга нет на пути одиноком моем — кроме скорби.
* * *
Твоею прелестью пристыжена,
Перед тобою роза склонена.
Частицу света ей луна дает,
Но у тебя свой блеск берет луна.
* * *
Ты говоришь мне: «Не о горе мысли,
Развей дурные на просторе мысли!
Смирись, терпи!..» Но что мне делать с сердцем?
В нем — целый мир скорбей, в нем море мысли.
* * *
Принеси мне вина фиал, положи фиал на ладонь.
Словно пери, чьи губы — лал, положи фиал на ладонь.
По краям его пена кипит, пузырьки ее словно цепь…
Видишь — разум я потерял! Положи фиал на ладонь!
* * *
Пусть барбат и най зазвучат! Приведите ту, что люблю!
Пусть любовью ее хоть раз жажду сердца я утолю.
Душу выну за это вам! Все богатства сердца раздам!
Уж тогда по щедрости впрямь я Хотаму не уступлю!
* * *
О, если бы нас от напастей судьба укрывала,
А дружба в труде, и нужде, и беде помогала!
Когда же из рук наших время похитит поводья,
О, если б хоть старость в ту пору нам стремя держала!
 Миниатюра из рукописи XVI в. Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.
Миниатюра из рукописи XVI в. Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.
ДЖАМИ{7}
ГАЗЕЛИ
* * *
Сталь закаленную разгрызть зубами,
Путь процарапать сквозь гранит ногтями,
Нырнуть вниз головой в очаг горящий,
Жар собирать ресниц своих совками,
Взвалить на спину ста верблюдов ношу,
Восток и Запад измерять шагами —
Все это для Джами гораздо легче,
Чем голову склонять пред подлецами.
* * *
Ночью сыплю звезды слез без тебя, моя луна.
Слезы света не дают, — ночь по-прежнему темна.
До мозолей на губах я — безумный — целовал
Наконечник той стрелы, что мне в сердце вонзена.
Здесь, на улице твоей, гибли пленники любви, —
Этот ветер — вздохи душ, пыль — телами взметена.
Если вдруг в разлуке стал я о встрече говорить —
То горячечный был бред, вовсе не моя вина!
С той поры, как ты, шутя, засучила рукава —
Всюду вздохи, вопли, кровь, вся вселенная больна.
О рубинах речи нет, нынче с цветом губ твоих
Сравнивают алый цвет роз, нарядов и вина.
По душе себе Джами верования искал, —
Все религии отверг, лишь любовь ему нужна.
* * *
Похитила ты яркость роз, жасминов белых диво,
Твой ротик — маленький бутон, но только говорливый.
Уж если ты не кипарис, друзьям скажу: насильно
Меня, как воду на луга, к другим бы отвели вы!
Долина смерти — как цветник: спаленные тобою,
Ожогом, как тюльпан внутри, отмечены красиво.
Едва ли я настолько храбр, чтоб не были страшны мне
И завитки твоих волос, и смеха переливы.
Бродя в долине чар любви, чужбины не заметишь,
Никто там даже не вздохнет о доме сиротливо.
Начав описывать пушок над алой верхней губкой,
Бессильно опустил перо Джами красноречивый.
* * *
По повеленью моему вращаться будет небосклон.
Он отсветом заздравных чаш, как солнцем, будет озарен.
Найду я все, чего ищу. Я Рахша норов укрощу,
И будет мною приручен неукротимый конь времен.
Друг виночерпий, напои тюрчанку эту допьяна,
За все превратности судьбы тогда я буду отомщен.
Сладкоречивый соловей, ты стал красивым, как павлин, —
Так хочет вещая Хума, попавшая ко мне в полон.
По вечерам сидим и пьем и снова пить с утра начнем,
Ведь это лучше, чем, молясь, бить за поклонами поклон.
Джами как будто сахар ел, так сладость дивных уст воспел,
Что сладкогласый соловей был восхищен и вдохновлен.
Бог только начал прах месить, чтоб нас, людей, создать, —
А я уже тебя любил, страдая, стал желать.
Ты благость с головы до ног, как будто вечный бог
Из вздоха создал облик твой, твою живую стать.
Под аркой выгнутых бровей твой лик луны светлей,
И свод мечети я отверг, стал на тебя взирать.
Не веришь ты моей любви, хоть все кругом в крови,
То взглядов горестных моих кровавая печать.
Умру я с просьбой на устах: смешай с землей мой прах,
Чтоб склепы бедных жертв твоих плитою устилать.
Убей меня и кровь мою в свой преврати ковер,
Затем, что дней моих ковер судьбе дано скатать.
Зачем мне рай в загробной мгле, — есть радость на земле.
Рай для Джами там, где тебя он сможет увидать.
* * *
Моя любовь к тебе — мой храм, но вот беда,
Лежит через пески укоров путь туда.
Где обитаешь ты, там — населенный город,
А остальные все пустынны города.
Взгляни же на меня, подай мне весть — и буду
Я счастлив даже в день Последнего суда.
Ведь если верим мы в великодушье кравчих,
Вино для нас течет, как полая вода.
Смолкает муэдзин, он забывает долг свой,
Когда проходишь ты, чиста и молода.
Что написал Джами, не по тебе тоскуя,
Слезами по тебе он смоет навсегда.
* * *
Как взгляд твой сверкает и локон блестит золотой,
Моя периликая, как хороша ты собой!
Воспеты поэтами родинки на подбородке,
А я воспеваю твою, что над верхней губой.
Нет большего блага, как ждать от тебя милосердья,
Вздыхать, и рыдать, и повсюду шагать за тобой.
О пери моя тонкостанная, стан твой походит
На стройную пальму, сулящую плод неземной.
Когда тебя нету, темно мне не только средь ночи,
Коль нету тебя, я и в полдень хожу, как слепой.
Наука любви недоступна глупцам и невеждам,
Я эту науку постиг, но не выиграл бой.
Джами, как собака, у двери твоей притаился,
Я славлю свой жребий, — он мне предназначен судьбой.
* * *
От женщин верности доселе я не видел,
От них лишь горести, — веселий я не видел.
Меня не видя, так меня терзает злая,
Что плачу: злость ее ужели я не видел?
Так много волшебства в ее глазах прекрасных,
Какого и в глазах газели я не видел!
К чему ей говорить, что я скорблю всем сердцем?
Чтоб луноликие скорбели, — я не видел.
Пусть плачет только тот, кто мне сказал: «Чтоб слезы,
Струясь из ваших глаз, кипели», — я не видел!
Как мне расстаться с ней? Мы с ней — душа и тело,
А жизни без души нет в теле, — я не видел!
Любовь — недуг, но как избавимся от боли?
Джами сказал: «Лекарств и зелий я не видел!»
* * *
Вот и праздник настал, а нигде ликования нет, —
Только в сердце моем, хоть ему врачевания нет.
Разве праздничный дар поднести я отважусь тебе?
Для меня, признаюсь, тяжелей испытания нет.
Путных слов не найду и в смущенье лишь имя твое
Бормочу, бормочу, — толку в том бормотании нет.
Не Хосрову мечтать о Ширин: лишь Фархаду дана
Той любви чистота, в коей жажды слияния нет.
Как злодейка тебя ни изранит, терпи и молчи:
Нежносердна она, не выносит стенания, нет!
Вижу я, горячо в дерзком сердце клокочет любовь,
Но основа слаба — значит, прочности здания нет.
Пал ей в ноги с мольбою Джами — и услышал в ответ:
«Символ веры наш, знай, — в красоте сострадания нет!»
* * *
Попугай об индийских сластях говорит,
А душа о прекрасных устах говорит.
Намекает на эти уста, кто в стихах
Об источнике в райских садах говорит.
Держит сторону нашу теперь мой кумир,
С небреженьем о наших врагах говорит.
Взгляд ее — словно два обнажённых меча,
Но она о спасенье в мечтах говорит.
К песне ная прислушайся, странник, — о чем
Он, стеная в ночах, на пирах говорит.
Он, рыдая, о муках разлуки поет,
Он о сладких, как сахар, губах говорит.
Чтоб Джами уничтожить, не нужно меча, —
Твой прищур мне о стольких смертях говорит.
* * *
Дом на улице твоей я хочу приобрести,
Чтобы повод был всегда близ дверей твоих пройти.
Сердце б вынул, если б мог, бросил бы на твой порог,
Чтоб для стрел своих мишень рядом ты могла найти.
Не хочу держать бразды и тобой повелевать,
Лучше ты удар камчи мне на плечи опусти.
Адским пламенем грозит проповедник городской.
Ад любви моей — страшней, от него нельзя спасти.
О Юсуфе, о его красоте смолкает быль,
Стоит людям о тебе речь живую завести.
Блеск воды твоих ланит, родинки твоей зерно
Приоткрой, к зерну с водой птицу сердца подпусти.
Да, Джами пусть будет псом, но не у любых дверей,
У порога твоего пусть покоится в чести.
* * *
Друзья, в силках любви я должен вновь томиться!
Та, что владеет мной, — поверьте! — кровопийца!
К ней полетела вдруг душа, покинув тело, —
Из клетки выпорхнув, в цветник попала птица.
Товару каждому — свой покупатель всюду:
Стремимся мы к беде, святой к добру стремится.
Увы, в ее покой пробрался мой соперник, —
Так с розою шипу дано соединиться!
Мы знаем: простака опутает мошенник, —
Мой ум опутала кудрями чаровница!
Закрыв глаза, во сне я лик ее увидел:
Что видит наяву другой, — мне только снится.
Джами, ты терпишь гнет владычицы покорно,
Но где же твоему терпению граница!
* * *
Сернам глаз твоих подвластны львы — всевышнего сыны…
Что за серны, если ими даже львы побеждены?
От любви к тебе пылает и становится звездой
Каждый вздох, что достигает многозвездной вышины.
Проповедник постыдился, увидав твои уста,
Восхвалять вино и розы райской радостной страны.
За сто лет затворник в келье капли хмеля не вкусил, —
Как дойдет рассказ об этом к тем, кто страждет без вины?
Я челом коснулся праха у твоих дверей; боюсь, —
Прах на лбу развеян будет ветром дальней стороны.
Даже только половиной пламени души моей
Могут семь небесных сводов быть внезапно сожжены!
Взял Джами с собой в могилу о твоих устах мечту, —
Муравей с зерном уходит в тишь подземной глубины.
* * *
Сказал я: «Ты мне сто мучений приносишь ежечасно».
Сказала: «Пусть не будет меньше, а больше, — я согласна!»
Сказал я: «Все дела забыл я, к твоим кудрям влекомый!»
Сказала: «Но дела — не кудри, запутать их — опасно».
Сказал я: «Сколько слез-жемчужин из-за тебя я пролил!»
Сказала: «Влагу изобилья ты пролил не напрасно!»
Сказал я: «Согнут я, как перстень, на нем алмазы — слезы!»
Сказала: «Начертай на перстне, что ты мне предан страстно».
Сказал я: «От клейма разлуки моя душа пылает».
Сказала: «От клейма избавься, такая боль ужасна».
Сказал я: «Исцели мне сердце врачующей стрелою».
Сказала: «Стрелы превращаю в лекарство самовластно».
Сказал я: «Все живое в мире полно к тебе любовью».
Сказала: «Всем влюбленным — слава! Джами, любовь прекрасна!»
* * *
Речь из уст твоих сладка, но уста — милее, слаще,
Сладок, светел юный смех, но сама — светлее, слаще.
Сладкозвучием с тобой соловей не в силах спорить,
Несмотря на то, что он в мире всех звучнее, слаще.
Губы сладостны твои для измученного сердца,
А для глаз, что слезы льют, — и того нужнее, слаще.
Горечь жизни я познал, в муках истомилось тело,
Ты — как нежная душа, — нет, еще нежнее, слаще!
Хоть и сахарно перо тростниковое, — художник
Образ твой не воссоздаст: образ твой живее, слаще!
Видишь сахарный тростник? Сладок, тонок он и строен,
Но его затмил твой стан, — тоньше он, стройнее, слаще!
Разве странно, что Джами восхвалил тебя так сильно?
Где найти ему слова — горячей, сильнее, слаще?
* * *
Я старым стал, но к молодым стремлюсь я снова, как и прежде.
Бессильно тело, но душа любить готова, как и прежде.
В ряду зубов открылась брешь, но губы свежие подруги
Милей, желанней для меня всего живого, как и прежде.
Седыми стали волоса, я исхудал, как волос, тонок,
Но стан, что тоньше волоска, влечет седого, как и прежде.
Весть о тебе дарует жизнь всем, кто сто лет лежит в могиле,
Пусть ты молчишь, но твоего мы жаждем зова, как и прежде.
Ты — на коне, а я — твой прах. О, как твое задену стремя?
Из-под копыт пыль не взлетит до верхового, как и прежде!
Я сжал уста и, как бутон, затих, — тогда в меня вонзились
Колючки злого языка, навета злого, — как и прежде.
Джами, хотя в твоем стихе былого блеска не осталось,
Еще ты можешь посрамить умельцев слова, как и прежде!
* * *
Беда нам от этих бесхвостых и короткоухих ослов, —
Ведь каждый из них, лицемеров, прикинуться шейхом готов.
Дня три у глупца и невежды мюридами служат они,
А в нем — ни прозренья, ни знанья, ни подлинной веры отцов.
Сияния истины высшей на нем не покоится луч,
В нем пламя любви не пылает, божественных нет родников.
Начнет говорить он — и сразу внимающий молит судьбу,
Чтоб он замолчал поскорее, — уж так его бред бестолков.
Когда ж наконец замолчит он, — не только твоя голова,
Болят даже плечи и шея от этих бессмысленных слов.
Всем сердцем я жажду услышать оттуда, где льется вино,
Призывы: «Налей, виночерпий!» — и вопли хмельных голосов.
Храни же, аллах милосердный, меня, правдолюбца Джами,
От ханжества в синих одеждах — от этих зловредных глупцов.
* * *
Иной себялюбивый шейх, что благочестьем знаменит,
Не святость в глубине души, а ложь и ханжество таит.
Пускай он мнит, что лучше всех святые таинства познал.
Их смысл с начала до конца от разума его сокрыт.
Завоевать стремится он сердца доверчивой толпы,
Зато навеки от себя сердца достойных отвратит.
Он расставляет сети лжи, — но помешай ему, аллах,
Иначе наше счастье он, как птицу, в клетку заточит.
А нищий старец — как он мудр! Пир для души — беседа с ним,
Из чаши святости своей он и пророков напоит.
Из книги выгод и заслуг он имя вычеркнул свое,
Зато тетрадь его души немало добрых дел хранит.
Джами, бессмысленным скотом пускай считает разум твой
Того, кто мудрецов таких не чтит и не благодарит.
* * *
Омыть поток кровавых слез пыль у твоих дверей стремится.
Горят уста, и раб любви к тебе, к душе своей, стремится.
Ты в мире шествуешь, и нет тебе заботы до него,
Но целый мир к твоей тропе дорогою страстей стремится.
«Приди ко мне, приди ко мне!» — к тебе взываю горячо
Я, как богатый хлебосол, что залучить гостей стремится.
Ведь сердце жадно встречи ждет с желанным именем твоим, —
И слух мой жаждет, и язык произнести скорей стремится.
Ты на поверженного тень не бросишь с дерева сидра:
Хума на нем свила гнездо, к моим костям не ей стремиться!
Я в доме скрылся от собак, что охраняют дверь твою.
Я странник в доме у себя. Кто за порог сильней стремится?!
И к этим псам, в их конуру, Джами переселиться рад.
Так странник в истинный свой дом, уставши от путей, стремится.
* * *
Соль сыплет на раны мне сахарный смех твоих лалов и жемчугов,
О, как ты прекрасна, божья газель, лань заповедных лугов!
Когда ты явилась в блеске живом тонкой твоей красоты,
Превыше ангела человек! — решил совет мудрецов.
Невидимой, пери, не становись, померкнет мир без тебя!
Ты людям — свет глядящих зениц, зеницам — огонь зрачков.
Золото преданности моей без примеси я храню,
И пробный камень моей любви к любым испытаньям готов.
Увы! Неславное имя мое — пятно в посланье твоем.
Пусть смерть мечом мое имя умчит из вертограда слов.
Сердце одно у меня, и одно — у похитившей сердце мое!
Где ж сердце сможет сердцу сказать, как путь его был суров?
Джами в беде не по воле небес! Не солнцем вечных высот,
А кругом солнца твоей красоты он ввергнут в путы оков.
* * *
Когда умру, хочу, чтоб кости мои в калам ты превратила.
Чтоб сердце на скрижали праха всю повесть муки начертило.
Промчись над головой моею на Рахше твоего тиранства.
Пусть мне пригрезится, что в мире меня ты вовсе не забыла.
Михраб твоих бровей увидя, имам от кыблы отвернется —
И склонится перед тобою в огне молитвенного пыла.
Из глаз моих струятся слезы, из сердца льется кровь живая.
Где мне спастись? Потоком бурным она жилище затопила.
Твой переулок мне — Кааба, там проливай ты кровь влюбленных.
Вокруг святыни той пустыня от жажды яростной изныла.
Лицом к следам твоих сандалий я прикасаюсь… О блаженство,
Когда бы ты стопою лёгкой на лик страдальца наступила.
Мне тесен круг существованья с тех пор, как я с тобой в разлуке.
Перед Джами теперь пустыня простор неведомый открыла.
* * *
Кровью сердца без тебя грудь моя обагрена.
И кровавая глаза покрывает пелена.
Торжество свое справляй, но меня не добивай,
Жалок я, но жизнь моя вся тебе посвящена.
Завитки твоих кудрей — звенья тягостных цепей,
Ими в бездну завлечен, что безумия полна.
От пушистых тех колец обезумел я вконец,
Поводырь мой, я — слепец, без любви мне жизнь темна.
Чем расспрашивать о том, чем живу я день за днем,
Погляди — и ты поймешь, как судьба моя грустна.
Или спросишь ты тогда, что со мною за беда,
Иль клинок свой обнажишь, чтобы кровь текла красна.
Плоти я, Джами, лишен, скорбный вздох я, долгий стон,
Я рыдающий рубаб, в песне боль моя слышна.
* * *
Когда ты ночью ляжешь спать, хочу побыть с тобой вдвоем.
Хочу, светильник засветив, безгрешно любоваться сном.
Ресницы прикрывают взор, они меня подстерегли,
И мне мерещится везде бровей приподнятых излом.
Я волю смелым дал мечтам: я припаду к твоим устам,
Покрыта верхняя губа благоухающим пушком.
Хочу вечернею тропой идти неслышно за тобой,
Тебя везде сопровождать, быть тенью на пути твоем!
Отдав поклон тебе земной, я к ветерку бы стал спиной,
Чтоб пыль порога твоего с меня не сдуло ветерком.
Тебе я отдал сердца жар, тебе вручаю душу в дар:
Зачем ты угрожаешь мне несправедливости мечом?
Джами, о том не сожалей, что верен ты любви своей,
Нет веры у тебя иной, ты изуверился во всем.
* * *
Я твой раб, продай меня — беглым стану я рабом.
Хоть сто раз меня продашь, приползу сто раз в твой дом.
Соглядатаем меня в раздраженье не зови,
Мне почетнее прослыть стерегущим двери псом.
У меня не хватит сил удержать сердечный пыл,
Хоть, наверно, сотни раз сердце я просил о том.
Душу так мне пламень жжет, что затмился небосвод,
Я, как зеркало, его вытираю рукавом.
Но всегда, когда стрелой ты грозишь мне, ангел злой,
Дни твои прошу продлить, не печалюсь об ином.
Заявляю с похвальбой, что я пес покорный твой, —
Уличенный в хвастовстве, замолчу я со стыдом.
Только ты мне не тверди: «Пой, Джами, иль прочь поди!»
Эту песнь сложила страсть в упоении слепом.

 Миниатюра из рукописи XVI в. Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.
Миниатюра из рукописи XVI в. Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.
 Миниатюра из рукописи XVI в. Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.
Миниатюра из рукописи XVI в. Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.
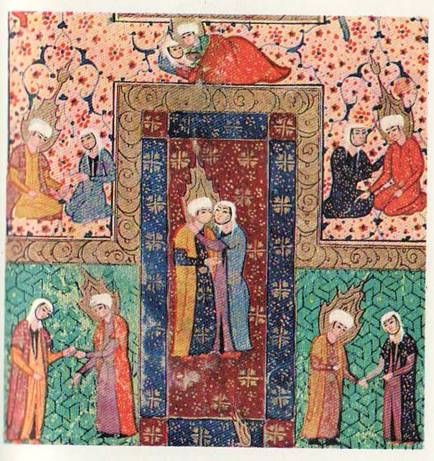 Миниатюра из рукописи XVI в. Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.
Миниатюра из рукописи XVI в. Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.
 Миниатюра из рукописи XV в. Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.
Миниатюра из рукописи XV в. Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.


Последние комментарии
3 часов 37 минут назад
9 часов 21 минут назад
10 часов 28 минут назад
11 часов 26 минут назад
11 часов 40 минут назад
20 часов 51 минут назад