Тревожное счастье [Иван Петрович Шамякин] (fb2) читать онлайн
- Тревожное счастье (пер. Павел Семенович Кобзаревский, ...) 2.52 Мб, 574с. скачать: (fb2) читать: (полностью) - (постранично) - Иван Петрович Шамякин
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]

Иван Шамякин
ТРЕВОЖНОЕ СЧАСТЬЕ
повести

НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА
повесть первая

Перевод П. Кобзаревского

I
Петро «проголосовал». Машина не остановилась: вероятно, вид его не произвел на шофера надлежащего впечатления, но сам путник думал о себе иначе: в восемнадцать лет он был до краев переполнен самыми радужными надеждами и мечтами, без гонора и зазнайства считал, что он человек интересный и одет для своего студенческого положения прилично, и потому имеет право на внимание. Однако он не обиделся и не возмутился, хотя и не первый водитель так безучастно проехал мимо. Проводив взглядом машину, он опять с наслаждением растянулся на придорожной скамейке в тени сосен, положив голову на свой потертый клеенчатый портфель, переполненный, как и голова студента, мечтами. Но в портфеле они лежали в виде дневников, где добрая половина событий была выдумана, и в виде стихов — наивных, но искренних, потому что все они посвящались ей. Петро лежал на спине и смотрел в бездонную синеву августовского неба. Он думал о Саше. Иногда бывает трудно представить себе дорогие черты близкого человека, если очень хочешь это сделать. Но сегодня Саша представлялась ему так ясно, словно стояла рядом. Может, из-за этого он и не спешил добраться до места. Нет, он медлил и, сойдя с поезда, не бросился бежать тридцать километров пешком, как делал это позже по иной причине. В душе было то странное чувство, которое мы нередко переживаем, особенно в юности, когда вместе с сильным желанием, с непреодолимым стремлением скорее достигнуть цели в душу закрадывается тревога, неуверенность. Эту тревогу ощущал и Петро. Одно дело встречаться вечерами, говорить о высоких материях, целоваться в тихой улочке Гомеля и совсем другое — приехать к ней в гости, остановиться в доме, где живет и она. Три месяца они не виделись! Сколько утекло воды за это время! Он ездил на практику в далекий город, а она окончила фельдшерскую школу и поехала работать в ту деревню, куда ему надо как-нибудь добраться. Она уже самостоятельный человек, у нее новые знакомые — сколько в деревне учителей и других хлопцев! Горячее и неприятное чувство обожгло грудь — страшное, хоть и безосновательное, чувство ревности. Почему два ее письма были такими короткими? «Прости, нет свободной минутки!» Сдавала экзамены — находила время писать письма на нескольких страницах. А тут, в деревне, вдруг не хватает времени, словно на ее участке все сплошь больные. Правда, в последнем письме она сама пригласила его приехать в гости. Но какое приглашение! Одна фраза в конце, словно между прочим, ради приличия. Вероятно, надеялась, что он не решится приехать. Петро от таких мыслей даже вскочил и забегал вокруг скамейки. Он стал думать о той неслыханно страшной мести, которую он совершит, если — не приведи бог! — она изменит ему. Немного успокоившись, он лег опять. Перед глазами тихо раскачивались ветки сосен. Над самым ухом пронзительно закричал паровоз — рядом прошел товарный состав. Петро улыбнулся: страхи пропали, он опять видел ее глаза, голубые и ласковые, почувствовал на губах тепло ее поцелуев. Нет, она хорошая, добрая, и она любит его искренне. Его вывели из оцепенения голоса и смех. Несколько женщин с корзинками, бидонами и туфлями в руках возвращались из города и сели отдохнуть под соснами. — Тетки! До Холмеч далеко? Петро хитро спрашивал о расстоянии до соседнего местечка, боясь встретить людей из той деревни, где работает она, его Саша, потому что такие люди обязательно стали бы допытываться, к кому он едет. Вопрос он задал просто так, для забавы, потому что давно уже узнал у словоохотливого стрелочника, сколько километров до Холмеч, и не только до Холмеч, но и до каждой деревни по этой дороге. — До вечера пролежишь — ближе будешь, — засмеялась одна из женщин. — Видать, домой так спешит. А мать ждет не дождется, — с упреком сказала старуха. Вероятно, они видели его на этой скамейке, когда еще в город ехали, потому что самая молодая опять пошутила: — К невесте небось давно бы пешком добежал. Слова ее задели парня, ему стало стыдно. Он взял портфель и отошел в сторону, чтоб не слышать их смеха и шуток. Вскоре подъехал грузовик, и женщины, загремев бидонами, начали шумно залезать в кузов. Петро спросил у шофера, можно ли подъехать и ему. — Пять рублей, — потребовал толстый краснолицый человек, больше похожий на директора маслозавода, чем на шофера. Для студента, в чьем кармане лежала всего одна десятка, это было дорого. Он едко сказал краснолицему водителю: — Благодарю за милость, — и пошел назад, к переезду. Женщинам, видно, стало его жалко. Они что-то сказали шоферу и крикнули парню: — Иди садись! Чего там! Может, посватаешься к нашим девчатам. Шофер тоже окликнул: — Эй, ты! На гоноре далеко не уедешь! Садись! Подвезу. Петро не оглянулся. Когда же машина тронулась и пыль немного осела, он повернулся и зашагал вслед за ней — туда, где кончался небольшой сосняк и открывалось широкое поле. Кто шел по дороге от Речицы на Лоев, тот знает, какая это скучная и тяжелая дорога, особенно в летнюю жару. Она тянется по голой равнине, обходя зеленые оазисы деревень, где путник мог бы напиться студеной воды из колодца и отдохнуть в тени верб или вишен. Ни деревца, ни куста, ни единой речушки — только несколько рвов, по которым сбегает в Днепр весенняя вода. А самое мучительное — идти и все время видеть неподалеку, слева, густую стену леса и любоваться с пригорков полосой воды, которая соблазнительно, словно мираж, блестит на солнце среди яркой зелени лугов. Но до Днепра — два-три километра. И, понятно, не у каждого пешехода хватает воли удлинить свой путь на несколько километров, чтобы выкупаться. Раньше дорога шла вдоль самого Днепра, через деревни Жмуровка, Заспа, Леваши, но какой-то дорожный начальник, вероятно никогда не ходивший пешком, решил отвести ее в поле, чтобы сделать более прямой, короткой и более проезжей весной и осенью. Но от этого она не стала ни более короткой, ни более проезжей в непогоду. Правда, в наше время, когда всюду столько машин, даже влюбленные и поэты не ходят пешком. Но так ли это хорошо? Пройти одному по чудесной дороге, в добром настроении — разве это не удовольствие! Сколько передумаешь всего, как славно помечтаешь, поспоришь со своими противниками! А сколько нового — я имею в виду нашего брата писателя — может явиться в этом раздумье, сколько неожиданных и интересных находок!.. Никто тебе не мешает, ты можешь беседовать со своими героями, говорить за них, проверять интонацию их речи, петь, не имея ни голоса, ни слуха, слагать стихи, не имея таланта, — одним словом, можешь делать, что хочешь. Пожалуй, нигде не чувствует себя человек более свободным, чем в дороге, и особенно среди широкого поля, когда все видно далеко вокруг. Петро, как и каждый в его годы, был в душе поэт и добрую половину пути отдавался радужным мыслям. Он не обращал внимания ни на однообразие полей, ни на столбы пыли. Даже Днепр не манил его к себе. Первой прозаической вещью, на которую он вынужден был обратить внимание, оказались его парусиновые туфли. О них нельзя было не подумать. Туфли были самой ненадежной частью его экипировки. Петро присел на запыленную обочину дороги, разулся и, завернув туфли в газету, положил их в портфель, рядом со своим духовным достоянием. Но даже самый счастливый влюбленный и самый вдохновенный поэт в конце концов устает. Тогда пропадает желание мечтать, человек начинает читать цифры на километровых столбах и внезапно замечает, какая, в сущности, это однообразная и тяжелая дорога и как пустынно и печально августовское поле с запыленной стерней и пожелтевшей картофельной ботвой. Усталость пришла вместе с жаждой. Петро достал небольшой кусочек хлеба, взятый тайком в столовой во время завтрака, откусил и долго держал во рту, смакуя солено-сладкий мякиш. Когда он определил по километровым столбам, что нужная ему деревня уже недалеко, то сразу забыл об усталости и жажде; другие заботы овладели им: нельзя явиться к Саше запыленным, с грязными руками и ногами, с пересохшими губами. К счастью, ему удалось найти под мостом через ров лужу дождевой воды. Вряд ли в другое время он согласился бы плескаться в такой воде, но иного выхода не было. Он старательно выбил пыль из брюк и умылся. Освежившийся и подтянутый, приближался он к деревне, окутанной золотистой пылью: заходило солнце, возвращалось с поля стадо. Страх и радость, тревога и надежда, неуверенность и по-юношески задиристая решительность смешивались в дивное, сладостное чувство. Нелегко ему было спросить у женщины, которая с любопытством оглядывала его, где квартирует фельдшерица Троянова. Женщина указала на большую хату со старым кленом под окном. Во дворе Петро увидел девочку лет восьми. Она сидела на крыльце и чистила картошку. — Скажите, Саша дома? — несмело спросил Петро, будто перед ним был не ребенок, а кто-то солидный и очень суровый. — Кто? — не поняла девочка. — Александра Федоровна Троянова, — еще больше оробел он. — А вон она, в саду, — и крикнула: — Тетя Шура! К вам пришли. Петро бросился в сад, будто испугался, что Саша может исчезнуть. Саша лежала под яблоней в знакомом Петру платье и читала. Она не подняла головы, словно ничего не слышала. Потом, значительно позже, призналась, что увидела Петра еще за деревней, на дороге, и тоже испугалась. Она хотела спрятаться и попросить дочку хозяйки сказать, что ее нет дома. Но, поняв, как это нехорошо — наивно и жестоко, она, чтобы не выдать своего страха и волнения, осталась лежать на месте, слушать испуганные удары сердца, разговор Петра с Нинкой, потом его торопливые шаги. Петро остановился в нескольких шагах от нее. Где-то в глубине души вспыхнула искра обиды и ревности: «Писала, что времени нет, а сама в саду полеживает, книжечки читает». Эту искру погасила горячая волна нежности. Он шепотом окликнул: — Саша! Она подняла голову и широко раскрыла свои выразительные глаза; в сиянии вечерней зари ее лицо стало совсем пунцовым. — Ты-ы? Петра ошеломило ее удивление, и он стоял растерянный, беспомощный, жалкий. Саша поняла его состояние, быстро поднялась и протянула руку: — Ну, добрый вечер. Будь гостем. Она села на одеяло. Он пожал ее руку и вяло опустился рядом. — Устал? И этот ее простой и ласковый вопрос растрогал чуть ли не до слез смертельно уставшего парня. Он благодарно взглянул на нее и, не сказав ни слова, припал губами к ее руке. Она отняла руку и отодвинулась. — Не надо. Нинка подсматривает. И вообще, знаешь что? Ты будешь моим братом. — Братом? — Да, я скажу, что ты мой брат. — Зачем? — Не хочу, чтобы в деревне говорили: к докторше, мол, жених приезжал. Раньше они никогда не произносили этих слов — «жених», «невеста»: юности они кажутся грубыми и оскорбительными. Но теперь это слово не оскорбило Петра, а, наоборот, обрадовало. И все же он сказал: — Ладно. Буду братом… кем хочешь… Лишь бы с тобой, Сашок. — Я не думала, что ты приедешь. Хотя мне очень, очень хотелось, чтобы ты приехал. Ты голоден, правда? Возможно, что, растерявшись или чувствуя свою вину перед ним, она делала такие неожиданные переходы — от восторженного признания до вопроса о самом обыденном. Однажды он поклялся, что никогда не скажет ей неправду, а тут почему-то солгал: — Нет, я обедал недавно, в Речице. Я ехал на машине. Саша встала, взяла у него портфель, подняла с земли одеяло. — Идем в хату, — пригласила она и шаловливо блеснула глазами. — Ты привез дневники? — Она любила читать его дневники, хотя верила в них не всему. Проходя под деревом, Саша подпрыгнула и сорвала яблоко. Это как-то сразу успокоило Петра. Дело в том, что в первые минуты ему показалось, что за три месяца их разлуки она очень изменилась, повзрослела и потому стала далекой и чужой. Это испугало его. И вдруг в том, как она сорвала яблоко, он узнал свою Сашу. Раньше при встречах она часто делала так: во время самой серьезной беседы вдруг подскакивала, срывала каштан, веточку липы или просто листок, клала его на руку и «стреляла». Или, когда они выходили вечером за город, вдруг предлагала: «Давай наперегонки!» А как хорошо почувствовал себя Петро, когда они сели за стол друг против друга и пили вкусное холодное молоко с черным хлебом, в котором попадались неразмолотые, хрустевшие на зубах зерна. Поэт в душе, Петро в каждом явлении искал символов. До этого он никогда не сидел с ней за одним столом. За два года почти ежедневных встреч они даже ни разу не подумали зайти вместе в столовую. Они даже в кино не ходили: Саша упорно отказывалась. Потом она призналась, что стыдилась своей одежды; она была из бедной семьи, росла без матери. И вот теперь они сидели за столом, и он не сводил глаз с ее лица. В комнате сгущались сумерки, но он видел ее большие глаза, смотревшие ласково и влюбленно. Она подливала молока и тихо просила: — Пей, не стесняйся. Ты какой-то странный. Он не спрашивал, почему он странный, да она и не смогла бы ответить на это. Саша радовалась его приезду. Но было и неспокойно на душе. Она с тревогой ожидала возвращения хозяйки. И хозяйка, наконец, пришла. Это была молодая вдова, лет тридцати пяти, худощавая, подвижная и не очень разговорчивая. Муж ее трагически погиб на лесозаготовках. Она осталась с двумя детьми, работала дояркой на колхозной ферме, и семья ее жила не хуже тех, в которых были мужчины. Дочка уже сообщила ей еще на улице, что «к тете Шуре приехал брат». Хозяйка сдержанно поздоровалась коротким «здрассте» и быстрым взглядом окинула невысокого широкоплечего юношу с ног до головы. Саша смутилась и неуверенно проговорила: — Знакомьтесь, Аня, это мой брат. Они не протянули друг другу руки. Петро разглядывал хозяйку без особого интереса. Они собрались с Сашей пойти погулять за деревню, подальше от людских глаз, и он хотел, чтобы скорей кончились все эти формальности. «Хозяйка как хозяйка, какое ей дело до нас», — подумал он. Губы женщины насмешливо скривились. — Брат? Даже при слабом свете лампы было видно, как вспыхнуло Сашино лицо: она вспомнила, что почти сразу же после приезда рассказала хозяйке о своих сестрах и единственном брате, даже показывала фотографии. Она уточнила упавшим голосом: — Двоюродный. — А-а, — протянула хозяйка и, схватив подойник, выбежала из хаты. — Ты думаешь, она поверила? — спросил Петро, когда они вышли на улицу. — Пусть. Я потом расскажу ей. Она добрая. Лишь бы молчала теперь. И чтоб дети не разносили по деревне… Это такое «радио»! Они миновали крайние хаты, прошли мимо кладбища, где росли старые и понурые березы, и очутились в чистом поле, залитом светом молодого месяца. Ночь была тихая, душная, крепко пахло ржаной соломой и яблоками. Деревня стояла посреди поля, вблизи не было ни леса, ни речки, ни даже болот, если не считать небольшого грязного пруда на выгоне. Но хаты тонули в зелени садов. Петро остановился, горячо обнял и начал целовать Сашу. Она принимала его поцелуи как обычно: никогда не целовала сама, но ласково обвивала руками шею, прижималась, и он чувствовал, как часто-часто начинало биться ее сердце. — Сашок, если б ты знала, как я скучал все эти три месяца! Как много думал о тебе! А ты еще удивилась, что я приехал. Ты все прочитаешь в дневнике… — О, писать ты умеешь! — Ты не веришь мне? — спросил Петро с притворной обидой. Она взяла его руку и тихонько сжала. — Ты мне лучше расскажи, как вы там жили, в Сибири… Они шли по проселку, и он рассказывал долго и подробно. Саша молчала. Петро с тревогой отметил, что все же она изменилась — стала более тихой, сдержанной. Он рассчитывал, что она посмеется над рассказом о том, как у них не хватило денег на обратную дорогу и как ребята долго решали, что продать, и как продавали его, Петра, авторучку, чемодан еще одного парня и пиджак — другого. Но Саша не засмеялась. Она сказала: — Ты мог бы написать, и я прислала бы тебе на дорогу. У меня в первый раз собралось много денег — и подъемные и зарплата! — и я не знала, что с ними делать. Никогда раньше они не говорили о таких прозаических вещах, как деньги, и, конечно, он ни за что не решился бы просить их у Саши, если бы даже очутился в самом трудном положении. А она говорит о них просто. И это тоже заставило думать, что она изменилась. К лучшему или худшему, Петро не мог решить. Ему всегда казалось, что Саша не похожа на других девушек, что она какая-то особенная, и сейчас боялся, что из-за этой «практичности» Саша станет такой же, как все. Вместе с тем он почувствовал: это ее предложение о деньгах как-то еще больше сближало их и роднило. Растерявшись от противоречивых чувств, он замолчал, так и не досказав, как они продавали на толкучке свои вещи. Да и Саше, видимо, было неинтересно дальше слушать, она думала о чем-то своем. — Ко мне приходил отец, и я отдала ему все деньги, — проговорила она и после непродолжительной паузы добавила: — А потом пожалела. Узнала, что он собирается жениться. Десять лет прошло, как мать умерла, и вдруг… взбрело в голову старику. Я написала ему злое письмо.II
Хата, как большинство хат в белорусских деревнях, состояла из двух половин: передней, треть которой занимает русская печь, обычно она служит кухней и столовой, и задней — чистой. Эта просторная светлица со множеством фикусов, огоньков, роз — ими заставлены все четыре подоконника и часть пола — была Сашиным жильем. Хозяйка с детьми жила в передней. Едва слышно ступая, они прошли через кухню. Не зажигая лампы — светло от луны, — Саша подвела Петра к большой деревянной кровати, стоявшей за печью, и сказала: — Ты будешь спать тут. Ее маленькая, белая, как в больницах, кровать стояла возле окна с другой стороны печи. Петро торопливо разделся и нырнул под свежую, слегка влажную простыню, приятно пахнувшую мылом и каким-то лекарством. Затаив дыхание, он слушал, как за печкой раздевалась Саша. Какое это неповторимое и ни с чем не сравнимое чувство — впервые слышать, как в трех шагах от тебя, в одной комнате, раздевается девушка, кажущаяся тебе, влюбленному, сказочно прекрасной, ставшая для тебя самым любимым и дорогим человеком на свете. Ты боишься оскорбить даже взором ее чистое полунагое тело… Это высокое человеческое чувство, которое, к сожалению, мы часто утрачиваем в зрелые годы. Сердце у Петра сперва замерло и будто остановилось, а потом стало биться часто-часто и радостно-тревожно, как всегда перед неведомым, таинственным и большим событием в жизни. Саша легла. Петро замер в ожидании этого неведомого. Она спросила: — Ты еще не спишь? — и вздохнула, а через минуту пожелала: — Спокойной ночи. Он ответил: — Спокойной ночи. И, еще более взволнованный, начал с юношеской наивностью искать скрытый смысл и в ее вопросе, и во вздохе, и в пожелании. Почему она спросила, спит ли он? Разве можно так быстро заснуть даже самому усталому человеку? Он вспомнил наставления своих старших друзей-студентов, уверявших, что мужчина должен быть смелым и решительным в любой обстановке. Но их решительность в отношении девушек всегда возмущала Петра. А почему она вздохнула? Он вспоминал каждое ее слово, произнесенное в этот вечер. Он начал искать другой смысл в приглашении и даже в том, как она удивилась и растерялась, когда он неожиданно явился перед ней в саду. Снова вспомнились «теоретические» рассуждения друзей о девушках. Эти рассуждения оскорбляли Петра. С одним своим другом он из-за этого поссорился навсегда. При всей своей чистоте и юношеской стыдливости он отлично понимал, что в конце концов их любовь должна привести к тому, что они станут мужем и женой, и он трепетно хотел этого. Но как относится к этому Саша? Если бы она хотела стать сейчас его женой, то не выдавала бы его за брата. Честный в своем поведении, во всех чувствах, Петро и подумать не мог о том, что ему следует проявить смелость и пойти к ней. Это может обидеть Сашу, опорочить — хозяйка, очевидно, не спит. Однако, не совсем уверенный в том, что Саша не хочет этого, он наивно ожидал, что она придет сама. Саша повернулась на кровати, и он затаил дыхание, в сердце затрепетали радость и страх. Нет, опять тишина. А время летело. Более короткими стали на полу тени от цветов. Уже давно пропели первые петухи. За стеной вскрикнул сын хозяйки: вероятно, и во сне гонял коров. Петро, наконец, не выдержал и шепотом окликнул: — Саша! Она не ответила. — Сашок! Он поднялся и выглянул из-за печки. Лунный свет падал на ее лицо, на рассыпанные по подушке золотистые волосы. Саша спокойно спала. Ему стало стыдно, и он торопливо вернулся на кровать. Саша разбудила его утром довольно поздно. — Ну и соня же ты! Проснись! — смеялась она, тормоша его, как ребенка. Петро раскрыл глаза и онемел от восторга: он впервые видел Сашу в белом халате, в марлевой косынке, и этот наряд так шел к ней! — Я уже столько больных приняла, а ты все еще спишь. Вставай, завтракать будем. Он не удержался, привлек ее к себе и поцеловал. Это увидела через открытую дверь хозяйкина дочка. Выйдя во двор, где мать что-то делала по хозяйству, девочка сразу же сообщила ей: — А знаешь, мама, они целуются. — Кто? — Тетя Шура и ее брат. Мать почему-то рассердилась и накричала на дочку. На завтрак хозяйка подала остывшую картошку, огурцы и миску простокваши. На взгляд Петра, это был обычный крестьянский завтрак. Дома он питался не лучше. К тому же он был в таком радостном настроении, что, если бы ему не дали есть целый день, вряд ли он заметил бы это. Саша почему-то вдруг покраснела и укоризненно воскликнула: — Аня?! — И больше ничего не сказала, надеясь, что хозяйка поймет и так. Но та сделала вид, что ничего не понимает, и начала суетливо куда-то собираться. — У нас, Шурочка, несчастье: коровы начинают болеть ящуром. Работы нам теперь, дояркам!.. Может, я на обед не приду, так вы тут сами… Петро с аппетитом ел картошку с огурцами и, ни о чем не догадываясь, удивлялся, почему Саша, такая веселая несколько минут назад, вдруг словно загрустила или смутилась. Она почти ничего не ела и не потчевала его, как вчера вечером. Сидела молча, хмурилась и лепила из хлебного мякиша шарики и звездочки. — Что с тобой, Саша? — Ничего, — раздраженно ответила она и поднялась, но, видимо, спохватилась — ласковая улыбка осветила ее лицо. — Завтракай и приходи ко мне в амбулаторию. Амбулатория помещалась рядом, в бывшей кулацкой хате, большой и пустой. Одна половина ее служила комнатой ожидания. Здесь вдоль стены тянулась длинная скамья, на подоконнике лежали журналы и медицинские брошюры, на стене висели плакаты об уходе за грудным ребенком. В другой комнате стоял низкий стол с регистрационными книгами, два венских стула, старый, но крепкий диванчик, застланный простыней и клеенкой. За стеклом небольшого шкафчика блестели инструменты, бутылочки и склянки. Одним словом, было все, что полагается иметь в учреждении, где лечат людей. В этой комнате, хотя хата глядела окнами на юг, было прохладно, сыровато, пахло плесенью и лекарствами. Но запахи эти не раздражали Петра, а казались ему даже приятными. Вообще он чувствовал себя здесь довольно уютно. Сознание того, что это Сашина амбулатория, что она здесь хозяйка и что он имеет право сидеть тут, рядом с ней, такой близкой и любимой, радовало его. Больные не приходили — почти все побывали утром, и Петро с Сашей сидели вдвоем, весело разговаривали. Вспоминали общих друзей, разные смешные истории, рассказывали друг другу о прочитанных за последнее время книгах. — А я еще раз перечитал «Что делать?», и мне не понравилась жизнь Веры Павловны. Не понимаю, почему тебе хочется жить так, как она, — сказал Петро. — Я и сейчас мечтаю жить, как она. Работать вот так, любить — и больше ничего. — И никогда не иметь детей? — впервые решился он на такой смелый вопрос. Она удивленно взглянула на него. — Детей? Я никогда не думала об этом. — Она помолчала, задумчиво кусая ноготь. — Нет, ребенка я бы хотела когда-нибудь иметь. Но, знаешь, я вот смотрю на семьи, где муж, жена, дети, и мне страшно становится — как некрасиво люди живут… грубо. Я не хочу так жить! Петро приблизился и обнял ее сзади за плечи, коснулся губами ее мягких волос. — Мы с тобой, Сашок, будем жить красиво. Она как-то сжалась от этих слов, будто защищаясь от удара, ссутулила плечи. — А мне почему-то кажется, что мы никогда не будем вместе. — Ну что ты! — испугался он. — Я не могу представить тебя… мужем. — Ей, видимо, было трудно произнести это слово, и она брезгливо поморщилась и застучала фонендоскопом по столу, будто хотела заглушить его слова. — Я не хочу, чтоб ты стал как все… Я хочу, чтоб ты всегда был таким, каким живешь в моих мечтах. Я боюсь, что, если это случится, померкнет все светлое в наших отношениях, в моей душе… Все, все… — Сашок, жизнь есть жизнь. И вряд ли мы будем исключением… Мы — люди. — О, какой ты стал! — удивилась она и, энергичным движением освободившись из его объятий, отошла к окну и села на подоконник. Петро сам удивился своей смелости и житейской «мудрости»: никогда раньше он не решился бы сказать такое и вообще рассуждал об этом так же, как сейчас она. Когда же у него появились эти мысли? Вчера он испугался, что Саша стала слишком практичной и рассудительной, а сегодня получается наоборот. Саша думает по-прежнему, а он — как все. Этого «как все» они всегда боялись. Наивная юность! Тебе всегда кажется, что ты исключительная, что ты самая умная, не похожая на всех, и желания у тебя непостижимые! К тебе не сразу приходит сознание того, что «как все» — это не упрек; не сразу ты начинаешь понимать, что красота не в твоих неземных мечтах, не в твоем стремлении к исключительности, а в жизни людей, — ведь это они создали самое красивое, благородное, полезное и разумное и в быту, и в искусстве, и в отношениях между собой — в любви, в семье. С осознания этих простых истин и начинается твоя настоящая зрелость, юноша. Возможно, что и Петро в тот день сделал шаг от наивной юности к зрелости, хотя шаг этот был едва заметным. Но многое значило уже и то, что его впервые не испугала мысль, что он рассуждает, как все. — Ты почему села там? — спросил он. — Тебя боюсь, — лукаво ответила Саша. — А я тебя и там поцелую. Она загородилась руками. — Не подходи, люди с улицы смотрят. Тише, кто-то идет сюда. Она соскочила с подоконника, села за стол. В амбулаторию вошла молодая женщина, застенчиво поздоровалась. — Тебе, Петро, придется пойти погулять, — сказала Саша. За порогом он услышал, как женщина сказала: — А я думала, это доктор из Речицы. Петро пошел в сад. В бывшем кулацком саду, который занимал не меньше гектара, стояли ульи колхозной пасеки. Пасечник, мужчина средних лет, неприветливо спросил у Петра: — Ты кем приходишься докторше? — Я? Братом. — Рассказывай сказки! Знаем мы таких братьев, сами были такими… Когда женщина вышла, Петро, вернувшись в амбулаторию, рассказал о разговоре с пасечником. Саша засмеялась. — А мне все равно, пусть думают, что хотят. Это я вчера почему-то испугалась. Теперь мне перед Аней неловко: она, видимо, обиделась. Это признание Петру очень понравилось. Они опять разговаривали о будущем, спорили, по-разному представляя себе его, а точнее сказать, представляя довольно туманно, книжно. Особенно далекие от действительности идеалы рисовала Саша. И все же беседа окрылила Петра, наполнила самыми радужными надеждами. Но такое настроение продолжалось недолго. Хозяйка к обеду не пришла. Саша погремела у печи заслонкой, чугунами и заглянула в комнату, где сидел Петро. Она опять была чем-то смущена. — Подожди минуточку. Она куда-то выбежала и через несколько минут вернулась с узелком в руках. — Борщ невкусный, давай будем пить сырые яйца и есть яблоки. И Петро вдруг понял все. Понял, что хозяйка не от бедности подала такой завтрак, что до этого она кормила свою квартирантку хорошо, вкусно. А холодная картошка с огурцами и какой-то постный борщ на обед — все это протест против его приезда. Она почему-то невзлюбила его с первой минуты и вот так выказывает свою неприязнь и, возможно, хочет поскорее выпроводить. Парню стало очень обидно — обидно за Сашу, за себя. Он пошел умываться, лишь бы оттянуть время и не сразу садиться за стол, как-то успокоиться. Он видел разных людей. Его отец был не особенно щедрым человеком, но такой поступок хозяйки, которую Саша в письмах хвалила, поразил его. Он сел за стол не с радостным чувством желанного гостя, а с горьким чувством — а в юности оно особенно остро! — незваного гостя, дармоеда, который ест чужой хлеб. И хотя он знал, что яйца и яблоки Саша купила, легче от этого не становилось. Он старался не подать виду, что все понимает, пытался шутить и смеяться, однако боялся взглянуть Саше в глаза. Девушка тоже чувствовала себя неловко. Пропало светлое настроение, охватившее их во время беседы в амбулатории. Чтобы как-то развеять неловкость и осудить хозяйку, Саша сказала: — Я думаю менять квартиру, — но, вздохнув, призналась: — Хотя мне жалко, тут все рядом. Под «всем» она подразумевала амбулаторию. Никогда раньше менять квартиру она не собиралась, потому что была очень довольна и квартирой и своей хозяйкой. Петро не ответил — притворился, что его мало интересуют ее бытовые дела. Сразу же после обеда Саша пошла на ферму. Она сердилась и хотела решительно заявить Ане, что, если еще раз будет такая картошка и такой борщ, она больше столоваться не станет. Однако решительности ей хватило ненадолго. Увидев хозяйку, Саша сказала смущенно и вежливо: — Вы не думайте, Аня… Я заплачу вам за все, пока будет… брат… Хитрая женщина прикинулась удивленной и доброй. — А разве я, Шурочка, говорю что-нибудь? Эх! Да пусть будет месяц… сколько хочет. Человек он хороший, тихий. Разве он мне мешает? Я всегда гостям рада. Только время такое — свободной минутки нет. — Но чтоб все было… — Саша хотела сказать: «Не так, как сегодня» — и опять не решилась: — Чтоб было хорошо… чтоб мне не было стыдно… — Эх, Шурочка! Разве вы меня не знаете? Мне даже обидно слушать… По дороге с фермы Сашу догнал ехавший в телеге взволнованный молодой человек; он искал ее. И Саша, не предупредив Петра, поехала в соседнюю деревню. Она не думала, что долго задержится там. Петро, у которого и без того было скверно на душе, сидел в хате и заставлял себя читать, хотя чаще, чем в журнал, смотрел в окно и прислушивался к шагам во дворе, к стуку калитки — не идет ли Саша. Так ждал он часа два, потом выбежал из комнаты, помчался в амбулаторию. Там висел замок. В саду Саши тоже не было. Петро спросил у хозяйкиной дочки, не знает ли она, куда пошла тетя Саша. — Тетя Шура? Наверно, к больному вызвали, — совсем по-взрослому успокоила девочка. Его почему-то разозлило, что все зовут ее Шурой. Он не любил это ласкательное имя и раздраженно сказал девочке: — Не Шура, а Саша. Запомни это. — А все зовут Шурой. — Все — дураки. До этого он как-то стеснялся показываться на улицах, а тут смело зашагал по селу, заглядывая в окна. Возможно, она где-нибудь в одной из хат? Чем занята? Может, она увидит его из окна, выйдет и объяснит, почему она пропала? Когда стемнело и в хатах зажглись огни, беспокойство стало расти и вдруг сменилось страшной ревностью. Петро ходил вокруг квартиры и амбулатории, не зная, что делать, куда еще броситься в этой чужой деревне с чужими людьми, которые, как казалось Петру, относятся к нему, как и хозяйка, неприязненно, враждебно. При мысли, что Саша сейчас, возможно, на свидании с другим, у него темнело в глазах. Он повторял самые безжалостные слова, которые скажет ей. Он вспоминал разговор, который днем так обрадовал его, и теперь переоценивал каждое Сашино слово: «Ага, так вот почему ты сказала: „Мне кажется, что мы никогда не будем вместе“. Мне теперь понятно, почему тебе так кажется! И ты еще толкуешь о красивых идеалах! Не зря хлопцы говорили, что все вы такие… Нет, нет… Саша, милая, ты не такая, я знаю. Ты искренняя, ты хорошая. Но где ты? Куда ты пропала? Зачем ты издеваешься надо мной?» Хозяйка позвала его ужинать. Он отказался. «Подавись ты своим ужином, скряга этакая!» И вдруг поведение хозяйки он связал с исчезновением Саши. «Может, какой-нибудь родственник… Потому она и хочет меня поскорей выжить. Я уйду, уйду. Но вы еще вспомните меня! — неизвестно кому угрожал он и снова, устыдившись, оправдывал Сашу: — Глупости все это. Не может Саша так кривить душой. Не такая она. Но почему она не сказала, куда пойдет?» В глубокой задумчивости он просидел возле амбулатории до поздней ночи, пока в деревне не погасли огни. Был конец августа, и ночи уже дышали осенью. Стало холодно. Почувствовав озноб, он вошел в хату. Через кухню прошел не тихо, не опасаясь разбудить хозяйку, а нарочно шумно, грохнув дверью. Лег под одеяло, но не мог ни согреться, ни заснуть. Его трясло как в лихорадке, и он подумал: хорошо бы по-настоящему заболеть — ей назло. Саша вернулась на рассвете. Она вошла неслышно и на цыпочках кралась к своей кровати. Он остановил ее громким вопросом: — Где ты была? Она вздрогнула от неожиданности. — Ты еще не спишь? Тише. — Где ты была? — Голос его задрожал от обиды. — У больной. — До утра у больной?! — презрительно проворчал он. — Чудак ты! Принимала роды. Родился мальчик… — Роды? И сразу пропали все его многочасовые страдания, сомнения, разочарования. Опять вернулось ощущение счастья, покоя. Он легко вздохнул и даже тихо засмеялся. В его сердце, кроме любви, появилось к Саше какое-то особенное уважение: она присутствовала при рождении человека — великом таинстве, при котором ему, дорожному технику, вероятно, никогда в жизни не присутствовать! Нет, она не только присутствовала, она помогала родиться человеку, без нее могло бы случиться несчастье. Вот какая она, его Саша! И ему стало страшно стыдно за свою ревность. Какой он глупый! Так плохо думать о Саше! Он тут же поклялся, что никогда-никогда в жизни больше не подумает про нее плохо. — Прости, Сашок, — прошептал он виновато. — За что? — Я ругал тебя… Ты пропала невесть куда. — Извини, что не предупредила, — она подошла и положила ладонь на его горячую голову. — Спи. Он схватил ее руки и прижался губами к ее холодным от эфира, спирта и ночной сырости пальцам. Казалось, кончились все неприятности, наступила пора безоблачного счастья. Но одно — юношеский ум, который способен логично оценить все события, по-философски понять и примириться даже со скупостью хозяйки, и совсем иное — юношеские чувства, над которыми ум подчас не имеет никакой власти. Петро поклялся, что никогда его сердцем не овладеет такое отвратительное чувство, как ревность, и что он не будет обращать внимания на хозяйку и на то, чем она станет его кормить, и назло ей будет жить две недели, а то и больше. (Занятия, в связи с практикой, у них начинались на месяц позже — в октябре.) Но все эти клятвы имели силу до утра, пока он спал. А потом опять начались неприятности. И опять из-за хозяйки. Сколько еще у нас случаев, когда искренняя любовь, самые лучшие чувства и порывы разбиваются об острые скалы материального расчета, жадности или просто человеческой глупости. Если такие препятствия станут на пути к твоему счастью, юноша, смело вступай в борьбу с ними, сталкивай их прочь с дороги, невзирая ни на что! Правда, обстоятельства часто складываются так, что это очень нелегко сделать. Но найди в себе силы спасти свое счастье, иначе его растопчут, загрязнят. …На завтрак хозяйка подала миску картошки и яичницу. На большой сковороде между аппетитными кусочками румяного сала горели солнцами штук шесть желтков. Саша даже посветлела от удовольствия — значит, разговор помог. Когда же сели за стол, обнаружили, что нет хлеба. — А хлеб, Аня? — спросила Саша, думая, что хозяйка забыла подать хлеб. — Хлеба нет, Шурочка. Никак смолоть не могу, неделю бегаю на мельницу. Это же прямо беда. Раньше в одной нашей деревне сколько мельниц было, а теперь на полрайона одна. Кто сидит там, тот мелет. А мне сидеть некогда — коровы ящуром болеют. Моя корова сегодня почти совсем молока не дала, боюсь, не заболела бы. Это такое несчастье будет… Обычно молчаливая, она вдруг стала многословной, говорила о своих несчастьях и о том, как ей трудно жить. Саша не слушала ее, она не поверила, что хлеба нет, и опять почувствовала себя неловко перед Петром. А еще хуже чувствовал себя Петро; картошка застревала в горле, хотя он вчера не ужинал и был голоден. Настроение испортилось опять. Останься Саша с ним на весь день, он бы, возможно, скоро забыл обо всем. Но, как назло, из района приехал инспектор санстанции, молодой парень, и Саша пошла с ним в соседнюю деревню проводить какую-то профилактику. Петро на весь день остался один и не знал, чем заняться. А известно, когда человеку нечего делать, какие только мысли не приходят ему в голову. Правда, приступ нелепой ревности больше не повторялся, но мысли все же были невеселые. На следующий день Сашу еще до завтрака повезли в соседнюю деревню. Приехал сам председатель колхоза, грузный, общительный человек, который, увидев Петра, вдруг стал поздравлять девушку и очень смутил этим обоих. Саша пообещала скоро вернуться, но не вернулась и к обеду. Тогда, измученный ожиданием и думая черт знает о чем, Петро пошел в ту деревню, куда поехала она. Ему повезло: он встретил Сашу на краю улицы. Она стояла с каким-то молодым человеком и весело разговаривала. У Петра замерло сердце, но он решительно приблизился. Увидев его, Саша удивилась. — И ты тут? — спросила она и покраснела. Это усилило его подозрительность. Он вспомнил, что и роды позавчера она принимала в этой же деревне. Кровь ударила ему в виски. — Знакомьтесь, — сказала она. — Это мой… брат. Молодой человек, который был лет на пять старше Петра, солидно, с сознанием собственного достоинства протянул руку и назвал весь свой «титул»: — Учитель Владимир Иванович Лялькевич. Петро в ответ невнятно пробормотал свое имя. — Пойдемте, Александра Федоровна, поиграем в волейбол, в школе как раз мои коллеги и старшеклассники собрались, — предложил учитель. Саша сразу согласилась, и это еще больнее кольнуло Петра. «Она с радостью принимает его приглашение, даже не подумав, что я пришел за ней, что я не обедал…» Застенчивый, он всегда чувствовал себя неловко среди незнакомых людей, особенно в присутствии женщин. Тем более трудно было ему знакомиться с учителями и учительницами в таком душевном состоянии: Петро не мог произнести ни слова, не мог ответить на шутку. К тому же он не умел играть в волейбол. Впервые этот недостаток показался ему страшно позорным, он сгорал от стыда. Петро сидел в стороне и наблюдал, как играют на площадке. Он не отводил глаз от Саши и Владимира, замечая каждое их движение, ловя каждое слово, сказанное ими друг другу. Они играли в одной команде, стояли все время рядом, весело хохотали и, как казалось Петру, умышленно били по мячу одновременно, для того чтоб их руки соприкасались. Между прочим Петро услышал, как Владимир громко сказал Саше: — Что это ваш брат такой бука? А еще студент! Саша возвращалась домой веселая, возбужденная игрой и шаловливо поглядывала на Петра, понимая, почему он такой. А он шел понурый, молчаливый, злобно сбивая прутом придорожный репейник, поднимая пыль ногами, не жалея своих ненадежных туфель и единственных брюк. — Чего ты сопишь, как кузнечный мех? — улыбаясь, спросила Саша. Он не ответил. — Может, ты ревнуешь? — продолжала она шутить. — Вот это мне нравится! Но ведь ты все время доказывал, что это позорное чувство, пережиток… а ты человек новый, передовой. И вдруг… заразился пережитком? — Она засмеялась. — Почему ты молчишь? Ему нечего было говорить: он действительно все время утверждал, что ревность — пережиток и что чувство это неизбежно должно отмереть у людей социалистического общества. Но и отрицать, что такое чувство появилось у него, он не хотел: «Пусть знает — все это из-за ее поведения». Он еще долго шел молча, не отвечая на ее насмешки и шутки, потом печально сказал: — Я пойду. — Куда? — не поняла Саша. — Домой. Куда же я еще могу пойти? Саша замолчала — сразу пропала ее игривость. Она не знала, что ответить. Она не могла сказать «иди» — это значило бы выгнать его — и не могла просить остаться — не позволяла гордость. Она вздохнула. — Тебя почему-то невзлюбила Аня. — А чего ей меня любить, если… — Он не закончил, но Саша догадалась, что он хотел сказать, и обиделась до слез: — Как тебе не стыдно! Он немного успокоился и даже обрадовался, увидев, что Сашины глаза стали влажными. В другой обстановке он бы, наверное, страшно взволновался, если бы почувствовал, что обидел ее. Даже теперь у него возникло желание приласкать ее и помириться. Но решение уйти, неожиданно возникшее, становилось все более твердым, и он удержался от желания помириться. Саша, полагая, что он уйдет только завтра, успокоилась и начала рассказывать о своих делах. Когда они пришли домой, Петро сразу же стал собирать свой портфель — укладывать дневники и стихи. — Ты куда? — удивилась Саша. — Пойду, — упрямо повторил он. — Сейчас? — Она смотрела на него испуганными глазами. — Вечером нет поезда, и машин на Речицу уже не будет. Куда ты пойдешь? — А я и не пойду на твою Речицу! — Он вдруг почувствовал себя в роли страдальца, а известно, что ничто не придает столько отчаянной решимости, как сознание, что ты страдаешь. Петро отворачивался и глотал слезы жалости к самому себе, но теперь уже никакие уговоры не могли остановить его. — Куда же ты пойдешь? — Пойду к Днепру, потом к Сожу, а там будет видно: может, поеду на пароходе, может, пойду дальше — по шоссе. — Ты с ума сошел! Через лес и болото, на ночь глядя? Не пущу! Не пойдешь! Она решительно встала у двери. Он усмехнулся, взял портфель, надел кепку. — Командуй кем-нибудь другим! — Ты дурень. — Ну конечно, я дурень, потому что есть более умные. — Боже мой!.. — простонала она, но, видимо, поняла, что задержать его невозможно, и отошла от двери. — А обед? Ты уйдешь, не пообедав? — вдруг вспомнила она. Роль мученика — страшная и смешная роль: такой человек бесконечно придумываетсебе новые страдания. — Не нужен мне твой обед! Он проговорил это с таким злобным упрямством, что Саша еще больше испугалась. Может, попросить его остаться, поклясться, что она любит его одного, убедить, что все, о чем он думает, глупости? Нет, у нее тоже есть самолюбие! И хотя ей, возможно, было во сто раз тяжелей, чем ему, и хотелось плакать, она сдержанно и сурово сказала: — Что ж, коль ты такой — иди! Ему очень хотелось спросить: какой «такой»? Но побоялся, что это может стать шагом к примирению. — Дай я положу тебе яблок на дорогу… — Не надо мне яблок твоей скупой хозяйки! — Яблоки не хозяйкины, яблоки мои! Она вырвала из его рук портфель и пошла за печку, где находилась ее кровать. Выйдя оттуда и отдавая левой рукой портфель, она протянула ему правую: — Иди. Будь здоров. Она боялась, что не сможет сдержать слез, и хотела, чтобы скорее все кончилось. Он крепко пожал ей руку, быстро повернулся и пошел через кухню мимо удивленной хозяйкиной дочери, которая, вероятно, слышала их разговор. Он прошагал через сад и уже вышел на дорогу, когда вдруг услышал позади Сашин голос: — Петя! Он остановился. Она приблизилась, пристально взглянула ему в глаза, вероятно, ожидая, что он скажет. Петро молчал. Она обняла его, крепко поцеловала — впервые поцеловала сама. Потом повернулась и быстро пошла назад. Ошеломленный, он чуть не бросился вслед за ней, но упрямство превозмогло — смешное юношеское упрямство!III
Можно себе представить, какое было у него настроение, когда он шел по пыльной дороге к Днепру. Но самая страшная мысль пришла к нему на высоком крутом берегу, с которого открылись широкие просторы приднепровских лугов, густо уставленных стогами. Она пришла вдруг, с каким-то болезненным толчком сердца: а что, если ее поцелуй — это последнее «прости»? Чем больше он думал об этом и вспоминал подробности, тем больше убеждался, что это так. И сразу потемнели для него и солнце и ясное небо, потускнела днепровская вода. Когда старый рыбак перевозил его через Днепр, Петру хотелось, чтоб узкий челн, называемый в народе душегубкой, опрокинулся и чтобы он, Петро, утонул. Нет, совсем погибать он не желал! Хотелось, чтоб рыбаку только показалось, будто он утонул, а в действительности он бы незаметно выплыл. Ему нужно это для того, чтобы тайком подсмотреть, как примет весть о его смерти Саша. Осталась ли в ее сердце хоть капля любви? Если нет, тогда дело иное, тогда можно утонуть и навсегда — без нее и ее любви жизнь казалась невозможной. Вероятно, у него был очень грустный вид, потому что рыбак заботливо спросил: — Не болен ли ты, хлопец? Он спохватился: — Нет. Я шел издалека и устал. И опять так задумался, что, когда перебрались через реку, забыл рассчитаться с рыбаком. Рыбак смолчал, — видимо, понял, что с парнем творится что-то неладное. Не спрашивая дороги, Петро тронулся по той, которая попалась ему на глаза и вела от Днепра на восток, в глубь леса. Правый берег реки высокий и безлесый, а все левобережье и междуречье Днепра и Сожа — край лесов, болот и песков. Почва тут неурожайная, пустая и колхозы слабые. Районные руководители, когда речь заходила об этих деревнях, махали руками: «В междуречье? Что вы! Ничего там не сделаешь! Пустыня! Туда только и приятно съездить рыбку половить…» До войны человека поражал вид здешних деревень: среди леса стояли старые, покосившиеся хаты с бедными огородами. В степных деревнях за двадцать — тридцать километров отсюда дома были один в один, новые, окруженные садами. После войны облик деревень изменился. Это были годы, когда строились и те, кому негде было жить, и те, кто имел крепкую крышу над головой, — все заразились горячкой строительства. Естественно, что те, у кого лес был под боком, отстроились лучше и быстрей. Облик деревень в бедном междуречье стал более пригожим. Да и не так уж беден этот край! Не зря тут селились наши предки. Почва-то песчаная, а зато сколько других выгод! Широкие луга, леса, реки и озера, трава и деревья, рыба и зверь — все есть. С незапамятных времен места эти славились рыболовами, охотниками, плотниками, бондарями, корзинщиками и другими мастерами. Несколько деревень в междуречье носят название Рудня: Рудня-Маримонова, Рудня-Каменева… И названия эти не случайны: вокруг деревень находят большие залежи шлака. Когда-то давным-давно вольные казаки Богдана Хмельницкого завозили сюда по Днепру и Сожу руду из Кривого Рога, а может, и находили ее где-нибудь поближе. Леса же для угля здесь всегда хватало. И в этом лесистом уголке белорусской земли выплавляли они сталь для оружия. Несчастный влюбленный шел, не замечая ни красоты, ни особенностей междуречья, не в пример автору, который, увлекшись, отступил от темы. Действительно, скажешь ты, читатель, при чем тут облик хат, рыбаки и бондари, казаки Богдана и руда, если речь идет о любви? Благо были бы рассуждения о красоте приднепровских дубовых рощ и сосновых боров, о березах с первой позолотой листьев. Но автор сам сказал, что герою было не до любования природой. Что поделаешь, дорогой читатель, у каждого своя слабость, и эта слабость — сказать при случае и без случая о родных местах, о сосновых лесах, где прошло твое детство, о лугах, где впервые отбивал косу и узнал, что пот солон, о полях и тропинках, по которым бегал на первое свидание, — видимо, есть у всех. …Лес кончился. Началось сухое болото, с высокими кочками, старыми обгорелыми пнями и большими огороженными стогами сена. Через болото шла едва заметная тропинка. Возможно, унылость пейзажа встряхнула парня, вернула к действительности: куда он идет, куда выведет его тропинка, где он будет ночевать? «В стогу, — твердо решил он, все еще чувствуя себя в роли мученика. — Среди болот… С волками, чертями и лешими… Назло тебе», — погрозил он Саше. Вспомнив о волках, он невольно оглянулся назад, на солнце. Оно висело низко над лесом, красное, затянутое мутной дымкой: должно быть, где-то невдалеке горели леса или торфяники. Такая сумеречная тишина и безлюдье всегда вызывают в человеке тревогу и страх: кажется, что где-то произошло или вот-вот произойдет большое несчастье. Почувствовав тревогу, Петро подумал, что ему надо вернуться и переночевать где-нибудь в приднепровской деревне. Он устало сел на пень. Буря, бушевавшая в душе, постепенно утихла. Он почувствовал, что хочет есть и пить, особенно пить, и вспомнил о яблоках, положенных в портфель Сашей. Несколько минут он в глубоком философском раздумье решал: может ли есть эти яблоки или нет? Наконец решил, что имеет право съесть их. Он открыл портфель и… кровь ударила ему в лицо. Сначала он растерялся, потом возмутился. Как! Она осмелилась положить ему деньги после того, как чуть ли не выгнала? Что это — издевательство, насмешка? Не нужны ему ее деньги! Он злобно скомкал пятерки и выбросил их под куст. И, не коснувшись яблок, с прежней решимостью зашагал дальше по узкой и неровной тропинке. Вскоре им овладело сомнение: правильно ли он поступил, выбросив деньги? И кому нужен такой жест среди болота? Ему стало жалко денег, не потому, что это деньги, которых ему всегда не хватало, а потому, что они Сашины — ее первый трудовой заработок. Рассудив, он убедил себя, что было бы нелепо класть деньги затем, чтобы поиздеваться, и, конечно, Саша положила их, искренне желая ему помочь. Как просто она сказала, узнав, что на практике они остались без денег: «А ты мог бы написать мне, и я прислала бы тебе на дорогу…» Еще неизвестно, является ли ее поцелуй последним, прощальным; может, совсем наоборот! Подбодренный этой мыслью, он повернул назад, хотя и прошел уже около километра, и подобрал деньги. Он любовно разгладил скомканные бумажки, положил в карман и решил, что тратить их не будет, а оставит на память. Однако обстоятельства заставили его позже нарушить обет и купить на эти деньги туфли, потому что старые за время путешествия совсем развалились. Подкрепившись яблоками, ободренный своими разумными мыслями и поступком, он двинулся дальше и еще дотемна пересек болото, густой сосновый бор и пришел в большую незнакомую деревню на берегу Сожа. Это обрадовало его. Надо было подумать о ночлеге: пароход на Гомель, как ему сказали, будет только утром. Он шел по деревне, выбирая хату, чтобы попроситься на ночлег. И вдруг — неожиданная встреча. Белокосая пышногрудая девушка в пестром платье вышла со двора, возле которого Петро остановился, и они сразу узнали друг друга. Они вместе учились в школе — в пятом и шестом классах, потом ее родители — работники совхоза — куда-то переехали, и они не виделись несколько лет. Снова встретились в фельдшерской школе: Люба училась на одном курсе с Сашей. Но они не дружили. Саша почему-то не любила свою сокурсницу. Петро и Люба при встречах здоровались, говорили друг другу несколько слов и расходились. И вот встретились… — Петя? Ты?! — радостно, словно увидела близкого человека, закричала Люба. — Что ты тут делаешь? Как ты сюда попал? — Как? — Он заранее придумал несколько вариантов объяснения того, как он очутился тут, но все они были рассчитаны на незнакомых, и потому на мгновение смутился. — Я… просто хожу… путешествую… Интересно, знаешь. — А-а, я забыла, ты же поэт. Тебе надо всюду ходить и все видеть… — А ты? — А я работаю здесь. В этой хате квартирую. Заходи. Я очень рада, Петя, что встретила тебя. Ой, Петенька! Как здесь скучно, как тоскливо! Ни одного культурного человека. Не с кем словом перекинуться. Я так рада!.. Пойдем же в хату. Она говорила торопливо, не давая ему возможности ни возразить, ни поблагодарить. В комнату она ввела его под руку и сразу закричала молодой хозяйке: — Маруся! Смотри, кого я привела! Мой школьный товарищ… Мы вместе когда-то учились. А теперь вот ходит, путешествует. Я выхожу на улицу, а он стоит — хатой нашей любуется. Словно чувствовал… — А как же не чувствовать! — засмеялась хозяйка. — Нет, Маруся, не думай, что он искал меня. Он и не знал, что я здесь, а просто так шел. Но я так рада, что мы встретились, так рада!.. — А кто гостю не радуется! — сказала хозяйка, проворно вытерев стул и приглашая гостя сесть. Петру она показалась такой доброй, такой обходительной, что он сразу вспомнил другую хозяйку, из-за которой должен был покинуть любимую девушку, и сердце его опять болезненно сжалось. «А кто гостю не радуется! Действительно, кто гостю не радуется? А вот там не обрадовалась, ведьма жадная!» Усталого, измученного, его покорила ласковость Любы и хозяйки. — Петенька, ты чувствуй себя как дома, умывайся. А я на минуточку отлучусь, — тараторила Люба, бегая по хате. «Петенька!» Петро вспомнил, что Саша ни разу не обратилась к нему так нежно, даже «Петя» она говорила ему очень редко. Почему? Юношеская подозрительность вспыхнула с новой силой. Его почти никто не называл уменьшительно-ласковым именем. Дома мать, сестры, соседки почему-то с самого детства, с тех пор как он себя помнит, называли его Петро или Петрок. В техникуме все — и товарищи и педагоги — называли только по фамилии. Как-то уж повелось, что одного называют только по имени, и к этому все привыкают даже в официальной обстановке, другого же — только по фамилии, даже в самой дружеской компании. Итак, Люба своей лукавой ласковостью задела одну из тонких душевных струн — ее нелегко найти, но, найдя, можно легко на ней играть. Сознательно она это делала или нет, кто знает… Возможно, что в свои девятнадцать лет она уже имела в этом кое-какой опыт. Во всяком случае на романтичного, мечтательного юношу ее ласковость сильно подействовала. Он был благодарен Любе, и ему хотелось отплатить ей таким же вниманием. Люба ушла, а хозяйка помогла ему умыться — поливала на руки, достала из сундука чистое, вышитое петушками полотенце. А потом сразу же затопила плиту и начала жарить яичницу. Стоя у плиты, она доверчиво рассказывала о себе. Она — молодая солдатка, муж служит в армии, живет она со свекровью. Старухи нет дома — ушла к дочери. И хорошо, что ее нет: старуха вообще добрая женщина, но, как все старые, ворчлива: ей трудно понять молодых. А с Любой они живут, как сестры, все доверяют друг другу. Обычно застенчивый с незнакомыми, Петро через несколько минут чувствовал себя здесь совершенно свободно. Люба вернулась с бутылкой вишневого ликера — это было лучшее, что нашлось в лавке. Они втроем сидели за столом — Петро, как гость, в красном углу, — пили ликер небольшими рюмками из толстого желтого стекла. Хозяйка, весело подмигивая Любе, произносила тосты: — Давайте выпьем за нашу встречу. Чтоб она была не последней, чтоб Петя был частым гостем за этим столом. И Петро пил, не придавая особенного значения ее словам. После ужина они гуляли по берегу Сожа. В воде трепетали далекие звезды и огоньки бакенов, зеленые и красные. Тревожно шептались лозняки. На противоположном, луговом берегу горел большой костер, и возле него колебались причудливые тени. Над болотами поднимался холодный туман. Люба прижималась к парню, вздрагивала от холода и все жаловалась, что ей очень тоскливо жить в этой глухомани. Петро, слегка опьяневший от выпитого ликера, обнимал ее и целовал в губы, в горячие щеки, в вырез платья на груди. Она томно шептала: «Петя… Петенька…» Стало совсем холодно и сыро, и Петро, жалея свои туфли, предложил вернуться. Они посидели на лавочке возле хаты, побеседовали уже без поцелуев. Он попросил у хозяйки разрешения пойти спать на сеновал. Сено лежало на вышке в хлеву. Внизу хрюкала потревоженная свинья, сонно вздыхала корова, к приятному запаху сена примешивался запах навоза. Петро не чувствовал этого. Он думал о событиях прожитого дня, о Саше. Довольный собой, он упрекал ее: «А что, видела? Думала, если тебе не нравлюсь, то ни одна девушка не глянет на меня?.. Нет, ошиблась…» Он, как и все мы в юности, измерял собственные достоинства тем, насколько нравится девушкам. Но такое приподнятое настроение продолжалось недолго. Напали блохи. Да, читатель, обычные блохи, которые часто портят нам самое лучшее настроение. Петро ворочался, чесался, старался о чем-нибудь думать, вспомнить что-либо приятное. Но приятные мысли пропали. Стало противно от блох, от поцелуев Любы, вспомнилось, какие у нее влажные губы и какая она сама толстая и мягкая, как пампушка. Он поставил их рядом, ее и Сашу, увидел ясные Сашины глаза, и ему стало стыдно, он сам себе был противен. «Какой я пошляк!.. Еще не остыл Сашин поцелуй… Нет, не мог он быть последним!.. Она просто сказала: „До новой встречи…“ Она ни в чем не виновата… Все это из-за хозяйки. Саша искренне хотела, чтоб я остался надолго. А учитель — глупости. Разве мало людей, с которыми она встречается? Разве можно ревновать к каждому? Да и вообще, что такое ревность? Разве не позорно ревновать? Надо, чтобы была прямота, вера. А я убежал, как мальчишка. А потом раскис перед первой встречной девушкой. Позор!» Он долго ругал себя. Подумал даже о том, что, может, ему следует сейчас же, среди ночи, сбежать, чтоб досадить Любе — пусть не заманивает! — и наказать себя: блуждай в ночи по незнакомым дорогам, если ты такой дурень. Но в хате остался портфель с дневниками. Никому, кроме Саши, он не мог их доверить. Хорошо, что он закрыл портфель на замок и ключик спрятал в карман. Он нашел в темноте свой пиджак и нащупал в нем ключик. Однако и после того, как убедился, что ключик на месте, долго не мог успокоиться. Терзала мысль: а вдруг они, Люба и хозяйка, из женского любопытства как-нибудь откроют портфель и прочитают дневник? Неприятная вещь эти дневники! Пишешь откровенно, показываешь себя таким, какой ты есть в действительности, прячешься с таким дневником, дрожишь, чтобы кто-нибудь случайно не прочитал его. Зачем же тогда писать? Пишешь неправду, прихорашиваешь себя — даешь такой дневник всем. И опять же для чего? Не зря люди солидные, с жизненным опытом редко пишут дневники, а если и делают это, то пишут не о себе, не о своих чувствах и переживаниях, а о других людях и о других делах: мужчина — о деловых разговорах, женщины — о своих детях, писатели записывают меткие слова, выражения, детали, целые сюжеты. Петро, хоть и заснул только на рассвете, проснулся рано — разбудил шум детских голосов. Неподалеку была школа. Он вспомнил, что наступило первое сентября, начались занятия. И хотя у него был свободным целый месяц, он почувствовал, что летний отдых окончился и что стыдно ему сейчас бродить без работы, что пора отправляться домой — помочь родителям по хозяйству, переписать отчет о практике или сделать еще что-нибудь полезное. Он обрадовался этой мысли. Но когда за завтраком сказал о своем намерении гостеприимным хозяйкам, те страшно обиделись. — Как тебе не стыдно, Петя! Побыл один вечер — и убегать. А еще говорил… Нет, нет, я просто не пущу тебя, Петенька. — Люба смотрела на него такими влюбленными глазами, что он смутился и не мог отстаивать свое решение. — Ты же сам говорил: времени у тебя много и ты не знаешь, что будешь делать целый месяц. Скажи, что тебе не нравится у нас? — Все нравится, — ответил он, опустив глаза в тарелку, в которой плавали в масле вареники. — Вы, Петя, не обижайте Любу, — подхватила Маруся. — Она и так, бедняжка, затосковала тут одна. Она сегодня всю ночь заснуть не могла от радости, что вы пришли. Разве можно от такой девушки убегать? Люба покраснела от удовольствия: любят девушки, чтобы их хвалили! Петро — от горечи, от стыда за свое поведение и оттого, что он вдруг, взглянув другими глазами, увидел, какая Люба некрасивая: желтые глаза, широкие ноздри, веснушки на носу и толстых щеках, гладкие и какие-то бесцветные волосы. — А скучать ты у нас не будешь. Хочешь, за грибами сходим? У нас здесь очень много боровиков. Ты любишь собирать грибы? Я страх как люблю! Пойдем? — А тебе ведь на работу. — Ерунда! Говорят: «Работа не волк, в лес не убежит». Наработаюсь еще. А грибов не станет. Черт не возьмет этих больных. Она не понимала, что такими рассуждениями о работе порочит себя перед этим возвышенно настроенным и честным парнем. Он слушал ее и думал о Саше, о ее отношении к труду, о том, как она уходила на целые дни, из-за чего он, дурак, ревновал, страдал и совершил глупость. Теперь поведение Саши представлялось ему беззаветным служением делу. От этих мыслей ему стало еще стыдней за себя. Однако Любе все же удалось уговорить его пойти за грибами, и они пробродили по лесу до трех часов дня. Грибов действительно было много. Но большую часть времени они потратили на странную игру: Петру хотелось как-нибудь оторваться от Любы, которая становилась ему все более неприятной, и походить одному, помечтать, подумать, а она ни на шаг не отставала, будто боялась, что он убежит. И он, наверное, убежал бы, если бы не портфель, который ему не дали взять с собой. По дороге домой Люба забежала на медпункт. Вернулась взволнованная и сообщила: — Передавали по радио: Гитлер напал на Польшу. Там воюют… Многие боятся, чтоб он на нас не пошел… Говорят, он хочет забрать Польшу, чтобы до нашей границы дойти. — Что ты! Мы же только что договор заключили о ненападении и дружбе. Сообщение о войне в Польше взволновало и Петра, но совсем по-иному: он, как и многие в его годы, жаждал героических подвигов и считал, что героем можно стать только на войне. Хозяйка тревожилась больше всех — за мужа-солдата. Ей захотелось поскорей узнать, что говорят люди старшие, уважаемые, и она побежала в сельсовет. Когда они остались с глазу на глаз, Люба без девичьей застенчивости обняла Петра. — Знаешь, Петя, я страшно боюсь, что меня возьмут в армию. Петра покоробили ее слова. Он, как и все его друзья, считал службу в армии своим долгом и честью. Как же он мог уважать человека, который страшится долга! Люба стала ему просто ненавистна, и он только и думал о том, как бы скорей сбежать отсюда. Но странно: когда он почувствовал себя страдальцем, оскорбленным и униженным, у него хватило решимости уйти от любимого человека, а теперь ее не было: не мог он на тепло и ласку ответить неблагодарностью и грубостью даже такому человеку, который был ему неприятен. Однако и оставаться здесь он больше не мог, а потому решил убежать тайком, без объяснения. Хозяйка вернулась успокоенная и по-прежнему приветливая, говорливая, суетилась у печки, готовя, судя по запахам, вкусный обед. Любу позвали к больному ребенку, и Петро решил этим воспользоваться. Выйти с портфелем из хаты, ничего не объясняя хозяйке, было невозможно. Он поступил иначе: незаметно сунул в портфель кепку, так же незаметно открыл окно на улицу и положил на подоконник портфель. Из хаты вышел будто прогуляться. Постоял перед окном, пока хозяйка не отвернулась. Тихонько взял с подоконника портфель и, оглядываясь, как вор, шмыгнул в первый переулок. Ему повезло: без приключений он добрался до леса, вышел к Сожу и в рыбацкой лодке переправился на другой берег. Там, на лугу, он почувствовал себя в безопасности и спокойно переночевал в стогу сена.IV
Миновали осень и зима. Для Петра время пролетело быстро. Он опять ездил на практику, самую ответственную — преддипломную. Был он в только что освобожденной Западной Белоруссии, почти на самой границе. Там строился важный участок шоссейной дороги. Поездка была почетной — не всех туда послали, а только троих самых надежных и активных комсомольцев. В Западной Белоруссии все было необычным: люди, прожившие двадцать лет в неволе, их рассказы о борьбе, обычаи, сельские вечеринки молодежи, близость границы, за которой стояли немцы. Все это занимало его молодую, любознательную душу, делало жизнь разнообразной, богатой событиями. В этом водовороте он подчас забывал о Саше и писал ей редко, раза два в месяц, отвечая только на ее письма. Раньше он писал почти каждый день. Вообще он стал более сдержанным в своей любви и, оправдывая себя, считал это признаком зрелости. Но скорее всего это была юношеская самоуверенность. Саша написала первая после того, как он так неожиданно и с такой обидой ушел от нее. Петро еще в Гомеле получил ее письмо, сдержанное, но ласковое, теплое. Она по-дружески примирительно просила не обращать внимания на мелочи, если только в сердце есть настоящая любовь. Он обрадовался и сразу же забыл обо всех своих обидах. Вместе с этой радостью пришло то самоуверенное спокойствие, которое часто губит самое горячее чувство. Раньше он никогда не рассказывал друзьям о Саше. Они знали, что он почти каждый вечер бегает куда-то в Залинейный район на свидания к какой-то Саше, но никто из них ни разу не видел ее. Теперь он рассказывал о ней охотно и много, показывал маленькую фотографию, называл «моя Саша». Однако, говоря «моя Саша», он теперь меньше прежнего думал о том, что когда-нибудь она станет его женой. Во всяком случае, у него не было желания поехать в деревню снова, тем более что Саша жила у той же хозяйки и опять в письмах расхваливала ее. Это его злило, потому что хозяйку он ненавидел. Учителя, к которому приревновал Сашу, Петро вспоминал редко и даже забыл его имя. Его соперничества он перестал бояться. Любовь как-то присмирела, успокоилась. Но если бы он знал, что это действительно серьезный соперник, то, безусловно, чувствовал бы себя иначе и не был бы таким беспечным. Мы всегда любим сильней, когда чувствуем, что нашей любви что-то угрожает. Сашина жизнь текла более однообразно. Но девушка не скучала. Скука — занятие лентяев, а она работала и училась. Мечтая об институте, поступила в десятый класс вечерней школы в соседнем местечке. У нее тоже были друзья, и лучший среди них — Владимир Иванович. Он приглашал ее на школьные торжества, танцы в клубе, лыжные прогулки. В длинные зимние вечера, когда у Саши не было занятий в школе, приходил к ней на квартиру, но всегда с товарищем. Саша ни о чем не догадывалась, а он никогда не говорил о своих чувствах. Только однажды спросил: — Александра Федоровна, правда, что тот юноша не брат вам? Саша покраснела: ей трудно было лгать. — Нет, неправда, Петро — мой брат. Владимир Иванович, видимо, поверил, потому что больше никогда об этом не заговаривал. Первая раскрыла его чувства и намерения хозяйка: — А что, Шурочка, ведь Лялькевич хороший человек? — Хороший. — Любит он тебя. — Что вы, Аня!.. — Да разве я не вижу? Сохнет хлопец… А что? Человек он серьезный, лучшего мужа не сыщешь. Живет с матерью. Свой дом, сад большой… лучшее в деревне хозяйство… Саша засмеялась: никогда в жизни она не думала о своем доме и саде, такие «планы» казались ей нелепыми. Она отшутилась, но после разговора с хозяйкой стала избегать Владимира Ивановича: в школу не ходила, а когда он являлся, придумывала, будто ей надо бежать к больным. Как-то в амбулаторию пришла его мать, маленькая, суетливая и простодушная старуха. Пожаловалась, что болит грудь и ноги ломит. Саша осмотрела ее, дала лекарство. А старуха все жаловалась, что ей трудно одной, хозяйство большое — корова, свинья, куры, утки, а здоровья нет. И вдруг не то посоветовала, не то попросила: — Выходили бы вы, Шура, замуж за моего Володю. Жили бы мы с вами душа в душу. Саша смутилась до слез. Ее обидело это наивно-расчетливое сватовство старухи. «Опять коровы, свиньи… Как это противно!» — мысленно возмущалась она, не зная, что ответить, и сказала просто: — Чтобы идти замуж, надо любить человека. — Ох! — удивилась старуха. — Да разве мой Володя не любит тебя? Я тебе, Шура, вот что скажу: он и дня не может прожить, чтоб тебя не повидать. «Главное, что Володя любит, а до моих чувств ей дела нет!..» — подумала Саша все с тем же чувством обиды. Разговор со старухой заставил ее сильно призадуматься. Впервые возникла тревога за свою судьбу, страх перед будущим. Как повернется ее жизнь? Раньше она не думала о замужестве и даже считала, что это нечто ненужное, во всяком случае необязательное. Теперь она стала понимать, что это неизбежно придет. Она написала Петру, просила приехать. Он шутливо ответил, что боится хозяйки. Она уверяла его, что хозяйка будет ласковой, как хорошая теща, и шутя пригрозила, что, если он не приедет, она выйдет замуж, потому что к ней сватаются. Ее шутка испугала Петра. Он в это время работал над дипломным проектом — проектировал дорогу со всеми необходимыми постройками: домами, гостиницей, бензоколонкой, ремонтной мастерской — одним словом, такую дорогу, которая часто существует только в проектах и о которой продолжают мечтать владельцы машин и шоферы. Выпускники чертили и вычисляли с вдохновением, хотя знали, что по их проектам ничего строиться не будет, а чертежи изгрызут мыши в техникумовской библиотеке. Энтузиасты проводили в чертежной по двенадцать часов. Петро же, решив ехать к Саше, оставался там чуть ли не по двадцать часов. Он хотел сделать как можно больше и выкроить время на поездку. Он жалел потратить полчаса на обед и не ходил в столовую — покупал булочку, кусок колбасы и так обедал, одновременно делая расчеты. Оставался в чертежной до трех-четырех часов ночи и часто тут же, за столом, засыпал. Об этом сказали директору, и тот приказал сторожу выгонять всех и запирать чертежную в девять часов вечера. Тогда Петро стал приходить в шесть часов утра, когда чертежную открывали для уборки. Таким образом, за две недели он, казалось ему, сделал то, что планировалось на месяц. Накануне Первого мая он поехал к Саше. Ехал спокойно. Пешком от Речицы не побежал — дорога стала непроходимой, а целую ночь ожидал парохода на пристани, в холодном и неуютном вокзале. Потом терпеливо плыл полдня, любуясь разливом Днепра. А Днепр в это время чудесен! Он раздается вширь на много километров, заливает луга, лозняки. Дубы на низком левом берегу стоят по самые сучья в воде, а правый берег уже не выглядит таким обрывистым и высоким. Пароход идет вдоль этого берега, и с верхней палубы видны улицы деревень, оживленные и по-весеннему красивые. Саша очень обрадовалась его приезду. Она не бросилась целоваться, а сдержанно протянула руку, но радость отразилась на ее лице, в больших голубых глазах. Она прищурила их в веселой улыбке и сказала: — Ну вот, Аня, опять приехал брат. — Она так произнесла слово «брат», что хозяйка засмеялась. — Да брат же, брат, не двоюродный, а самый родной, — пропела хозяйка, крепко пожимая руку Петру. Ее приветливость сразу примирила с ней Петра. Он понял, что она — старшая подруга Саши, все знает и теперь, очевидно, будет относиться к нему так же дружелюбно, как и к своей квартирантке. Под вечер пошел дождь, по-майски теплый, веселый — тот весенний дождь, что смывает грязь на дорогах, последний снег в оврагах, лесных чащах и после которого трава начинает расти так, что видно, как шевелятся на земле слежавшиеся прошлогодние листья. В такой дождь, да еще перед праздником, все сидят дома — дети, взрослые, молодежь, — занимаются мелкими и приятными домашними делами или беседуют, без сплетен и обид… К Ане пришли соседки, не выходили из хаты и дети. Саша и Петро, движимые неизменным желанием влюбленных быть подальше от людских глаз, уединились в амбулатории, в той большой и пустой хате, где пахло сыростью и лекарствами. Дождь шумел за окном, ласково и однотонно барабанил по стеклам. В сумерках шкаф с белыми склянками казался причудливым видением. В хатах загорались огни, и сквозь пленку дождя окна расплывались в желтые широкие круги. Лампу они не зажигали. Сидели на диванчике, обнявшись, и рассказывали о своей жизни за последние восемь месяцев. Словно боясь, что кто-то им помешает рассказать обо всем, что видели, что передумали, что перечувствовали, они говорили торопливо, перебивая друг друга, неожиданно переходя с одной темы на другую, с одного предмета на другой. — Однажды там, в Западной, я стоял на границе, — рассказывал Петро. — Смотрел на ту сторону. Увидел немецкого часового, и, знаешь, мне стало немного не по себе: так близко от нас люди, которые воюют… — Да ну, как они там воюют! — перебила Саша. — Какая там война! — Это правда, там не то, что было у нас на финской. Сидят в этих «линиях», где, говорят, даже трамвай под землей ходит, пьют кофе и вино и для развлечения иногда постреливают. Все время сообщают: «перестрелка патрулей». — А знаешь… Я тебе не писала об этом. Я тоже просилась на финскую. Подала заявление в военкомат. Меня вызывали. Военком поглядел на меня, головой покачал и говорит: «Ступай, детка, работай, где работаешь». Так и сказал: «детка». Мне стало обидно, я никому не рассказывала об этом. — Правильно он сделал, военком. Ты такая слабая… — Я слабая? — насупилась Саша. — А знаешь, там трудно было. Из нашего техникума уходили трое… снайперы. Теперь вернулись. Они рассказывали, какая там зима была… — У нас тоже сады повымерзли… Молодой колхозный сад наполовину погиб. — Там люди в снегу лежали. И не один день и не два… — Петро словно и сейчас страшился мысли, что она могла уехать туда, и отговаривал. Потом спохватился — у самого было такое же стремление. Помолчал, прижимая ее к себе, потом горячо сказал: — А знаешь, я рад, что тебя не взяли. Ты могла бы затеряться в этом человеческом море, забыть обо мне… — Тебя забыть? Глупенький! Я никогда не забуду тебя… Когда ты ушел в прошлом году, я плакала… Она смутилась и замолчала, а у него это признание вызвало такое умиление, такой прилив нежности, что он чуть не задушил ее в объятиях. — Медведь ты! — Она освободилась из объятий. — Подожди, чей-то голос. Может, ко мне… На улице уже было совсем темно, дождь лил по-прежнему. Где-то невдалеке от дома слышался разговор. Саша подошла к окну, прислушалась. Когда голоса утихли, она вернулась на диванчик. — А я не шутила в письме. Ко мне действительно сватались… Но не сам жених, а его мать. — И она рассказала о разговоре с матерью Владимира Ивановича. История эта была смешная, но Петра она встревожила. Он вдруг подумал, что мог потерять Сашу, особенно после своего нелепого поступка. Крепко сжав Сашины руки, он горячо зашептал: — Сашенька, я хочу, чтобы ты была моя, навсегда моя… Чтоб никто, ничто — ни разлуки, ни войны, никакие случайности, ничто не могло отнять тебя, ничто не могло разлучить. Она обняла Петра и прижала его лицо к своей груди. — Я буду твоя, Петя. Твоя! Навсегда. И ты — мой… …Близость принесла Петру то особенное ощущение счастья, какое, вероятно, человек переживает только однажды. Он чувствовал себя самым счастливым из всех людей, каких знал и видел. Это была пора самого высокого взлета всего лучшего, что было в его душе. Он находился в состоянии какого-то необыкновенного опьянения: весь мир казался ему в эти майские дни сказочным, чарующим, а в центре этого мира его солнцем была она — его Саша. Она освещала его своим сиянием, согревала своим теплом… Он ходил к ней в амбулаторию, провожал к больным в самые дальние деревни и часами ждал где-нибудь на краю деревни ее возвращения. И ожидать ему тоже было радостно, потому что исчезла безрассудная ревность. Она, эта ревность, пропала с приходом близости и сознания, что Саша — его жена. Слова «муж» и «жена», которые он раньше не любил и считал грубыми, непоэтичными, теперь казались самыми красивыми. Он гордился тем, что он муж, и когда услышал, как хозяйка объясняла одной женщине: «А это муж докторши!», был на седьмом небе. Однажды Петро сидел на скамье возле хозяйкиной хаты, радовался первому теплому дню и уверял себя, что видит, как растут листья на липе и трава под ногами. К нему подошел молодой человек, поздоровался и несмело сел на край скамьи. Петро не сразу узнал в нем Владимира Ивановича. Узнав же, стал рассматривать с невежливым любопытством — так, что учитель смутился. Заметив его смущение и вспомнив, каким самоуверенным, ловким и веселым был учитель в прошлом году на волейбольной площадке, Петро почувствовал себя победителем, а значит, человеком более остроумным и ловким. «Это тебе не в волейбол играть. Я покажу тебе, какой я бука». И он начал разговаривать с учителем таким тоном, каким взрослые разговаривают с детьми. — Как дела, товарищ педагог? — спросил он с усмешкой. — Ничего, спасибо, — серьезно ответил Владимир Иванович. — Что вы преподаете? — Математику. — О, это очень серьезный предмет, тут надо уметь шевелить мозгами. — Безусловно, — согласился учитель. — Ну, и как чувствует себя ваша математика? Вопрос был неумный, насмешка явной, но Владимир Иванович не нашелся и не смог ответить так, чтобы Петру стало стыдно. — Как чувствует? — Ну, как знают ее ученики, например? — Хорошо знают. — Хуже или лучше учителя? — Петро в упор смотрел на своего бывшего соперника, и в глазах его прыгали чертики. Учитель понял, что продолжать беседу с этим самовлюбленным юношей невозможно. Он опустил голову и задумчиво постукивал тонким прутиком по носку своего ботинка. Потом поднял голову и решительно сказал: — А теперь вы ответьте на один мой вопрос. Но откровенно… — Пожалуйста. — Кем вы приходитесь Александре Федоровне? — Я? Мужем. Кем же еще! — с гордостью ответил Петро. — Благодарю вас, — учитель поднялся. — Будьте здоровы. Желаю вам счастья. — И, рассекая прутиком воздух, быстро пошел вдоль улицы. Петру хотелось засмеяться вслед ему, но он сдержал себя, смущенный искренним пожеланием учителя. Потом, примерно через час, гуляя в саду, Петро опять увидел Владимира Ивановича. Он вышел из амбулатории. «Вот бродит человек, как привидение. Что ему здесь надо?» — подумал Петро. Саши в амбулатории не было: она уехала в местечко на какое-то кустовое совещание. Петру вздумалось зайти в амбулаторию одному. Он нашел ключ, открыл дверь и, увидев на полу бумажку, поднял ее и развернул. «Александра Федоровна! Вы говорили мне, что никому никогда не лгали. А мне вы солгали. Зачем? Вы уверяли, что этот юноша — ваш брат. А теперь я знаю, что он ваш муж. Мне обидно, что вы сказали неправду. Однако желаю вам счастья. Вл.». Петро пожал плечами. Ему казалось странным и смешным, что серьезный человек, учитель математики, два часа подряд ходил вокруг амбулатории, чтобы подсунуть под дверь эту записочку. Петро забыл, что совсем недавно сам совершал еще большие глупости. Он теперь не задумывался, почему Саша так долго говорила всем, что он ее брат, теперь это не волновало его: Саша — его жена, и он самый счастливый человек в мире. Когда Саша вернулась, он подал ей письмо. Она, прочитав, покраснела. — Какой он чудак! А что я могла ему сказать? Он так настойчиво допытывался, кто ты. Они поговорили об этом «чудаке», и ни одна струна ревности не зазвенела в душе Петра. Но когда Саша в этот вечер сказала, что его ждет дипломная работа и ему надо бы ехать, струны эти загудели все сразу, гулко и зловеще. Все эти дни он не думал о дипломной работе. Еще перед отъездом он убедил себя, что сделал больше, чем товарищи, и потому имеет право на передышку. А теперь вообще все это казалось малозначительным и скучным в сравнении с тем, что он переживал. Что такое этот дипломный проект, эта объяснительная записка? Кому они нужны? Дорогу по ним никто не построит, и будут они валяться в библиотеке, в пропыленном углу за полками. Наконец, не так уж важно, получит ли он при защите «отлично» или «посредственно»: все равно выпустят техником-дорожником и все равно осенью придется идти в армию. Все это пришло ему на ум, когда Саша сказала, что пора ехать. Раньше он об этом не думал и хотел только одного — как можно дольше побыть тут, в этой необыкновенно уютной хате, рядом с Сашей, своей женой. Сейчас ему казалось: только он уедет — и счастье рухнет. — Ты хочешь, чтобы я скорей уехал? — упрекнул он Сашу. — Я хочу, чтобы ты всегда был со мной. Но нельзя забывать о деле. — Я на полмесяца обогнал всех. — А ничего не скажут, что тебя так долго нет после праздника? — Кто может сказать! — Знают хоть, где ты? — Никто не знает. — Надо ехать, Петя. Так нельзя. — Конечно, я надоел тебе… — Какой глупый! Я хочу, чтобы было лучше, чтоб не было неприятностей, а он… Но на следующий день пришла телеграмма от товарища: «Немедленно возвращайся. Директор, комитет угрожают всеми карами». С тревогой в сердце оставил Петро жену, взяв с нее обещание писать ему каждый день. Бесконечной показалась ему в тот день знакомая дорога по приднепровской равнине, хотя он и заставлял себя любоваться красотой молодой зелени и непрерывно думал о Саше. Между прочим, он мечтал и о том, что когда-нибудь построит здесь в честь Саши дорогу по своему проекту — необыкновенно красивую дорогу, по которой людям будет ходить приятно и радостно, и даже молодоженам, когда им придется расставаться друг с другом. Раньше довольно веселый и шумный в кругу близких друзей, Петро стал задумчивым и замкнутым. Молчаливыми становятся люди обычно от горя, но случается, что иногда замыкаются и от счастья. Петро словно боялся, чтобы кто-нибудь случайно не оскорбил, не запятнал его светлых и чистых чувств. За прогул его пробрал директор, вызывали в комсомольский комитет, допытывались, где он был десять дней. Он отвечал: — Да вот ездил, — и улыбался так, как улыбался бы человек, которому вдруг открылись все тайны мира. Он чувствовал, что стал взрослее своих товарищей, даже тех, кто старше его годами: ведь он женат и счастлив и пережил то, чего они, вероятно, еще не переживали. Товарищи удивлялись, глядя на него. Всегда проницательные и догадливые, девушки неожиданно объявили, что Шапетович женился. Эта весть мгновенно разнеслась по техникуму. Девушки с младших курсов приходили в чертежную и смотрели на него, как на какое-то чудо. Парни-друзья допытывались, правда ли это, шутливо поздравляли, а он отвечал им все той же таинственной и радостной улыбкой. Он готовился к защите проекта день и ночь — хотел догнать и опередить товарищей и опять выкроить время на поездку к жене. Он отрывался от работы только для того, чтобы сбегать на почту — спросить, нет ли письма. Несколько дней писем не было, и он опять страдал, опять вспомнил о Владимире Ивановиче. Наконец письмо пришло: оказалось, каких-нибудь сто километров оно шло целых пять дней. Через неделю, забыв о предупреждениях директора и своего комсомольского начальства, Петро опять помчался к Саше. Он не ожидал ни машины, ни парохода, а прямо с поезда побежал по знакомой дороге, и тридцатикилометровый путь показался ему теперь коротким и приятным.V
В молодости у человека редко бывает бессонница — разве только во время тяжелых переживаний, горя. Петру не спалось от счастья, от того душевного подъема, который все еще не покидал его, хотя шел второй месяц после их женитьбы. Он лежал на краю кровати и боялся шевельнуться, чувствовал на руке мягкие Сашины волосы. Она спала спокойно, ровно дыша. Петро осторожно поворачивал голову и любовался ею: и во сне черты ее лица отражали какие-то чувства — губы то складывались в улыбку, то застывали с выражением серьезного внимания, то иронически передергивались, левая бровь изредка вздрагивала. Эта игра на любимом лице казалась Петру такой привлекательной и потешной, что ему хотелось поцеловать и губы и глаза, но он боялся разбудить жену. «Пусть спит, она устала за день, набегалась, — с нежностью, как о ребенке, думал он. — Пора и мне спать. Спать, спать!» Но заснуть не удавалось. Ночь врывалась в комнату далеким смехом девушек, приглушенными переливами гармони, доносившимися откуда-то из соседней деревни, запахом цветов. И еще одно чувство не давало уснуть — какая-то смутная тревога, будто перед грозой или перед неизвестной дальней дорогой. Она, эта тревога, таилась где-то в глубине души. Но чем настойчивей он боролся с бессонницей, тем упорнее шевелилась она в сердце, пробиваясь наружу. Что это? Почему? Может, снова неоправданная ревность, о которой ему сейчас стыдно вспомнить? Нет. Нечто совсем иное. Он вспоминал события дня — что видел, с кем встречался, о чем говорил… И вдруг вспомнил: немецкая армия вступила в Париж. Он услышал эту весть по радио в сельсовете. Председатель, учителя высказывали свое отношение к этому событию. Тревоги никто не проявлял: она, видимо, у всех осталась в сердце и обнаружилась, возможно, как и у него, не сразу, а позже, ночью, когда каждый остался наедине с собой. Больше толковали о военной мощи немцев: — Вот прут, гады! — Силища, что ты хочешь! — За день Голландию, за другой — Бельгию… Англичан в море сковырнули. — Липовые вояки против них… Если бы стояли твердо — не шел бы так! — У нас не пошел бы! Назад бы давно покатился! — Техники, наверно, у французов маловато. У немцев танков тьма-тьмущая… — Не в одной технике сила. Командиры ни к черту! А если генералы в кусты, что же солдату делать? Ясное дело… Петро тоже высказывал какие-то соображенияи даже блеснул знаниями о немецкой военной технике, вычитанными в журналах. Так они побеседовали и разошлись. А теперь вот эта тревога, это беспокойство. Почему? Франция!.. Париж!.. Как это далеко для парня, который даже в Москве был только проездом и не очень глубоко разбирался в международных вопросах. Но вместе с тем как это близко! Ни одну страну мы не знали со школьных лет так хорошо, как Францию. Мы узнавали из книг о Парижской коммуне, о героях-коммунарах, на всю жизнь запоминали мы эти имена: Варлен, Делеклюз, Домбровский. Потом — история, та школьная история средних веков и новая, в которой Франции отводилось много часов, потому что Франция дала миру великую революцию, Робеспьера и Марата, потом Наполеона с его позорным походом на Россию, дала революцию 1848 года и, наконец, Парижскую коммуну. Даже у самого ленивого ученика на всю жизнь остались в памяти эти исторические события. А у тех, кто продолжал учиться, знания о Франции бесконечно расширялись. За историей — литература. Сначала Жюль Верн и Гюго, потом — Бальзак и Барбюс. Мы любили героев их книг и благодаря им полюбили Францию, страну веселых и остроумных людей. Петро представил себе Париж так, как можно вообразить город по книгам и фильмам, представил, как ходят по нему чужие солдаты, грубые и нахальные, и сердцу стало больно за далеких незнакомых французов — вероятно, таких же парней, как он сам, и таких же женщин и девушек, как его Саша. Милая, славная Саша! Он нежно взглянул на жену, прислушался к ее ровному дыханию. И вдруг появилась мысль, впервые такая нелепая: «А что, если они начнут войну против нас? Придут сюда, на нашу землю, как пришли в Париж?» Что же тогда будет? Разрушится счастье, его большое счастье, которое он только-только узнал. Его оторвут от Саши, от ее мягких волос, которые пахнут счастьем, от ее рук, таких нежных… Петро долго пытался отогнать эту страшную мысль. «Никогда они сюда не придут! Мы будем бить их беспощадно, если они осмелятся напасть», — думал он убежденно. …Возле хаты остановилась телега. Лошадь, которую, видимо, сильно гнали, с облегчением фыркнула. «Опять за Сашей», — догадался Петро. Редко проходила ночь, чтобы ее не вызывали к роженице. Послышался несмелый, но настойчивый стук в окно и умоляющий голос: — Докторша! Саша сразу проснулась, осторожно поднялась и, открыв форточку, прошептала неизвестному человеку за окном: — Иду. Не стучите. Она собиралась бесшумно, чтобы не разбудить Петра, думая, что он, как обычно, спит. Но Петро окликнул ее. — Ты не спишь? Спи. Меня опять вызывают. — Она поцеловала его и, взяв в руки туфли, чтобы не стучать каблуками, вышла. Петро с какой-то восторженностью подумал, что опять где-то родится новый человек, опять придет радость в чей-то дом, и от этой мысли мгновенно исчезла его тревога, словно он вдруг убедился в непобедимости жизни. Он быстро уснул. Проснулся на рассвете от прикосновения Сашиных рук: она ложилась рядом. Тело ее было холодное, и вся она пахла свежим сеном, дорожной пылью и йодом. А через час ее вызвали опять. За завтраком Саша сказала: — Сегодня приняла двух чудесных мальчиков. — Опять мальчики! — вяло сказала Аня. — Говорят, к войне это, когда рождаются одни мальчики… — Никакой войны не будет. Все это бабья болтовня, — сказал Петро авторитетно, как подобает мужчине. Если не считать ночных мыслей и тревоги, он действительно был убежден, что войны не будет, и если враг нападет, то будет разбит сразу, за какую-нибудь неделю-две. Как и его ровесники, он безгранично верил в могущество армии, в которой ему предстояло служить. Саша тяжело вздохнула. А потом, с глазу на глаз, призналась Петру: — Я никогда ничего не боялась и никогда не думала об этом. А теперь боюсь… — Чего? — Войны. Знаешь, если имеешь счастье, то всегда боишься потерять его. Правда? …Вскоре ей пришлось пережить за свое счастье страх настоящий, не воображаемый. После выпускного вечера будущие техники-автомобилисты и дорожники поехали за город и там попали под проливной дождь. Петро простудился и заболел двухсторонним воспалением легких. По тому, как коротко было письмо — несколько слов, без знаков препинания: «Сашок я заболел воспалением Лежу в Первосоветской Целую тебя» — и по тому, как слаба была рука, выводившая кривые, разрозненные буквы, Саша поняла, что муж тяжело болен. Растерянная, испуганная, она прибежала из амбулатории к хозяйке и впервые при ней заплакала. — Чего ты? — удивилась хозяйка. — Я боюсь, что он… — по-детски всхлипывала Саша. — Другого найдешь, — шутя сказала хозяйка, но сама потом была не рада. Саша отшатнулась, и глаза ее блеснули сквозь слезы гневом. — Как вам не стыдно, Аня! Вы сами похоронили мужа. Я люблю Петра, он мне дороже всего на свете! Аня очень смутилась. — Прости, Шурочка, разве я хотела плохое сказать. Просто не удержала языка… Боже мой, такая наша судьба женская!.. — И она тоже заплакала. — Я сейчас же поеду к нему. Ему будет легче, если я буду с ним. — Как ты поедешь? А работа? — А что работа! Разве что-нибудь случится за день-два? Я же скоро вернусь. Я только увижу его, успокою… — Ты сходи и попроси у председателя лошадь, я хоть подвезу тебя. — Где ты его найдешь, председателя. Да и лучше, чтоб никто не знал. Я пойду до Речицы. Как раз успею к рабочему поезду. — На ночь глядя в такую дорогу? Боженька мой!.. — испугалась хозяйка. — Аня, вы не отговаривайте меня. Я не маленькая. С собой, кроме денег, завязанных в носовой платочек, она захватила белый халат, зная, что он пригодится ей. Она не шла, а бежала. Над ней звездное небо, безмолвное и бесконечно далекое, а к самой дороге подступали высокие хлеба. Они жили, о чем-то шептались, звенели, вздыхали. Эта близость чего-то живого бодрила и одновременно страшила. Из-под ног неожиданно взлетали ночные птицы, чуть ли не ударяя крыльями по лицу. Вначале Саша пугалась и даже вскрикивала от страха, потом привыкла и уже не обращала на них внимания. «Чего мне бояться, если Петя болен? Славный мой, любимый!..» Кое-где начали жать, и на поле стояли бабки, похожие в темноте на фигуры людей. Одна из них вдруг приподнялась и бросилась бежать. Саша испугалась и тоже побежала. Мчалась так, что казалось, сердце вот-вот выскочит из груди. Но она подумала о Петре — и страх пропал. Проходя мимо деревни, она опять увидела, как с придорожной скамейки вскочили и побежали две фигуры. Она подошла так близко, что успела хорошо рассмотреть обыкновенных людей — девушку и парня: вероятно, влюбленных. И вдруг догадалась, почему они убегают. Чтобы не нести халат на руке, Саша надела его и, похожая на привидение, пугала людей. Она скинула халат и пошла медленнее. Небо на востоке зарозовело: кончалась короткая летняя ночь. Старому больничному сторожу Саша сказала, что она практикантка, и в качестве пропуска показала халат. Она боялась спросить у кого-нибудь из сестер, где лежит Петро, — а вдруг скажут, что его нет! — и тихо обходила все палаты отделения. Открыв дверь одной из палат, она увидела медицинскую сестру, склонившуюся над кроватью в углу. И сразу в сердце кольнуло: он там! Она торопливо пошла к кровати. Больные поднимали головы и с удивлением смотрели на нее. На звук шагов повернулась и сестра. Саша узнала Любу и остановилась. Враждебное чувство ревности шевельнулось в груди: Петро рассказывал, как Люба пыталась его «заманить». — Ты? — удивленно спросила Люба. — Это он тебя все время звал «Саша, Саша!»… Теперь я понимаю. — Она критически оглядела Сашу и улыбнулась. С помощью отца, директора совхоза, Любе удалось переехать в город, и теперь она работала старшей сестрой. А главное — в городе она имела женихов и была уверена, что скоро выйдет замуж. Жизнь в городе, женихи, должность давали ей, по ее мнению, основание гордиться, вести себя важно и свысока смотреть на таких, как Саша, «деревенских». На Петра она сердилась, но к больному относилась внимательно и даже хвастала перед сестрами, что этот парень когда-то от любви к ней сходил с ума и пешком за полсотни верст прибегал к ней в деревню. Появление Саши немного раздосадовало ее. «Жена», — пренебрежительно подумала Люба и спросила: — Ты действительно вышла за него? Он тут, когда ему становилось легче, рассказывал… Девчата не верили. Дитя… Я тоже сначала не верила. Саша не слушала ее. Она стояла у кровати и не сводила взгляда с Петра. Он лежал с закрытыми глазами, будто спал, но его запекшиеся, потрескавшиеся от жара губы время от времени кривились от боли, тело вздрагивало, а пунцовые пятна на впалых щеках в этот миг пропадали, и щеки сразу становились бескровно-бледными. Саша опустилась на стул возле кровати, наклонилась над Петром и, взяв его горячую руку, прижалась к ней щекой. Люба недружелюбно усмехнулась и поправила пузырь со льдом на голове больного. — У него сорок один температура. Все время держим лед, — сказала она сухо, вероятно желая подчеркнуть, что больному нужна не нежность, а заботливый уход. — Тяжелый случай двухсторонней пневмонии. Ждем кризиса… Ты подежуришь возле него? — Я буду тут… — Должно быть, Бася Исааковна не разрешит. Мне и так достанется, что впустила тебя. Беру на себя. Саша вспомнила: когда они ходили сюда на практику, все очень боялись этой суровой Баси Исааковны, главного врача. Но теперь она никого не боялась. «Никто меня отсюда не прогонит. Не уйду», — решила она, готовая отстаивать до конца свое право быть при нем. Она уверенно поправила подушку, одеяло. Смотрела, как страдальчески отражается боль на лице мужа, и сама чувствовала эту боль где-то глубоко в груди. Петро стонал — она нежно гладила его руку, щеки. Соседи-больные с уважением разговаривали с ней, расспрашивали, откуда она, рассказывали, как привезли Петра, как он бредил все эти дни, жаловались на свои болезни. Она им отвечала, что-то советовала, даже кого-то выслушала… Но потом не могла вспомнить, о чем ее спрашивали, что она отвечала, зачем она выслушала: это смешно — ей, фельдшерице, выслушивать больного после опытных врачей! Но тогда она не думала об этом. Она была благодарна этим людям за то, что они так тепло говорят о Петре, и хотела им сделать что-нибудь приятное и полезное, чем-нибудь помочь. Но что бы она ни делала, с кем бы ни разговаривала, она не отрывала глаз от Петра. Мысль о том, что он может умереть, больше не приходила. Такая мысль не могла появиться, пока она видела, как он дышит, стонет, морщится от боли. Его жизнь — это ее жизнь, а даже самый безнадежно больной человек думает только о жизни. Только о жизни! Саша представляла себе, как Петро опять приедет к ней и она уже больше никуда его не отпустит. Он хотел ехать на место назначения, куда-то в Белосток. Нет, не надо ему ехать. Они будут ходить вместе по полю, сидеть в саду. Потом она возьмет отпуск, и они поедут на пароходе. Она вспомнила, как перед болезнью он уезжал от нее. Они ехали вместе до Речицы — ее вызывали в райздрав. Они долго ожидали парохода. Петро сказал, что ему холодно. Она закутала его в свой шерстяной платок. Он, закутанный, заснул, положив голову к ней на колени. А потом пришли какие-то девушки-хохотуньи и разбудили его. Возможно, он и простудился тогда, в ту ночь? Петро вдруг застонал и позвал: — Мама! — потом сказал что-то непонятное. — На Ягодном не проедем, нет! Пойдем!.. «Мама»… У Саши подступил комок к горлу, она и обрадовалась его голосу и ревниво хотела, чтоб он позвал ее. Через минуту он открыл глаза, долго смотрел на нее, потом слабо усмехнулся и прошептал: — Саша!.. — И тут же пожаловался, как жалуется ребенок матери: — Мне очень больно, Саша. — Больно, Петя, больно, я знаю. — Она наклонилась и поцеловала его в горячие сухие губы. Люба заглянула в палату и сказала: — Ты покорми его, он ничего не ест. Может, у тебя станет… Он действительно не отказался от еды, хотя ему было тяжело глотать. Когда она кормила, больные вдруг легли в свои кровати и зашептали: — Идет. Идет… — Ложись, хлопцы! Саша поняла, кто идет, только тогда, когда увидела в дверях Басю Исааковну. Главврач делала обход. Она останавливалась у каждой кровати, слушала объяснения лечащего врача, спрашивала больного о самочувствии, давала указания. Дойдя до кровати Петра, она сурово спросила у Саши: — А вы кто? Саша смутилась и стояла, как провинившаяся ученица. — Я? Я — фельдшер… — В моей больнице я не знаю такого фельдшера. Вы кто больному? — Я?.. Сестра, — она не понимала, почему не призналась, что жена, вероятно, побоялась, что не поверят или скажут что-нибудь обидное, оскорбительное. — Кто впустил? — обратилась главврач к дежурному врачу. Тот пожал плечами. — Я впустила. Мы вместе учились, — с неестественной улыбкой сказала Люба. — Разрешите мне остаться, — несмело, со слезами в голосе попросила Саша. — Полчаса, — милостиво разрешила Бася Исааковна. Саша со страхом наблюдала, как врачи осматривали Петра, как, отойдя, шептались, повторяя страшное слово «кризис», и она решила не оставлять мужа, что бы ни говорили, что бы ни делали. Через полчаса Люба попросила Сашу оставить палату. Больные напали на Любу: разве она не видит, в каком состоянии близкий человек! Пусть сидит, никому она не мешает. Люба вышла и больше не возвращалась. Больные успокаивали Сашу, подбадривали, называя с ласковой иронией сестрой. Она не понимала, зачем ее успокаивают: она не плакала, не ломала рук в отчаянье, она просто сидела и не сводила взгляда с любимого лица; она не знала, что его боль, его страдания отражаются и на ее лице, а со стороны это было хорошо видно. Под вечер в палату опять пришла Бася Исааковна. — Вы еще здесь? — Казалось, главврач не удивилась, а очень испугалась, потому что почти простонала: — Боже мой, что происходит в моей больнице! — и раздраженно крикнула: — Любовь Андреевну и Зою Петровну ко мне! А вы, голубка, идите за мной. Саша пошла, покорная и молчаливая. В кабинете главврач приказала: — Снимайте халат! Саша сняла. Бася Исааковна сунула халат в шкаф. — Это мой халат, — попыталась возразить Саша. — Идите, и чтоб больше я вас здесь не видела! Я еще в райздрав напишу, голубка… Саша вышла во двор, села на скамейку и горько заплакала. Ночь, длинную и мучительную, почти без сна, она провела у своей бывшей квартирной хозяйки. А утром опять пришла в больницу. По-видимому, главврач нагнала такого страха на персонал, что Сашу никто не хотел слушать. Сестры не выполнили даже ее простой просьбы — не сказали, как здоровье Петра. А Люба прошмыгнула мимо и не поздоровалась. Саша сидела на скамейке у больничных ворот и ничего не видящими глазами смотрела на голубей, воркующих на крыше соседнего дома. К воротам подъехал извозчик. С коляски осторожно сошла маленькая женщина в простой шерстяной кофте и суконной юбке. Бася Исааковна на этот раз была совсем не похожа на сурового и властного главного врача больницы. Саша взглянула на нее с ненавистью. Женщина тоже задержала на ней свой взгляд и, вероятно, вначале не узнала. Она прошла через проходную, что-то сказала сторожам и вдруг вернулась обратно. — Вы еще здесь? — спросила она у Саши теми же словами, что и в палате, но совсем другим тоном. — А где же мне быть? — Ах, какая молодежь! — вздохнула Бася Исааковна, и нельзя было понять, осуждает она или одобряет эту молодежь. — Идите за мной. Во дворе она сказала: — А говорить неправду старшим некрасиво. Мне сообщили, что это ваш муж. Да? Саша покраснела, и сердце ее наполнилось нежностью к этой доброй женщине. Надев халат, Саша взбежала на второй этаж и только перед дверью знакомой палаты перевела дыхание. Она со страхом открыла дверь и остановилась. И первое, что увидела, — его глаза, живые, ясные. Они смотрели на нее. Пытаясь подняться, он крикнул: — Саша! Это был слабый, но радостный крик человека, который после смертельной опасности вдруг понял, что спасен.VI
Вещей было мало — все тот же студенческий портфель; заботливые Сашины руки положили в него самое необходимое, что может понадобиться солдату в далекой дороге. Хозяйка предложила: — Давайте посидим минутку. Они сели рядом на длинной скамье, только маленькая Нинка — на березовом чурбаке у печи. И вдруг хозяйка заплакала, вытирая слезы краем платка. — Что это вы, Аня! Чего доброго, и меня разжалобите, — шутливо проговорила Саша, а у самой дрожали губы и голос неестественно звенел. — Пойдем, Петя, а то мы всех расстроим, вот и Нинка уже всхлипывает. Петро поднялся и протянул руку. — Прощайте, Аня. Она обняла его. — Прости, Петя, если что… — Ничего, все хорошо, Аня… Спасибо вам… — За Сашу не волнуйся, служи счастливо… Саша вышла первая: ей тяжело было смотреть на это прощание. Утро было солнечное, ясное, но уже холодное. Петро догнал Сашу на улице и сказал: — Хороший человек Аня! — Он совсем забыл, что год назад люто ненавидел ее. — Она мне как мать, — призналась Саша. — Давай я понесу портфель. — Нет, нет, я… Тебе еще хватит нести, еще руки заболят. Надо было попросить коня. Зря ты не захотел. — Я хочу пройти по нашей дороге… Когда я буду ходить тут опять… А на шоссе, может, сяду в машину. Из-за ограды двора, который они миновали, послышался женский голос: — Смотри, как докторша мужа в армию провожает. Хоть бы слезинку уронила… — Видишь, меня осуждают. — Глупости. Они вышли в поле. Березы на кладбище стояли в желтом пламени. Дорожная колея была забита опавшими листьями. На изгородях, на почти уже голых вишнях, на придорожных кустах висела паутина бабьего лета. Петро много читал, не раз видел, как радуется молодежь, уходя в армию. Почему же у него нет этой радости? Он подумал, что, вероятно, печаль, сжимающая ему сердце, навеяна осенью. «Зачем призывают осенью, когда природа грустит? Пусть бы это происходило весной, когда все зацветает, оживает, когда весело…» Он просто искал оправдания своей грусти, ему было стыдно — разве он хуже других? Разве он не стремился еще со школьных лет в армию, не мечтал поступить в военную школу? Нет, он с гордостью и радостью идет выполнять свой почетный гражданский долг! А это настроение оттого, что тяжело оставлять Сашу. Скоро эта безлесная равнина покроется снегом. Станет еще тоскливей. Саша одна будет сидеть длинными вечерами, а днем ходить к больным. Он увидел, как Саша взяла портфель в другую руку. — Тебе тяжело. Дай я понесу. — Ни капельки. Что ты выдумал! — Знаешь, ты вообще меньше теперь ходи, пусть возят. А то будешь бегать в дальние деревни… — Почему меньше? — Почему, почему?! Ты знаешь почему. — Глупенький ты! Ничего ты не понимаешь. Ходить надо больше. Это полезно и мне и ему. — Ей! Саша засмеялась: — Какой ты упрямый. Все равно — ребенок. Поле перед ними лежало ровное, голое, только с правой стороны ласкала взор молодая озимь, а с левой, насколько видно глазу, тянулась серая стерня. Ни одного живого существа, только одинокий трактор черным жуком ползал вдали, на склоне пригорка. Из-за того же пригорка выглядывали, как пики, вершины тополей в приднепровской деревне. — Сколько раз я тебя здесь встречала и провожала! Одни только встречи и расставания. Хотя бы месяц пожили вместе! В голосе Саши прозвучали упрек и жалоба. — Дурень я, что поехал после болезни на работу. На полтора месяца полетел в такую даль. — Я же тебе говорила. Ты упрямый. — Разве я не хотел остаться, Сашок! — Он взял ее за локоть, прижался щекой к ее плечу. — Я боялся, что будут неприятности. Саша вздохнула. — Я и до сих пор не отнесла в сельсовет трех рублей. Воспоминание о том, как они недавно пошли в сельсовет записываться и как у них не оказалось трех рублей, чтобы заплатить за регистрацию, обычно вызывало у них смех. Но теперь и эта история показалась Петру грустной: у него вообще нет денег. Он все еще по-студенчески беден, и Саша дала ему денег на дорогу. Чтоб отвлечься от неприятных мыслей, он, смеясь, сказал: — Когда я сообщил дома, что женился, мой батька кричал: «Только дурни женятся перед армией!» Им трудно понять. Они никогда не поймут, что у нас иначе и быть не могло. Правда, Сашок? — Я своим и теперь не призналась. — Ты напишешь им. — Кому? Отцу и мачехе? — Сестрам. И моим напиши. — А что написать? — Мать очень просила. Ты пойми… — Ему казалось, что она не хочет писать. — Хорошо, напишу, сегодня же напишу, — успокоила его Саша. Они замолчали. Над ними послышался жалобный крик. Они остановились, подняли головы и в чистой лазури неба увидели журавлей. Ровный клин их удалялся на юг. Они крикнули только раз, но так жалобно и протяжно, словно прощались с чем-то очень родным и близким. Саша долгим взглядом проводила их. Петро видел, как по ее щекам катились крупные слезы. Он осторожно ее окликнул. Она закрыла лицо ладонями, а когда отняла руки, глаза ее были сухие. — А все же это очень тяжело. Боже мой! Сколько ждать!.. Родится и вырастет дитя… А тебя не будет. — Саша, славная моя, хорошая. Я же приеду в отпуск. Я буду стараться, буду просить. Ты не волнуйся. — Петро почувствовал, что все его утешения наивны, но других слов не находил. — Ну ладно, пойдем. Хорошо, если удастся сесть в машину. Они вышли на дорогу, обсаженную молодыми березками, кленами и тополями. Здесь деревья были уже голые, и лишь кое-где на них трепетали одинокие листочки, и от этого дорога казалась еще более пустынной и сиротливой. — Может, вернешься, Сашок? — несмело предложил Петро. — Тебе трудно… — Мне? А тебе? Нет, я пройду еще. Если б я могла вот так идти с тобой все время, всю жизнь! — Я буду чувствовать тебя всегда рядом. Вот так! — он обнял ее за плечи, прижал к себе, и так они шли по дороге, разбитой и пыльной даже осенью. — Мне кажется, что я не дождусь той поры, когда мы будем вместе. И не надо будет никуда тебя провожать. Мне даже не верится, что есть такие счастливые люди, которые живут все время вместе. — Будет и у нас такое счастье. — А если… — Что? — насторожился Петро. — Ничего. Я не хочу об этом говорить. Ты знаешь, о чем я думаю. О большом несчастье для всех… Ты будешь писать мне часто-часто, правда? — Каждый день, Сашок! Каждый день! — Он тогда не знал, как нелегко будет ему выполнять это обещание. Поднималось солнце. В воздухе поплыла паутина. — Почему это называется «бабьим летом»? Это несправедливо. Я так люблю эту пору!.. В лесу теперь красиво. Скучно без леса. Меня так и тянет за Днепр. Завтра пойду и буду целый день ходить одна. — Зачем? — Мне так хочется. Я буду вспоминать тебя. Я буду звать тебя. Ты услышишь меня? — Саша, не надо, — попросил он, чувствуя, как горький ком подкатывает к горлу. Они вышли на пригорок, с которого была хорошо видна и деревня, хотя они отошли от нее километров на восемь, и далекие дымы Речицы, и близкий Днепр с широкой луговой поймой, уставленной стогами. Саша остановилась. — Когда ты будешь ехать в отпуск, ты напиши мне. Я встречу тебя тут. А теперь я вернусь. Она поставила на землю портфель и подняла руки, словно намереваясь поправить волосы. Петро обнял ее, прижал к себе. Долго стояли они так, чувствуя удары сердец друг друга. Ничего не говорили — все было сказано. Теперь им хотелось просто лишнюю минуту побыть вместе и навсегда сохранить в памяти тепло этой последней минуты. Потом Саша освободилась из объятий, сжала обеими руками его голову и поцеловала в губы, лоб, глаза. И, ничего не сказав, легко оттолкнула его, повернулась и быстро пошла назад. Петро минуту стоял ошеломленный, потом позвал: — Саша! — и сделал несколько неуверенных шагов вслед за ней. Она пошла быстрее. — Саша! — позвал он громче и остановился. Ему стало горько и обидно, что она не оглядывается. Он не подумал о том, что Саша плачет и не хочет, чтоб он видел ее слезы и волновался. Но и она не догадалась, какую боль причиняет ему, уходя вот так. «Неужели тебе не жаль, что ты так легко простилась и не хочешь оглянуться? Саша! Посмотри!» — мысленно кричал он. Наконец она повернулась и помахала ему рукой. И тут он скорее догадался, чем увидел, что она плачет, и необыкновенным теплом и жалостью наполнилось его сердце… — Саша, моя любимая, славная. Не плачь. Я скоро приеду. Разве мало людей расстается со своими женами? Не плачь, — шептал он, но ему самому хотелось плакать. Саша пошла дальше. Вот она поднялась на пригорок. Снова остановилась, опять помахала рукой. Вот она стала спускаться с пригорка по обратному склону — ниже, ниже, пока не скрылась совсем. Петро с затаенной надеждой глядел на другой пригорок, видневшийся дальше. Увидеть ее еще раз! Последний раз! Вот опять мелькнула ее голова в белой косынке. Вот она вся… Но это очень далеко — уже нельзя различить ни ее лица, ни даже цвета платья. Саша долго стояла там, на вершине пригорка, — одинокая, печальная женская фигурка на фоне ясного неба. «До свидания, Сашок, до свидания! Не плачь. Я никогда не забуду тебя — ты дала мне столько счастья…» Далекая фигурка исчезла, словно растаяла. Петро вздохнул и поднял с земли свой портфель.
НОЧНЫЕ ЗАРНИЦЫ
повесть вторая

Перевод А. Островского

I
Саша очнулась от сна, прислушалась, и улыбка засветилась в ее широко открытых, чуть усталых глазах. Боли не было. Она почувствовала себя здоровой и бодрой. Еще не веря самой себе, потянулась, сжав кулаки, закинула руки за голову. Снова со страхом прислушалась. От этой маленькой зарядки почувствовала себя еще лучше. Она даже рассмеялась. Но вспомнила о соседках по палате, погруженных в сон, спохватилась и стала прислушиваться теперь уже к тому, что делается вокруг. За окном весело щебетали ласточки. Они тоже только что проснулись. В теплых гнездышках там, наверху, под крышей, пищали птенцы. А не плачет ли за стеной, в детской, ее дочка, ее маленькая Аленка? Представила ее, крошечную, с розовым личиком, в котором уже угадывались Петины черты (Аня, когда приходила в больницу, сказала: «Вся в папу»), и сердце забилось часто-часто, странное, неведомое доселе волнение овладело молодой матерью. Очень хотелось встать, пойти поглядеть на Аленку. Да все еще спят. Одни ласточки проснулись. Нет, и люди не все спят. Где-то далеко, на краю местечка, мелодично запела труба пастуха. Саша опять закинула руки, ухватилась за спинку кровати, подтянулась, напрягая мышцы живота. Раз, второй раз… Проверяла… Нет, не больно. Она совсем здорова и попросит Марию Сергеевну выписать ее. Сегодня воскресенье, придет Аня, и они вместе отправятся домой по знакомой полевой дороге, среди высокой ржи, которая уже, наверно, совсем налилась. На белом потолке она увидела солнечный лучик — узенькую розовую полоску. Всходило солнце. «А Петя писал в последнем письме, что у них там, в Мурманске, солнце вовсе не заходит. День и день, — вспомнила она и улыбнулась. — Что ж хорошего? Скучно. Когда всходит солнце, это так красиво». Луч на потолке становился шире, бледнее, полоса света сползла на стену. Саша смотрела на нее и вспоминала мужа: «Петя, родной!.. Славный ты мой! — Никогда в глаза не называла она его так ласково, так нежно. — Когда же ты приедешь? Когда посмотришь на свою дочурку? Приезжай скорее, Петя! Мы скоро увидим тебя, правда?» После родов, когда ей было худо, Мария Сергеевна хотела дать ему телеграмму. Но Саша запротестовала. Нет, она хочет встретить его здоровой. С дочкой на руках выйдет на дорогу, туда же, где прощались, и там они встретятся. На светло-синей стене, на белой двери палаты появился большой солнечный квадрат с переплетом рамы. Солнце взошло. Саша не вытерпела, сбросила легкое одеяло, встала и, поглаживая тугую, налитую молоком грудь, подошла к окну. Какое синее, ясное небо! И Днепр какой спокойный! Больница стоит на высоком берегу, над самой кручей, и река — вот она внизу, до середины в тени заречного леса, а ближе — в искрах солнца. Саша смотрит на лес и снова вспоминает Петра. Вспоминает, как однажды, — они еще не были тогда женаты, — он приревновал ее к учителю Лялькевичу и, разозлившись, ушел этим лесом. «Глупенький мой!.. Никого мне, кроме тебя, не надо. Тебя жду… Что ты сейчас делаешь? Спишь? Сегодня я отправлю тебе телеграмму, что выписалась из больницы. Порадуйся вместе с нами». Проснулась соседка по палате, тоже молодая женщина. Протерла кулаками глаза. — Вы уже не спите? Болит? — спросила она у Саши. От счастья, переполнявшего ее, Саше хотелось кого-нибудь приласкать. Она погладила сбившиеся за ночь волосы женщины. — Нет, не болит, Клава. Мне хорошо. — А коли хорошо, так спите. Рано еще, — и соседка, зевнув, повернулась лицом к стене. Саша, улыбаясь, вынула из тумбочки гребешок и стала причесываться. Развязала ленточку, которой были перехвачены волосы на ночь, и они рассыпались по плечам, упали на грудь. Саша, любуясь, перебирала их руками. Еще в прошлом году она ходила стриженая. А когда вышла замуж, Аня сказала, что теперь так не годится, и Саша начала отпускать волосы. Сейчас они длинные и очень ей нравятся. Труба пастуха запела совсем близко. Веселое, задорное, то ласково-радушное, то властно-угрожающее «Вы-го-оня-ай!» вспугнуло ласточек. Они с криком шарахнулись к Днепру и закружились низко над водой. «Ну и горлодер! — подумала Саша. — Детей разбудит…» По правде говоря, ей хотелось, чтоб Ленка проснулась. Тогда она пошла бы в детскую, взяла ее на руки, стала бы кормить, а то от молока грудь болит. На улице — голоса: выгнав скотину, женщины перекидываются словечком. Вот и голос Марии Сергеевны — она тоже выгнала свою корову. Странная женщина! Держит корову, ухаживает за ней, заботится, а молоко отдает в больницу. Саша гордится дружбой с Марией Сергеевной. Дружба эта началась два года назад, когда Саша приехала сюда на работу. Главному врачу кустовой больницы понравилась молодая, скромная и трудолюбивая фельдшерица. Их отношения стали особенно душевными, когда стало известно, что сын Марии Сергеевны служит с Петром «в одном подразделении», как они пишут, соблюдая военную тайну. Петя писал Саше, что Сеня Песоцкий его лучший друг, они даже однажды получили по наряду за разговор после отбоя. После этого она в ласковых письмах стала просить «своего мальчика», чтоб он вел себя благоразумно, не делал глупостей. Ей очень хотелось, чтобы он безупречным поведением заслужил право на отпуск, хотя бы самый короткий — на день, на два. Только бы повидаться! И чтоб он увидел свою дочку! Свою маленькую Аленку… А вот и она. Что-то она сегодня проснулась раньше, чем обычно. А может, это не Аленка? Нет, Саша с первого же дня безошибочно узнает ее голосок и теперь, наверно, отличила бы ее крик среди тысячеголосого детского хора. Саша с улыбкой прислушивается. Малышка забавно кричит: крикнет разок, другой, послушает, не идут ли, потом опять… Так по крайней мере кажется молодой матери, и она нежно шепчет: «Хитрушка ты моя! Однако ты разбудишь ребят». Саша быстро накинула халатик и пошла в детскую. Больница спит. Спит дежурная сестра. И на улице тихо. Стадо прошло, подняв пыль, и снова воцарилась тишина раннего летнего утра той предуборочной поры, когда люди разрешают себе отдохнуть в воскресенье. Только неутомимые труженицы ласточки не отдыхают, они первые встретили день и теперь уже за работой: им некогда — проснулись их малые детки… Саша наклонилась над колыбелью, и девочка сразу умолкла, губками и язычком запросила есть. «Ласточка ты моя милая!..» Она взяла малышку на руки, расстегнула халат, и та сразу нашла розовый тугой сосок, смешно зачмокала. Саша минуту постояла неподвижно, завороженная удивительным ощущением необыкновенной услады и легкости во всем теле и чуть тревожной радости. С малышкой на руках вернулась в палату и легла на кровать. Долго с ненасытным любопытством смотрела, как дочка сосет грудь, с нежностью разглядывала каждую черточку ее лица, черненькую головку. «В кого ты такая чернявая? Папа у тебя белый и мама тоже. Странно… А так до чего же ты похожа на папу! И носик, и глазки. И даже родинка…» В родильном, намучившись от боли, Саша засмеялась, увидев у ребенка на мочке левого уха точно такое же родимое пятнышко, как у Пети. Дочка уснула. И все вокруг спят, хотя солнце над Днепром уже поднялось довольно высоко и залило палату теплым светом. Саша долго лежала молча, вслушиваясь, как щебечут за окном ласточки, мысли ее унеслись к мужу. Что он там сейчас делает? Думает ли о ней так же, как она о нем? «Нет, теперь он должен думать не обо мне одной, а о нас…» Мысли стали путаться, и она уснула. Проснулась от страшного сна. Что ей снилось? Саша вспомнить не могла, но твердо знала, что было что-то ужасное, и она очнулась вся в поту. Саша пошарила рукой, здесь ли дочка, и, не найдя ребенка, чуть не закричала от страха. Сдержалась только потому, что увидела Марию Сергеевну, склонившуюся над постелью. Выражение ее лица еще больше напугало Сашу. Она схватила доктора за руки. — Где Ленка? Что с ней? — Успокойся. Ее отнесли в детскую. Мария Сергеевна присела на табурет рядом с койкой и погладила Сашу по голове. Саша не могла отвести взгляда от ее лица: обычно освещенное доброй улыбкой, оно вдруг почернело, глаза запали, у рта залегли некрасивые складки, она постарела на много-много лет. — Что случилось, Мария Сергеевна? — робко спросила Саша. Рука врача перестала поглаживать ее волосы и плотнее легла на голову. — Несчастье, Саша. Большое несчастье. — У кого? — У всех… У всего народа. — Несчастье у народа? — не поняла Саша. — Война, Саша. — Мария Сергеевна оглянулась: в палате никого не было, должно быть, роженицы вышли в сад. Саша почувствовала резкую боль в животе, у нее заколотилось сердце и закололо в висках. Слова врача доносились словно издалека. — Я выгнала корову… вернулась к себе, включила приемник… Обычно так рано станции молчат. А тут… что творится в эфире! Все немецкие станции… Вся Европа! Выступал Гитлер. Они бомбят Киев… Киев! Ведь это совсем близко от нас. Совсем… Вот тут… — она показала рукой. Саша посмотрела в окно, за которым шумело ясное летнее утро, слышались детские голоса, сигналы машин, скрип повозок. Во дворе кто-то смеется. Кричит женщина: «Петро! Останови коня!» А вот другой голос: «Яйца сегодня в цене будут. Дачников понаехало…» От этих обычных голосов ровней стало биться сердце. Саша оторвала взгляд от окна, посмотрела на доктора и снова почувствовала резкую боль. Нет, это не сон. Мария Сергеевна с искаженным мукой лицом сидит рядом. Саша робко тронула ее руку. — Что ж это будет, Мария Сергеевна? — Сеня, — прошептала женщина в ответ. — Сеня… Он такой слабый, болезненный… Он столько хворал… Только тут до сознания Саши с ужасающей ясностью дошло то, что случилось. Она так же, как и Мария Сергеевна, подумала, что самый дорогой для нее человек, Петя, в страшной опасности. Возможно, он уже сейчас, в эту минуту, лежит где-нибудь на голых скалах Заполярья. И может быть, потому, что это совпало с новыми приступами физической боли, Саша не прошептала любимое имя, как доктор, а крикнула: — Петя!.. Мария Сергеевна сжала ее руки. — Успокойся… Не надо, Саша. Не пугай других. Нам теперь нужно большое мужество, мой друг. Мы должны быть готовы перенести все, что нас ждет! Она наклонилась. Саша обняла ее, припала лицом к плечу и тихо заплакала. В палату заглянули роженицы, увидели, что докторша обнимается с их молодой подругой — фельдшерицей, перемигнулись и тихо затворили дверь.Мария Сергеевна хотела задержать ее в больнице. Но Саше было мучительно тяжело лежать в одиночестве — все роженицы выписались, как только узнали о войне. Хотелось скорей приняться за работу, быть с людьми. Может быть, там, среди народа, она освободится от своих страшных мыслей, от ужасов, которые рисовало ей воображение. Саша передала Ане, чтобы она приехала за ней. Хозяйка явилась только на следующий день, под вечер. — Лошади никак не могла получить, Шурочка. Мобилизованных провожали, — объяснила она. — Страшно это, Аня, провожать на войну? — спросила Саша, когда они выехали на пыльную дорогу, бежавшую меж высоких хлебов. — Голосят бабы, — коротко и просто ответила Аня и, помолчав, добавила: — Мужчинам что — закинул мешок за спину да и пошел. А женки… Ой, хлебнут они горя!.. — Что вы, Аня! — запротестовала Саша. — Странно вы рассуждаете. Ведь не на заработки пошли, на войну… Каждый день смерти в глаза глядеть. — Смерть — она одна, Шурочка, и короткая. От нее нигде не скроешься. А жизнь длинная, да и не одна жизнь у женщины. У иной куча детей, так ей пять жизней тянуть надо… За себя и за них. Я помню ту войну, когда отца убили. Получила мать «похоронную», а нас пятеро… А в поле картошка мерзнет, надо копать. Рухнет мать у борозды на колени, поголосит, и мы вместе с ней, да снова за работу. Жить надо! Я, Шурочка, слезы свои выплакала по отцу да по мужу… Саша крепче прижала к себе дочку: опять подумала об ее отце. Мысль о Пете не оставляла ни на минуту. Иногда удавалось отогнать страшные призраки и увидеть его живым, веселым. Разговор с хозяйкой снова вызвал в воображении картину, которая вот уже два дня леденит ее сердце. Петя лежит на голых камнях. Жив он или мертв? Саша почему-то решила, что там, в Заполярье, все голое: ни колоска, ни деревца, ни кустика, и от этого ей становилось еще страшнее. Ей казалось, что если бы Петя воевал среди вот такой высокой ржи, где так легко укрыться, или вон в том лесу, что виден за Днепром, на душе было бы куда спокойнее. А Аня все раздумывала вслух: — Жито вон какое поднялось! Говорят, перед войной всегда хороший урожай. Скоро жнива… А в колхозе ни одного мужчины, кроме стариков да подростков, не останется. Нашими, бабьими руками все придется подымать. Чтоб и солдатам хлеба было вволю и дети с голоду не пухли. Тяжело нам будет, Шурочка… Саша, занятая своими мыслями, слушала вполуха. Они поднялись на пригорок, и взгляду открылась деревня, вся в зелени садов. Лошадь фыркнула и побежала под горку рысцой. Сады и хаты стали опускаться и наконец скрылись совсем, а березы на кладбище все оставались видны. Саша глядела на них и думала: «Скроются они или нет?» Ей почему-то вдруг захотелось, чтоб хоть на миг они спрятались. Березы не скрылись, и она сказала: — Кладбище отовсюду видно. Нехорошо это. Ничего не видать, одно кладбище… Аня с удивлением посмотрела на нее. Саша ожидала, что в деревне очень шумно. Когда шел обычный ежегодный призыв и в армию уходили безусые юнцы, на улице всегда было много песен и шума. А теперь уходят люди всех возрастов, уходят на войну, многие, возможно, на смерть. Но, к удивлению, в деревне было тихо. Ее поразила и тишина и то, что внешне все осталось таким же, как всегда. Медленно угасал летний день, только закат показался ей слишком уж пунцово-красным, кровавым, но это, должно быть, от мыслей, что где-то в той стороне проливается кровь. Как всегда, лениво прошло стадо. Коровы, неся тяжелое, набухшее молоком вымя, мычали — каждая у своего двора. Хозяйки загоняли их в хлев, слышно было, как они бренчат подойниками. Потом опять все затихло, и Саша почувствовала в этой тишине что-то необычное, напряженное и страшное. Она вышла на улицу и поняла: нет веселого гомона детей. Обычно в такие вот ясные летние вечера на улице, выгоне, у пруда, на колхозном стадионе играют дети, везде их голоса, крики, смех. Сейчас же детей нигде не было видно, и от этого становилось жутко. И Саша ощутила страшное дыхание войны. Какое же это великое горе, если его поняли, почувствовали даже самые маленькие дети! Она прошла по улице. Нет, не все еще ушли на войну. Во многих хатах светились окна (обычно среди лета никто лампы не зажигает). Там сидели за столами родные и друзья, пили, а пьяных выкриков не слышно, разговор шел негромкий, рассудительный, пели тихо и грустно. Кое-где так же тихо плакали женщины. Утром вместе со всеми Саша провожала мужчин в военкомат. Машины из Речицы не вернулись, и вторая партия призывников уезжала на подводах. По пыльной полевой дороге, среди хлебов, медленно двигался обоз. На возах сидели мальчишки-ездовые. Завтрашние воины, их матери, жены, дети, друзья шли следом. Вместе со всеми шла и Саша с ребенком на руках. Старая женщина, провожавшая сразу двух сыновей, заботливо сказала: — Не шли бы вы, докторка, тяжело вам еще, — и, откинув марлю, взглянула на личико младенца. — Да и ей вредно — вон какую пылищу подняли. — Я немножко пройду, — виновато сказала Саша. Ей хотелось проводить этих людей, с которыми она сроднилась за два года работы. Хотелось еще и потому, что они идут на помощь ее Пете — они станут рядом с ним и будут защищать от страшного врага ее, Ленку, всех детей и женщин. Она вспомнила, как по этой же дороге меньше года назад шла с Петром. От всего этого хотелось плакать. Она сдерживалась — ведь ни одна женщина не плакала. Многие, правда, вытирали уголком платка слезы, но делали это тайком. Беседовали вполголоса, каждый о своем. — Наташа, ты поросенка заколи, чтоб дети на сухом хлебе не сидели. — Ладно, Ваня, ты о нас не беспокойся, за собой гляди, будь осторожен. — Тата! А ты убей Гитлера и возвращайся скорей домой. — Хорошо, сынок. Я убью его, гада. А ты маму слушай, за Любкой приглядывай. Может, и обошлись бы проводы без плача и причитаний, да подвел гармонист. Он перекидывался шутками с девчатами, что шли рядом с ним, а потом как-то неожиданно для всех вдруг растянул мехи своей гармоники, заиграл и запел песню, которую каждый слышал и пел тысячу раз. Когда пели ее на вечорке, она никого особенно не трогала: мало ли поется песен! А в такое время…
После-е-едний но-о-не-шний дене-о-очек
Гуля-а-ю с ва-ми я, друзья-а…
II
В Речицу Саша не поехала. Она рассудила иначе: недалеко отсюда, за Днепром и Сожем, ее родная деревня, отцовский дом, так зачем же ехать невесть куда? Дома она будет в полной безопасности: если врагу даже удастся дойти до Днепра, то уж туда, через две большие реки, ему ни за что не прорваться. Она продолжала спокойно работать. И только когда у самой деревни появились военные и начали строить укрепления, она решила ехать. Трудно ей было расставаться с местами, где началась ее самостоятельная жизнь, где каждая мелочь напоминала о Пете, об их счастье, коротком, но ярком. Что ждет ее? Аня взяла в колхозе лошадь и сама решила отвезти ее. Когда стали грузиться, Саша удивилась, что набралось так много вещей. — Обжилась я тут у вас, — сказала она Ане. — Я мешок жита положу, Шура, — предложила Аня. — Что вы, Аня! Зачем оно мне? — Ой, все пригодится. Ты теперь не одна. Жить надо, дочку кормить. Бери. А я твою полоску сожну. Два дня назад по указанию райкома колхозные посевы разделили между колхозниками и сельской интеллигенцией — по количеству едоков. Саша тоже получила двадцать соток. Это ее встревожило: дурной признак. По правде говоря, не появление войск, а раздел посевов заставил ее подумать о предупреждении Владимира Ивановича и пуститься в путь за две большие реки. Вот и мешок с житом уложен. В хате осталось самое дорогое — дочка. Саша отправилась за ней. Комната, где жила Саша, теперь показалась большой, какой-то пустой и от этого неуютной. Саша закутала малышку, перецеловала детей хозяйки. Взяла дочку на руки и еще раз поглядела вокруг. Хозяйка помолилась на образа. Сашу почему-то это очень взволновало. Захотелось плакать. — Аня, если письмо от Пети придет, вы обязательно перешлите мне. Уж как-нибудь, — еще раз попросила она, хотя об этом уже было не раз говорено. — Передам, Шурочка, сама принесу. Здесь же недалеко. Добегу. «Аня тоже не верит, что они могут сюда дойти», — с облегчением подумала Саша. Несколько соседок вышли на улицу проводить ее. Окружили повозку. — Вот и вы, Шура, нас покидаете, — сказала одна из женщин, тяжело вздохнув. — Вчера учительницы уехали. Одни мы остаемся… Пусто, как после чумы. У Саши больно сжалось сердце. Она не знала, что ответить, как утешить этих добрых горемычных женщин, чувствовала себя виноватой перед ними. В чем же ее вина? Разве ее собственная судьба легче? Разве она не такая же солдатка? Но она бежит от войны за две широкие реки, а они остаются здесь. Имеет ли она право так поступать? — Дитя захворает, некому будет и полечить, — укором звучат слова молодухи с ребенком на руках. Саша опускает глаза, крепче прижимает к груди свою дочку. Нет, это не укор, это боль души. — Счастливого пути вам, Шурочка, — говорит женщина с ребенком ласково и сердечно. — Коли все обойдется, не забывайте нас, возвращайтесь. Саша радостно встрепенулась, с благодарностью посмотрела на женщин полными слез глазами. — Я вернусь. Я непременно к вам вернусь. Родные мои, добрые!.. — Ну, хватит вам! Целуйтесь — и едем. Путь не близкий, — грубовато сказала Аня, по-мужски вскакивая на передок и разбирая вожжи. В местечке они заехали в больницу — попрощаться с Марией Сергеевной. Саша взглянула на доктора и ужаснулась: она постарела, осунулась, поседела. — Что с вами, Мария Сергеевна? — Со мной ничего, Саша, — спокойно, но грустно ответила она, проводя ладонью по лбу. — Что у народа, то и у меня. Горе. От горя не молодеют. Вон и у тебя тоже тени под глазами… Не дает спать? — кивнула она на малышку. — Нет, она спокойная. Самой не до сна. Вы от Сени письма не получали после того, как началось? — Я? Этим коротким вопросом Мария Сергеевна выдала себя. Саша поняла, что письмо есть, и рванулась к ней, схватила за руку, сжала. — Мария Сергеевна, не скрывайте от меня ничего. Я все хочу знать. — Успокойся. Я ничего не скрываю. Сеня написал коротенькую открытку на второй день… Да вот она при мне. Она достала пачку бумажек из нагрудного кармана халата. Саша почти вырвала у нее из рук измятую открытку, прочитала вслух: — «Моя милая, славная мама! Я жив и здоров. У нас покуда тихо. Настроение хорошее, очень хорошее. Будем бить врага. Милая мама, я хочу, чтоб ничто тебя не страшило, чтоб ты была мужественной. Но если тебе, случится, скажут что-нибудь дурное о твоем сыне, я прошу тебя: никому не верь, мамочка. Я был и всегда останусь честным и правдивым, каким воспитали меня ты и папа. Я люблю свою Родину так же, как тебя, родная моя мама. А еще я люблю истину и правду и ненавижу невежество, ты это знаешь. Обнимаю тебя и целую. Твой Сеня».Саша не вникла в смысл прочитанного, в странные слова сына Марии Сергеевны, не догадалась, сколько боли и душевных мук принесли эти слова женщине. Немного успокоенная тем, что у них «покуда тихо», с обидой подумала: ведь вот сын написал матери, а Петя ей, своей жене, не пишет. — Вы давно получили? — Дня четыре… — Почему же не пишет Петя? Подумал бы он, как это тяжело — ничего не знать! — Им не легче, друг мой, — вздохнула Мария Сергеевна. — Они тоже, наверно, ничего не знают. И они, конечно, пишут. И Петро и Сеня… И другие… Но все сейчас нарушено. Одни письма прорвались, а другие, может быть, под бомбы где-нибудь попали. — Если я уеду, ничего мне больше не узнать… Как я там буду жить? Не надо мне ехать. Надо ждать… Верно? Мария Сергеевна, не отвечая, взяла на руки ребенка, откинула марлю. Девочка спала. Лицо врача прояснилось. Саша склонилась над дочкой и улыбнулась: — Она тихая… Спит и спит. — Нет, вам надо ехать, — решительно сказала Мария Сергеевна, поднимаясь и протягивая Саше ребенка. — Вам нельзя больше задерживаться ни на один день. Сегодня ночью кто-то сжег паром… — Как же мы теперь переправимся? — Надо ехать на Лоев. Может быть, там цел. — А вы, Мария Сергеевна? — Я одна. Уйду с последним красноармейцем. Саша вдруг почувствовала страх: если и Мария Сергеевна думает, что ей придется куда-то уходить, значит, опасность близка. Несколько минут назад она тихо и мирно сидела на знакомом больничном дворе, любовалась с крутого берега Днепром, и ей никуда не хотелось ехать. А теперь заторопилась: ей не терпелось поскорей очутиться на том берегу реки, луговом и лесистом. Она заплакала, когда Мария Сергеевна на прощание обняла ее. Выехали за местечко, Саша то и дело просила: — Скорей, Аня, скорей! Аня, не жалея, стегала лошадь кнутом. Дорога песчаная, тяжелая, лошадь мотала головой и не хотела бежать. Вскоре их остановили военные, сказали, что дальше ехать нельзя, и посоветовали поехать другой дорогой. Они назвали деревни в стороне от реки, показали на далекие сады, видневшиеся за морем ржи. Дорога вдали от Днепра показалась Саше страшной. Она попросила Аню повернуть назад. — Куда же мы теперь? — спросила Аня. — Не знаю, — беспомощно ответила Саша. — Я ничего не знаю. Может, посоветуемся с Марией Сергеевной… — А чего советоваться! Надо ехать на Речицу. Там мост. — Мосты бомбят, Аня. Есть ли он еще там, мост? Может, его давно нету. Точно в подтверждение ее слов, со стороны Речицы послышались глухие взрывы. Саша вскинулась и попросила: — Скорее, Аня! — А куда нам спешить-то? — откликнулась женщина. — Я переправлюсь на лодке и пойду домой пешком. Мысль эта пришла вдруг, показалась такой простой и разумной, что Саша удивилась, как она не додумалась до этого раньше. Зачем она теряла время на поиски парома? Чтоб приехать домой со всем этим добром — тряпками и мешком зерна? На что оно, это добро? Кому оно нужно в такое время? Как ей не стыдно думать об этом, когда вокруг все рушится! — Одна пойдешь? — спросила, помолчав, Аня. — С Ленкой. — С Ленкой! То-то и беда, что с Ленкой. Кабы одна — мир велик, иди, куда хочешь. А так… — Аня опять помолчала, подумала, потом тихо сказала: — Я пойду с тобой. Провожу. Все не одна… Чувство горячей благодарности охватило Сашу, но она была не в состоянии высказать эту благодарность и, проглотив слезы, промолвила: — Вас свои дети ждут, Аня. — Подождут. Не маленькие, — грубовато ответила женщина и, дернув вожжи, щелкнула кнутом — погнала лошадь вскачь. У Аниных родичей, куда они заехали, чтобы оставить лошадь, Саша с лихорадочной поспешностью отобрала самое необходимое — пеленки, распашонки, свои платья. — Только и всего? — удивилась Аня, увидев у нее в руках небольшой узелок. — А что мне нужно, кроме Ленки! — Тебе не нужно, ей нужно, — с хозяйской рассудительностью возразила Аня. — Ты, Шурочка, будто и жить не собираешься. А в жизни все пригодится. Аня выбрала все, по ее мнению, нужное, завязала в скатерть и приладила узел себе за спину. Напрасно Саша просила не брать так много — она и слушать не стала да еще ее попрекнула: — Идешь в такой путь, а даже поесть не взяла. Святым духом да молитвами не проживешь, Шурочка. Она сунула Саше узелок с едой, набила карманы своей кофты какими-то пакетиками, бутылочками. Узкой, крутой стежкой спустились к Днепру. Зеркало реки, как всегда, было спокойно и величаво. Приятно пахло водой, рыбой. И Саша на миг успокоилась, отогнала свой страх. Но через минуту война и опасность снова напомнили о себе. Напомнили весьма странным образом, неожиданно и по-своему грозно. Старый угрюмый лодочник с всклокоченной бородой запросил у нее за перевоз сто рублей. — Побойся бога, человече! Да в своем ли ты уме? — накинулась на него Аня. — За два рубля перевозили… — Я и по рублю возил. А теперь и за сто не хочу. На что они мне, деньги? Что я на них куплю? Бутылки водки нигде не достанешь. Завтра им, может, и вовсе никакой цены не будет, деньгам этим. — Да имей же совесть! Женщина с грудным дитем от войны убегает… «Зачем она так говорит — „убегает“!» — всполошилась Саша. Слово это неприятно поразило ее, впервые подумала, что, наверно, все женщины в деревне, Мария Сергеевна и вот она, Аня, поняли ее отъезд именно так. — Я не бегу. Я еду домой, к своим. Каждому хочется быть со своими. — Саша выхватила из кармана платочек с деньгами, развязала зубами узелок и протянула старику все, сколько там было. Но старик только грубо выругался. — Что ты суешь столько денег? Что я тебе, хапуга какой? Не повезу! Саша, смущенная и растерянная, разволновалась еще больше, со слезами в голосе попросила: — Дедуля, родненький… Что ж нам теперь делать? Назад идти? Он отвернулся, хмыкнул носом и сурово приказал: — Садитесь! Когда отплыли, старик как-то сразу помягчел, спросил, откуда идет молодица и далеко ли ей идти. Саша назвала свою деревню. — Э, да тут рукой подать! — словно обрадовался старик. — Добрый ходок к ночи дошел бы. Их, видно, он не считал добрыми ходоками, а на Аню поглядывал довольно косо, и женщина, чтоб не сердить норовистого старика, дипломатично помалкивала. — А муж где? — спросил старик, кивнув на ребенка. — На войне, дедушка. — Правильно, такой молодой с дитенком лучше возле родной матки быть. Свекруха — не мать. — Видно, Аню он принял за свекровь и хотел ее уязвить. Саша не сказала, что матери у нее нет, но почувствовала, как болезненно сжалось сердце от его слов. Что ее ожидает дома, кто ее встретит там? Они были на середине реки, когда услышали гул самолетов. Он все усиливался, быстро приближаясь откуда-то с юга. — Они, — сказал лодочник и стал торопливо грести, задевая веслом о борт и окатывая их брызгами. Лодка, шедшая до этих пор ровно, начала вилять. Саша видела, что у старика дрожат руки. — Вчера в Чаплине паромщика убили, душегубы… Саша вдруг поняла, какая опасность им угрожает. «Неужто конец? Доченька моя родная!..» Она закрыла глаза. Если б можно было заткнуть уши. Если б можно было не слышать страшного гула, что, кажется, рвет и раскачивает все вокруг: воздух, реку, лодку, ее руки, мозг. Гул переходит в какой-то пронзительный вой и свист. Нет, надо смотреть, надо все видеть. От смерти не спрячешься. Саша раскрывает глаза. Над самой кручей, над белым домиком больницы, над тополями, под которыми они утром сидели, летят длинные черные самолеты. «Надо было сказать Марии Сергеевне, чтоб она красный крест выложила, пусть бы видели, что это больница». Над усадьбой МТС поднялись столбы огня, дыма, пыли, взлетели в воздух доски, железо. Отсюда, с реки, на фоне ясного летнего неба все отчетливо видно, как на голубом экране. Когда самолеты скрылись, старик поднял весло и утер рукавом пот со лба. — Все хорошие здания бомбят, паразиты, все уничтожают. Силу показывают, запугать хотят. — Хорошо, что в больницу не попали, там больные, — высказала Саша свою тревогу. — Дойдет черед и до больницы. Не попали, — сурово проворчал старик и почему-то опять рассердился: — Больные! А здоровые жить не хотят? Благодари бога, что нас не заметили… Они перевозчиков не любят. А ты меня сотней попрекаешь! — накинулся он на Аню, хотя та и молчала. — Дура баба! У меня душа горит! Может, я за эту сотню залью ее, душу свою. А ты сотни жалеешь! Только выходя из лодки, почувствовала Саша, какой пережила страх, когда налетели самолеты, — ноги были как чужие, немели и не сгибались в коленях. Но она не стала тратить время на отдых. Она рвалась вперед, словно там, за второй рекой, не летают вражеские самолеты. По-разному в те страшные дни бежали люди от войны: шли группами и поодиночке, по магистральным дорогам и глухими тропками; одни знали, где конец их пути, другие шли куда глаза глядят. Но, верно, у всех было то же чувство, что и у Саши, — скорее вперед, как можно дальше от того, что осталось позади. Покуда человек сидел на месте, в привычной обстановке, в своем коллективе, работал, занимался делом, его ничто не страшило: ни близкая канонада, ни бомбежки. А как только он срывался с места, становился беженцем, страх и паника безостановочно гнали его вперед. Саша, обычно чуткая и внимательная к людям, не видела, что Аня под тяжестью узла обливается потом. У нее у самой немели руки — не легко с утра бежать с ребенком на руках. Босоножки натирали ноги. Но вся ее воля, все силы направлены были на одно — идти! Теперь она понимала, что убегает, и не стыдилась больше этого слова, которое еще там, у Днепра, казалось ей позорным. Не трусость гонит ее, а страх за дочку, за это невинное существо, которое всего месяц прожило на свете и ничего еще не знает, не ведает. И только когда Ленка подала голос, предъявляя свои требования, Саша опомнилась. — Она есть хочет. Надо покормить. — Да и нам передохнуть пора, — откликнулась Аня, до тех пор молча шедшая рядом. — Загнала ты меня, Шурочка: сорочка — хоть выжми. Она с облегчением сбросила с плеч узел и села на землю. Саше стало стыдно. — Надо нам его разделить, чтоб половину я несла. Вам тяжело, Аня. — Что это ты, Шура! Тяжело… Тебе тоже нелегко… Они остановились в лесу, там, где дорога пересекала квартальную просеку — «линию», как ее называют в тех местах. По одну сторону просеки подымался старый бор: стройные красавицы сосны с плешинами подсечки, словно смертными знаками, между сосен — дубки и березы, а понизу — редкий орешник. По другую сторону лес был вырублен несколько лет назад, и теперь вся длинная, на квартал, лесосека заросла непролазной чащей — березняком, осинником, орешником. Местечко попалось уютное. Такие лесные перекрестки манят пешехода — хорошо здесь отдохнуть! Женщины присели в тени под соснами. Было часа три — самая жаркая пора июльского дня. В лесу стояла знойная духота и такая тишь, что даже листва на молодых осинках не дрожала. Только оводы звенели вокруг. Саша расстегнула блузку, и малышка жадно припала к груди, забавно зачмокала. Мать с умилением смотрела на ее личико. — Путешественница ты моя горемычная! Аня развязала узелок с едой, достала хлеб, яйца, соль, разложила все это на белой косынке. — Вот и мы перекусим. Легче ногам будет. — А мне и есть не хочется. Я так перетрусила на реке. Вам было страшно, Аня? — А кому не было бы страшно, Шурочка! Старик какой сердитый, а и тот перетрусил. Я и так-то воды боюсь. А тут — этакие страхи… — Неужто они сбросили б на нас, если бы увидели? — А что им, душегубам! Рассказывают люди, что они на шоссе в беженцев из пулеметов стреляют, бомбы сбрасывают… — Так ли мы идем, Аня? Не заблудимся? — Так. Я сюда по дрова зимой ездила. Скоро деревня будет. Там спросим дорогу дальше. Теперь бояться нечего. Видишь, тишина какая! Не верится, что война… Аня облупила яйцо, макнула в соль и, протягивая Саше, сказала: — На, съешь, Шурочка. В этот миг зашелестели кусты и из зарослей вышел человек в красноармейской форме, с петлицами младшего командира. Он был совсем юный, бледнолицый, с большими голубыми глазами и очень мирный на вид. Но Саша почему-то вздрогнула и быстро прикрыла грудь и личико дочки марлей. — Кто вы есть? — как-то странно, не по-русски, спросил военный. — Люди мы есть, — в тон ему ответила Аня смело и просто. — Не видишь разве? Беженцы. От войны удираем, от немца. А ты почему кусты протираешь? На фронт шел бы. Он кисло усмехнулся и, приблизившись к Саше, протянул руку к ребенку. — Что это? Саша отшатнулась. — Маленький шпион, — пошутила она без улыбки. — Что? — военный нахмурился. Аня засмеялась. А «маленький шпион», оторванный от еды, громко закричал, нарушив лесную тишину. — Откуда идете? — Из-за реки идем, — серьезно стала объяснять Аня. — Это наша фельдшерица, работала у нас два года. А теперь идет домой, к отцу… Кто знает, где остановят супостата? Может, он и до нас дойдет. Нам-то все одно, мы тут век прожили, а ей зачем же оставаться. Молодая, с дитем… У нее документы есть. Саша поднялась, тетешкая дочку, чтобы успокоить, и вдруг увидела, что сбоку, шагах в десяти от них, на просеке стоят еще двое. Эти были в форме рядовых, с винтовками в руках. Стояли они плечом к плечу, как на параде, молчаливые и суровые. И взгляд какой-то пугающий: ни любопытства в глазах, ни теплоты, ни улыбки. «Почему они такие?» — со страхом подумала Саша. И вдруг один из них спросил: — Вэр зинд зи? Саша остолбенела. «Что это? Почему он говорит не по-русски? „Вэр зинд зи?“ — „Кто такие?“ — мысленно перевела она эту простую фразу. — Боже мой! Что это они, шутят? Какая неуместная шутка!» Тот, что подошел первым, тоже заговорил по-немецки. Саша, как ни мало знает язык, улавливает отдельные слова. Флюс — река, унтерарцт — фельдшер. Фатер… А ребенок кричит все сильнее. Саша качает его, просит, молит, как будто крошка может понять: — Дочушка моя, замолчи, родная, не плачь, сейчас я тебя покормлю, — а сама напряженно вслушивается и — странная вещь — думает о том, что совсем не знает немецкого языка и, если б пришлось поступать в институт, наверняка провалилась бы на экзаменах. «Герр лейтенант…» — он обращается к одному из тех двух, как к командиру. «Господин лейтенант… Господин!..» «Герр лейтенант» приближается и сердито говорит что-то, обращаясь к Саше. — Там, на той стороне реки, много русских солдат? — быстро переводит тот, что подошел первым. — Где на Днепре делается переправа! Аня быстро собирает еду, кладет яйца и соль в карман и отвечает за Сашу: — Много солдат… Всюду солдаты, танки, пушки, от Речицы до Лоева, по всему берегу… А переправы мы не видели, мы на лодке переплыли, сто рублей заплатили. Была бы переправа, мы бы на лошади ехали. А русские солдаты всюду есть… И на том берегу и на этом… — Мольчать! — злобно приказывает Ане «герр лейтенант» и снова обращается к Саше. — Где наводится переправа? — допытывается переводчик. — Мы не видели переправы, — повторяет Саша Анины слова. — Мы переплыли на лодке. Здесь был паром, но его сожгли. — Кто сжег? — Я не знаю, кто сжег. Нам сказали, что его сожгли прошлой ночью. Голос у Саши чужой. Укачивая ребенка, она делает шаг назад. А дочка кричит, будто чует опасность. Саша не выдерживает, отворачивается и дает ей грудь. Всем телом она чувствует на себе их бесстыдные, алчные взгляды. Какое-то время они молчат. Сашу охватывает ужас… Немцы! Теперь нет сомнения, что это немцы. Но как они сюда попали? Она вспоминает: десант, парашютисты… О них говорил Владимир Иванович, да и в деревне в последние дни немало было толков о таинственных и страшных парашютистах. «Что же они сделают с нами, доченька моя милая?» Саша вглядывается в их лица: «О чем они думают? У них тоже есть матери, жены, дети». Аня вскидывает узел на плечи — они молчат. Они не отбирают вещей, не обыскивают. Это немножко успокаивает Сашу. Но вот они снова залопотали между собой. Она напрягает слух, память, чтобы разобрать хоть отдельные словечки. Переводчик о чем-то спрашивает лейтенанта. «Вас махен?» — «Что делать?» — ловит Саша знакомые слова. «Видно, спрашивает, что делать с нами». «Герр лейтенант» на мгновение как будто задумывается, потом хмуро, ни на кого не глядя, бросает непонятное: — Эршиссен! — Эршиссен? — удивленно переспрашивает светловолосый юнец, и Саша видит, как он бледнеет, как дрожат его губы. — Абер да ист дох айн зойглинг! «Зойглинг? Что такое зойглинг?» Наконец вспоминает: младенец. «Ах! — она пятится, прижимая дочку к себе. — Что он сказал о тебе, моя доченька? Что они хотят сделать? Не дам! Я никому тебя не отдам! Не бойся!» А сама вся задрожала, оглянулась вокруг, готовая бежать. Аня, понимая ее душевное состояние, стала рядом, сжала руку. А «герр лейтенант» в это время что-то сердито выговаривал молодому. Тот стоял смирно, кивал в знак согласия головой, но лицо его еще сильней побледнело. Если б Саша и Аня понимали по-немецки, они услышали бы страшные слова: — Ты долго учился, Грабель, но, как вижу, без пользы. Ты плохо усвоил главное — учение нашего дорогого фюрера. Не для того мы начали войну и пришли сюда, чтоб разводить здесь слюнявую интеллигентскую гуманность. Каждый русский, малый и старый, — наш враг. Ты хочешь, чтоб я их отпустил, а они привели бы сюда русских солдат и те устроили на нас облаву? Этого ты хочешь? Грабель молчал. — Курт, я поручаю это тебе, — обратился лейтенант к третьему, который за все время не проронил ни слова. — Там, в яме, где лежит лесник. И так же — в упор из пистолета… Без лишнего шума. Солдат снял винтовку и направился к ним. Аня заслонила собой Сашу. — Пошли, — правильно по-русски сказал молчаливый, приветливо улыбаясь. — Пошли… другая путь… — он показал рукой на просеку. Голубоглазый как бы очнулся и, не подымая головы, объяснил: — Вас поведут на другую дорогу, по этой нельзя ходить… «Он лжет! Лжет! Не верьте!» — чуть не вырвался из Сашиной груди крик, но Аня все крепче и крепче сжимала ее руку и тянула за собой. — Идем, Шурочка. «Они задумали что-то страшное», — хотела сказать ей Саша, но почему-то и на этот раз ничего не сказала, а послушно повернулась и пошла за Аней. Сзади донесся голос лейтенанта: — Курт! Дэн зойглинг дарфст ду нихт эршиссен! «Эршиссен?.. Эршиссен?.. Нихт эршиссен? — повторяла Саша последнее слово, но вспомнить, что оно значит, никак не могла. — Нихт — не… Что не? Что они не сделают с тобой, моя доченька? Что они задумали сделать с нами? А как же ты останешься без меня? Надо у них спросить. Пускай скажут. Ведь люди же…» Саша оглянулась. Солдат улыбнулся ей, кивнул головой. А те двое стояли на просеке и глядели им вслед. Конвоир слегка толкнул винтовкой Аню в плечо и показал на узкую, заросшую травой лесную дорогу. Они свернули с просеки. Аня выпустила Сашину руку, достала из кармана облупленное яйцо и… стала есть. Саша ужаснулась: как она может есть в такой момент? — Аня! — прошептала она. А Аня в ответ достала из другого кармана целое яйцо, повернулась и протянула его солдату. — Пожалуйста… Вкусное-вкусное, — и она аппетитно причмокнула языком. Немец взял яйцо, стукнул о приклад винтовки, засмеялся как-то странно, даже страшно, покачал головой, словно с укором, верно подумал: «Глупые вы вороны! Ничего не понимаете…» Однако сказал другое: — Карош… руссиш фрау… Спасибо. Пошли… Пошли… Аня снова выхватила правую руку из кармана и бросила солдату в глаза пригоршню соли. И тут же, вырвав из его руки винтовку, размахнулась и обрушила приклад на голову немца. Саша не успела опомниться — так молниеносно это произошло, только услышала треск, но так потом и не могла понять, что это треснуло — приклад или череп фашиста. Аня швырнула узел на землю, выхватила у нее ребенка, крикнула: «Бежим!» — и, низко наклонившись, бросилась в чащу. Саша бежала за ней сквозь цепкий кустарник, до крови обдирая о сухие ветви и колючки лицо, руки, ноги. Потом так же без оглядки они мчались редким лесом, минуя просеки и дороги. Сколько времени бежали, они не помнили. Остановились только на поле, когда увидели женщин, которые мирно жали ячмень. Аня села на краю нивы, в борозду. Саша в изнеможении упала рядом. Аня обняла ее за шею и прошептала: — Ну, Шурочка, кто-то за нас богу молится. Ведь они ж нас на смерть вели… на расстрел… Сашу стала бить нервная лихорадка.
III
Командир поздоровался — последние два дня он не приходил ночевать. Спросил, как здоровье Саши, заглянул в колыбель, где лежала Ленка, и растерянно остановился посреди хаты. Он не знал, что еще сказать, как проститься с людьми, не дав понять, что их оставляют. Он старался делать вид, что никуда не торопится, но тревожные взгляды, которые бросал в окно, выдавали его. Да отступление и перестало уже быть секретом. На улице буксовали на песке машины. Кричали и сердито переругивались красноармейцы. Данила, шестнадцатилетний брат Саши, поняв все, показал глазами на больную сестру, и сжатые губы его дрогнули. Командир попытался улыбнуться. — Такова уж доля солдата, Даник. Сегодня здесь, а завтра там… Саша, напряженно следившая за каждым движением командира лихорадочным взглядом, встрепенулась, села на кровати. — Вы отступаете? Вы бросаете нас? Неужто вы не могли удержать их на Днепре и Соже, на таких больших реках?.. Боже мой!.. — Успокойтесь, Александра Федоровна, — не поднимая глаз, сказал командир. — Мы держимся, меня просто переводят на другой участок… Я зашел… — Вы лжете! — закричала Саша. — Зачем вы лжете? Кому вы лжете? Своим людям? Сестрам, матерям? Они заняли Гомель? Да? Не говорите, я знаю, отчего сегодня не слышно канонады… Вы отступаете. Бежите… Бросаете нас… Так и я с вами иду! Я не останусь с этими зверями! Нет! — она вскочила с кровати. — Я не хочу, чтоб они опять повели нас на расстрел. Старшая сестра Поля бросилась к ней, обняла, пытаясь уложить в постель. — Саша, родная моя, куда ты пойдешь? Ведь ты на ногах не держишься. Ты совсем больная… — Не трогайте меня, — рванулась Саша. — Вы хотите, чтоб они убили мою дочку? Все вы трусы! Вы боитесь бросить эту трухлявую хату! Отчий дом!.. А они придут и сожгут ваш дом, убьют вас!.. — Сестра! Не одни мы остаемся. Народ остается! — дрогнувшим голосом, но по-мужски твердо и рассудительно сказал Даник. Саша никого не слушала. Она торопливо собиралась в дорогу: надела лучшее платье, туфли, платок, отобрала документы. За окном позвали: — Товарищ капитан! Офицер снял пилотку, склонил голову, вздохнул, промолвил: — Будьте здоровы… — Потом тихо сказал Саше: — С частью вам нельзя. Да и вообще поздно… — И так, с непокрытой головой, неслышно ступая, словно крадучись, вышел из хаты. Поля, видя, что Сашу не удержать, выхватила из колыбели ребенка и решительно заявила: — Не дам Ленку! Убей — не дам! Ты хочешь ее погубить! Чем ты кормить ее будешь? У тебя же молока нету! Да и куда ты теперь пойдешь? Слышала, что сказал капитан? Саша поспешно складывала в старый платок детские вещи; при этих словах она выпрямилась, застыла с пеленкой в руках, испуганно и удивленно посмотрела на сестру, державшую Ленку. — Как люди, Саша, так и мы, — снова философски-рассудительно заметил брат. — Не будем отрываться от людей. Саша перевела взгляд на пеленку и вдруг, закрыв ею лицо, упала грудью на стол, на детские вещи. Плечи ее затряслись от плача. Поля и Данила кинулись к ней. — Саша, родная, успокойся! Где-то совсем близко разорвался снаряд. В горнице со звоном вылетело несколько стекол. — Скорее в сад! — крикнула Поля. Даник обнял Сашу за плечи и силком потащил за собой. Она шла точно во сне, безразличная ко всему, что творилось вокруг, шла, как осужденная на смерть. В саду под старой кряжистой грушей было убежище — такое, как делали в первые дни войны по инструкции местных властей: глубокая яма с короткой траншеей перед ней. Правда, Данила значительно улучшил убежище: покрыл яму бревнами, которые отец заготовил, чтобы перебрать хлев, сверху настлал соломы, засыпал землей, а стены укрепил ивовым плетнем; получился настоящий блиндаж. Пряталась в нем не только их семья, но и соседка с малыми детьми. Снаряды рвались редко, и взрывы удалялись в сторону шоссе, кромсая ольховые кусты на берегу речки, протекавшей за огородами. Должно быть, немцы вели пристрелку по мосту, чтоб разбить его и задержать отступление советских частей. Трояновы сидели в глубокой яме, на снопах соломы, тесно прижавшись друг к другу и прислушиваясь к взрывам. Поля и соседка тихонько, почти шепотом, перекидывались словами. — Я, Полечка, поросенка в сенцах кормила и не помню, закрыла ли хату… Коли не закрыла, наделает он делов… — Мы вчера вернулись после налета, а у нас в горнице Сойковых коза хозяйничает. Все цветы перепортила. — Эта тварь ничего не боится. А куры — видела, как прячутся? Сашу раздражали эти, как ей казалось, никчемные разговоры о ненужных, мелких делах и происшествиях. — Да замолчите вы! Люди гибнут, а вы о курах… От движения артиллерии и танков по шоссе стонала земля. — Я боюсь, мамочка. Что это гудит? — пропищала трехлетняя девчушка. — Это гром, детка. Не бойся. — О боже!.. — в отчаянии шептала Саша. — Как они удирают! И не стыдно! Столько машин!.. Даник не удержался — решил успокоить сестру; он в этом году окончил семилетку и не упускал случая привести какой-нибудь исторический пример: — Кутузов до самой Москвы отступал, а потом как дал французам, так они летели без оглядки. — Замолчи! — в исступлении крикнула Саша. — Молчите вы! Как вы не понимаете!.. Все примолкли, даже дети. Даник, обиженно ворча, стал выбираться из ямы. Поля схватила его за рубашку. — Куда ты, Даник? Куда ты лезешь под пули? Ох, горе мне с вами!.. — Да отвяжись ты! — разозлился паренек. — Я тебе не дитя. Не маленький! Сам знаю, что делаю. Он вылез, полежал на земле, прислушиваясь, потом вскочил и мигом очутился на груше. Шоссе проходило в полукилометре от деревни. Между шоссе и первыми хатами лежал пустырь с зарослями лозы и ольшаника. Через заросли пробивался ручей, который вытекал из леса, начинавшегося сразу же за шоссе. Лес обступал деревню с трех сторон и только на западе отходил чуть дальше, километра на два-три, уступив место песчаному неурожайному полю, над которым в ветреные дни поднимались тучи пыли. Даник хорошо видел кусок шоссе и мост через речку. Вскоре перестали рваться снаряды, шоссе опустело. В деревне тоже было пусто и тихо. Вдоль ручья, под прикрытием ольшаника, отступали пехотинцы; они шли по одному, по два, перебежками, согнувшись, хотя никто по ним не стрелял. Война на минуту затихла. Но от этого еще страшнее стало и Данику на груше и женщинам в яме. Саша без слов тянула колыбельную. Малышка отрывалась от пустой груди и кричала: она хотела есть. Ее крик пугал женщин, как будто он мог накликать беду. Поэтому все, даже дети соседки, кто как мог, успокаивали ее — укачивали, пели ей «кота». Они забывали о том, что Ленке всего два месяца и никакая колыбельная ее не успокоит, молоко — вот что ей было нужно. Через мост прошел грузовик и, свернув в кусты, остановился. Из кузова выскочили красноармейцы, потащили к мосту ящик, засуетились. «Взорвать мост хотят», — понял Даник и с детским любопытством и нетерпением стал ждать взрыва, прикидывая, может ли долететь до него осколок. Вдруг за мостом раздался стрекот, и из-за поворота шоссе выскочили мотоциклисты. Даник понял, что это немцы, только тогда, когда двое из них, почти достигнув моста, как-то странно перекувырнулись, а один мотоцикл скатился по насыпи в речку, и там все продолжали вертеться его колеса, разгоняя кругами воду. Даник пулей слетел с груши, крикнул в убежище: «Немцы!» — и снова полез на грушу. Он услышал, как вскрикнула Саша. С ребенком на руках она бросилась к выходу. Поля и соседка вцепились в нее, не пускали. Заплакали дети. — Куда ты теперь убежишь? Куда кинешься? Хочешь, чтобы застрелили? То ли это страшное слово, то ли частые выстрелы, щелкавшие теперь уже довольно громко, заставили Сашу изменить свое намерение; она снова забилась в угол. Трясясь всем телом, прижалась к влажной земле. Она видела их перед собою, немцев. Перед ее глазами как было уже не раз, встал тот, что вел ее на расстрел. Каждая черточка его лица врезалась ей в память. Молодой, даже красивый, с приветливой улыбкой… Теперь, когда она знает, что он вел их на расстрел, от этой улыбки леденеет кровь. Как он мог так улыбаться! А за ним стоит тот, второй, что сказал: «Курт, дэн зойглинг дарфст ду нихт эршиссен…» Теперь Саша точно знает смысл этих слов: «Курт, ребенка можешь не убивать». И вот он опять стоит, опять произносит эти страшные слова, показывая пальцем на Ленку и пряча лицо… Саше страшно, но ей очень хочется увидеть это лицо. Она напряженно вглядывается в пустоту. В ее больном воображении встает нечеловеческая образина, жуткая, обросшая звериной шерстью. Во время коротких приступов этой непонятной болезни, которая тянется почти месяц, ей никогда не является третий немец, тот, что первым вышел из лесу и что побледнел, когда «герр лейтенант» приказал их расстрелять. Этого она вспоминала, только когда голова была ясная, когда рассказывала кому-нибудь об ужасной встрече в лесу. Тогда вспоминалось все до мелочей. Только лица того, который сказал: «Ребенка можешь не убивать», Саша никак не могла вспомнить, поэтому во время припадков он стоялперед ней, безликий и оттого еще более страшный. Вот и сейчас ей показалось, что его нечеловечья мохнатая рука тянется к Ленке. Саша закрыла глаза и закричала: — Вот он! Спасайте Ленку! Поля!.. Даник!.. Поля обняла ее. — Саша, родная моя! — шептала она. — Никого нет. Мы тут одни. Погляди… Маня, ее дети. Там — Даник. Даник! — громко позвала она. Но в ответ раздалась еще более частая и, казалось, близкая стрельба. Старшая сестра, десять лет заменявшая им, младшим, мать, отошла от Саши и высунула голову из ямы, разыскивая брата. — Ну и задам же я этому мальчишке! Лезет прямо под пули! Данила, сейчас же иди сюда! Однако брата нигде не было, напрасно она звала. Данила в это время со всех ног бежал вдоль ручья к мосту, где гремел бой. Со своей вышки он увидел, что другая группа мотоциклистов выехала по лесной дороге к западному концу деревни, где был песчаный брод. Он увидел, как они стали перетаскивать через речку свои мотоциклы, и сразу понял их намерение: зайти в тыл группе бойцов, ведущих бой у моста. Недолго думая, он помчался предупредить их. Когда полз от ручья через пустырь, его, видно, засекли, так как пули жужжали вокруг, срезая лозу. Но он не обращал на них внимания. Его цель — полуразрушенный кирпичный хлев, откуда бил наш пулемет. Он добрался до этого хлева и увидел там трех бойцов. Один лежал за ручным пулеметом и короткими очередями стрелял за реку, приговаривая: «Что, съели, гады?» Второй молча набивал диски и подавал пулеметчику. Третий стоял за кирпичной стеной, внимательно следил за мостом, изредка стрелял из винтовки и отдавал какие-то команды. Увидев Даника, проползшего в хлев сквозь дырку в стене, он удивленно спросил: — Ты что тут делаешь? — Дядечка, они переправляются вон там, — паренек показал рукой. — Они хотят вас окружить. — Ничего, хлопчик, ничего, — успокоил его боец. — Мы скоро все кончим… — и, вздохнув, произнес: — Эх, товарищ командир! На смерть пошел! Ложись, хлопчик! Бей их, иродов, Степан! Пулемет ударил длинной очередью. И в ту же минуту раздался взрыв, такой, что Даниле показалось — обрушилось небо. Закачалась земля, а сверху что-то упало, больно ударило по ноге и по плечу. Даник не сразу понял, что это взорвали мост. Ожидая новых ударов, спрятал голову. Чьи-то сильные руки подняли его. В лицо глядели скорбные глаза бойца, стрелявшего из винтовки. — Запомни, хлопчик! — тихо и торжественно произнес боец. — Чтоб взорвать мост, пошел на смерть наш командир — Алексей Кошелев. Запомни это имя — Кошелев! А теперь осторожно пробирайся к матери. А мы, товарищи, покуда дым да пыль, сиганем на ту сторону, а там — в лес! За мной! — и он кинулся в пролом стены, следом за ним — пулеметчики. Данила ползком добрался до лозняка и оттуда увидел, что осталось от моста. Половина его была уничтожена начисто, частые бревенчатые сваи с густым переплетом подпорок торчали, расколотые взрывом в щепу. В мутной воде плавали обломки дерева и поблескивала оглушенная рыба. Даник подумал, что в другое время тут можно было бы славно поживиться. А сейчас не до того… Он смотрел на немцев на другом берегу реки. Они прятались в сосняке и изредка стреляли. Когда же по ту сторону шоссе взметнулось вверх высокое пламя (Даник догадался, что красноармейцы подожгли свой грузовик), немцы открыли бешеную стрельбу. Из-за поворота шоссе выполз танк, остановился и ударил туда же из пушки. «Бейте, дураки, в белый свет, как в копеечку!» — злорадно подумал паренек и пополз к деревне. Добравшись до сада деда Андрея — соседа напротив, он встал и пошел во весь рост: ему не хотелось, чтобы кто-нибудь видел, что он ползет или прячет голову. У него даже явилась озорная мысль подшутить — подкрасться к убежищу, где сидят дети и его невестка Аксана, и крикнуть по-немецки какое-нибудь «хэндэ хох!». Но он понимал, что людям не до шуток, и пошел через двор. Отворил калитку и… остолбенел. По улице шли немцы в касках. Они шли цепью посреди улицы, направив дула автоматов на дворы: боялись засады. Даник сообразил, что бежать нельзя — начнут стрелять, и застыл на месте. Заметив его, немцы быстро заговорили. Один, молодой, подвижный, подбежал к Данику, спросил, показывая на дворы: — Руссиш зольдат? Даник покачал головой: нету. Немец засмеялся. — О, гут, — и, достав губную гармонику, сыграл прямо в лицо ошеломленному Данику знакомый мотив: «Из-за острова на стрежень…» Снова засмеялся, показывая белые крепкие зубы. Потом вынул из нагрудного кармана плиточку шоколада и протянул пареньку. Даник взял шоколадку, и немец, довольный собой и всем окружающим, похлопал его по плечу и бросился догонять своих. Даник смотрел им вслед, и сердце его все сильнее и сильнее сжимала какая-то неведомая до того горькая обида. Было обидно за незнакомого Алексея Кошелева, который погиб, взрывая мост. Зачем он погиб, если его смерть ни на минуту не задержала врага? Было обидно за речку, любимую им с детства, что она такая мелкая и в ней так много бродов. За свою землю… За Сашу, которая так напугана и дрожит там, в яме. И за себя. Как маленькому, как несмышленышу, сунули ему шоколадку. А может, немец этот — самый злостный и хитрый фашист. Он зашел к себе во двор, швырнул шоколадку в лужу и затоптал ее ногами. Присел на крыльцо и заплакал, не громко, а по-мужски — тихо и тяжко. В сердце его еще не было той сознательной ненависти к пришельцам, которая явилась позже. Но презрение к ним, злость против их гармоники, неуместной игры, шоколадки уже разгорались. А главное — пропал страх перед ними. Напуганный Сашиным рассказом, ее болезнью, он хотя и бодрился и не показывал виду, но в душе очень боялся их прихода. Теперь же, когда увидел их, столкнулся лицом к лицу, страха этого не стало. Даник пошел на огород. Заплаканная, побледневшая Поля, увидев его живым, обрадовалась и тут же с возмущением накинулась на него: — О боже! У меня сердце чуть не выскочило… Где ты болтаешься, бродяга ты этакий? Как тебе не совестно!.. — Немцев встречал! — с угрюмой иронией ответил Даник. — Что ты мелешь! — Почему это мелю? Вон они по улице идут, мимо нашей хаты… Слышишь, у фермы их мотоциклы трещат… А вы сидите тут, как кроты. — В голосе его и словах звучали такие взрослые, мужские нотки, что старшая сестра растерялась. Спустившись в убежище, он продолжал тем же тоном: — Саша! Живая ты тут? — Он спросил это с иронией, а потом сказал серьезно, совсем по-взрослому: — Зря ты так дрожишь перед ними. Надо быть гордой. Видел я уже их… Разговаривал. Один мне шоколадку сунул. Сволочь! — Даник со злостью плюнул на солому. — Конфеткой хотел купить… Слова его неожиданно оказали на Сашу удивительное действие: словно отменили смертный приговор, который душил ее, сковывал, вызывал приступы дикого страха, жутких видений. Нет, страх ее не пропал, как у Даника, но стал теперь таким же, как у других людей; это была боязнь за самое дорогое: за ребенка, за себя, за близких, страх перед неизвестным — жизнью в оккупации. Думал ли кто, что им, молодым, свободным, счастливым, придется жить в оккупации? Слово какое непривычное! Раньше, когда Саша, читая книги о прошлом, о гражданской войне, встречала это слово, она не вдумывалась в его смысл. Впервые она поняла его значение еще там, за Днепром, когда услышала, что занят Минск. Но все же до самой этой минуты она не верила, что ей придется жить на оккупированной территории. Сперва она надеялась на две большие реки, потом, больная, дала себе клятву, что отступит, убежит, умрет, но с этими выродками не останется. И вот не отступила… Умереть тоже не так легко. Надо жить! Жить! А как жить? Все еще не веря, что это жестокое слово «оккупация» стало действительностью, Саша почти шепотом спросила: — Ты правда видел их, Даник? — Время сейчас шутки шутить! — Значит, мы… в оккупации. Саша произнесла эти слова горестно, но Полю обрадовало уже то, что говорит она трезво, без отчаяния, без крика, как мог бы говорить любой здоровый человек. Поля очень опасалась, что с сестрой после случая в лесу не все ладно. — В оккупации? — Даник хмыкнул. — На своей земле? Он, видно, понимал это слово как-то иначе, по-своему не желал считать себя покоренным в своем доме. Беседуя, они настороженно прислушивались к тому, что делается в деревне. Стрельбы не было слышно даже вдалеке. Война будто отдалилась на много-много километров. За рекой зарокотали моторы. Их шум стал быстро приближаться, перешел в мощный гул, от которого дрожала земля и на головы им сыпался песок. — Опять самолеты, — заметила соседка. — Нет, танки! — сразу определил Даник… — Наши взорвали мост на шоссе, и они идут через речку у фермы. Прямо к броду вышли, будто показал кто. — Разве мало они забросили шпионов? — снова спокойно и рассудительно откликнулась Саша. — Чтобы взорвать мост, пошел на смерть Алеша Кошелев. Запомните его имя! — так же торжественно, как сказали ему, произнес Даник и тяжело вздохнул. — А все равно это не задержало их. Что наша речка! Женщины не спросили, кто такой Алеша Кошелев и откуда Даник все знает. Вообще с этого дня сестры перестали считать его ребенком, за которым надо приглядывать. Он повзрослел на их глазах, и они внимательно прислушивались к его словам. — Может, и наши где-нибудь вот так же, — всхлипнула соседка, услышав о смерти Кошелева. — Отступают, отступают, а потом… — Пусть не отступают, — сердито перебила ее Саша. — Мой не отступает! Моему некуда отступать… Потому они и держатся там. — Откуда ты знаешь? — удивился Даник. — Ты же сам читал сводки! Саша каждый день просила брата приносить ей газету и со страхом искала среди горьких новостей сообщения о сдаче Мурманска. Сообщения такого не было. Наоборот, она прочитала строчки, убедившие ее, что город, где служил Петро, не сдан, стоит, борется. И очень может быть, что это ее и спасло. С детской наивностью она верила, что там, где ее Петя, не отступают, что там дерутся по-настоящему. А эта вера порождала другую: что он жив, что он будет жить. Поля лучше кого бы то ни было понимала сестру, а потому дернула брата за рукав и вдруг сказала: — Пойду-ка я принесу чего-нибудь поесть. Не помирать же нам здесь с голоду. Под вечер на юго-востоке, куда отступили наши, снова загремела артиллерийская канонада. Все поняли: за лесом, там, где начиналась украинская земля, разгорается бой. Это недалеко — километрах в пятнадцати. И Саша с надеждой, с душевным трепетом прислушивалась к выстрелам: «А может быть, это перелом? Может, вернутся наши?» Но нет, напрасны ее надежды, очень уж много идет их, гитлеровцев. Они заполнили деревню, шныряли по всем углам. На улице буксовали на песке их машины. Солдаты заходили во дворы, в хаты. Должно быть, зная об убежищах, прошли по огородам и приказали людям вернуться в дома и заняться обычными делами. Оккупантам хотелось показать, что власть у них прочная, что они умеют в первые же часы навести должный порядок. Саша, выглянув из убежища, увидела немца, стоявшего под грушей с автоматом на груди, и в ужасе отпрянула назад: солдат показался ей похожим на того, что вел их на расстрел. Саша, наверно, так и осталась бы там, в темной яме, но плачущая дочка выдала их. Немец терпеливо ждал, пока все вылезут. Поля силком вытащила Сашу. — Выходи, глупая! А то, чего доброго, еще стрелять станут. Немец, увидев ее с ребенком, приветливо закивал головой, заулыбался: — О, мутер! Но Саша не верила этой приветливости, улыбкам и волновалась за Даника: тот смотрел на врага с ненавистью. Немец, должно быть, прочитал эту ненависть в его глазах, потому что нахмурился, совсем другим тоном крикнул: «О-о!», погрозил Данику, дулом автомата показал на дом: — Лос!.. Он довел их до хлева и побежал во двор напротив, где весело смеялись солдаты. Трояновы скоро поняли, почему там такой хохот: с немцами разговаривал по-немецки дед Андрей, их сосед. Этот чудаковатый и болтливый дед в первую мировую войну, будучи уже немолодым человеком, обозником, попал в плен и года два пробыл в Германии. Теперь дед демонстрировал свое знание чужого языка. Вскоре, когда немцы, вволю посмеявшись, разошлись, дед появился в хате у Трояновых веселый, оживленный. — А что, не говорил я вам? — крикнул он еще с порога. — Я всегда твердил, что немцы народ культурный. Ты погляди, какую зажигалку мне подарили. Чик! — дед щелкнул зажигалкой и, довольный, как ребенок, засмеялся. — Где Саша? Перестань дрожать, глупая. Это на тебя какие-то бандиты напали. В семье, говорят, не без урода. Бандиты везде есть. Саша, как только вошла в хату, забралась с дочкой на печь и завесилась тряпьем, чтобы не было видно. Слова деда больно поразили ее. В то время, как сердце обливается кровью от великого горя и обиды, когда мысли путаются в голове, этот старый дурень радуется да еще похваляется какой-то игрушкой… Как ему не стыдно! С ума он сошел, что ли? Саша не выдержала, шепотом, но с болью у нее вырвалось: — Замолчите, дед! Горе пришло, а вы… Неужто не понимаете, что случилось?.. — Дед за зажигалку все готов продать! — злобно бросил Даник, до сих пор считавший деда Андрея своим другом. Старик, видно, понял неуместность своих слов и испуганно замахал руками: — Что это вы! Разве я не русский человек? Это я только для того, чтоб Саша не очень боялась их. Что не все они такие, есть культурные… — Поглядим на их культуру, — отозвалась Поля, молча и, как всегда, старательно прибиравшая хату — подметала мел, осыпавшийся от взрывов. — Поглядим, поглядим, — согласился дед и с необычной для него поспешностью выскочил из хаты. — Старый дурак! — выругался Даник и тоже вышел во двор. За лесом, не умолкая, гремела канонада. Даник понимал, что там идет большой бой: возможно, даже такой, как битва под Бородино (парнишка продолжал мыслить историческими аналогиями), иначе немцы не бросили бы столько авиации; эскадрильи бомбардировщиков и штурмовиков проносились над шоссе и лесом, и земля вздрагивала от мощных глухих взрывов. Мысли и сердце Даника были там, где громыхали эти взрывы. Он даже в глубине души пожалел, что бой разгорелся не возле их деревни; тогда, может, и ему удалось бы принять участие. А немцы все шли да шли… И казалось, не будет конца потоку машин, танков, пехоты. И все они спешили туда, где гремел бой, в деревне не задерживались и никого не трогали. Даник, хотя и не испытывал страха перед немцами, считал, что лучше все-таки не мозолить им глаза. Он забрался на чердак над хлевом и наблюдал оттуда. Под вечер небо прояснилось, огромный, ярко-красный, словно умытый, шар выкатился из-за туч и поплыл над далекими лугами, чтобы вскоре упасть в Сож. Дым войны не заслонил солнца, оно заходило, как в обычный августовский день. Снова загудели самолеты. «Возвращаются, отбомбились, гады», — подумал Даник и даже не стал искать их в небе — тошно смотреть на них. Но что это за свист? От близкого взрыва содрогнулся хлев. У колхозной фермы, где немцы устроили переправу через речку, один за другим взлетали кверху столбы огня и дыма. Даник увидел свои, советские самолеты, с такими родными красными звездами на крыльях! Они бомбили переправу. Саша и Поля выскочили из хаты и побежали на огород, в яму. — Это наши! Наши!.. — радостно кричал им Даник; ему казалось нелепым прятаться теперь. Разве могут они попасть в своих же людей? Саша остановилась возле убежища и с Ленкой на руках в первый раз без страха следила за бомбежкой. И впервые в этот тяжелый, трагический день она с благодарностью подумала о своих, об этих вот летчиках. Надежда, забрезжившая, когда она услышала канонаду, разгорелась с новой силой: «А может, и правда это перелом?» Самолеты скрывались за лесом и вновь возвращались, заходя на цель по нескольку раз. Бомбы попали в коровники, и они пылали ярким пламенем. А чуть поодаль от пожара горел огромный шар солнца. В небе натужно выли и гудели моторы, трещали пулеметы: где-то за тучами и дымом шел воздушный бой. Поля звала Даника, но того и след простыл. — Этот парень в могилу меня вгонит, — жаловалась она. Саша молчала: она не испытывала тревоги за брата и стыдилась этого. Она и об отце, ушедшем в армию, не беспокоилась так, как Поля. Неужели стала такой эгоисткой, что, кроме дочки и мужа, больше ни о ком не думает, не волнуется? Нет, здесь что-то другое. Отец выполняет свой долг. А Даник, он не маленький, как Поля считает. Сестры ночевали в убежище. Даник вернулся поздно вечером, когда канонада утихла. Он ничего не сказал на упреки Поли. А когда примостился на соломе рядом с Сашей, она сердцем угадала, что он взволнован, и ее охватило чувство уважения к брату. Она молча погладила его руку. Он сжал ее пальцы и горячо прошептал: — Теперь я знаю, для чего пошел на смерть Алеша Кошелев… Понимаешь, сколько наши немцев перемололи? Ты бы только видела! Там сбилось машин, танков, техники разной… А наши как дали! Только щепки летели во все стороны… Утром, когда они с Полей отважились перейти в хату и растапливали печь, чтоб приготовить обед, Даник прибежал с таким видом, что Саша ахнула от радости: — Наши? Парень понурился. — Нет, — однако глаза его блестели. — Но если б ты видела, сколько их оттуда везут, раненых и убитых! Машина за машиной! Как дрова — навалом… В школе госпиталь устраивают… Когда Саша услышала о госпитале, угасла последняя искра надежды. В груди стало пусто и холодно. И ко всему она теперь была равнодушна, ничто ее теперь не интересовало, не могло зажечь. На рассвете канонада за лесом часа два гремела еще сильнее, чем вчера. Саше казалось, что не сильнее, а ближе, и надежда, угасшая было за ночь, снова затеплилась в ее сердце. Но вдруг канонада утихла. Как-то очень внезапно. Словно лопнула струна. Наступившая тишина больно ударила Сашу. Она бросила кормить ребенка, шепотом спросила у сестры: — Что это, Поля? Почему они замолчали? — Замолчали. Говорят, когда пушки умолкают, начинается наступление… — Кто? Кто наступает, Поля? — А кто ж его знает, Саша. На войне — что в картежной игре. В эту минуту и вбежал взволнованный Даник. — Значит, наши отступают, — тихо и грустно сказала Саша. — Слышишь — молчат?.. — Молчат, — повторил Даник; он, видно, только сейчас обратил на это внимание. Пришел какой-то незнакомый в штатском, молодой, высокий, хорошо одетый, и, тыча пальцем, грубо сказал: — Всем к школе! Ты, — Данику, — с лопатой. Ты, — Поле, — с ведром и тряпками. Ты… — он встретил Сашин полный ненависти взгляд и смешался. — Она больная, — сказала Поля. — И ребенок болен. Фашистский прихвостень брезгливо поморщился и, оставив Сашу в покое, предупредил: — Не вздумайте волынить! Это вам не колхоз! — Предатель, — прошептала Саша, когда он вышел. Она впервые увидела изменника, и ее потрясло, что он такой молодой, интеллигентный. Она представляла себе изменников какими-то выродками, кретинами; и ей казалось, что это все уроды или старые, бородатые кулаки. — Холуй! Сволочь! — выругался Даник. — Если лопата, чтоб копать им могилы, — пожалуйста… с радостью пойду. Поля, боясь оставлять Сашу одну, посоветовала ей пойти к деду Андрею. Об опасности и горе говорят, когда они далеко. Когда же горе вошло на порог, когда опасность рядом и страх завладел людьми, — в такие минуты стараются говорить о самом обыденном, простом или о том, что всего дороже. Саша и Аксана, оставшись вдвоем, беседовали о своих маленьких. Будто не было у них в этот час ничего важнее, чем то, что «у Ленки поносик», а «у Мишки прорезался первый зубок». Они не сознавали, что разговор о детях возник из тайного желания забыть обо всем, что творится вокруг. Женщины словно хотели сами себя перехитрить. Но не так-то это было просто. Аксана вдруг умолкла, настороженно прислушалась. В хате дремотно гудели мухи. С улицы доносились чужие голоса, как напоминание и угроза. Еще более суровым предвестием прозвучал выстрел. Они вздрогнули. — Я боюсь, — прошептала Аксана. — А помнишь, я была самая смелая в деревне. Помнишь, как мы за реку ходили, а хлопцы хотели нас напугать? Саша никогда не ходила вместе с Аксаной, та была старше, но согласно кивала головой. Молодица так увлеклась рассказом о своей смелости, что они не услышали, как вошел Даник. Он постоял у двери, схватившись за косяк, с белым как мел лицом. Ахнув, Саша бросилась к нему. Первая ее мысль была о Поле. — Деда Андрея убили… — Голос у юноши был неестественно громкий и совсем чужой. Саша не узнала его, ей показалось, что это говорит кто-то другой, за дверью. Аксана зажала ладонями рот, чтобы не закричать. Потом без плача, без слез схватилась за грудь — она задыхалась. — Им не понравилось, что он слишком старательно копает могилу… быстрее всех… Саша всхлипнула, но слова ее прозвучали сурово: — Вот и увидел их культуру!.. Даник посмотрел на нее, как будто не узнавая, в отчаянии стукнул кулаком о косяк, уперся в него лбом и чуть слышно застонал: — У-у-у…IV
Жизнь в оккупации… По-разному начиналась она. И поначалу имела свои особенности, свои отличительные черты в городе и в селе. Отчасти это зависело от оккупантов. Цель у всех у них была одна, организация власти почти одинаковая, и большинство проводников «нового порядка» выполняли приказы «фюреров» с точностью автоматов. Тупые расисты, человеконенавистники начинали с террора, с массовых убийств. Но были и более умные и хитрые, они проводили политику «кнута и пряника», заигрывания и демагогических посулов. Таким образом, от оккупационных властей на местах полностью зависела форма взаимоотношений между людьми, внешние проявления их деятельности. Однако же суть жизни, ее пульс определялись другим — настроением народа. А настроение было везде одно: ненависть к пришельцам. Народ, узнавший свободу, счастье, не мог и на минуту склонить голову перед захватчиками. Народ боролся. Борьба эта тоже начиналась по-разному. В одних местах силы сопротивления проявляли себя в первые же дни оккупации, стихийно и бурно. В других они росли постепенно, по разработанному партией плану и, достигнув необходимой мощи, наносили врагу тяжелые удары. Так, в частности, было с партизанскими соединениями, которые выросли из небольших отрядов и групп коммунистов. Но во многих деревнях и городах группы патриотов вначале вели упорную, скрытую, самоотверженную борьбу с фашистами, ничего не зная о существовании партийных центров. Была это преимущественно молодежь, воспитанники комсомола, «молодогвардейцы» нашей земли. Юноши и девушки выполняли свой долг перед Родиной так же, как их отцы и братья, так, как учили их школа, комсомол, литература и кино. Немало было стихийного в их действиях и поступках. Но сколько высокого героизма! Многие из этих героев погибли. Другие остались неизвестны — скромные люди, они не говорили о себе. Саша жила как в тумане или в тяжелом сне: где конец этой неизвестности, берег, к которому надо плыть? Где фронт, наши? Где теперь ее Петя? Что делают люди здесь, в оккупации? Неужто везде такая жизнь: никто ничего не знает и все думают только о том, как прожить день? Фронт отдалился. Немецкие воинские части прошли и как бы унесли с собой страх, в котором жила Саша до их прихода. Стало тихо и пусто. Но тишина эта не принесла облегчения. Туман не только вокруг, туман — в голове. Саша копает картошку, не свою — чужую. Время от времени картофелины начинают шевелиться в земле, как живые, двоится дужка корзины, тяжелеет в руках сапка. Саша опускается на борозду. Качается земля, плывет куда-то сосновый лес за полем. Однако не эта минутная слабость пугает ее. Страшно то, что бывают моменты, когда Саше кажется неправдоподобной, нереальной та жизнь, которой она недавно жила. Разве можно поверить, что эта женщина в домотканой свитке, с потрескавшимися пальцами могла испытать столько счастья и радости? Она и сама уже не верит, что были лунные ночи, когда они с Петром ходили по полю. Выдумкой кажутся амбулатория, комната в Аниной хате, где стояла ее узкая кровать, на которой им с Петей никогда не было тесно… Все это как во сне… О чем они с Петром говорили в те ночи? Обо всем… О Чернышевском, например, о Вере Павловне… Боже мой! Неужто они в самом деле вели такие разговоры? Неужто им и правда хотелось говорить о книгах, о кино? Какая же это была сказочная жизнь! Теперь нет книг, не с кем поспорить о них, вспомнить былое. Раньше с Даником, с братом, можно было поговорить. Но и брата не стало для нее, Саши, не стало, хоть и живут они в одном доме. Как неожиданно все рухнуло, все развалилось. Если бы не дочка, не маленькая Ленка, не стоило б и жить… Забота о том, чтобы накормить малышку и самой не помереть с голоду, вынуждает Сашу копать чужую картошку. Как батрачка… Не в роскоши она жила, без матери выросла, случалось иной раз и раньше, до техникума, работать на людей, но чтоб чувствовать себя батрачкой — такого и во сне не снилось. Да разве могло это прийти на ум, если она была хозяйкой своей судьбы? Покуда она жила за Днепром, а Поля в городе, в колхозе разделили и сжали хлеб. Трояновы получили долю только на отца и на Данилу — кто работал в колхозе. Но все забрала мачеха, как только отец ушел в армию, и перебралась к своей дочери. Сестры никогда ни перед кем не клонили головы, и им даже на ум не пришло просить мачеху, чтобы она вернула их добро, хотя родичи и соседи советовали это сделать. А тут еще, как говорится, «на кого люди, на того и бог». Делили на едоков посевы колхозной картошки. Картошка была плохая: как началась война, никто за ней не смотрел, не полол, не окучивал. А Поле «посчастливилось» получить по жребию участок, на котором трудно было разыскать картофельный куст — все заросло травой. Кое-кто из женщин потребовал передела, но послышались голоса: «Ничего, они пожили при Советах, выучились, как барыни ходили». И Поля отказалась от замены. Однако жить надо, впереди суровая голодная зима. И сестры копают у соседей, которым больше повезло, за пятый короб. Пятый короб… Саша глядит на корзину, наполненную картошкой, и не может вспомнить, которая это по счету. Четыре она высыпает в хозяйские мешки, пятую — в свой. Их никто не проверяет: нет в деревне семьи честнее, чем семья Федора Троянова, это знают все. Саша часто забывает, который у нее короб, а потому, случается, и пятый и шестой высыпает хозяевам. Когда рядом Поля, она ведет счет. Сейчас Поли нет. Саша чувствует, что набрала уже больше, чем четыре, но уверенности у нее нет. Ей жалко своего труда, своих потрескавшихся рук, которые так болят. Слезы застилают глаза, снова двоится ручка корзины, снова плывет сосняк… Она со злостью высыпает картошку в свой мешок, хотя и не уверена в счете. Она работает на человека, который бежал из армии, вернулся домой и теперь из кожи лезет, чтобы разбогатеть. Саша ненавидит его. Она крепко поссорилась с Полей, когда та однажды сказала: «Пусть бы наш отец вернулся. Старику пятьдесят шестой год, какой он солдат». А с братом она подралась самым настоящим образом и уже, верно, с месяц не разговаривает… Налетел ветер, пригнал тучу. Брызнул мелкий осенний дождь. Саша накинула на голову пустой мешок, едва разогнула усталую спину. На поле маячит еще несколько таких же печальных согнутых фигур. Ближе всех — старая Кравчиха, ей около восьмидесяти лет. Она одинокая и уже много дней убирает свой участок, одну-две корзинки в день. Саша несколько раз помогала бабушке. Вдруг ей почудилось, что старуха голосит. Прислушалась — нет, не голосит, поет, но так жалостно, что у Саши стиснуло сердце. Вслушалась получше и разобрала слова:Ой, сеяла ды не валачыла,
Усё поле слезкамі заліла.
Як хорошо, як весело
На білим світі жить!..
Чого ж у мепе серденько
I мліе і болить?
Протекали столетья, как сны,
Долго ждал я тебя на земле…
«Выдаст он меня или не выдаст?» Саша перебирала в памяти все, что знала о Кузьме с самого детства — когда он проявлял благородство или, наоборот, низость. Думала о его матери, скупой, но душевной и справедливой тетке Хадоське, о сестрах, братьях, жене и больше всего о ребенке — двухлетнем мальчике. Она лежала на печи с широко раскрытыми глазами и видела во тьме лица этих людей, от которых теперь зависит ее судьба, жизнь, будущее ее дочки. А темень в хате — хоть глаза выколи, даже окна едва видны: на дворе глухая осенняя ночь. Дождь хлюпает. И кажется, что на улице кто-то ходит, плачет, шепчется. Саша вздрагивает, прислушивается. Нет, она ничего не боится, никакой кары. Боится только одного — чтобы не вернулось то гнусное, мучительное, обидное чувство страха, которое ею овладело после случая в лесу. Как хорошо было бы, если б в душе навсегда остался этот торжественный гимн, светлый, возвышенный, что зазвучал, когда партизан скрылся в прибрежных кустах! Она прислушивается к ровному, спокойному дыханию дочки, лежащей рядом, и музыка постепенно стихает, так как снова приходит страх — за нее, за это маленькое беспомощное создание. Поля тоже не спит. Она вздыхает на кровати и что-то шепчет: может быть, молится. Раньше Саша посмеялась бы, если б услышала, что сестра молится. Теперь ей не смешно, пускай молится, ей, верно, от этого легче. Поля вернулась от тетки как будто успокоенная, но какая-то мрачная и молчаливая. Саша сказала, что, может, ей лучше пойти ночевать к кому-нибудь из соседей или родственников. — Зачем? — удивилась Поля и, помолчав, добавила: — От судьбы не уйдешь. Даст бог, все уладится. Саша поняла, что это слова тетки Хадоськи. — Боже мой! — прошептала Поля. — Этот мальчишка вгонит меня в гроб! Где можно шататься в такое время и под таким дождем? Саша поняла, что не Данила беспокоит сестру — брат не впервые возвращается поздно, — ей просто хочется поговорить. Но Саше трудно оторваться от своих мыслей, и она притворяется спящей. Наконец Данила вернулся. Саша удивилась, что Поля, отворив, ни словом не попрекнула его. Даник молча разделся и… полез на печь. Саша хотела запротестовать: ей было противно от мысли, что брат, возможно, пришел к ней от полицаев. Нащупывая в темноте свободное место на печи, он коснулся Сашиной руки, и она вздрогнула, рука была холодная как лед и дрожала. Он лег возле трубы, и Саша почувствовала, что не только руки у него дрожат, но и всего его трясет как в лихорадке. «Где это он продрог? Ведь еще не так холодно», — подумала она. Он придвинулся к ней и, заикаясь, зашептал в ухо: — Т-т-ты… боишься? «Отстань ты от меня, никого я не боюсь», — хотела она огрызнуться, но что-то удержало ее от этого грубого ответа. — Не б-бойся… Он н-не донесет… Теп-перь н-никому н-не скажет… Его н-нет… — Нет? — удивилась Саша. — Он п-п-помер. — Помер? Даник зажал ей холодной ладонью рот. — Тише… Он ехал в волость… На велосипеде… А мосток знаешь какой возле лесника… Без перил, без ничего… И-и т-темнело уже… И он — в речку… Зах-х-хлебнулся. Может, пьяный был… Саша все поняла. Странное чувство охватило ее: страх, что Даник, мальчик, ребенок, убил человека, и не чужого, не немца, а двоюродного брата, и в то же время безграничная благодарность, что он спас ее, Ленку и наказал предателя. И еще стыд за то, что она так дурно думала о нем… А он вон какой… И все шепчет, как бы желая оправдаться, остудить жар души: — Ему б не надо ехать в волость. Зачем он ехал так спешно? На ночь глядя. Помнишь, тетка Хадоська рассказывала: цыганка им когда-то ворожила и сказала Кузьме, что он помрет от воды. Чтоб остерегался… Вот видишь… От воды… Саша сжала его руки и, сама дрожа почти так же, как он, прошептала: — Не надо, Даник, родной. Не надо… Я все понимаю… Успокойся. Слышно было, как Даник дробно стучит зубами. Саша обняла его, чтоб согреть. — Ты лазил в речку? — прошептала она. — Нет… Я не лазил… — ответил он так, что стало ясно: кто-то все же лазил. — А кто? — быстро спросила Саша. — Ты не должна об этом спрашивать! — сказал он сурово и решительно, перестав дрожать и заикаться. — Я понимаю. Прости меня, Даник. За все… Что я ударила тебя, что думала так… — Ничего… Я не обижался. Я рад, что ты такая. Но мне было тяжело. — И мне тяжело… — Ты думала, я испугался тогда, что отдал Кузьме винтовку без затвора? А у нас их, может, двадцать спрятано, и пулемет, и гранаты… Новенькие… Надо было заткнуть ему глотку хламом, чтоб ничего не заподозрил, не докапывался. И ходил я к ним потому… А заодно учился, как оружием пользоваться… У нас никто не умел как следует. «У нас… Значит, их несколько человек… Группа. Видно, все такие же ребята, как он, Даник. Но какие смелые и разумные! Кто же там еще?» Саша перебирала Даниловых товарищей, и ни один из них не был похож на героя, у всех еще ветер в голове. Однако группа есть… Она борется. Она покарала предателя Кузьму, который хотел убить партизана, выдать немцам ее, Сашу. — Мы сами хотели освободить партизана. Ночи поджидали. Ты нам немножко подпортила. Нам этот человек очень пригодился бы… Саша слушала слова Даника, как чудесную сказку, от которой становится светлей на душе и появляется страстное желание самой стать такой, как герой этой сказки. Она вдруг тихо попросила, удивив брата: — Даник… Возьмите меня в свою группу. Я вам тоже пригожусь… Я — фельдшер. Он долго думал. Она ждала затаив дыхание. Наконец он пообещал: — Ладно. Я поговорю с хлопцами. Саша притянула его к себе и прижалась губами к его уже горячей щеке.
V
И вот она первый раз идет на собрание подпольной группы. Поздний вечер. В деревне там и сям мелькают огоньки: чадят в хатах каганцы или тлеет на шестке лучина — вот какой свет принесла «цивилизованная Европа». Огоньки эти служат ориентирами, без них легко заблудиться в такой темноте. Саша крадется на носках, стараясь ступать как можно тише. Землю сковал мороз. И кажется ей — сапоги грохочут на всю деревню. Она останавливается, слушает. Сердце стучит так, что делается жарко в груди, болят виски, уши. Может быть, поэтому шум леса долетает волнами, как в детской игре, когда быстро зажимаешь ладонями уши: шум — тишина, шум — тишина. И чем дольше она стоит, вглядывается, слушает, тем хуже: начинает казаться, что впереди двигаются какие-то тени, а позади слышны шаги и шепот. Может быть, за ней следят, идут? Нет, это только чудится. Неужели она так испугалась? Да, испугалась. Не к чему скрывать. Очень. Но не за себя — оправдывает она свой страх. За Даника, за его друзей, которые поверили ей и теперь ждут за деревней у старой мельницы. Даник долго, чуть не месяц, не давал ответа. Должно быть, им, хлопцам, нелегко решить такой вопрос. Не сразу пришли к согласию. Саша понимала это и не обижалась. Она старше их, у нее ребенок… Вспомнила Ленку — и мысли пошли по другому пути. Зачем она туда идет? Что будет делать? Неизвестно, кто там у них в группе. Данила так до сих пор и не сказал. Если все они, как он, то какая ж это организация? Что могут сделать дети? Убили Кузьму? Это, бесспорно, смелый поступок. Он заставил задуматься тех, кто служит или собирался служить оккупантам. Но кого он поднял на борьбу? Они спасли ее, Сашу, а могли бы и сами погибнуть. Она вспомнила, как после похорон пришла тетка Хадоська. Высокая, сутулая и раньше, она за один день совсем сгорбилась, а ее морщинистое, загрубевшее от ветра, зноя и морозов лицо как бы обуглилось. Саша увидела ее — и ахнула. Тетка опиралась на толстую березовую палку, и руки у нее тряслись. Она не села, хотя Поля и приглашала ее. Остановилась у порога и уставилась на Сашу красными, сухими глазами, в которых сквозила нечеловеческая мука. — Ну, Сашечка, похоронили мы твоего брата, — сказала она тихо и печально. — А ты не пришла… Саше показалось, что сжимавшая посох костлявая, черная, с потрескавшимися пальцами рука вдруг сдавила ей горло. Она задохнулась, и ей стало почти так же страшно, как тогда в лесу. Спасая партизана, она не помнила об опасности, все вышло как-то само собой, по зову сердца. А тут сразу подумала о Ленке и неведомо зачем выхватила ее из колыбели. «Ваш сын пошел против своих, и люди его покарали», — хотелось ей сказать, чтоб заставить тетку умолкнуть, не глядеть так страшно. Но она понимала, что слова эти еще больнее ранят материнское сердце, и, жалея старуху, старалась спрятаться от ее глаз. — Вот и у тебя дочка растет, — покачала головой Хадоська, — и никто не ведает, что ее ожидает. Саша, вздрогнув, повернулась и загородила ребенка. «Если она еще затронет Ленку, я ей скажу… Пусть не проливает слез по сыну-изменнику. Раньше надо было думать и уговорить Кузьму, чтобы бросил полицию. Я все скажу…» — решила Саша. Тетка Хадоська, постояв еще немного и отмахнувшись от Поли, которая старалась утешить ее, сурово сказала Саше: — Молчишь? В глаза не смотришь? На защитников своих надеешься? Что ж… защита у тебя крепкая, — и вышла. Саша и до сих пор не понимает, как все обошлось. В деревне никто словом не обмолвился о том, что она спасла партизана. Верно, никто и не знает. Значит, молчат и Колька Трапаш и тетка Хадоська. Но будут ли они молчать до конца?.. А имеет ли она право снова рисковать? Какая она подпольщица, партизанка? Нет! Останавливаться нельзя! Ее ждут там, чтоб доверить великую тайну. Она не может вернуться, так как чувствует, что возненавидит себя за это, и ее существование, и без того мрачное, станет чернее этой ночи. Там где-то борются, истекают кровью, гибнут тысячи людей, чтобы изгнать врага, чтоб вернуть то счастье, которым жила и она, Саша. Там Петро. Она верит, что он вернется и с ним вернется все. Поэтому она не может, не имеет права сидеть сложа руки. В ольшанике над рекой что-то хрустнуло. Саша замерла. Кто там — человек или зверь? Тишина. Шумит бор, журчит речка, споря со льдом, наступающим от берегов. Мороз крепчает. Но снега нет, земля черная. На небе появился просвет и выглянула одна-единственная звездочка. От этой маленькой, невероятно далекой звездочки как-то сразу посветлело вокруг. Чтоб не пугаться стука собственных сапог, Саша наклоняется, сбрасывает их и бежит дальше по мерзлой колючей земле в одних стареньких чулках. У мельницы ее встретил брат. Он вынырнул неожиданно, как из-под земли. — Ты, Саша? Подошел, увидел у нее в руках сапоги, удивился. — Босая? Обувайся скорей, ноги отморозишь. Саша думала, что ребята собираются на старой мельнице. Но Даник перевел ее по разрушенной плотине, по скользким обледенелым кладкам на ту сторону реки. Сашу удивило, что идет он не таясь, стуча сапогами. Подошли к самому лесу, и только тогда Саша догадалась, где они собираются. Года три назад колхоз начал разводить кроликов. Здесь была ферма: огороженный проволочной сеткой участок и небольшое строеньице — кухня, где варили корм. Сетку и клетки с кроликами растащили, домик покуда никто не трогал. Печи, котлов в кухне не сохранилось, окна забиты шелевкой. Это, должно быть, сделал староста. Но щели между досками старательно заткнул, несомненно, кто-то другой. Куча соломы лежала в углу, в другом горела самодельная восковая свечка. Саша обвела взглядом кухоньку и увидела только одного человека. С чувством разочарования, даже обиды, остановилась она у порога. Возле свечки лежал на животе соседский сын, ровесник Даника, они вместе кончали седьмой класс, — Тишка Мотыль. Даник выглядел взрослым парнем, а Тихон казался еще совсем ребенком: малорослый, рыженький, с прыщеватым лицом, тихий и застенчивый. Правда, Тишка был лучший ученик, отличник. Он взглянул на Сашу и смущенно опустил глаза. «И это вся их организация? Дети», — подумала она. Но вдруг из-за кучи соломы послышался незнакомый голос; он принадлежал более взрослому человеку. — Садитесь! — властно приказал неизвестный. Саша послушно опустилась на колени рядом с Тихоном. — Знаете ли вы, куда вступаете? — спросил голос. — Знаю, — ответила Саша; эта таинственность не понравилась ей. «Как в секте какой-то». Голос неизвестного показался как будто знакомым, но вспомнить, кто это, она не могла. — Проверьте, чувствуете ли вы в себе силу мужественно встретить любую опасность на этом пути? — Если бы не чувствовала, не пришла бы сюда. Меня никто не тянул. — В голосе ее послышалась обида, и человек в углу за соломой смущенно кашлянул и помолчал немного. — Дайте руку вашим товарищам и повторяйте за мной слова присяги. Данила и Тихон протянули руки и крепко сжали ее маленькую, уже загрубевшую от тяжелой работы ладонь. — «Я, гражданин Советского Союза…» — «Я, гражданка Советского Союза…» — поправила Саша. Неизвестный снова кашлянул. — «Член Ленинского комсомола…» — «Член Ленинского комсомола…» — «Вступая в подпольную организацию для борьбы с фашистскими оккупантами и их прислужниками, клянусь…» И вдруг от Саши отошло, исчезло все внешнее: таинственность, которая ей не понравилась, руки ребят, сжимавшие ее руку, голос неизвестного. Слова присяги вливали магическую силу. Быстрее заструилась кровь, чаще забилось сердце, глубоким и прерывистым стало дыхание. Голос ее крепнул с каждым словом. — «За смерть наших матерей и детей, за их кровь и слезы…» — Саша на миг умолкла. Ребята почувствовали, как дрожит ее рука. Но вдруг голос ее как бы прорвался сквозь преграду и зазвенел с новой силой: — «…я клянусь мстить проклятым фашистам беспощадно, всеми средствами подпольной борьбы…» Она сказала это громче, чем следовало, и человек в углу понизил голос. Но Саша не обратила на это внимания, так как подсказывающий больше не существовал для нее. Ей казалось, что горячие и суровые слова идут из глубины ее собственного сердца. О Даниле и Тишке она забыла. Она смотрела в темный угол, а видела огромные просторы родной земли, толпы людей, колонны красноармейцев… Всему народу она давала клятву! — «…Если же я нарушу эту клятву, изменю, струшу, выдам тайну организации, пусть рука моих товарищей безжалостно покарает меня». Саша была еще там, в неведомой дали, где идет борьба, когда над самым ухом услышала тихие простые слова: — Добрый вечер, Саша. Она опомнилась. Из темноты склонилось к ней знакомое лицо. Толя Кустарь приветливо улыбался и протягивал руку. Саша даже не сразу поняла, откуда он взялся. С Толей она вместе училась в семилетке. Но это был «чужой», он жил в поселке Кустари, километрах в трех от их деревни, за лесом. Встречались они только в школе и нельзя сказать чтобы дружили. Саша никогда потом не интересовалась судьбой Толи и других одноклассников из поселка. Слышала она как-то краем уха, что Толя окончил ФЗУ и работает в Минске электромонтером. Догадавшись, что это он подсказывал ей слова присяги, Саша обрадовалась: есть, значит, в организации более взрослые люди! Толя — ее ровесник, самостоятельный человек, рабочий. Толя крепко пожал ей руку. — Вот как мы встретились с тобой! Ни он, ни брат, ни Тишка не проронили больше ни слова об организации, куда она вступила, о том, что должна делать, как вести себя. Саша поняла: все сказано в словах присяги. Она священна, эта клятва, нельзя разбавлять ее обыденными словами. Да и вообще лишнего тут никто не говорил. Толя Кустарь подвинул свечку, снял пальцами, как щипцами, нагар и тихо сказал: — Начнем, товарищи. Даник придвинулся поближе к нему, обхватил руками колени и наклонил голову, приготовившись слушать. Тишка не шевельнулся. Он, как и прежде, лежал на животе, подперев голову руками. Ладони закрывали щеки, рыжеватые волосы, лоб, и Саша видела одни глаза, большие, оттененные ресницами, усталые, как у ребенка, превозмогающего сон, и грустные. У Толи, наоборот, глаза были ясные, веселые, пламя свечки, горевшей у его ног, отражалось в его зрачках странным, будто живым, огоньком. — Прежде всего — о самом главном в нашей работе… — начал Толя несколько официально и торжественно, но тут же окинул всех довольным взглядом и, понизив голос, сообщил: — Радостная новость, хлопцы: Старик установил связь с партизанами! — Ну-у? — вскочил Тишка, сел, и глаза его заблестели. — Как? Где? А Саша подумала: «Значит, есть кто-то посолидней, кого они называют „стариком“. Кто же это?» — Не имеет значения, Тихон, как и где… Главное, что связь есть. Будет! Мы должны послать в отряд своего человека и договориться о постоянном контакте. Старик скажет, куда идти. — Я! — горячо прошептал Тишка. — Меня… — Погоди, — остановил его Толя. — Я думаю, лучше пойти Даниле. Нам с тобой есть другое задание. Первое задание от партизанского командования… Оно вынесло приговор человеку, выдавшему фашистам раненых партизан. Нам поручили выполнить этот приговор… Саша поняла, что надо кого-то убить, покарать смертью, и ужаснулась: вдруг когда-нибудь такое задание дадут ей, а она… она не сможет убить человека. — Кто? — спросил Тишка, и глаза его погасли, а губы передернулись как от боли. — Лесничий. — Наш? У него четверо детей! — вырвалось у Саши. Лесничий был чужой для нее человек. Она познакомилась с ним недели две назад. Он приехал вечером и умолял принять роды у его жены. Саша не хотела, даже боялась ехать в лес. Но лесничий был такой растерянный, да и Поля, обычно осторожная, шепнула, что надо ехать: лесничий всегда пригодится. Измученная родами женщина, тихая и ласковая, когда все благополучно окончилось, попросила повеселевшего мужа: «Лексей, ты ж отблагодари докторку как следует… Не скупись». На прощание он положил ей три больших куска старого сала. И Саша, которая там, на работе, обижалась, когда ее пытались чем-нибудь отблагодарить, взяла сало. Она брала его не для себя, а для всей семьи, сидевшей на одной картошке. Все это мгновенно встало перед ее глазами и ярче всего — дети, мал мала меньше, не разобрать, где старший, где младший; три пары глазенок, вечером, когда ребят отправили в другую комнату, испуганных, а утром, когда они узнали, что у них есть новый братик, удивленных. Дети, которые завтра станут сиротами. Она лучше чем кто бы то ни было знает, как это тяжело и страшно: сама росла сиротой и сама теперь мать… Саша смотрела на хлопцев, надеясь услышать, что лесничий осужден не на смерть. Они переглянулись между собой и умолкли. Саше показалось, что ребята увидели в ее словах слабость, женскую чувствительность, и испугалась, что теперь они перестанут доверять ей тайны подполья. Она хотела объяснить, что жалости к этому человеку в ее сердце нет. В самом деле, разве можно жалеть того, кто выдал врагам своих людей, партизан, да еще раненых, беспомощных? Для такого гада она сама придумала бы самую страшную кару! Но дети… Она, мать, не могла не вспомнить о них. Пусть товарищи правильно ее поймут… — Я принимала роды у его жены, — сказала Саша. — Я думаю, дети не виноваты, что у них такой отец… — Детей никто и не винит, — сурово ответил Тишка. — Мы не фашисты. Саша обрадовалась, что молчание нарушено. Но тут Толя Кустарь заговорил совсем о другом. — Товарищи, приближается праздник Октября. Мы должны отметить его! Пусть люди знают, что есть силы, которые борются с врагом… что фашистская пропаганда — брехня. Предлагаю… Первое — расклеить листовки… Будем надеяться, что получим их из партизанского отряда, если же нет — напишем сами. Второе… Предлагаю на всех общественных зданиях — на школе, сельсовете, клубе — вывесить красные флаги. Сшить флаги поручим Саше. Согласна? — обратился он к ней. Саша кивнула. Но первое боевое задание не порадовало ее, показалось мелким: большое дело — сшить четыре флага! Ребята обсуждали, где взять материю на флаги, как лучше их вывесить, кому писать листовки. А Саше казалось, что это они нарочно, чтоб не говорить при ней о более важных делах. Даник предложил в день праздника взорвать мост на шоссе — тот самый, который взорвал Алеша Кошелев и который оккупанты восстановили. Предложение его почему-то не приняли. И Саша опять подумала: не приняли потому, что присутствует она, слабая женщина, которая как будто пожалела предателя. …Только седьмого ноября Саша поняла значение флагов, которые она сшила и передала Данику. Утром, когда они с Полей еще растапливали печь, прибежала соседка Аксана, взволнованная, немного испуганная, но радостная. Она даже забыла поздороваться и прямо с порога таинственно зашептала: — Видели? Флаги! Наши!.. — Глаза ее горели. Они вышли на улицу. Накануне выпал снег. Первая военная зима легла очень рано. Ночью ударил мороз, небо очистилось от туч и было глубокое, ясное, точно старательно вымытое. Снег по-зимнему скрипел под ногами. Из труб в прозрачную лазурь подымались белые столбы дыма. Но не эта красота привлекала внимание людей. Не такие времена, чтоб любоваться природой. Большой красный флаг над школой — вот что выманило из хат и старого и малого! Флаг чуть колыхался, пламенел на фоне неба, над темной стеной леса, и казался огромным, как заря — вполнеба. На сердце у Саши сразу стало светло и торжественно: пришел праздник, суровый, подпольный, но никому и никогда его не уничтожить, не погасить. Это не просто флаги — это кровь тех, кто отдал жизнь за Октябрь, это сердца — ее, Даника, Толи, Тишки, неведомого ей Старика — пламенеют там, над крышами школы, сельсовета, клуба. Саша прошла по деревне. Все смотрели на флаги и видели в этом знаменательное событие. Более смелые вышли на улицу, собирались группами, осторожные стояли по своим дворам. Но в движениях и голосах чувствовалось праздничное настроение. Тишка Мотыль поздоровался и тихо поздравил: — С праздником, Саша! А через несколько дворов так же тихо поздравил ее одноногий дядька Роман: — С праздником, крестница! — И вас также, крестный! Саша остановилась. — Молодцы хлопцы! — кивнул он на дом сельсовета. — Какие хлопцы? — удивилась она и встревожилась. — Те, что флаги повесили. Знал бы я, кто это сделал, расцеловал бы голубков сизых. Флагов долго никто не снимал — ни полиция, ни староста. Саша потом узнала, что возле каждого из них ребята прикрепили дощечку с надписью: «Заминировано». Только во второй половине дня приехал военный комендант с отрядом жандармов и полицаев. Комендант приказал посадить под арест местных полицейских, вытянул хлыстом старосту и сместил его с должности. Затем собрал стариков и долго втолковывал им, как сильна немецкая армия и слаба советская, потом объявил, что немецкие части вступили в Москву, а закончил угрозой: — Если в вашей деревне будет еще хоть один бандитский выпад против нового порядка, я вас повешу. — Он обвел взглядом группу угрюмых бородатых людей, подумал и добавил: — Нет, я не вас повешу. Я повешу каждого второго в возрасте от пятнадцати до тридцати лет. Примите во внимание и передайте всем! Комендант и эсэсовцы уехали, а полицаи остались: деревня была занесена в число опасных крамольных пунктов, и вместо небольшого поста в школе разместился гарнизон. Новые полицаи вели себя нагло: крали кур, поросят, запрещали сборища, вечеринки, если встречали кого поздно вечером, избивали, не глядя, ребенок это, старик или женщина; по ночам они болтались по деревне, подслушивая, подглядывая в окна. «Новый порядок» показывал себя во всей красе. В добавление ко всем бедам стояла суровая, лютая зима: трещали морозы, выли снежные вьюги. Не было керосина. При лучине пряли куделю для тех ловких хозяек, которые вытеребили для себя колхозный лен. Саша никогда раньше не пряла и сразу же возненавидела эту допотопную работу. Монотонное жужжание прялки, неровный свет лучины — то вспыхнет, то погаснет, — свист ветра и шаги полицейских — все это нагоняло такую тоску и отчаяние, что она готова была на все, только бы не сидеть вот так. Саша с нетерпением ждала, когда подпольщики дадут ей задание. Но подполье молчало, даже на сходку или собрание ее больше не приглашали. Оставшись с братом с глазу на глаз, она накидывалась на него: — Почему мы молчим, ничего не делаем? Почему не собираемся? — Погоди, Саша. Не горячись. Больше выдержки, сестра, — рассудительно, как взрослый, отвечал он. — Я знаю, вы собираетесь, вы действуете, а мне не хотите давать заданий. Вам не понравилось, что я пожалела детей лесничего… — Если ты будешь думать и говорить глупости, — рассердился Даник, — мы и в самом деле тебя исключим. Я первый проголосую. — Ну и исключайте! — не сдержалась Саша, обиженная до слез. У Даника гневно блеснули глаза. Она испуганно отступила в угол за печью, в этот момент, может быть, впервые заметив, как изменился брат: возмужал, вытянулся, стал выше ее ростом, но до чего похудел — на лице одни скулы торчат да поблескивают глаза, воспаленные, красные, как у человека, не спавшего много ночей. Он протянул руку, неловко обнял ее, сжал цепкими костлявыми пальцами плечо и глухо зашептал: — Послушай, дуреха, зачем это тебе? — Что? — не поняла она. — Да ходить на наши собрания? Вокруг снегу навалило — босая огородами не побежишь. И бобиков, как собак… Ты замужняя женщина, мать… Твое отсутствие здесь или встреча с нами, хлопцами, сразу вызовет подозрение. Все, что надо, я тебе передам. Пойми!.. — Понимаю, — прошептала пристыженная Саша; ее тронула разумная осторожность товарищей. Они не забывают, что у нее ребенок, а потому она имеет право рисковать меньше, чем кто бы то ни было. — А задание и ты получишь, — продолжал между тем Даник. — Не беспокойся. Работы всем хватит, дай только развернуться. Не все сразу. Вскоре брат принес ей задание подпольной группы. Он вернулся под вечер из лесу, где вместе с Тишкой и другими хлопцами трелевал на шоссе дрова, которые немцы на машинах перевозили в город. Саша сразу, по глазам, увидела, что он должен сказать ей что-то важное. Оба с нетерпением ждали, когда Поля выйдет из хаты. Когда она пошла напоить корову, Даник забрался все в тот же угол за печкой и позвал Сашу. Она подошла с ребенком на руках. — Слушай, есть тебе задание, — зашептал брат. — Нелегкое, сразу скажу. Не совсем обычное… Но в подпольной борьбе всякое бывает… В партизанском отряде ранен комиссар. Ему отрезали ступню, и бок прострелен, не заживает. Условия у них тяжелые — зима. Старый лагерь им пришлось оставить: немцы обнаружили. В родную деревню человек вернуться не может, сама понимаешь, там каждый его знает. Надо его приютить. Мы посоветовались с хлопцами и решили: лучше всего — у нас… — В нашей деревне? — спросила заинтересованная Саша. — Нет, в нашей хате. У нас. В углу было уже темно, и они почти не видели друг друга. Но по движению, которое сделала Саша, — она крепче прижала к себе малышку, — Даник понял, что это очень удивило ее. Боясь, как бы она не стала возражать, брат сжал ее локоть, зашептал горячо и торопливо: — Твоего Петра никто здесь не знает, не видел… Даже я и Поля… Комиссару сделают документы на Петра, как будто немцы отпустили его раненого из плена. Бывают же такие случаи… Саша застыла. Ее вдруг обожгла страшная мысль, не приходившая раньше в голову: что ее Петя может тоже оказаться в плену, в одном из ужасных лагерей, о которых она уже слышала. В кошмарных снах, в мучительных видениях он иной раз являлся ей раненым, истекающим кровью, но ни разу не видела она его в плену. Петя, ласковый, милый, жизнерадостный, и фашистский плен — это не умещалось в ее сознании. «Нет, нет, лучше смерть!» — кричало ее сердце. Она не слышала Даника, который убеждал: — Ты должна понять, какого человека мы спасаем. У нас ему будет хорошо. Ты фельдшер, можешь полечить его раны. Он здесь скорее станет на ноги, чем в любом другом месте. Отогнав, наконец, страшные мысли, Саша представила, как приедет к ним чужой, незнакомый человек, и она должна будет называть его мужем, Петей, может быть, придется даже на людях обнять, поцеловать, чтоб не выдать ни его, ни себя. И в то же время думать о своем Пете: «Где он, что с ним?» Чужой человек будет Ленку называть дочкой. Нет, это невозможно! Она выполнит любое задание, пойдет на смерть… Но только не это! — Даник, я не могу… — прошептала она. — Ты пойми… Я не знаю, что с Петей, а тут чужой человек будет жить под его именем. Я не сумею так притворяться. Зашевелилась, заплакала Ленка. — Спи, моя маленькая, звездочка моя ясная, — стала укачивать Саша малышку, приговаривая по-деревенски многословно и ласково. — Спи, моя ягодка. Никого не бойся… Мама с тобой, никому я не дам тебя обидеть, синичку мою ненаглядную. — Значит, не можешь? — дернул ее за локоть Даник. — Даник, ты не подумал, как тяжело будет всем нам… мне… Пожалей меня, Даник, я живой человек, — умоляла она. Он отпустил ее локоть. — Я-то думал… Мы все думали. А вот ты… На словах — героиня. А как до дела дошло, так прежде всего о себе… Лишний раз поволноваться боишься. А еще пищала: почему молчим, почему не действуем? Дайте задание! Вот тебе задание! Он бросал ей в лицо эти безжалостные слова, точно камни. — Даник, ты меня правильно пойми. Я не боюсь. Ее слова еще больше разозлили напористого паренька. Он был твердо уверен, что Саша не отклонит его предложения и будет рада такому необыкновенному заданию. И вдруг она отказывается. Как же он теперь посмотрит хлопцам в глаза, что скажет в свое и Сашино оправдание? Что подумают о них подпольщики и партизаны? Ему стало больно, стыдно, совестно за сестру, за ее трусость; он не понимал других причин и считал, что она боится. Если б она прямо сказала об этом, он еще простил бы. Привлекая Сашу к подпольной борьбе, он никогда не забывал, что у нее ребенок. Когда же она начала ссылаться на «высокие чувства» и припутывать к делу неизвестного ему, Данику, «своего Петю», — это его возмутило. — Что «Даник»? Даник какой был, таким и остался. А вот ты… как ты потом посмотришь людям в глаза? Человек своей жизни не жалел… А мы боимся приютить его у себя. Пускай раненый замерзает в лесу, да? Если твой Петя настоящий красноармеец, я думаю, не похвалит он тебя за это, когда узнает… Сам того не подозревая, Даник произнес именно те слова, которые мгновенно изменили ход ее стремительных мыслей. Правда, что сказал бы Петя, если бы она спросила его? Неужто бросил бы упрек, что она дала приют раненому партизану? Нет, никогда! Конечно, самой ей будет очень тяжело. Но кому теперь легко! Имеет ли она право уклоняться от трудностей и тяжелых переживаний? Разве она не боец, не подпольщица-партизанка? Как же она отказывается от такого почетного задания? Ведь ей доверяют жизнь партизанского комиссара! Даник заскрежетал зубами от отчаяния и, сгорбившись, как старик, двинулся к двери. — Даник, — остановила его Саша, — погоди, я согласна. Он сразу очутился возле нее, забыв о своей злости, обиде, и, схватив руками за плечи, словно боясь, что она снова передумает и откажется, приглушенно крикнул: — Согласна? — Ты не подумай, что я это из страха. А… как Поля? — А что Поля? Поля ничего не знает и не должна знать! Ведь она тоже никогда и в глаза его не видела, твоего Петю. Фотокарточка у тебя одна, маленькая… Мы ее заменим. Саша вздохнула и тихо, беззлобно сказала: — Дурачок ты еще, Даник! Разве можно от нее скрыть это? Вместе жить будем. Она в первый же день увидит, что никакие мы не муж и жена. Попробуй тогда объясни. Парень растерялся. Вот беда, обо всем он подумал, все учел, даже карточку не забыл, а вот это и в голову не пришло. — Что ж ты предлагаешь? — уже робко, неуверенно спросил Даник; инициатива в решении этой нелегкой задачи целиком перешла к Саше. — Поле надо сказать. — Что ты! Испугается. Заголосит. Провалит все дело. — Возможно, испугается, поплачет, но… поймет, Даник. Она ведь наша сестра.Поздно вечером они завели разговор с Полей. На шестке догорала лучина, и старшая сестра объявила: — Спать, дети! Завтра Данику рано в лес, а ты, Саша, пойдешь к тетке Марине, поможешь кросна поставить. Она просила. Да и сама поучишься стан обряжать и ткать. Сашу кольнуло в сердце: «Опять батрачить». Не было более тяжкой муки, чем идти на заработок в чужую хату, работать на людей, у которых есть чем заплатить за твой труд. Она знала, что не все они в душе кулаки, большинство вовсе не радуется создавшемуся положению, и все-таки ее глубоко обижали плата натурой и слова сочувствия, которые нередко приходилось выслушивать. Трудно было понять, кто говорит искренне, а кто с затаенным злорадством: так, мол, тебе и надо, интеллигенточка, докторша! Это тебе не при советской власти! Случалось, Саша работала не за хлеб и не за соль (соль ценилась всего дороже), а за двести граммов керосину или за коробок спичек. Ей так трудно вставать к ребенку без света; не будешь же раздувать угольки и зажигать лучину, если Ленка мокрая и кричит на всю хату? Вот почему каждую каплю керосина берегли пуще всего. Поля удивилась, когда Даник, в ответ на ее приказ ложиться спать, зажег лампадку. — Ты зачем это жжешь керосин без нужды? — накинулась она на брата. Он молча поставил лампадку в угол, куда еще раньше скрылась Саша, и позвал: — Иди сюда, Поля. Когда она подошла, показал на скамеечку: — Садись. Есть разговор. Удивленная и даже испуганная, Поля послушно села рядом с сестрой. Саша положила руку на колено Поле. — Послушай, Поля, что мы тебе скажем. Только не пугайся. Не сердись. Ты была нам вместо матери, ты нас вырастила, и мы тебя любим, как мать. Но тут такое дело… Пойми нас… Мы с Даником комсомольцы, и мы не могли иначе… — Она понизила голос до шепота. — Мы связаны с партизанами… — И ты? — удивилась Поля, но не закричала, не заплакала, а только печально покачала головой. — И что вы только думаете! Ну, пускай этот сорвиголова, а у тебя ведь дитя малое. Эти слова обрадовали Сашу и Даника: они ожидали худшего. — Поля, — снова тихонько зашептала Саша, — партизанское командование дало нам задание… приютить у себя… у нас в хате раненого комиссара. Ему сделают документы на Петино имя… Будто его из лагеря отпустили… Дальше объяснять у нее не хватило сил. Она умолкла, и в напряженной тишине слышно было, как потрескивает фитиль в лампадке. Они ждали ответа старшей сестры. Поля молчала. Даник вглядывался в ее тень на белой стене печки. Там отразилось все: как она вздрогнула, отшатнулась от Саши, потом снова прижалась и голова ее стала медленно клониться к плечу сестры. И они поняли, что она их соратница, их верный товарищ в борьбе. Саша, чувствуя, что вот-вот не выдержит и заплачет, прижалась к Поле, а Даник по-мужски сдержанно похвалил: — Молодчина ты у нас!..
VI
Он приехал под вечер. Возчик в облезлом кожушке остановил тощую лошаденку у колодца, недалеко от школы, где размещались полицейские. Помог выбраться из саней человеку в шинели и летней фуражке, с обмоткой на шее вместо шарфа, подал костыль и почти пустой вещевой мешок. Инвалид сунул возчику деньги, и тот повернул коня назад. Человек с костылем остался посреди улицы. Левая нога его обута в стоптанный кирзовый сапог, правая — толсто обмотана грязными тряпками. Увидев у колодца старуху, с бабьим любопытством разглядывавшую солдата, он заковылял к ней. — Скажите, где хата Трояновых? — спросил он. — А вон пятая отсюда. Видишь, где высокий тополь… — А Саша… Саша их… здесь, дома? — Саша? Ах, боженька милый! — сразу догадалась и заголосила женщина. — Дорогой ты мой! Здесь она, дома твоя Сашенька!.. С дочушкой вместе! А, болезный ты мой! «Он аж зашатался», — рассказывала потом женщина; она хотела поддержать, предложила, что проводит, но он поблагодарил и «не пошел, не заковылял, а рысью поскакал, хоть и на одной ноге». Через пять минут полдеревни знало, что вернулся безногий муж Саши Трояновой. Даник наблюдал за всем этим с чердака, сквозь щель в крыше. Когда инвалид стал приближаться, он соскочил оттуда и сообщил сестрам: — Приехал. Идет. Сашу, которая думала, что уже надежно подготовила себя к встрече с этим человеком, охватил ужас. Она заметалась по хате, не зная, что делать, куда себя девать, схватила Ленку, но почувствовала, как трясутся руки, и передала ребенка Поле, сидевшей за прялкой. Попробовала навести порядок в хате, начала переставлять вещи, поправлять подушки. Поля сказала: — Не надо, Саша. А что надо? Что ей надо делать? В висках больно стучала кровь, даже зеленые круги поплыли перед глазами. Как она скажет ему, чужому, незнакомому: «Ты, Петя?» Как встретит его? Когда скрипнули ворота, она застыла посреди хаты как каменная, боясь шевельнуться, боясь хоть на миг отвести взгляд от двери. Фантастическая, невероятная мысль сверкнула в разгоряченном мозгу: а вдруг Даник готовил ее таким образом к встрече с Петей? Вот сейчас откроется дверь, и войдет он… Нет, нет, этого не может, не должно быть! Не надо, чтоб он оказался в плену, чтобы он пришел домой, когда идет бой за Москву, за жизнь. Разумом она не хотела его возвращения, а сердце, глупое бабье сердце, замерло в ожидании. Дверь отворилась, и… Саша вскрикнула, напугав Полю и Даника. На пороге стоял Владимир Иванович Лялькевич. Он окинул присутствующих быстрым взглядом — нет ли посторонних? — прикрыл дверь и заковылял к Саше, которая стояла ошеломленная, растерянная: как ей принять человека, некогда домогавшегося ее любви? Поля, насторожившись, шагнула ему навстречу, как бы желая загородить младшую сестру. Он остановился перед ними и, не здороваясь, однако не сводя смелого взгляда с Саши, тихо сказал: — Поверьте, Александра Федоровна, что только сегодня, когда мне назвали вашу фамилию, я понял, что это вы. Если вам неприятно, я завтра же уйду, разрешите только переночевать, — он склонил голову, идти ему было некуда. — Скажете, что я отправился проведать своих родителей. Поля поняла, что это всего только знакомый, и, с облегчением вздохнув, посмотрела на Сашу. «Что ж ты молчишь? Скажи человеку хоть слово!» — говорил ее взгляд. Саша опомнилась и протянула руку: — Здравствуйте, Владимир Иванович! Он выпустил костыль, чтобы пожать ей руку, и покачнулся. Поля поддержала его. — Да вы садитесь. Дайте ваш мешок. Раздевайтесь. Не то они делали, что нужно, не то говорили друг другу. Даник недоволен был не только поведением сестер, но и самим комиссаром. Посмотрев на окна, не подглядывает ли кто сквозь проталинки, он громко поздоровался: — Здравствуй, Петя! Лялькевич обернулся и радостно обнял Даника. — Здорово, Даник, здорово, дорогой. Это было сказано от всего сердца, так как они знали друг друга, встречались в отряде, когда Даник ходил осенью на связь. Комиссар почувствовал глубокую благодарность к этому умному, смелому юноше. Увидев, как заблестели его глаза, не выдержала, заплакала Поля. Засуетилась, помогла ему снять шинель, усадила на лавку. Саша только сейчас заметила его ногу, обернутую тряпкой, костыль, который он положил рядом, подумала о Пете и тоже прослезилась. Слезы их оказались очень кстати, так как в хату вошла соседка Аксана — принесла сито, что взяла неделю назад и все забывала вернуть. Она остановилась у порога, сделав вид, что смущена присутствием незнакомого человека. Даник и тут не растерялся. Он с детской непосредственностью сообщил: — Ксана! Сашин муж пришел… Петя! Из лагеря! Молодая женщина, услышавшая эту новость еще на улице и прибежавшая, чтобы убедиться своими глазами, от неожиданности выпустила сито, оно покатилось через всю хату к Сашиным ногам. Аксана робко, застенчиво подошла, протянула красную, загрубевшую руку. — Добрый день, Петя. С возвращением вас… Счастливым… Чтоб было счастливым… Потом кинулась к Саше, обняла и залилась слезами. Увидела чужие радость и горе — вспомнила свое: убитого немцами свекра, мужа, который находится неведомо где — может, давно снег укрыл его белые кости. Саша понимала, что ей следует ответить слезами, сказать что-нибудь. Но не было ни слез, ни слов. В эту минуту заплакала в колыбели Ленка. Поля вынула ее и поднесла «отцу». Он поцеловал девочку и тихо вымолвил: — Доченька моя. Саша вздрогнула. Она забыла об Аксане, о ее слезах, вся сжалась и ревниво следила за каждым движением Лялькевича, готовая в любой момент броситься и отобрать у него ребенка. Какая она ему дочь! Но Владимир Иванович, казалось, почувствовал это и быстро отдал малышку Поле. Саша вздохнула, вспомнила свою роль и поцеловала соседку в мокрую щеку. — Успокойся, Аксана. Такова наша женская доля. — Ксана, — обратилась к ней Поля, — ты дашь мне?.. — она не сказала чего. — Гостя встретить. Может, когда-нибудь разживемся… — Полечка, родная, о чем разговор! Все, что есть у меня в хате. Вместе жить — вместе горе пережить… Поля и Аксана торопливо вышли. Даник хитро улыбнулся комиссару. — А я пойду дров наколю. Чтоб видели, что все мы встречаем гостя. Они остались одни. С минуту длилось молчание. «Почему он молчит?» — нервничала Саша. Если б она не боялась взглянуть на него, то поняла бы причину. После непосильного физического и душевного напряжения комиссару стало дурно. Побледнев, он прислонился головой к стене, боясь потерять сознание. Нет, и на этот раз он поборол слабость, вытер рукавом холодный пот со лба, тихо попросил: — Александра Федоровна, дайте, пожалуйста, воды. Она взглянула и ахнула: — Вам плохо? Он пил, и зубы его стучали о край кружки. Теперь она стояла рядом, внимательная, чуткая, забыв о своих переживаниях. — Может быть, ляжете? — Нет, ничего. Прошло, — он виновато улыбнулся. — Александра Федоровна, поверьте, я ничего не знал… Для меня это очень важно. — Владимир Иванович, зачем вы так? Почему вы думаете, что я вам не верю? Вы как бы предостерегаете меня от чего-то, и выходит, что вы сами мне не верите. Поймите: для меня это — задание организации, ваше… — Только не мое. — Это задание партизан, а вы их командир. Смотрите на меня как на партизанку, выполняющую ваше задание. Так мне будет легче. Вы — командир, я — ваш боец. Обо всем остальном я сама подумаю. О своей дочке, о муже… Он склонил голову. — Я вас понимаю. Спасибо вам… Саша нахмурилась. — Не за что. Я ничего еще не сделала, — и, чтоб перевести разговор на другую тему, спросила: — Давно вас ранили? — На праздники. Мы решили поднести им «праздничный сюрприз». Налетели на Зубровку, там у них склад боеприпасов. Склад подожгли… Гитлеровцы бросили нам вдогонку танки. Они били из орудий. И меня — осколками… — Скажите, много у вас там людей в лесу? — Много, — в его карих глазах вспыхнула чуть заметная усмешка. — Вы имеете в виду наш отряд? Но разве наш отряд один? Отряды везде, в каждом районе, в каждом лесу. Они растут как грибы. Саша доверчиво приблизилась. — Вот хорошо! Надо, чтоб узнали об этом люди. А то мы сидели здесь, как в потемках. Ничего не знали, не видели, покуда хлопцы не связались с вами. Вы не представляете, как это страшно. Какие приходят тяжелые мысли. Глаза комиссара вдруг загорелись странным огнем, он оглянулся на окна и схватил Сашу за руку. Она хотела отнять руку, но он тянул ее к себе. — Слушайте, Александра Федоровна! Вам… вам первой я сообщу новость… Счастливую новость. Позавчера по радио приняли. Услышав эти слова, Саша послушно села на лавку рядом с ним, не отнимая больше руки, которую он сжимал все сильнее и сильнее. — Наши разгромили немцев под Москвой. Слышите, Саша? Разбили! И гонят прочь гадов. Тысячи трофеев! Тысячи пленных!.. Вот об этом нужно, чтоб народ как можно скорее узнал! У меня в шинели зашито несколько листовок. Мы их размножим… Кто-то застучал в сенцах. Они прекратили разговор, и Саша быстро отошла к люльке. Радостно взволнованная новостью, она подумала, что человек этот пришел сюда не только для того, чтоб залечить свои раны, но и чтоб продолжать борьбу, направлять их, молодых подпольщиков.Через час-полтора, когда уже совсем стемнело, в хате собрались Аксана, дядька Роман с женой, сосед Федос, что месяца два тому назад пришел раненый из окружения, две старушки соседки. Женщинам хотелось увидеть Сашиного мужа, мужчинам — человека, вернувшегося из лагеря военнопленных. На столе, застланном праздничной скатертью, той, что ткала еще покойница мать в приданое дочкам, стояли тарелки с ломтиками сала, миски с огурцами, капустой, картошкой, от которой к самому потолку поднимался пахучий пар, две бутылки самогона, заткнутые кукурузными початками. Поначалу все держались солидно, торжественно, как полагается в таких случаях. Мужчины, входя в хату, здоровались с «Петей» за руку, тетки целовались с Сашей и плакали. В те черные дни у женщин хватало поводов поплакать. За стол сели не все: соседки от приглашения вежливо отказались и примостились на лавке. Дядька Роман, человек острый на язык, бывалый, взял на себя роль хозяина; по деревенским обычаям он имел на это право: Саша — его крестница. Стаканов было всего два, и дядька Роман налил в первую очередь себе и «Пете». — Ну, сынок, за то, чтоб нам жить назло супостатам! Не горюй, что без ноги… Говорят, чему быть, того не миновать! Судьба. Я вот с пятнадцатого года на деревяшке… Тоже от их снаряда, — он кивнул головой на окно. Саша, настороженно следившая за всем, увидела, как сошлись у Лялькевича брови и задрожала рука. «Зачем дядька утешает? Кому легко в двадцать пять лет остаться калекой? Зачем об этом напоминать?» А дядька не унимался: — Однако ничего, брат, как видишь — живу. Была бы голова на плечах. А у тебя она есть. Человек ты ученый. Техник. Мы с тобой еще не одну дорогу построим назло супостату. Так будем здоровы!.. Саша не присаживалась. Поля уступила ей обязанности хозяйки, и она хлопотала, ища себе работы и стараясь меньше быть на свету — над столом горела Аксанина лампа. Саша подавала на стол, подбрасывала дрова в печь, где варился второй чугун картошки. Когда выпили все, кто сидел за столом, Саша поднесла угощение соседкам. Старушки крестились и говорили в одно слово: — Дай тебе бог счастья. Счастливой вам жизни. Пригубили для приличия, утерли уголком платка рот и отказались от закуски. У Саши от их простых и душевных слов больно сжалось сердце. «Счастливой жизни?! Бабушки родные, знали бы вы, кто мы! Но так надо… так надо!» Мужчины не стеснялись закусывать, но больше налегали на огурцы да картошку, так как знали, что сало в этой сиротской хате не свое — занятое. Лялькевич выпил, поел горячей картошки, и бледное лицо его покрылось нездоровыми красными пятнами. — Что, браток, говорят, страх чего делается в этих лагерях? — спросил Федос, с ужасом думая, что и он мог туда попасть. — Да уж известно, в плену — не у тещи в гостях, — сдержанно ответил Лялькевич, глянув на Даника, который один из всех с аппетитом уплетал сало. — Говорят, раненых и хворых они кончают там, душегубы проклятые, — подала голос тетка Ганна, Романова жена. Лялькевич бросил взгляд на Сашу. Она стояла у колыбели и смотрела на него, понимая, как нелегко ему отвечать на такие вопросы: нужно соблюдать осторожность и в то же время не показаться этим добрым людям чужаком, не утратить их доверия. Он вздохнул. — Разные и среди них есть. Некоторые, и точно, звереют. Война!.. — Ох, звереют! Хуже зверей становятся, — снова не сдержалась Ганна. — Да ведь есть международные правила обращения с пленными, — постарался Лялькевич смягчить свои и теткины слова. — Эх, братец ты мой! — махнул рукой Роман. — Правил ты захотел от этих супостатов! Видел ты у них правила? — Дочка моя Прося, что в Борщовке замужем, рассказывала… — вмешалась в разговор одна из бабушек, до тех пор молчаливо сидевшая на лавке. — В то воскресенье приходила проведать меня, так она рассказывала. Вели эти ироды через их село, может, тысячу наших пленных солдатиков… Вывели на луг и всех положили, соколиков. За что? Боженька ты мой! Сколько крови людской льется!.. Должно быть почуяв, что беседа принимает не совсем желательный оборот, Федос заговорил о другом: — А ведь, гляди, отпускают. И много? Лялькевич решил: «Лучше пускай плохо думают обо мне, чем попасть на подозрение полиции. Кто-нибудь из женщин по простоте душевной расскажет об этих разговорах — попал под наблюдение». — Многих, — ответил он. — А чего им теперь бояться? Говорят, Москву взяли… Но он ошибся, даже он, партизанский комиссар, не учел настроения людей. — Москву? — так и подскочила Аксана. — И вы поверили? Брешут они, как собаки! Они еще перед праздниками кричали об этом. А я сама читала… Даник оглянулся на окна. Поля дернула соседку за рукав. — Ксана! Дядька Роман поспешно схватил бутылку. — Выпьем, братки, еще по одной, выпьем назло… Забулькала самогонка. Скрипнул крюк на потолке, к которому была подвешена люлька. Саша качнула ее сильней, чем обычно. — Выпьем, мужички! Выпьем, бабы! Саша! Ты что прячешься за печь да за люльку? Иди к столу! Садись рядом с мужем, мы поглядим, что вы за пара. Подходите ли друг другу? Женщины поддержали его: — Правда, Саша, что ты все качаешь? Спит ребенок и пускай спит. А за печью Поля посмотрит. Садись. И даже Даник добавил важно, серьезно: — Садись, сестра. Аксана вскочила, обняла ее, подвела к столу. Ей освободили место рядом с «мужем». Она села, притихшая, робкая, неловкая. А все в деревне знали ее как самую живую, бойкую, веселую девушку. Ее самое пугала эта скованность: увидят их рядом и сразу поймут, что никакие они не муж и не жена. Саша, понурившись, смотрела в стакан с мутной жидкостью, который ей кто-то подсунул. — Саша, подруга ты моя дорогая! Гляжу я на тебя и дивлюсь: словно не рада ты, что вернулся твой Петя. Боженька мой! Пускай бы мой Иван пришел без ноги, без руки, я на руках бы его носила, как дитя. Да кто знает, вернутся ли наши. Может, мы давно уже вдовы и дети наши сироты, — и Аксана залилась слезами. Саша подняла голову и посмотрела на Лялькевича, взгляды их встретились. В его запавших глазах блеснули росинки слез. Он вытер их пальцами. Саша кивнула ему, как близкому человеку, и протянула свой носовой платочек. Он взял его и вытер глаза. Благодарно улыбнулся в ответ и поднял стакан, молча предлагая выпить. Саша показала взглядом на колыбель: нельзя, мне кормить дочку. — Ничего, Сашенька, Ленка лучше спать будет, — поддержала его тетка Ганна. Они выпили. Этот немой разговор растрогал и обрадовал гостей: значит, между Сашей и Петей все как должно, и оба они вон как рады, даже слов не находят, чтобы выразить эту радость. И всем стало от этого хорошо. Гости весело зашумели, стакан пошел по кругу. Тетка Ганна, видно, немножко захмелела. Ей захотелось поцеловать «Петю». Она через стол потянулась к его колючей щеке. И новая мысль осенила ее. — Сашенька! Мы ведь на свадьбе твоей не гуляли. Так пускай же эта встреча и будет для нас свадьбой… Что у вас там раньше было, мы не знаем. У Саши занялся дух и онемели руки от этой новой выдумки. Правда, дядьке Роману она не понравилась. — Что ты мелешь, жена! Какая тебе свадьба! — А какой ты хотел? Собрались люди, радуются, что встретились молодые, может, счастье их вернулось, — вот тебе и свадьба! Аксана, услышав о свадьбе, осушила уголком платка глаза и вместе со слезами стерла с лица всю печаль и горе, бросила лукавый взгляд на «жениха» и «невесту»: — Правду говорит тетка Ганна! — Взяла стакан, пригубила и сморщилась, завертела головой. — Ой, горько! Ганна и старушки соседки сразу поддержали ее: — Горько! Горько! Саша почувствовала, как к щекам и ушам прихлынула кровь, запульсировала на шее, висках, а в груди стало пусто и холодно. Она чувствовала, что Лялькевич смотрит на нее, ждет, и боялась поднять глаза. Из-за его спины Даник сильно толкнул ее в бок; брат приказывал: делай, что положено! — Боже мой! — засмеялась Аксана. — Дитя родила, а стыдится, как маленькая. Лялькевич встал, опираясь на стол. Даник толкнул сестру еще раз. Тогда Саша тоже поднялась, решительно положила руки ему на плечи, но посмотреть в глаза не отважилась. Увидела, что на гимнастерке у него армейские пуговицы со звездочками, и подумала, что пуговицы надо заменить обыкновенными, чтоб какой-нибудь пьяный полицай или немец не придрался. За этой посторонней мыслью она почти не почувствовала, как он поцеловал ее — едва коснулся уст. Но женщины весело зашумели, и Саша, опомнившись, глянула на них дерзко, смело и тоже засмеялась. С этого момента она играла роль жены просто и естественно. Тетка Ганна запела свадебную:
Ой, ляцелі гусачкі цераз сад…
Крыкнулі, гукнулі на увесь сад…
Ляцяць, ляцяць, шэрыя гусі цераз сад,
Вядуць, вядуць сіротачку на пасад…
Як сарву я ружу-кветку
Да пушу на воду…
VII
На людях Саша говорила Лялькевичу «ты», «Петя». Но с глазу на глаз она обращалась к нему так же, как в те времена, когда они работали в Заполье, только без прежних шуток, без задора, с большим уважением: она могла забыть, что он учитель, но помнила, что он комиссар отряда. Как-то Лялькевич сказал ей: — Александра Федоровна, не лучше ли нам всегда говорить друг другу «ты»? А то не ошибиться бы случайно при посторонних, не выдать бы себя! Она ничего не ответила, но все осталось, как в первый день, и он никогда больше не говорил об этом. Саше было тяжело. До того, как приехал Лялькевич, она вспоминала мужа, грустила, иной раз плакала над колыбелью, по-бабьи спрашивая: «Где наш папа, доченька? Жив ли он? — и тут же утешала себя: — Жив, жив, Леночка! Сердце мое чует». Было горе. Но она каждый день видела женщин, оставшихся с детьми, и горе ее растворялось в океане народного горя, и ее слезы казались малой каплей в море женских слез. В тяжелом труде, в заботах о куске хлеба ей иногда удавалось не думать о Пете. Собираясь вместе, женщины порой шутили и смеялись, вспоминали разные веселые случаи — не все же говорить о войне и лить слезы! И в такие минуты они забывали о том, что каждая из них пережила и передумала бессонными ночами, и эти паузы и передышки обновляли их силы, укрепляли мужество и твердость. Теперь у Саши не стало этих передышек. Женщины смеялись, а она ни на миг не могла забыть, что там, дома, лежит человек, которого все считают ее мужем. Она думала о нем, а видела Петю. Постоянно, ночью и днем, на работе и в часы отдыха, каждую секунду оба они стояли у нее перед глазами, и за обоих она волновалась, тревожилась. Случалось, женщины спрашивали ее с шутливым намеком: — Как он у тебя, Саша, очунял маленько? Корми его получше, не скупись. Она любила и понимала шутку, но эти шутки причиняли ей боль. Однажды Владимир Иванович во время тихой беседы, какие они часто вели теперь вечерами, сказал Данику: — Послушай, Даник, не мог бы ты наладить «дружбу» с полицаями, так, как было с Кузьмой? Нам это может понадобиться. Юноша поскреб затылок. — Я, конечно, могу. Но знаете, Владимир Иванович, чего я боюсь? Что я делаю для нашей победы, этого деревенские не знают, не видят, а вот «дружбу» с полицаями сразу все увидят. Вернутся наши, а вас, может случиться, не будет поблизости, отряда тоже, и возьмут меня тогда за шкирку свои же люди. Обидно будет… Сашу поразила эта тревога брата о будущем, о тех днях, когда каждый должен будет дать ответ если не перед людьми, то перед своей совестью: что он сделал для победы? В ту ночь, когда погасили каганец и все улеглись, у нее мелькнула страшная мысль: вернутся наши, придет Петя, и… вдруг он не поймет, не захочет понять, почему она приютила Лялькевича, назвала его мужем? Говорят, ревность ослепляет человека, лишает его ума. Она опять вспомнила, как Петя приревновал ее к Владимиру Ивановичу, когда увидел их вместе на волейбольной площадке, как он и в самом деле потерял голову, убежал на ночь глядя неведомо куда и чуть не угодил в Любины объятия. Что, если он не поймет, не поверит, что только случай, исключительный случай свел их вместе? Как это будет больно и оскорбительно! Нет, убеждала она себя, тогда он был молодой, глупый, и ничто их не связывало. А теперь он возмужал, прошел через великие испытания и муки, да и дочка у них. Как же он может хоть на миг усомниться в ее любви и преданности! Наконец, ему скажут Поля, Даник, Владимир Иванович… Потом ей стало тяжело не оттого, что это может случиться, что Петя приревнует, а оттого, что она так подумала о нем и бросила тень на светлый образ мужа. Выходило, будто она, Саша, плохо знает отца своей дочки, сомневается в его уме, великодушии, благородстве. Это долго ее мучило. Партизаны передавали через ребят медикаменты, рыбий жир, и Лялькевич благодаря Сашиному и Полиному уходу быстро поправлялся, раны его затягивались. «Как от живой воды», — шутил он. Рыбий жир он почти не пил — отдавал Ленке: малышке понравилось лакомство, и щечки ее за какую-нибудь неделю заметно порозовели. Его отношение к Ленке вызывало у Саши непонятную тревогу и ревность. Очень уж ласков и чуток был этот посторонний человек к ее дочке. Саша избегала оставлять с ним девочку. Но это делали Поля и Даник, и комиссар отлично справлялся с нелегкими обязанностями няньки. Возвращалась Саша, хватала дочку на руки, а та плакала и тянулась обратно на кровать, где сидел или лежал Лялькевич. У Саши больно сжималось сердце. А в то же время и ее какая-то неведомая сила тянула к этому человеку. Саша не ошиблась, когда решила, что он пришел в деревню не только затем, чтобы залечить раны. Он сразу взял в свои руки руководство их группой, и теперь вся деятельность молодых подпольщиков направлялась им. Как видно, он руководил не одной их группой. Поддерживая тесную связь с отрядом, Лялькевич делал нечто значительно большее… Недаром уже через несколько дней послал он Даника в Гомель с каким-то секретным поручением. От него Саша узнала, кто такой Старик, имя которого хлопцы держали в тайне даже от нее, члена организации. Вечером в сочельник за окнами их хаты послышался сильный и красивый мужской голос:Шчадрую, шчадрую —
Каўбасу чую.
Дайце каўбасу —
Дамоў панясу,
Дайце другую —
Яшчэ пашчадрую.
За Сібіром сонце сходить…
Хлопці, не зівайте…
Ви на мене, Кармелюка,
Всю надію майте!
Гнилой фашистской нечисти
Загоним пулю в лоб,—
Однажды Даник и Тишка взволнованные вбежали в горницу. Даник тащил приятеля за руку. Тот не очень упирался. Маленький, в расстегнутом кожушке, в больших стоптанных валенках, Тишка выглядел каким-то странным, встопорщенным. Лялькевич и Саша встревожились. Ребята никогда не врывались в хату вдвоем, они редко ходили вместе, чтоб не выставлять напоказ свою дружбу. Ребята остановились у порога. Даник, запыхавшийся, красный, бросил быстрый взгляд, нет ли посторонних в доме, и сразу же обратился к Лялькевичу: — Товарищ комиссар! Скажите вы ему… Вот еще дурак! Тишка стоял бледный, посиневшие губы передергивались, словно от боли, а глаза горели таким гневом, что Саше стало страшно. — Все равно я застрелю этого гада! Все равно я убью его!.. Все равно, — прошептал он, сжимая кулаки. — Эх ты, подпольщик!.. — прикрикнул Даник. Лялькевич понял, что случилось что-то очень серьезное, и показал рукой на угол за печью, который стал местом подпольных переговоров. Хлопцы прошли туда и встали, прислонившись к стене. Лялькевич шепотом приказал: — Докладывай, Даник. — Полицаи арестовали Ганну из Репок. Кто-то донес, что у нее партизан ночевал… Вели ее, а мы за лавкой стояли, следили. А тут дочка ее, Манечка, годиков шесть ей, бежит следом, цепляется за кожух, кричит: «Мама! Мамочка!..» Даник замолчал и будто проглотил что-то. А у Тишки глаза наполнились слезами. Он сорвал с головы свою овчинную шапку и закрыл ею лицо. — Фашист проклятый! Все равно я его!.. — Ты его! Ты нас провалил бы, как эсер какой-нибудь! — Спокойно! — потребовал Лялькевич. — По порядку! Что было дальше? — Гад этот, бандит Гусев, — теперь уже и Даник чуть не скрежетал зубами, — как схватит девчонку да как швырнет в снег, будто это не ребенок, не человек… Сволочь он! Ну, Тишка и не выдержал — за пистолет… Хорошо, что я увидел. Я не знал, что у него пистолет… У нас было постановление: днем оружия не носить. Зачем же он носит, словно анархист какой? Хорошо, что я успел схватить его за руку и вырвать. — Даник достал из кармана пистолет и протянул Лялькевичу. — Счастье, что нас никто не видел. Сами себя выдали бы… Понимаешь ты?.. — Все равно я его убью! — твердил Тишка. Лялькевич присел на скамеечку. — Саша, последите, пожалуйста, чтоб нас не захватили врасплох, — попросилон. Но Саша уже стояла на страже: прислушиваясь к их разговору, не спускала глаз с окна, из которого была видна калитка. Лялькевич спросил Тихона сдержанно, но сурово: — Что же это ты, герой, всех нас погубить хотел? — Не мог я, товарищ… — встрепенулся паренек. — Нервы слабы? А партизану, подпольщику нужны крепкие нервы. Очень крепкие! Ты представляешь, что наделал бы твой выстрел? Ты — одного Гусева… — Я бы их всех четверых… — Допустим. А потом? Тихон молчал. — Ну, а потом? Потом что вы делали бы? — Убежали б, — неуверенно прошептал Тишка. — Убежали! — передразнил его Даник. — Куда б ты убежал? — Далеко не убежишь по такому снегу. Ну, допустим, убежали бы. Вы молодые, ловкие… А мы? Фашисты сразу схватили бы твоих сестер, мать, меня, Сашу. Ты подумал об этом?.. Тихон ниже склонил голову. — Ни о чем он не думал! — корил друга Даник. — В нашей суровой борьбе со страшным и безжалостным врагом самое главное — дисциплина. А ты нарушил ее, нарушил постановление организации — не носить оружия. По сути, ты нарушил присягу. Мало того, у тебя нет выдержки. Значит, слаба воля. А если ты попадешь в еще худшую переделку? Можем ли мы, твои товарищи, быть уверены, что ты нас не подведешь? — Товарищ комиссар!.. Да я умру, если надо… — Умереть на войне легче всего. Если б мы думали о смерти, чего стоила бы наша борьба! Мы думаем о жизни, о будущем своих близких, народа. Поймите вы, горячие головы. Мы не отказываемся от таких выстрелов, но сейчас наша основная задача — собирать, сплачивать силы для мощных залпов, которые мы дадим по врагу. Вместо того чтобы стрелять, когда уже поздно, надо было раньше подумать о Ганне. Почему мы не уберегли этого дорогого для нас человека, мать? Почему не предупредили? Что за партизаны у нее бывали? Из какого отряда? Нам должно быть стыдно, что мы не знаем. Стыдно и больно!.. — Она не шла на связь, — стал оправдываться Даник, понимая, что укор этот относится не к одному Тишке, а ко всей организации. — Мы пробовали связаться с ней еще осенью. Сам Старик этим занимался. Но она и ему не поверила. Она никому не верила. Мы решили, что тогда она просто так, не подумавши, испекла хлеб партизанам, а потом испугалась — и теперь к ней не подступиться. — Плохо, выходит, мы знаем, что делается в деревне. А мы должны знать все: что думает, чем дышит каждый человек. А одна ли такая Ганна?.. Передай, Даник, Старику, чтобы он помог пристроить ее детей. Саша вздрогнула. Неужели немцы могут тронуть детей? Да, они и на это способны. Саша вдруг подумала, что с арестом Ганны могут выплыть на поверхность осенние события — бегство партизана из колодца, смерть Кузьмы. Она решила сказать о своих опасениях Владимиру Ивановичу, чтобы он на всякий случай имел это в виду. Когда же заговорили о детях, Сашей снова овладело тяжелое чувство, от которого она так страдала в начале войны, да и теперь иногда ей казалось, что только одна она такая трусиха. А Лялькевич, Даник, Старик, Толя, все остальные страха не знают. Наивная женщина! Она не понимала, что сила не в том, чтоб не испытывать страха, — смерти каждый боится, — а в том, чтобы уметь пересилить его. Она не скрывала этого чувства и от Даника, Поли и даже от соседей, а вот Владимиру Ивановичу она ни за что не выдаст себя. Ни словом, ни движением! Потому и решила промолчать. Однако комиссар сам все понимал и учитывал: — До истории с Кузьмой не докопаются? — спросил он Даника. — Нет! — уверенно ответил тот. — Никто ничего не знает. Только бы молчала тетка Хадоська. Она сильно набожная стала, день и ночь молится… — Осторожность, товарищи, в подпольной работе — основа успеха. Мы должны все видеть и все учитывать наперед. И беречь своих людей. А предатели… Гусев этот и другие… никуда они от нас не денутся, не уйти им от народного суда. Мы покараем их. Тихон, утихомирившийся было под суровым укором Лялькевича, снова загорелся местью. — Поручите мне, товарищ комиссар! — Ох, горячая голова! Хочешь, чтобы вместо пьяных полицаев поставили здесь зондеркоманду? Кому от этого станет легче? Для чего рисковать? — Никакого риска, Владимир Иванович! Я подстерегу его где-нибудь под городом, как лесничего. Чтоб и не подумали на нашу деревню. — Правда! — вдруг поддержал Даник. — Разрешите нам стукнуть этого гада. Пускай знает, как швырять детей… пить кровь людскую. — Как лесничего, говорите? А много ли это даст сейчас для нашей борьбы? Я хочу, чтоб вы всегда ставили себе этот вопрос. И всегда помнили: мы не убийцы, мы — судьи. Мы караем именем народа. И народ должен знать, кто и за что осужден, а главное — знать кем. Каждый выстрел по врагу должен поднимать новых борцов, пополнять наши ряды. Я вам сказал: Гусеву нашей кары не миновать. Но категорически запрещаю самовольные действия! Предупреждаю, что впредь буду сурово наказывать тех, кто нарушает дисциплину, законы подполья. Имейте в виду! Ясно? — Ясно, Владимир Иванович, — тихо ответил Даник. — Пистолет у тебя, Тихон, забираю, чтоб не натворил глупостей. И на первый раз делаю предупреждение. Юноша тяжело вздохнул: жалко расставаться с пистолетом, который он нашел на поле боя. Пистолет уже не один раз послужил ему орудием мести.
VIII
Может, всего на одну минуту уснула Саша в ту ночь и сразу увидела сон. Бескрайнее, гладкое-гладкое, без холмика, без куста, заснеженное поле. Она вглядывается до боли в глазах в эту белую гладь и… вдруг видит: по полю во всем белом ползет человек. Она узнает Петю. Он протягивает к ней руки, просит помочь, кричит что-то. Саша хочет крикнуть в ответ и не может — нет голоса. Она бежит навстречу, но поднимается страшная метель. Саша борется с ветром, выбивается из последних сил и с ужасом замечает, что вьюга относит ее назад, она не приближается к Пете, а отдаляется от него. И он остается один посреди этого страшного поля. Саша проснулась, обливаясь холодным потом. Сердце стучало так, словно она и в самом деле только что долго боролась с вьюгой. За окном шумит ветер. Тополя звенят обледенелыми ветками, бьются о стену хаты. По стеклам шуршит сухой снег. «Это хорошо, что такая ночь», — вспомнила она слова Лялькевича и тут же услышала: он не спит, пьет воду у двери, где стояло ведро. Напился и осторожно, без костыля, чтоб не стучать, держась за лавку и стену, стал пробираться к своей кровати. «Надо ставить ему воду у постели. Как это мы не догадались?» — подумала Саша и шепотом окликнула: — Владимир Иванович! Он не ответил, затаился где-то на полдороге — думал схитрить. — Владимир Иванович, может, вам нездоровиться? Вы уже второй раз пьете воду… — Нет, Саша, я здоров. Мне просто не спится, и я топаю по хате. — А я заснула. — Вы кричали во сне. — Мне приснился страшный сон. Видела Петю. Он полз по полю. — Вы думали о ребятах, как они будут ползти, потому вам это и приснилось. Скрипнула скамейка у стола — Лялькевич, должно быть, присел. — Тяжело мне, понимаете, тяжело чувствовать себя беспомощным. Мне хочется… я должен быть вместе с ребятами. Они так молоды и неопытны! На лежанке вздохнула Поля: она тоже не спала. …Дня три назад кузнец, ставший-таки попом, заглянул к Лялькевичу и рассказал: — Иваныч, хлопцы давно целятся на хлебные склады у станции. Немцы до черта награбленного зерна туда навезли. Я долго присматривался и все сдерживал ребят — опасно, не очень-то склады загорятся зимой. А теперь есть случай… Я сегодня там был, хоронили стрелочника. Видно, чтоб не выставлять лишнего поста, немцы подогнали под самый склад бензоцистерну. Одну «хлопушку» под цистерну — и все к богу в рай: и бензин и склад! Кстати, барометр падает, ноги гудят. Надо ждать метелицы. Нам — на руку. — Вот это уже будет залп! Его далеко услышат и увидят, — сказал Лялькевич. Дождались дня, когда пошел снег, и поздно вечером ребята отправились на задание. Пошло пять человек: Анатоль, Даник, Тихон, Павел и Леня. План операции обсуждали с комиссаром Даник и Тишка. Анатоль не пришел из конспиративных соображений, а новые члены организации не должны знать Лялькевича. Саша была в курсе всех деталей плана. Станция, расположенная километрах в девяти от их деревни, ей хорошо знакома. И воображение рисовало ей все, что там сейчас происходит, так ярко, как будто она находится рядом с хлопцами. Вот они вышли из лесу и по глубокому снегу обходят поселок. Хорошо, что снег идет и сразу заносит следы. Метрах в трехстах от склада они залегли в кустах на берегу ручья. Проверяют оружие. Дальше ползут трое — Анатоль, Тишка и Даник. Они в белых балахонах, сшитых ею, Сашей, из накрахмаленных, пропахших нафталином простынь, которые готовила еще их покойная мать в приданое дочкам. У наваленных штабелями бревен, что высятся по эту сторону железнодорожного пути, как раз против склада, остается Анатоль, вооруженный немецким автоматом: в случае чего он должен прикрывать отход. Дальше ползут двое — Даник и Тишка. Самое трудное — перебраться через пути. Но они перебираются. И вот уже притаились за углом склада, ждут, когда к ним приблизится немец, которого они должны «снять». Вот немец уже лежит на снегу. Хлопцы подкладывают под бензоцистерну мину и уже не ползут, а бегут обратно… Саша понимает, что ни к чему ей представлять все это уже который раз за ночь. Если все хорошо, склады давно горят, а хлопцы возвращаются домой. Лучше заснуть, чтоб не волноваться. И вдруг тихий стук в окно со двора. Это он, Даник. Стук такой тревожный и такой нетерпеливый, что у Саши отчаянно забилось сердце: беда! Она мигом соскочила с печи. Так же быстро вскочили Поля и Лялькевич. Даник ввалился белым призраком, задыхающийся, будто от самой станции бежал не останавливаясь. — Что случилось? — спросил комиссар, схватив Даника за руки, едва тот ступил на порог. — Т-ти-шку р-ран-и-ли, — едва выговорил он, и, заикаясь, глотая слова, стал рассказывать: — Мы… как по плану… п-под-п-ползли… А часового нет. Лежим — нету… Стоим — ничего не слыхать… Подложили мину — и б-бегом… А он, видать, спал, зараза, в затишке. Нам н-не надо было бежать. Мы — дураки. Он услышал, как мы побежали… проснулся. Заметил, должно быть, следы и — ракету… Тут и началось: и от моста и от станции. Из пулеметов как ударили… Мы до штабелей уже добежали, где Толя оставался, и тут Тишка охнул и упал… Мы его в лес унесли. А дальше что нам делать, Владимир Иванович? Помрет Тишка… — всхлипнул Даник. Лялькевич ласково обнял его за плечи. — Без паники, друг мой. Будем спасать Тишку. Сделаем все, чтоб его спасти. — А склад горит, Владимир Иванович, — уже бодрее заговорил Даник. — Мы только за поселок вышли, а оно как бухнет, как шуганет! И сейчас еще горит! С просеки видно. — Куда его ранило? — спросила Саша, сразу поняв, что ей надо скорее туда бежать. Так же, как в те времена, когда она работала фельдшером и когда ее ночью вызывали к больному, она на ощупь собирала одежду, на ходу вспоминая, где что лежит. Лялькевич зажег лампадку. — Правильно. Захватите все, что у нас есть, — сказал он, увидев, как быстро она собирается. Саша командовала немногословно, тихо, но решительно, четко, как хороший хирург во время операции: — Поля! Молоко — в бутылку! И воды! Достаньте вату, у вас под матрацем. — Это Лялькевичу. — Даник! На печурке шприц! Да поворачивайтесь быстрей! Боже мой, какие копуши!.. Лялькевич тоже начал одеваться. — А вы куда? — спросила Саша. — Я — к Старику. Надо, чтоб он утром поехал на лошади. У попа найдется какой-нибудь повод. Он заберет Тихона и отвезет за реку, в Рудню. Туда придет из отряда врач, сделает операцию. — Не надо вам ходить! — тихо, но твердо сказала Саша. — Нельзя! Лялькевича удивил и обрадовал этот ее властный тон. Молчаливая в последнее время, как бы несколько инертная и равнодушная, она в напряженную, ответственную минуту вдруг обрела душевные силы, мудрость и осторожность. Он это понял и не стал возражать. «Но кто известит кузнеца?» Он подумал — она ответила: — Мы сами ему скажем! Все равно надо идти в обход, по Однобочке. Не пойдем же мы мимо школы, где полицаи. Даник забежит и скажет. — Ладно! — согласился Лялькевич, снимая кожух, и обратился к Данику: — Скажешь Алексею Софроновичу — пусть завезет в Рудню, к старосте Мирону. Это наш человек… Саша была уже у двери, быстрая, стремительная, она не хотела терять ни одной минуты. Лялькевич пожелал: — Счастливо вам… Она остановилась, словно что-то забыла. Потом так же стремительно вернулась, вскочила на лежанку и поцеловала на печи дочку. Соскочив на пол, погасила лампадку. На фоне окна Лялькевич увидел, как растерянная, взволнованная Поля крестит вслед брата и сестру. На дворе разгулялась метель. Только отворили дверь, в глаза сыпануло сухим снегом. Ветер звенел ветвями обледеневших деревьев, завывал и свистел в щелях забора, в дырявой крыше хлева. Где-то по соседству надоедливо и противно скрипели ворота. За шоссе глухо гудел бор. С детства Саша любила слушать шум близкого леса, в степном Заполье она скучала по нему, но сейчас, в глухую военную ночь, шум этот казался ей тяжким стоном. Где-то там, в лесной чаще, лежит раненый боец, товарищ по борьбе. Скорее к нему! У калитки Даник схватил ее за плечи. — Куда ты? Она не поняла. — Идти по улице? Да ты что?! Знаешь ведь, как тревожно спят теперь люди. Кто-нибудь увидит. Идем огородами. На, — и он протянул ей белую скатерть, которую неведомо когда успел захватить, — прикройся! Ветер бил в лицо, срывал скатерть, надувая ее, как парус. Ноги глубоко проваливались в снег, и Саша спотыкалась, падала, переползала сугробы у ограды на четвереньках, не чувствуя, как снег набивается в рукава. Она задыхалась; сердце распирало грудь, и удары его, лихорадочно частые, болезненные, она чувствовала во всем теле, в висках, на шее, в руках. Даник останавливался, поджидая ее, и умоляюще повторял: — Скорей, Саша, скорей! Она не в состоянии была и слова вымолвить в ответ. Ее охватывал страх, что она не дойдет и не сможет помочь Тишке. Почему она такая слабая, бессильная? Вон Даник ходит всю ночь: шел до станции, полз к складу, нес по снегу раненого товарища, бежал домой — и теперь идет без натуги, снег и ветер ему нипочем! Неужто он сильнее ее? Нет, она тоже дойдет! Доползет! Она должна спасти Тишку. Не нужно думать о своей слабости! Нужно думать только о нем, о Тишке. «Хорошо ли закрыт чемоданчик? Не открылся бы, не рассыпались бы медикаменты! Сказать Данику, чтобы осторожней нес. — Она нащупала под ватником бутылку с молоком. — Что это? Ветер утих?» Подняла голову и увидела черную стену дома. — Подожди здесь, — сказал Даник, отдавая ей чемоданчик, о котором она только что тревожилась. — Я забегу к Старику. Саша укрылась в затишке, перевела дыханье. Сердце начало биться ровнее, и она, успокаиваясь, подумала: «Хорошо, что немцы и полицаи уничтожили собак; до войны, бывало, огородами не пройдешь». И еще мелькнула мысль, что Даник напрасно укутал ее в скатерть: снег падает сверху, вздымается ветром снизу, и в снежной замети не видать соседней хаты, не то что человека. Деревня спит. Ни звука, только слышен свист ветра и шум деревьев. Теперь до лесу рукой подать; кузнец живет на самом краю улицы, которая зовется Однобочкой, хотя давно уже застроена в два ряда. Даник быстро вернулся. Забирая у Саши чемоданчик, он вздохнул: — Эх, Тишка, Тишка!.. — и попросил: — Бежим, Саша. Не отставай. Теперь они и в самом деле бежали, но уже по дороге, и это было не так тяжело, как на огородах. Дорога вела на шоссе, минуя школу. А за шоссе начинался лес. Когда они вошли в него, на душе у Саши стало спокойнее. Под столетними соснами, под дубами-богатырями было совсем тихо. Только вершины деревьев бушевали: бросались друг на друга, бились, натужно скрипели, сбрасывали на землю шапки снега. Даник время от времени прислушивался. Саша не понимала, что он слушает и что можно услышать в этом неумолчном шуме, когда к тому же еще от бега гудит и стучит в голове. Но спрашивать не хотелось. Они шли молча. Один только раз брат сказал: — Хоть бы снег не перестал идти… Чтоб следов не было. Утром они могут начать поиски… На краю большой лесосеки, где почти так же, как в поле, разгуливали снежные смерчи, их встретил дозорный — Павел. — Тихо? — спросил Даник, а тому, видно, показалось — «Тихон», и он ответил: — Худо ему. Бредит. Это как бы подстегнуло их: они, спотыкаясь, побежали через заваленную хворостом лесосеку. Саша не заметила, как рядом с ней очутился Анатоль. Он схватил ее за руку, дрожащим голосом сказал: — Скорее, Саша. Сюда, — и повел за собой. В конце лесосеки, за большой кучей хвороста, ребята из сосновых веток смастерили нечто вроде маленького шалаша. Саша пролезла туда следом за Анатолем. Он чиркнул зажигалкой, поджег сухую лучину, и она увидела лицо раненого: бледное, осунувшееся и от этого совсем детское, с запекшимися губами и по-девичьи длинными, белыми от инея ресницами. Дышал Тишка тяжело, прерывисто, с хрипом и бульканьем. Должно быть, реагируя на свет, он на миг раскрыл глаза и громко сказал: — Светает? — и тихо попросил: — Я еще немножко посплю… Анатоль передал лучину Данику и стал помогать Саше. Осторожно раскинул ватники, которыми Тишка был укрыт, развязал бинты — полоски разорванной простыни, — легко, как ребенка, приподнял раненого на руках. Пуля попала в спину, ниже сердца, пробила легкое. Через маленькую черную дырочку, брызгая капельками крови, с бульканьем вырывался воздух. А вообще крови было мало: она, видимо, оставалась внутри. Саша в своей практике не встречалась с тяжелыми ранениями, однако сразу поняла, что рана смертельна и только неотложная операция в хороших клинических условиях, может быть, спасла бы жизнь Тишке. Больно, нестерпимо больно и обидно стало, что она ничем не поможет этому мальчику, этому мужественному герою, отдавшему жизнь за будущее, о котором она, Саша, мечтает каждую ночь. Она твердо верит, что ей будет светить чудесное солнце, которое ей часто снится, а он… он, верно, никогда больше не увидит его… Дрожащими руками обработала она черную ранку, с помощью Анатоля старательно забинтовала. Светя им лучиной, Даник спросил: — Ну что, Саша? Она не ответила — не могла, душили слезы. Она сделала укол, чтоб поддержать сердце, и влила в рот глоток молока, которое грела у себя на груди. Тишка проглотил молоко и тихо попросил еще: — Пить. Это короткое, сознательно произнесенное слово обрадовало хлопцев, особенно Даника, и испуганного, молчаливого и неприметного новичка — Леню. Им показалось, что Тишке стало лучше. Но Саша знала, что это не так. Она сидела рядом и держала под кожушком его горячую руку. Что она еще могла для него сделать? Как помочь? Осталось только одно — следить за пульсом. Сердце его, маленькое мальчишечье сердце, которое умело так горячо любить и ненавидеть, еще жило, боролось. Но как неровны его удары! То оно делает несколько сильных толчков, то Саша вдруг совсем теряет пульс. О том, что организм борется, свидетельствует дыхание, — такое же неровное, с громким хрипом. Сколько он может так продержаться? Который теперь час? Когда же, наконец, приедет дядька Алексей? Почему его нет? Надо спросить у Даника. Она молчит. Ей страшно, кажется, что если заговорит, то потеряет пульс — слабый признак жизни. Рядом с ней сидит хлопец и дрожит. Она не заметила, что ребята, вообще легко одевшиеся на задание, сняли ватники, чтоб укрыть раненого товарища. Они все по очереди влезали в шалаш греться. Кто-то спросил снаружи: — Как он, Саша? Она и теперь не ответила. Что можно ответить? Как страшно шумит лес! Кажется, никогда в жизни не слышала она такого шума. Как больно сжало сердце! Но разве можно думать о своей боли? Боль там, в его сердце, в его груди. Вот он рванулся, застонал, стал бредить: — Хлопцы!.. Хлопцы!.. За мной! Мы им покажем… Историю я повторил, Иван Павлович… Ничего они не знают… Анютка! Прогони кур! Ох, как душно!.. Хлопцы, искупаемся… Нет, нет!.. — он снова застонал, скрипнул зубами и проговорил со злобой: — Все равно я убью этого гада… убью!.. Фашист проклятый!.. Саша нежно гладила его руку. Не заметила, как стала уговаривать вслух: — Успокойся, Тишка, родной мой. Потерпи немножечко. Сейчас приедет дядька Алексей. Он повезет тебя на ту сторону. Партизанский врач сделает операцию, и ты будешь здоров. Ты опять будешь мстить им. И этому гаду мы отплатим за слезы Ганниных детей. За наши слезы. Лежи спокойно, милый мой, нельзя тебе метаться… Лежи! Она разговаривала с ним так же, как со своей дочуркой, когда носила ее больную на руках по хате. Умолкал раненый — умолкала и она, внимательно, как положено медику, слушала пульс, дыхание, давала пить. Начинал он бредить — и она повторяла ласковые слова, как каждая женщина-мать, бессознательно пытаясь словами заглушить и свою боль. Она не знала, сколько прошло времени, ей казалось, что очень много, а в действительности — не больше часа. После долгой паузы Тишка глухо позвал: — Даник! Саша наклонилась к нему. — Что, Тишка, родной? Ты что хочешь сказать? Он как бы прислушался, затаил дыхание, а потом, словно в отчаянном страхе, рванулся и голосом, который, видно, никому из них никогда не забыть, позвал: — Мама! Мама!.. И затих. Саша почувствовала, как мертво повисла его рука, и с каким-то странным в этот момент, профессиональным спокойствием отметила, что наступил конец его мукам. Она застыла в безмолвной скорби, ни словом, ни движением не нарушая святой минуты прощания. Потом откинула одежду, которой он был укрыт, повернула тело на спину (он лежал на правом боку) и сложила его руки на груди. Услышав в темноте, что она что-то делает, Даник шепотом спросил: — Что, Саша? В ответ она громко зарыдала: рыдание, подкатившееся к горлу, когда Тишка позвал «мама», вырвалось теперь, облегчая душу. Анатоль, поняв, что случилось, по-мужски коротко всхлипнул и откинул стенку шалаша. Саша удивилась, что так светло. Сквозь слезы она увидела, как на черные нахмуренные брови Анатоля садятся снежинки. Она утерла платком лицо, поднялась и встала рядом с ним напротив Даника и Лени. Так они стояли, словно в почетном карауле, молчаливые, познавшие тяжкое горе утраты боевого друга, и в их сердцах с новой силой разгорался огонь ненависти к врагу. Анатоль первым нарушил торжественную тишину. Наклонившись, он прикрыл тело белым маскировочным халатом и спросил: — Что будем делать, товарищи? Порыв ветра завертел вокруг снежный смерч, затянул паузу. — Надо матери сказать, — робко заметил Леня. — Что ты! — возразил Даник. — Матери? — Анатоль задумался. Мать не переживет такого горя. Узнают в деревне, что Тишка погиб… Погиб в ту самую ночь, когда на станции сгорели склады. Нет, матери говорить нельзя! — твердо закончил он свои раздумья и грустно добавил: — Пусть уж она простит. Мы покажем ей могилу после победы. А сколько матерей так и не узнают, где могилы сыновей! Похороним Тихона здесь, в нашем лесу, в родной земле! — А чем копать могилу? — спросила Саша. — Я пойду к леснику, скажу, что от партизан, — ответил Анатоль. — Он будет молчать. После смерти лесничего они научились молчать. Не пикнет. Будьте тут начеку, я мигом слетаю. — И Анатоль, не тратя времени, побежал. — Пойду сменю Павлика, — сказал Даник, передавая Лене пистолет. — Поглядывай с этой стороны. На рассвете они могут пустить по нашим следам собак. Имейте в виду, — предупредил он так, будто перед ним был большой отряд, а он — его командир, — в случае чего будем драться до последнего патрона. До последнего!.. А патронов этих было у них не густо, да и оружия — один немецкий автомат и два пистолета. — И не сдаваться живыми! Саша вздрогнула от этих слов, поглядела на небо: идет ли снег? Пусть бы занес все следы! Снег шел по-прежнему, но ветер затихал, и лес шумел теперь более спокойно и мирно. Даник, должно быть, уловил это ее движение. Подошел, сказал тихонько: — Может, тебе уйти? — Куда? — Домой. Покуда еще ночь. — Я останусь с вами! — решительно ответила Саша. Даник постоял, подумал и ничего больше не сказал. Уходя в дозор, остановился возле покойника, тяжело вздохнул: — Эх, Тишка, Тишка!.. Саша, оставшись одна, присела на пень. Прислушалась к себе. В душе не было ни страха, ни той острой боли и жалости, которые она почувствовала, когда увидела на спине у Тишки маленькую черную ранку. Теперь душу ее заполнила тяжкая скорбь. Она думала: «Сколько их, вот таких же молодых, только вступивших в жизнь и не изведавших еще настоящего счастья, лежит на полях войны, и снег засыпает их тела! Может быть, и Петя… Нет, нет, Петя жив, сердце чует, что он жив, думает обо мне и своей маленькой дочурке. Родной мой, любимый! Когда же мы получим от тебя весточку? Когда услышим твой голос?» Пришел Павел. Упал на колени перед телом друга, и Саша увидела, как задрожали его плечи от немых рыданий. Потом сел рядом с ней и заговорил: — На станцию шли — он такой веселый был. Все шутил. Рассказывал, как он у Бабурихи яблоки крал. «Сижу, — говорит, — на яблоне, рву яблоки, кладу за пазуху, а она, старая ведьма, как из-под земли и с крапивой в руках. „Слезай, — говорит, — чертов сын, я тебя пекучкой угощу“. А он, Тишка, в ответ: „Погоди, — говорит, — бабушка, обтрушу всю яблоню — тогда слезу, чтоб было за что кару принимать“. И начинает трясти. „Не тряси!“ — кричит она. „Не тронешь?“ — „Не трону, только не тряси“. — „Матери не скажешь?“ — „Скажу!“ — „Ах, скажешь?! Так вот тебе!“ И на старуху — град яблок! „Не скажу, — кричит она, — не скажу, только слезай скорее!“ Договорились, что она отойдет к хлеву и тогда он слезет с яблони. Матери она все-таки сказала. И мать всыпала ему горячих. „Мать моя, — говорит, — и теперь еще не стесняется иной раз рушником или еще чем надо мной помахать“. Хлопцы смеются: „Знала бы она, мать твоя, кого бьет. Перед тобой вся полиция, все изменники дрожат!“» — Павел вдруг опомнился, что рассказ его не к месту, что нет уже среди них веселого Тишки, и всхлипнул: — Какой человек был!.. — Что мы скажем матери? — вслух подумала Саша. Теперь эта мысль вызвала мучительную боль. Павел не ответил. Саша шепотом повторила его слова: — Какой человек был!.. Потом сидели молча, каждый погрузившись в свои мысли. Подошел Леня. — С того края делянки и сейчас еще видно зарево. Здорово горит! — сказал он. — Правда? — оживился Павел и пошел поглядеть. Вернулся Анатоль, принес лопату, лом и топор. Начали копать могилу. Долбили ломом, рассекали мерзлую землю топором. Саша помогала руками, выгребала комья земли, рвала мелкие корни, до крови обдирая пальцы. Но она и не замечала этого. Место попалось песчаное, под снегом и пластом хвои земля промерзла неглубоко, и до рассвета могила была готова. На дно набросали еловых веток, мягких и душистых. Затем, по примеру Анатоля, все надели кожушки и ватники, затянули, у кого были, ремни, привели себя в надлежащий вид и, сняв шапки, стали в последний почетный караул. Стояли долго, охваченные извечным желанием живых, — продлить минуты последнего прощания с близким человеком. — Светает, — сказал, наконец, Анатоль, и все заторопились. Положили Тихона на простыню, перенесли к могиле. Анатоль спрыгнул в яму, принял легкое тело друга на руки, осторожно уложил в вечную постель. Даник подал ему руку, он выбрался и дрожащим голосом заговорил: — Прощай, Тишка, наш дорогой товарищ… Ты погиб как герой, как комсомолец. За твою смерть мы отомстим проклятым фашистам. Поклянемся, товарищи! Глотая слезы, они произносили один за другим: — Клянусь! — Клянусь! — Клянусь тебе, Тишка! Анатоль взял лопату и впервые растерялся: тяжело, ох как тяжело кинуть холодный песок на открытое лицо Тишки, на глаза, всегда такие ясные, на губы, что еще несколько часов назад весело смеялись!.. Саша схватила охапку легких веток и кинула на тело, ветки закрыли восковое лицо. Тогда ребята начали засыпать могилу. Где-то фыркнул конь. Все замерли, Анатоль и Даник выхватили пистолеты. Послышался условный свист дозорного — Лени. — Дядька Алексей, — догадался Даник. Кузнец подъехал, соскочил с саней и, путаясь в длинной поповской рясе, направился к ним. Увидел могилу — и застыл на месте. С минуту непонимающим взглядом смотрел на свежую землю, потом сорвал с головы шапку, уронил ее на притоптанный снег, обошел вокруг могилы и, почему-то растирая изо всех сил ладонями заросшие щеки (он начал отпускать бороду), проговорил со стоном: — Мальчик мой!.. Мальчик мой!..Они ждали ее и боялись ее прихода. И все-таки она чуть не застала их врасплох. Поля увидела женщину в окно, когда та уже вошла к ним во двор, испуганно предупредила: — Мотылиха!.. Даник спал на печи. Он сильно простудился, у него был жар. Однако и он сразу проснулся. Владимир Иванович подскочил к нему, зашептал: — Даник, мужайся! Тишкина мать!.. Говори все так, как мы условились. Саша тоже едва держалась на ногах. Она даже плохо помнила, как дядька Алексей привез ее домой: они долго кружили по лесу, по полю и приехали поздней, чем вернулся Даник. Теперь Саша испугалась больше всех. Лялькевич, увидев, как она побледнела, подал ей Ленку: — Спрячьтесь за печку и кормите ребенка! Не показывайтесь! Женщина степенно поздоровалась и, чтоб как-нибудь начать разговор, сказала полушутя: — Мужики в хате, а стежку не расчистят. Пройти нельзя — так замело. — Такие уж мужики, — ответила Поля, бренча в углу какой-то посудой; она старалась не смотреть в лицо матери, которая ничего не знала и не должна была знать. — А мой мужик пропал куда-то: вчера вечером сказал, что к Нине в поселок пойдет, она просила помочь дров напилить. Нынче Нина пришла — говорит, его не было. Ты, Данечка, не знаешь, где он может быть? — З-знаю. Лялькевич, стуча самодельным деревянным протезом, поспешно подал матери Тихона табурет: — Садитесь, пожалуйста. — Не понравилось ему, как Даник заикается, и он старался отвлечь внимание женщины. — З-знаю… Т-только, тетка Марина, это с-секрет… Вы н-никому не говорите… С-скажите, что п-пошел Тишка куда-нибудь к р-родичам… — Женщина, насторожившись, поднялась с табуретки. — А он… он ушел… с партизанами… — Ах, боженька мой! Дитя горемычное! — в голосе матери звучали испуг, и удивление, и в то же время гордость за сына. — Вот видишь, Сашенька, растишь их, растишь, а они слова матери не скажут. Надумал — все бросил, ушел. Ну, пусть только вернется, он у меня получит, не погляжу, что партизан!.. Саша зажала пеленкой рот, чтоб не закричать. Она снова слышала голос Тишки, его последние слова: «Мама!.. Мама!..»
IX
Лялькевич и Саша ехали в город — везли бочки, ушаты, ведра. Поправившись, комиссар нашел себе полезное занятие. Он вспомнил профессию отца и дядьев — бондарей. В этой деревне испокон веков водилось немало бондарей — в лесу жили, — да все они ушли на фронт. Почти в каждом дворе лежала заготовленная клепка, и солдатки охотно отдавали ее Сашиному «Пете». С помощью Даника Владимир Иванович принялся бондарить. Первые кадки вышли не очень складные, но скоро дело пошло. Партию бочек Даник повез на Украину и выменял на муку и сало. Это сразу улучшило положение семьи, и Лялькевич отказался от предложения отряда «подкидывать» ему продукты. Из отряда ребята приносили самое необходимое: медикаменты, листовки, мины. Стояла ранняя весна, день выдался по-зимнему холодный, пасмурный, лес с утра оделся сказочным цветением инея. Словно зачарованное этой красотой, все застыло вокруг — воздух, деревья. Даже спина лошади серебрилась. Ехали рядом с шоссе, асфальт уже почти очистился от снега, да и рискованно было там ехать: немецкие грузовики часто налетали на повозки, давили и калечили людей. Сидели, как полагается мужу и жене, рядом в передке саней. Сзади возвышались бочки и ушаты, от которых приятно пахло дубом и осиной. Ехали почти молча. Изредка только перекинутся словечком о погоде, немецких грузовиках, проходивших по шоссе, или еще о чем-нибудь незначительном, не имеющем касательства к их борьбе, взаимоотношениям. Саша заметила, что в последнее время, когда они остаются одни, Лялькевич теряется и не знает, о чем говорить, хотя при других он говорлив и весел. Это ее забавляло и пробуждало девичье озорство, которое он вызывал в те далекие времена, когда они вместе работали в Заполье. Искра такого задора вспыхнула и сейчас. Она как бы ненароком коснулась плечом его плеча. Он деликатно отодвинулся. Саша незаметно улыбнулась: если она еще раз это сделает, он может вывалиться из саней. Ей надоело молчание, хотелось поговорить откровенно и серьезно. За три месяца она привыкла к Владимиру Ивановичу, как к брату, и ей казалось, что она могла бы теперь доверить ему все свои думы, тревоги, волнения — высказать все, что у нее на душе. Иногда ее пугало, что он своим человеком вошел в жизнь их семьи. Как-то Поля стала расхваливать Владимира Ивановича, когда он строгал под поветью клепку. Саша разозлилась: — Ты точно сватаешь его мне! Сестра растерялась. Должно быть, по крестьянской простоте Поля и в самом деле подумывала об этом. Где этот Петро, которого никто из них и в глаза не видел? И что это у них за женитьба такая, что они даже родителям не сказали, ни она, ни он? Чего только не придет в голову человеку! Как-то Саша подумала, что если, не дай бог, с Петей что-нибудь случится, Владимир Иванович, конечно, посватается к ней, а Поля и Даник помогут убедить, что только с ним она найдет свое счастье. И она возненавидела Владимира Ивановича, ей показалось, что он ждет Петиной смерти. Несколько дней Саша смотрела на него, как на врага. Потом поняла, что нелепо и дико так думать о таком человеке, как Лялькевич. Она вспомнила, как Владимир Иванович тяжело переживал смерть Тишки, как ухаживал за больным братом. Даник заболел и в жару все рвался выполнить желание покойного друга — убить начальника полицейского отряда. Теперь он поправился и боль утраты притихла — жизнь, неуемная, властная, брала свое. Саша охотно согласилась ехать в город, хотя знала, что поездка небезопасна. И здесь, в дороге, ей впервые стало приятно от мысли, что человек, сидящий рядом, любит ее. Она опять легонько толкнула его плечом. Он удивленно посмотрел на нее. Саша улыбнулась: — О чем вы думаете, Владимир Иванович? — Я? — он на минуту смешался. — О вас. — Обо мне? — Я думаю, что вам, может быть, лучше переночевать где-нибудь в другом месте. — Почему? — Неизвестно, что там за конспирация. Они почему-то изменили место ночлега. Софроновичу это не понравилось. — Селицкий из нашей деревни, вот они и решили, что естественнее, если заедем к односельчанину. — Все это, конечно, так. Но зачем рисковать обоим? — У нас же пропуск один. А вдруг проверят: как приехала, с кем? С мужем. Где он? Почему в разных домах ночуете? — И, не ожидая ни его возражений, ни согласия, заявила: — Нет, будем ночевать вместе. Он с признательностью посмотрел на нее. Как человеку, ему хотелось сказать какие-то особенные, самые сердечные и теплые слова, а как командир он не мог себе этого позволить. И он начал подробно рассказывать о планах создания в городе широкого партизанского подполья, — чтоб земля горела под ногами у оккупантов. Саша оценила его доверие: такие планы не каждому члену организации открывают! При въезде в город их задержал полицейский пост, а через каких-нибудь пятьдесят шагов, на виду у полицаев, документы проверили немцы. Один из них, пожилой, с добродушным лицом, большой рукой рабочего человека, с которой, однако, давно сошли мозоли, похлопал по бочкам и ушатам, видимо зная в них толк. — Гут, гут! — Не верят власти друг другу, — сказал Лялькевич, когда они отъехали. На окраине города не было заметных перемен, все та же длинная скучная улица, которую она так не любила когда ей, студентке, приходилось пешком шагать домой. Когда же она увидела взорванный, безжалостно искалеченный мост через реку, мост, куда она столько раз приходила с Петей, сердце ее сжалось. Она как-то сразу вспомнила (может быть, ей потому и захотелось поехать), что это город, где прошла ее юность, три самых интересных и счастливых года, где родилась их любовь. Все ей здесь знакомо до мелочей, на многих улицах — каждая выбоина на тротуаре. И все напоминает о нем, о Пете… Через бетонный мост их не пустили. Поехали по Интернациональной. Саша ужаснулась: как не похож этот город на тот, который она знала! Город был безлюдный, заваленный грязным снегом, настороженный и изувеченный. Вот первые руины, первые сожженные дома — каждый из них ранил ее. Повернули на Ветряную улицу — и сердце ее заныло. С этой улицей у нее особенно много связано воспоминаний о счастливых днях юности. Здесь жил Петя, отсюда он бегал к ней на свидания, здесь писал ей длинные письма, свои дневники. Но как изменилась она, знакомая, родная улица! И здесь много домов сожжено, разрушено бомбами. «Уцелел ли дом, в котором он жил?» — с непонятным страхом думала Саша. Будто так важно было, чтоб дом остался целым, невредимым, будто от этого зависела судьба Пети. Дом сгорел. Она чуть не застонала. — Что с вами, Саша? — шепотом спросил Лялькевич, увидев, как она изменилась в лице. Ей стало стыдно, что там, за городом, она была так весело настроена и вела себя как девчонка — толкала комиссара, точно заигрывала. Ей показалось, что этим она оскорбила Петину память. «Память? Почему память?» — опомнилась она и прошептала: — Нет, он жив! Жив!.. — Успокойтесь, Александра Федоровна! — не попросил, а приказал Лялькевич. — Здесь жил Петя… А дом сгорел… — Много домов сгорело. А люди продолжают жить. Не будьте суеверны! Я понимаю — воспоминания, но держите себя в руках. Они подъехали к переезду через железную дорогу, и здесь их снова задержали. Вокруг было очень много немцев — солдат, офицеров. Все они смотрели на них враждебно и подозрительно. Офицер приказал патрулю тщательно проверить — нет ли чего в бочках и под ними? (Лялькевич за время болезни основательно проштудировал учебник немецкого языка, многое вспомнил и теперь почти все понимал.) Саше никогда не приходилось видеть вокруг столько врагов сразу: в деревне немцы появлялись наездами и тотчас разбредались, а в хату заходило не больше двух-трех. Здесь же вон их сколько! У них сила, власть, а они с Лялькевичем безоружны и беспомощны. На миг ей стало страшно. Немец прочитал удостоверение, пропуск, выданный им в волости, и с одобрением сказал: — Гут! Видно, тем из них, кто не проникал в тайные намерения гитлеровской политики, хотелось, чтоб жизнь на захваченной земле вошла в нормальную колею, тогда и они будут чувствовать себя спокойнее. В Залинейном районе разрушений не было заметно и чаще встречались местные жители, бледные, бедно одетые, торопливые и испуганные. Саше не понравился дом, где им предстояло заночевать и встретиться с нужными людьми. Она, как и большинство ее сверстников, не любила собственных домов с садами и собаками. Таким был и этот дом, большой — три окна на улицу, старый, но по-хозяйски досмотренный, с высоким забором и множеством плодовых деревьев, одетых густым инеем. Саша немножко знала хозяина, Романа Селицкого, он был из их деревни, переехал в город лет пятнадцать назад и все это время работал на заводе. С его дочкой она училась в фельдшерском училище. Им долго не открывали. Саша видела, что это встревожило комиссара. Наконец стукнул засов и в калитке показалась хозяйка. Она будто не сразу узнала Сашу: долго всматривалась, потом всплеснула руками: — Ах, боже мой! Уж не дочка ли Федора Троянова? Узнала. Сколько лет не видела, а узнала. Вылитая мать… А мы с твоей матерью вместе и в девках гуляли, в один год замуж вышли… — Тетка Уля, переночевать у вас можно? — Своим людям да нельзя переночевать? Заезжайте, заезжайте. Милости прошу. Только, ой, у нас всю зиму ворота не отворялись. Пойду покличу старика. Роман! Хозяйка говорила громко, на всю улицу, и Лялькевич сразу повеселел: играла она свою роль умело, правильно. — А это мужик твой? — Да, муж, тетка Уля. — Полмужика, — пошутил Владимир Иванович, показывая на свою ногу. — Слава богу, что живой… Живой хоть без рук, без ног — все человек. Вышел хозяин, невысокий, худощавый, с рыжими усами, которые торчали пиками, что придавало его лицу сердитый вид. Он поздоровался и без лишних слов стал отворять ворота. Мужчины остались во дворе распрягать лошадь, а Саша и хозяйка вошли в дом. Ульяна тяжело вздохнула и, тайком утирая слезы, грустно сказала: — А моих, Сашенька, нету. Ваня машинистом ездил на севере, там и остался. И семья там. Где теперь ездит, кто его знает. Лиду в армию забрали в первые же дни… А Коля дитя еще, шестнадцать годков, — в ополчение записался и отступил с нашими. Все на войне. И мы со стариком, видишь, воюем, как умеем. Она как будто испугалась, что сказала лишнее, быстро взяла у Саши сало и бутылку самогона — привезенные ими гостинцы — и начала собирать на стол. Смеркалось. Хозяин и Лялькевич почему-то замешкались во дворе. В домах напротив тщательно закрывали ставни. Саша сидела у окна и рассматривала семейный альбом — счастливую историю рабочей семьи: молодые хозяева, веселые дети, крестины, свадьба старшего сына, первый внук… Ни одной фотографии, которая говорила бы о горе. Альбом напомнил ей собственное недавнее счастье, и она, задумавшись, не услышала, как в дом вошли люди. Гудел незнакомый бас: — А мы идем, видим — след саней. Пошли, говорю, браток, может, самогоночки из деревни привезли. Угостят. Саша встревожилась: завернули чужие люди и могут помешать встрече. Она взглянула на человека, стоявшего впереди других, и успокоилась. Она ни разу в жизни не видела его, но узнала по описанию кузнеца: широкое, темное от копоти лицо с белыми бровями и шрамом на носу (когда-то отскочил кусочек раскаленной подковы), длинные руки с узловатыми черными пальцами. Руководитель подпольной группы завода, где немцы ремонтировали танки, — Дрозд (Саша не знала, кличка это или настоящая фамилия), кузнец, старый друг Алексея Софроновича. Он молча и осторожно, словно какую-нибудь хрупкую вещь, пожал Сашину руку. Из-за его спины выглянул круглолицый паренек, задорно-курносый, с ежиком белокурых волос. Он, наоборот, пожал Сашину руку крепко, весело ей подмигнул и, должно быть, так же, как всегда, когда знакомился с девушками, назвал себя: — Тимофей. Саша сразу узнала в нем одного из тех веселых парней, которые обладают завидной способностью легко знакомиться с людьми, особенно с девушками, и быстро завоевывать общую любовь и симпатию. Он, видно, не знал или не очень-то верил, что Саша —жена «ответственного связного», и позднее, за столом, усевшись с ней рядом, тихонько спросил: «Вы из отряда?» — «Нет, из деревни. У меня грудной ребенок», — ответила она, как бы оправдываясь. Это его немножко разочаровало. Дрозд, увидев сало на столе, осторожно, двумя пальцами, взял ломтик, почтительно поглядел, потянул носом, не поднося близко, и так же осторожно положил на тарелку. — Эх, давно я сала не ел! Забыл, как и пахнет, — и обратился к Лялькевичу: — Голодает народ, товарищ Петро. Ограбили всех дочиста, паразиты. Эшелон за эшелоном гонят в Неметчину. — Вы погуторьте, а я ставни закрою, — сказал хозяин и вышел. Дрозд и Лялькевич сели на диванчике у печки. Тимофей пристроился у окна, поближе к Саше. Должно быть, подпольщик спросил о ней, потому что Лялькевич сказал: — Саша — наш товарищ и связная. Старик откашлялся, как перед длинным выступлением, и стал тихонько докладывать: — Значит так, товарищ Петро, такие дела… О нашей работе. Группа понемножку растет. Девять человек уже имеем… На танках, которые проходят через наши руки, немец долго не воюет — до первого боя. Установили связь с другими группами. С мясокомбинатом. С типографией. Тимох вон оттуда. У него там хлопцы хоть куда. Молодцы. Боевые. Вот бланочки какие штампуют! — Он достал из-за пазухи пачку бумажек и передал Лялькевичу. — И тот подарочек тоже от них. Нащупали человека в карточном бюро. Старый учитель немецкого языка, но человек советский. Наш. Проверяем. Очень уж нам нужны хлебные карточки. Двух девчат устроили в госпиталь. Депо на связь не идет, хотя наши люди там есть, чувствуем, даже знаем кой-кого. Больно лютует железнодорожная охрана, глаз не спускает, на каждом шагу гитлеровский пес. На каждой стрелке — по собаке. Говорят, в Орше наши крепко их подковали. Да и на других узлах, слышно, не спят хлопцы. Одним словом, связь с железнодорожниками мы наладим. Так и передайте. У нас уже есть зацепка. Теперь такое дело, товарищ Петро. В городе появился представитель от партизан. Известно вам об этом? — Нет, неизвестно. Но связные всегда могут быть. Отрядов вокруг города много, и у каждого может быть связь со своими людьми. — Правильно. Отрядов много. Это мы знаем. Однако я так понимаю: руководить всей работой в городе должны из одного места. — Руководит горком партии. Мы, наш отряд, имеем задание горкома по связи с городом. — Вот потому и ставим вас в известность. Человек этот налаживает связи со многими группами. Стремится руководить всеми. Хотел собрать нас вместе. Я не пошел на эту встречу и Тимоха отговорил. Человек, конечно, правильный — мы проверили. Наш. Но молод и чересчур горяч. Действует в городе, как в лесу. Провалит он людей. Прошу вас: передайте там, чтоб выяснили, кто его послал, и чтоб заменили более опытным, осторожным. Кличка его Боевой. Ишь, кличку и ту неразумную выдумал: Боевой! Сам себя выдает. — Ладно, Степанович. Что за представитель, кто его прислал — узнаем. На связь с ним не ходите! Помните — гестапо мастер в области провокаций. За подарки — спасибо. Передайте, товарищ Тимох, — повернулся Лялькевич к молодому подпольщику, — партизанскую благодарность группе. Все это нам очень пригодится. Парень покраснел от удовольствия, бросил взгляд на Сашу, кивнул головой: — Передам. — Теперь о главном… — продолжал Владимир Иванович. — Приближается весна. Надо думать, что гитлеровский штаб пожелает взять реванш за свое зимнее поражение под Москвой. У нас уже есть данные, что число эшелонов, направляющихся на фронт, растет с каждым днем. Вот почему железная дорога должна стать нашим главным объектом. Удары по чугунке, — лучшая помощь фронту! Первое, что нам необходимо, — это агентурные сведения о прохождении эшелонов через узел. Сколько? С чем? Если части, то какие? Сведения эти чрезвычайно нужны советскому командованию. Думаю, вы понимаете? — Понять просто, сделать потрудней, — вздохнул Дрозд. — Были бы мы железнодорожниками! — Партизанский штаб установил связь с одним служащим. Диспетчер — Болеслав Шлим. — Немец? — Поляк. Коммунист. Он будет давать нужную нам информацию. Но ее надо забирать у него. Поручаем это вам, товарищ Тимох. — Мне? — у парня загорелись глаза. — Подумаем, как вам лучше встретиться с ним. Сведения будете передавать Степановичу. Ну, а дальше — известно… По связи по-прежнему будет «поп». Тимох рассмеялся и подмигнул Саше. — Люблю таких «попов»! На другого Саша рассердилась бы за эти неуместные подмигивания. Но на Тимоха сердиться было невозможно: каждый жест его был на диво естественным и веселым. Лялькевич тоже с любопытством следил за ним. — Вторая задача — опять о том же. Совершенно необходима крепкая группа на железной дороге. — Будем иметь такую группу, товарищ Петро! — заверил Дрозд. — Ведь я говорю: уже есть зацепка. — Наконец, третья, тоже связанная с железной дорогой. Наибольшее количество диверсий партизаны намечают в направлениях на Брянск и на Бахмач. Естественно, что после этого на узле неизбежно создадутся «пробки». Каждую такую «пробку» будет выбивать наша авиация. — Здорово! — восторженно воскликнул Тимох. — Но соколам нашим надо помогать. Показывать цель. Чтоб меньше бомб падало на жилые кварталы. Нужна группа энергичных, смелых ребят. — О, это легко! — опять не удержался Тимох. — Такую работу хлопцы любят! — Это нелегко, товарищ… И это очень опасно. — Я организую такую группу! Разрешите мне. Лялькевич посмотрел на Дрозда, взглядом спрашивая: не слишком ли много берет на себя этот юноша? Степанович кивнул головой: можно, мол, поручить. — Хорошо. Организация группы — за вами. Но имейте в виду, пока вы на связи с Шлимом — ходить с ракетницей вам запрещается. Тимох взглянул на Сашу и выразительно сморщился: вот тебе на, от самого интересного отстраняют. Лялькевич это заметил, и голос у него стал суровым, повелительным: — После каждой ракеты будет облава. Мы не можем рисковать. Арестуют вас — провалите Шлима. Руководить подачей сигналов должен кто-нибудь другой. Парень почувствовал этот повелительный тон и встал, серьезно, почти по-военному, ответил: — Слушаюсь, товарищ… Петро! Руководить будет другой. Заглянул в дверь хозяин. — Картошка сварилась. Съедим, пока горяченькая? — Ого! Еще как съедим! — весело отозвался Дрозд. Покуда хозяйка подавала на стол горячую картошку и огурцы, Лялькевич и Тимох на несколько минут вышли в соседнюю комнату. За столом — ни слова о деле. Беседовали так, как случайно встретившиеся люди: одни приехали из деревни и заночевали у знакомого, другие зашли, заметив след, чтобы выпить «деревенской самогонки». Выпили. Даже Саша немного отведала. Тимох, видно, тоже попробовал в первый раз: проглотив, он сморщился так, что Саша чуть не засмеялась. — Ну и дрянь! — удивился хлопец. — Это ты, братец мой, не разобрался, — возразил Дрозд, который выпил свою порцию медленно, со вкусом и даже крякнул от удовольствия. Правда, до конца конспирации не выдержали. Нарушила ее хозяйка: попросила рассказать, что делается на фронте и «там, у наших». И Лялькевич вынужден был передать последние сводки Совинформбюро, которые Анатоль принес из отряда. Когда ужин кончился и гости ушли, хозяйка повела Сашу и Лялькевича в спальню и показала на застланную чистыми простынями постель. — Вы ложитесь здесь, а мы со стариком на печи ляжем, — и вышла, оставив их вдвоем. Саше стало весело. Она видела, как растерялся этот человек, находивший выход в самых трудных обстоятельствах, и едва сдерживалась, чтоб не рассмеяться. Лялькевич, избегая ее взгляда, смущенно кашлянул, глядя на дверь, как на единственное спасение. — Ложитесь, — сказала ему Саша. — А вы? — А я… Я лягу на полу. — Ну что вы? Как можно! Я бы никогда себе не простил… Я все-таки мужчина. — Если вы все-таки мужчина, — тихо засмеялась Саша, — тогда ложитесь на полу. Она сбросила бурки и в платье забралась под одеяло. Лялькевич вышел из спальни. Саша, уставшая за день, уверенная, что он лег в соседней комнате на диванчике, быстро заснула. Когда проснулась утром, увидела, что он лежит в углу за шкафом, на полу, укрывшись кожушком. Ей стало стыдно своего эгоизма и вчерашнего поведения. Что это она развеселилась не ко времени?Рынок произвел на Сашу странное впечатление. Нельзя сказать, чтоб он был малолюдным. Нет, люди были и добра много продавалось, особенно одежды. Но покупать… покупать было нечего. На рынке не было ни муки, ни сала, ни картошки, ни лука. Ничего, что нужно человеку в первую очередь. Саша с болью подумала: «Как же они живут, горожане?» «Голодает народ», — вспомнились слова Дрозда. В деревне хоть картошка да капуста есть. И еще одно поразило ее: много людей, одетых как-то уж очень по-старомодному, будто вышли из фильмов о дореволюционной жизни — черные шали, длинные юбки, пальто с бархатными воротничками, сапоги бутылками. Они что-то продавали, суетливо бегая из конца в конец, приплясывая на морозе. Саше казалось, что и от них и от вещей, которые они продают, так и несет нафталином. Покупателей на бочки было много. Возле них толпились, щупали клепку, хлопали по звонкому дереву, вдыхали его приятный запах. Да и самих продавцов — Лялькевича и Сашу — разглядывали с любопытством: что за люди, откуда привезли этот диковинный товар? Владимиру Ивановичу не по душе был такой интерес к его особе: он боялся, что вдруг обнаружится знакомый, который узнает его. Не так уж далеко от города до района, где он учительствовал. И он прямо обрадовался, когда какой-то коммерсант предложил купить все его бочки, ушаты, ведра оптом. — Даю пуд соли! Соль! Будь это что-нибудь другое, даже очень ценное, Лялькевич, наверно, отдал бы за то, что предложили — скорей бы с плеч долой. Но соль… Значит, у этого прохвоста большие запасы соли, которой просят к картошке дети солдаток, что отдали ему, Лялькевичу, клепку. Он стал торговаться — запросил три пуда. Торговец махнул рукой и отошел, но скоро вернулся и, уверенный в себе, спросил: — Подумал? — Он хорошо знал цену своей соли. — Два пуда. — Не будь дураком. На калецтво твое надбавлю, — и перешел с пудов на килограммы. — Двадцать кило. Двадцать килограммов соли! Саше это показалось целым богатством. Она еле удерживалась, чтобы не сказать на правах жены: «Отдавай, Петя». Лялькевич понял, что типу этому бочки очень нужны, и упорно боролся за каждый килограмм. — Двадцать пять, — сердито бросил торговец, краснея от гнева. — Двадцать восемь. — Я скажу полиции, чтоб конфисковала твои бочки. Не забывай, что лес теперь принадлежит немецкому государству. А ты накрал… Среди любопытных, столпившихся вокруг, послышались робкие возгласы возмущения. — Торгуйся честно, не пугай! Лялькевича не так легко было испугать. Он вежливо говорил: — Ваше дело, пан. Только пусть уважаемый пан примет во внимание, сколько мне, калеке, пришлось стоять на одной ноге, чтоб выстрогать каждую клепочку, — он постукивал кулаком по самой большой дубовой бочке, и она гудела на весь рынок. Сошлись на двадцати шести килограммах.
— Нам здорово повезло, — сказал Лялькевич, когда они, после многочисленных проверок выехав из города, добрались наконец до леса, где почувствовали себя в безопасности. Владимир Иванович был доволен, весел. Ему хотелось говорить, может быть, так же, как ей вчера. — Почему вы такая мрачная, Саша? Вас взволновал тот дом? Выкиньте из головы! Более того, я хочу, чтоб вы поняли… Мы ведем беспощадную борьбу со страшным врагом. В таких условиях нельзя давать волю чувствам. Надо уметь ими владеть. Надо, грубо говоря, зажать их вот так, — он поднял кулак. — Иначе мы забудем о главном. Саша молчала и думала о том, как изменился этот человек, не так давно молодой, веселый учитель. Теперь его радует только одно — успех в борьбе. Лялькевич прилег в повозке, положив голову на мешок с солью, и что-то тихо насвистывал. Он отдыхал после двух нелегких дней. В те времена беда могла нагрянуть там, где ее совсем не ждешь. Саша увидела двоих штатских. Они вышли из лесу и остановились на дороге, поджидая повозку. Ее удивило, что Лялькевич побледнел. В городе десять патрулей и постов проверяли, и он был совершенно спокоен. А тут как будто испугался. — Слушайте, Саша… Если что, я буду с ними драться… Кулаками… А вы гоните лошадь. Гоните во всю мочь. Я не дам им выстрелить, если их только двое. Под нами, в доске, печатный шрифт, и в хомуте кое-что… Гоните что есть силы. — Он передал ей вожжи и кнут. У тех двоих оружия не было видно. Тот, который помоложе, довольно решительно остановил лошадь. — Опять проверка? — спросил Лялькевич. — Конь нам твой надобен, — мягко сказал второй, с молодыми глазами, но густой черной бородой. Лялькевич соскочил с саней, заковылял: — Браток, родненький, пожалей. У кого забираешь? Погляди, какая у меня нога. Дети голодают, лошаденка одна на семь дворов и сбруя чужая. Что мне люди скажут? Будут говорить — продал коня. — Не будут. — Не отдам. Мертвым лягу, а не дам! Женка, проси! Голоси, Саша! Как детям крупу понесем? — Про соль он упомянуть побоялся. Но Саша почему-то не могла голосить. Бородатый стукнул себя кулаком в грудь. — Пойми ты, человек! Во как, — он провел ладонью по шее, — конь нужен. Не для забавы берем. Между тем молодой решительно стал распрягать. Увидев, что они намерены забрать только лошадь, Лялькевич успокоился, но притворно запричитал: — Ой, люди, ратуйте! Грабят! Саша, родная, пропадем! На чем бочки возить будем? Дети с голоду помрут! Не дам! Мертвым лягу, — схватился он за уздечку. — Мертвым не ляжешь, а по спине схлопочешь, — спокойно ответил тот, что распрягал. — Отойди! — Хомут хоть отдайте! Чужой! — кричал Лялькевич. — Отдай ты ему хомут, этой бабе! Женщина молчит, а он скулит, как собака. Тошно слушать. Может, сам ногу искалечил, чтобы на фронт не идти. Младший снял и швырнул ему под ноги хомут. — На! Не хомут, а черт знает что! Пуд весит. Коня мог загубить. Хозяин!.. С конем в поводу они торопливо пошли по лесной дороге и скрылись за деревьями. Комиссар долго глядел им вслед. Тихо засмеявшись, с восхищением проговорил: — Наши, черти! А сказать нельзя. Вот ведь нелепое положение. На что им конь понадобился? — Может, товарищ раненый где-нибудь лежит. — Да… Возможно. Могло случиться, что своего коня загнали. В партизанском деле всяко бывает. Вот какие парадоксы случаются. Свой у своего забрал — и молчи. Ах, черти! «Мертвым, — говорит, — не ляжешь, а по спине схлопочешь…» Гуманисты! Что ж, Александра Федоровна, придется нам и за лошадку поработать. Дотащим до поселка, а там, может, добрая душа смилуется — даст коня. Саша взялась за одну оглоблю, он — за другую. Сани сдвинулись без труда, но уже метров через сто Саша поняла, что это мучительно тяжело, особенно для комиссара с его самодельным протезом. Дорога была неровная, скользкая, с ухабами, сани кидало из стороны в сторону. Она увидела, как на лбу у Лялькевича выступили крупные капли пота, и знала, что это не от натуги, а от боли. — Вам трудно, Владимир Иванович? — спросила она. — Нет, ничего. — Давайте подождем. Может, кто нагонит. — Нет, не будем ждать. К черту! А то, чего доброго, и сани еще отберут. А в санях у нас ценный клад. Мимо прошла машина с немцами. Солдаты показывали на них пальцами и весело хохотали. Лялькевич, тяжело дыша, остановился. — Это страшно. — Что? — Солдаты, которые смеются над тем, как женщина и инвалид тащат сани. Самое страшное, что они не понимают своей трагедии. Такой армии не победить. Победить может армия, солдаты которой не смеялись бы, проезжая мимо, а помогли. К счастью для человечества, есть такие солдаты. Наши солдаты! Не смеяться вам надо, а плакать! Плакать, безмозглые бараны! — погрозил он кулаком вслед машине и двинулся вперед быстрее прежнего. Однако через несколько шагов он опять остановился без сил, присел на сани. В эту минуту Саша почувствовала большую душевную близость к этому человеку. Ушло все личное — злость, раздражение. Мелкими, ничтожными показались все ее терзания и вчерашние шуточки, родилось какое-то совсем новое чувство, в основе которого лежало то великое, главное, что роднило их, сближало в борьбе. — Устал? — ласково, в первый раз на «ты», сказала она и платочком вытерла пот у него со лба. Он опустил глаза. Вскоре их нагнал начальник полицейского отряда — Яким Гусев. Он ехал в расписанном по русскому образцу возке на паре добрых жеребцов в сопровождении двух полицаев. Гусев узнал их и спросил: — Что случилось, солдат? — Да вот вышли какие-то из лесу и коня отобрали. — Партизаны? — испуганно оглянулся начальник. — А черт их знает, кто они такие! — Партизаны, конечно! Видишь, какие они бандиты. Ты должен всем рассказать про этот факт. — Еще бы! Я им этого никогда не прощу! — Правильно! Ну, прицепляйся поскорей. Довезу. Когда жеребцы с места рванулись вскачь, Лялькевич дернул Сашу за рукав и прошептал: — Видите? Нет худа без добра!
X
Шумела бурная весна. Уже много лет речка не разливалась так широко, вода подошла к самым хатам. На другой конец деревни и в лес ездили на лодках. Даник привез первый кувшинчик березового сока. Саша, дав отведать сока Ленке, понесла остаток Лялькевичу, бондарничавшему под поветью. Во дворе ее ослепило солнце, заворожил гомон скворцов. Владимир Иванович и Даник наделали скворечен. По-весеннему веселые, хлопотливые, влюбленные друг в друга, птицы парами суетились у своих домиков. Саша долго наблюдала за ними. Счастливые скворцы! Они не знают, что на земле бушует война, что каждую минуту гибнут тысячи людей и рушится их счастье. А в природе все оживает, тянется к свету, радуется теплу. Саше кажется, что она слышит, как молодой клен под окном пьет соки земли. Струится сок и в яблонях и в кусте сирени. Такой же живой, прозрачный, пахучий, как тот, что поблескивает в кувшинчике. У нее тоже начинает быстрее струиться кровь, громче биться сердце… Что она хотела сделать? Ага, напоить этого хорошего человека, который, кажется, никогда не отдыхает. Она зашла под поветь. — Березовый сок. Хотите? Лялькевич бросил рубанок и взял кувшин. — Спасибо, Саша. Он утер рукавом пот и, закинув голову, стал пить, медленно, смакуя каждый глоток. С ласковой, почти материнской улыбкой Саша следила за ним. Струйки потекли по бороде, закапали на гимнастерку, которую она столько раз стирала и все хотела отрезать пуговицы со звездочками, чтоб не придрался какой-нибудь фашист, да так и не отрезала — пожалела. Капля сока попала на пуговицу, и звездочка загорелась, заискрилась, приковав ее взгляд. Он отнял кувшинчик ото рта, вкусно, по-детски причмокнул. — Устал? — ласково спросила Саша, так же, как и полмесяца назад, когда они тащили сани. Он странно посмотрел на нее, осторожно поставил кувшинчик на верстак и вдруг… обнял. Начал целовать. — Саша… милая… Я люблю… люблю… люблю… В непонятном порыве она на мгновение обвила руками его шею, но тут же опомнилась и оттолкнула его. — Владимир Иванович! — сказала она так громко, что он испуганно оглянулся — не услышали бы соседи, замахал рукой. Но она забыла об осторожности. — У меня дочка… и муж. Я люблю своего мужа… Я жду его. И вы выкиньте из головы! Ни на что не надейтесь… И не распускайте своих чувств! Зажмите их вот так! — Она показала сжатый кулак, как недавно показывал ей он. — Слышите? Владимир Иванович! — Слышу, Александра Федоровна! Простите… — виновато опустил он голову. А вокруг на все голоса шумела весна. Радовалось все живое. Только люди радоваться не могли. Люди воевали.
ОГОНЬ И СНЕГ
повесть третья

Перевод П. Кобзаревского
 24 июня 1941 года
24 июня 1941 года
Война… Третьи сутки, как она началась, а я никак не могу опомниться. Не только теперь, после боя, после первых разрывов бомб и наших неумелых выстрелов, гудит в ушах. Нет, этот звон, этот странный гул появился в голове сразу же, как только я, первым на батарее, услышал о войне. И страх (мне не стыдно признаться в этом), страх тоже заполнил душу с первых же минут. Все время думаю о смерти. Неужели это конец? В двадцать один год?! Неужели я никогда не вернусь домой, не увижу матери, Саши и моей маленькой дочурки, что родилась две недели назад?.. Кажется, страшна не сама смерть, не сознание того, что я, маленький человек, капля в людском океане, перестану существовать. Меня больше всего страшит мысль, что никогда… никогда уже (вот отчего леденеет кровь) я не увижу Саши… Саша! Любовь моя! Если бы ты услышала крик моего сердца! Я не хочу умирать! Я хочу жить! Жить! Я хочу прийти к тебе, упасть к твоим ногам и целовать их, целовать следы твоих ног на той дороге, по которой ты ходила. Не могу спать, сон не приходит третью ночь. Лишь сомкну веки — и сразу же возникает передо мной она, Саша, с дочуркой на руках, Анина хата, такая милая сердцу, дорога, наша дорога вдоль Днепра, по которой пришел я и по которой Саша проводила меня сюда, в этот далекий, суровый северный край, не зная, что провожает на войну. Как никогда раньше, вспоминается каждое ее слово, каждый жест, каждый поцелуй — все, все!.. Странная вещь! Давно ли я любил читать о войне и, как, вероятно, многие мои ровесники, тайком мечтал о воинских подвигах, о славе? Мне казалось, что я сразу смогу совершить нечто такое, что прославит мое имя и спасет человечество. Сейчас я печально улыбаюсь, вспоминая об этом. Наивный мальчик! Ты можешь умереть, не совершив никакого подвига, даже самого маленького. Я уже сегодня мог умереть. Совсем иной предстала передо мной война — ничего красивого, сплошной ужас. Я думаю: какое это счастье — мир, тишина на земле! О, дожить бы до этого дня! Еще несколько дней тому назад мы, курсанты, почти все немного фразеры, много говорили о немцах, об их военной технике и победах, которые они так легко одерживали в Европе. Мы даже восторгались их операциями. Признаюсь, я и, наверное, мои друзья тоже не чувствовали особой ненависти. Больше было слов, громких фраз, чем чувств. А теперь? Как я ненавижу их теперь! Кипит в груди, когда я думаю о них, об их технике, об их победах… От этих «побед» умирали вот такие, как я, как Сеня, Виктор, молодые, жизнерадостные парни — чехи, французы, югославы… Теперь гитлеровцы пришли, чтоб убить нас. Я вспоминаю сегодняшний бой, и мне становится еще страшнее, еще горше и обиднее. Они прилетели в то время дня, когда где-то там у нас, в Белоруссии, заходило солнце. А здесь оно повисло над лесистой грядой невысоких гор, чтоб больше не снижаться до самого утра. Сначала очень неожиданно, словно вынырнув из-за горы, появились над Туломой два «мессершмитта». Длинные, как ужи, они прошли низко, почти над самой гидростанцией, скрылись за восточными сопками и снова вынырнули над аэродромом. — Тревога! — закричал разведчик. Этот крик всполошил всех. Я до боли сжимал ручку поворотного механизма и не сводил глаз со стрелки азимута. Но стрелка была мертва: ПУАЗО[1] не давал данных, не мог поймать самолеты, шнырявшие между сопками. Там, на КП, возле прибора что-то кричали, подавали какие-то команды, но они не имели отношения к нам, орудийным расчетам. Растерянно стоял наш командир сержант Тарных. Стучал снарядом о затвор заряжающий — у него дрожали руки. Вдруг грохнул орудийный выстрел. Ударила четвертая пушка. Самый отсталый во время мирной учебы расчет, над которым мы всегда посмеивались, первым открыл огонь, напомнив, что есть стрельба без прибора. — По самолету прямой! — закричал сержант. Я быстро обернулся вокруг тумбы. Но самолеты исчезли, словно привидения. Я вытер рукавом лоб, с облегчением почувствовал, как согревается спина, по которой пробежала неприятная холодная дрожь. Слава богу, мимо! Но в этот же миг послышался голос моего друга — дальномерщика Сени Песоцкого, удивительно спокойный голос: — Цель поймана! Азимут!.. Я не услышал ни азимута, ни высоты, которую он передавал, потому что застрекотали стрелки синхронной передачи. Но неровный тяжелый гул я услышал. Это шли они. Шли на нас, неся на своих крыльях смерть. Сколько их? Снова те же отвратительные ручейки холода потекли по спине, еще сильнее затряслись колени, неведомая сила подбрасывала тело, и сиденье подо мною неприятно бренчало. Первый выстрел больно ударил в уши, и к страху перед самолетами присоединилась боязнь собственных выстрелов. «Это потому, что я не открыл рот, — помню, подумал я. — Надо раскрыть рот. Раскрыть рот!» И, ожидая следующего выстрела, я широко разинул рот. Но стрелки… Я не совсем точно совмещаю их. От этого зависит, будут ли сбиты проклятые фашисты или улетят назад. Однако что там делают приборщики? Почему так лихорадочно скачет стрелка? Разве так можно стрелять? — Трусы! Аристократы! Крысы! Дрожь вас взяла! — ругал я своих товарищей по прибору, лихорадочно бросая орудие то в одну, то в другую сторону. А гул, страшный, незнакомый, от которого дрожит все вокруг, — вот он, над самой моей головой. Сейчас полетят бомбы. Я вбираю голову в плечи, готовясь «принять» на себя первую бомбу… Почему же молчит наша пушка? Неужели я больше не слышу выстрелов? Нет, я не оглох. Я слышу человеческие голоса. Кто-то схватил меня за плечи. — Не вертись ты, мать твою… Вертится, как… Снаряд заклинило! В мирное время сержант ни разу никого не обругал, а тут крыл самой отборной матерщиной. Я не сразу понял, что произошло, что значит «заклинило», потому что при учебных тренировках никогда такого не было. — Ключ! Где ключ? Ты отвечаешь за инструмент! — Какой ключ? Ключей много. — Да этот… Я соскочил с сиденья и увидел, что случилось, какой ключ нужен. Из магазина торчала шляпка патрона, зажатая клином затвора. Заряжающий Фома Павлюк, бывший тракторист, парень шести пудов веса, который в столовой всегда просил «переиграть», стоял растерянный, белый как полотно, беспомощно опустив свои пудовые кулаки. Остальные номера искали ключ-экстрактор, чтоб вытащить патрон, и нигде не могли найти, хотя все знали, в каком ящике он должен лежать. Мне показалось, что гул самолетов рассеялся и как бы отдаляется. Я глянул в небо и невольно пригнулся: прямо надо мной, в самом зените, висели два черных креста в желтых кругах. Больше я ничего не увидел — только эти кресты. Потом я бросил взгляд на огневую позицию батареи, и меня поразила странная картина. Вопреки правилам стрельбы, все четыре орудия повернуты в разные стороны с разными углами возвышения, и только одно, четвертое, ведет огонь. Я подумал: значит, вражеские самолеты идут не боевым курсом, а со всех сторон и все наши точные, умные приборы, в которые мы так верили, — ненужная вещь, зря там до хрипоты кричат приборщики. Мои мысли оборвал огромной силы разрыв, от которого колыхнулась под ногами земля. За ним — второй, третий… Над аэродромом, над поселком взметнулись столбы пламени и дыма. Теперь я видел их, фашистские самолеты, видел даже, как отрывались бомбы. Они с разных сторон заходили на аэродром, с которого поднимались захваченные врасплох наши истребители. Один из них вынырнул прямо из разрыва и… загорелся в воздухе. Второй, не набрав высоты, врезался в здание клуба летчиков. На моих глазах гибли люди… Наши люди!.. Ошеломленный, оглушенный, я не мог оторвать глаз от страшной картины войны и даже забыл о своем страхе. Там, в тех истребителях, сидели такие же парни, как я, вероятно, и у них есть жены и дети, которых они уже никогда не увидят… Они не просто убиты, они горят живые… Истребители, которым удалось взлететь, атаковали вражеские бомбардировщики. Начался воздушный бой. Снова появились «мессершмитты». Пламя взметнулось рядом с огневой позицией, там, где на берегу ручья стояло деревянное здание столовой. Со свистом пролетели камни, куски дерева. Вверху, в дыму и копоти натужно взревели моторы. «Падает», — мелькнула мысль. Нет, самолет не падал, он пикировал на батарею. Загрохотали его пушки, ударили крупнокалиберные пулеметы. Послышались разрывы уже с другой стороны нашей огневой позиции. Я взглянул вверх и снова увидел все те же черные кресты в желтых кругах, словно они повисли здесь навсегда. Сквозь гул, взрывы, стрельбу мы все же услышали команду лейтенанта Купанова: — В укрытие! Первым нырнул в земляную нишу Павлюк. Для меня места в нише не осталось; пока я огляделся, все щели заняли, из каждой торчали ноги в обмотках. Я упал на землю возле орудия и засунул голову под лафет. Видимо, я недолго так лежал, потому что не успел подумать о чем-либо существенном, а может, это были минуты такого оцепенения, что даже мысли не приходили и все сложные ощущения исчезли. Кто-то довольно грубо потянул меня за гимнастерку и зло приказал: — Вылезайте, черт возьми! Я высунул из-под лафета голову и увидел перед собою командира дивизиона майора Ермилова. Дух дисциплины сразу поднял меня на ноги. Я вскочил, вытянулся, поправляя гимнастерку. — Почему не стреляете? — З-з-з-з-заклинило, товарищ майор… — Я никогда в жизни не заикался, а тут почувствовал, что заикаюсь. — Что заклинило? — Майор взглянул на затвор и закричал: — Выбить! Не знаете, что делать! Банник — в руки! Быстрей! — Майор топнул ногой, увидев мою нерешительность. Банник — пятиметровый шомпол лежал на бруствере, на рогатинах. Я выскочил из котлована, схватил его. Командир дивизиона сам опустил ствол пушки и приказал номерам занять свои места. Я осторожно ввел банник в ствол. Восемь месяцев нам твердили, что выбивать патрон банником опасно — снаряд может разорваться. И вдруг я должен выбить его. Погибнуть от своего снаряда при первой встрече с врагом?! Разве может быть более бессмысленная, более обидная смерть? — Выбивайте же! — закричал майор. В небе снова взревели моторы. Я задрал голову и снова увидел кресты… Зловещие кресты! И какая-то отчаянная решимость охватила меня в тот миг: все равно от чего умирать! Отступив немного в сторону, я изо всей силы толкнул снаряд и застыл, ожидая, что меня разнесет в клочья. Ничего не произошло. Тяжелый унитарный патрон вылетел из магазина. Майор подхватил его и передал сержанту. Потом, взглянув вверх, закричал встревоженным голосом: — Назад! В котлован! Я выхватил банник, и он… переломился в моих руках, а из-под ног брызнули искры. Я в ужасе отбросил обломок и скатился в котлован. Майор подхватил меня на руки. — Ранен, товарищ курсант? Он спросил по-человечески сердечно и ласково, а я ничего не мог ответить — проглотил соленый комок. Как маленькому, мне захотелось прижаться к груди этого сильного и смелого человека. — Цел? Долго будешь жить! По тебе фашист бил… Видишь, банник, сукин сын, пересек очередью. — Майор тряхнул меня за плечи, приветливо усмехнулся и, оглядев небо, сказал: — Ну, кажется, отвалили. Долго они висели над нами. Когда небо, безоблачное северное небо, стало чистым и тихим, майор построил батарею. Понурые, с позеленевшими лицами, стояли курсанты… Майор спокойно прошел вдоль строя, у одного поправил ремень, у другого смахнул с груди песок; добрая улыбка таилась в морщинках возле глаз. — Ну как, получили боевое крещенье? Страшно? Строй молчал. — Страшно, безусловно, — ответил он за всех. — Первый бой — самый страшный, я помню. Но зарываться в землю носами нам, зенитчикам, недозволено… Лейтенант Купанов, стоящий рядом с командиром дивизиона, покраснев, как девушка, вытянулся: — Виноват, товарищ майор. Наш комбат — типичный военный, примерный офицер: подтянутый, безупречный в ношении формы, лаконичный в словах, в меру суровый и мягкий, всегда справедливый. Невысокого роста, щуплый, он, однако, быстрей всех заряжал пушку, точнее всех работал на дальномере и приборе, лучше всех стрелял из винтовки и пистолета. Он учил нас чистить картошку быстро и экономно, чтоб не срезать много кожуры. Наматывал обмотки и выбегал по тревоге втрое быстрее, чем самый ловкий и проворный из нас — москвич и спортсмен Роман Войтов. Мы любили лейтенанта и между собой называли его «Наполеоном». Особенно мы, вольнолюбцы, уважали его за то, что он никогда не терялся ни перед начальством, ни перед инспекционной поверкой, — производи ее хоть сам маршал. Всегда Купанов вел себя спокойно и уверенно. И вдруг, может впервые, этот человек растерялся, покраснел, даже как-то по-ребячьи зашмыгал носом. Я понял, что ему стыдно за свою слабость — за команду «в укрытие», за батарею и нашу позорную стрельбу. И я пожалел его, потому что и мне самому было стыдно и горько. Хорошо, что майор — умный человек. — Пока я никого не обвиняю, — сказал он. — Но имейте в виду. Зарубите, как говорят, на носу. Любой род наземных войск имеет право, даже обязан, укрываться от авиации. Мы же, зенитчики, этого права не имеем. Мы можем укрыться от огневого налета артиллерии, но от самолетов — никогда! Хорошенькое дело, если бы мы, вместо того чтобы прикрывать аэродром, станцию, свои войска, залезли в щели! Чего бы мы стоили?! Это все равно что пехота спряталась бы от штыковой атаки противника. Я понимаю, надо иметь сильные нервы, чтобы выдержать, когда на тебя пикируют самолеты! Но мы обязаны выдержать! Если бы все орудия вели огонь хотя бы так, как четвертое, они не решились бы так нахально лезть на батарею. Меня поразило, что он говорит обо всем этом так просто и рассудительно. Поразило, но не успокоило, а еще больше напугало: выходит, что нам придется находиться под бомбами и пулеметным огнем многие месяцы и годы. И неужели каждый день будет повторяться такое? Сколько же времени бомбы и пули будут пролетать мимо? Сегодня они разбили столовую, ранили повара и шофера. А завтра? Погруженный в свои невеселые думы, я плохо слышал, о чем еще говорил майор Ермилов. И вдруг во втором ряду кто-то сдержанно засмеялся. Майор сурово нахмурился. — Что за смех? Кто смеялся? Строй застыл. — Кто смеялся? — Я! — отозвался заряжающий четвертого орудия Павел Кныш. Это удивило всех. Кныш пользовался отсрочкой, и потому старше всех нас по годам, он самый серьезный и выдержанный курсант. Что же случилось с ним? — Два шага вперед — марш! — дал команду Ермилов. Кныш вышел из строя. — Над чем смеялись? — Виноват, товарищ майор! Я вспомнил, что наш сержант дал команду «газы», когда вот там, за позицией, упала бомба. А теперь я увидел, что она разнесла, простите… уборную. Зенитчики повернули головы туда, где стояла батарейная уборная, и молчаливый строй взорвался хохотом. Майор тоже засмеялся. Даже слезы заблестели у него на глазах. И он сквозь смех сказал: — Газы? Ах, чертовы дети! Но и газы могут быть! Только лейтенант Купанов брезгливо сморщился. И еще один человек не смеялся — я. Я не понимал, как можно смеяться над такой глупостью, когда тебе в лицо смотрит смерть? Когда чистили орудия, у меня неожиданно появилась мысль вести дневник. Когда-то до армии, в техникуме, я аккуратно записывал все события своей студенческой жизни. Тут, на батарее, бросил — заменил письмами к Саше, которые писал каждую свободную минуту (хотя таких минут было немного), и даже просил у командира разрешить это делать во время мертвого часа — после обеда, когда вся батарея отдыхала. А теперь… будут ли теперь доходить мои письма в родную даль? Да и не все можно написать — сейчас война. А мне хочется, чтобы Саша, моя Саша, и моя дочка когда-нибудь узнали, как я встретил войну, какими мыслями жил в эти дни… Если погибну, то, конечно, найдется добрая душа и перешлет дневник Саше. И вот я пишу… Может, слишком подробно описал первый неудачный бой с немецкими самолетами, бой, о котором хочется забыть, не вспоминать, но, вероятно, никогда, до самой смерти, не забудешь. Пишу, примостившись в орудийном котловане, за снарядными ящиками, от которых пахнет деревом и маслом. Батарея отдыхает. Тишина. Невероятная тишина вокруг. Только Павлюк нарушает ее своим богатырским храпом, да изредка перебрасываются словами разведчики. Теперь их двое. Они следят за небом, осматривают его прозрачную голубизну в большие бинокли. Сиротливо, словно не естественное, а декоративное, висит над сопками холодное солнце. Два часа ночи. Я завидую друзьям, которые смогли заснуть после всего, что произошло. Нет, не все заснули…
25 июня
Ночью, когда я писал, ко мне подошел Сеня Песоцкий, мой лучший друг. Мы подружились еще в теплушке, когда нас везли из Гомеля сюда, на север. Разговорились — и выяснилось, что он хорошо знает Сашу, что его мать — врач Мария Сергеевна, о которой Саша мне рассказывала с уважением и гордостью за свою дружбу с этой женщиной. Когда Сеня начал хвалить Сашу, я насторожился, шевельнулось ревнивое чувство: не влюблен ли этот мальчик в мою жену? Но потом понял, что увлекаться людьми, хвалить их больше, чем надо, — черта его характера. В армию его взяли со школьной скамьи — он только что окончил десять классов. Выглядел Сеня еще подростком, учеником: невысокий, худощавый, с тонким, как у девушки, голосом, с маленькими, смешно оттопыренными ушами и широко раскрытыми глазами, в которых отражалось его настроение. Помню, в вагоне ему говорили: «Мальчик, подвинься, дай место. Мальчик, сбегай за водой». Он виновато улыбался и послушно делал все, о чем его просили. На батарее Сеня скоро завоевал общее уважение своей сердечностью и необыкновенно широкими знаниями. С чьей-то легкой руки его так и называли «Эрудит». Эта эрудиция соединялась у него с романтичной юношеской мечтательностью. Я полюбил его, мы стали неразлучными друзьями. Сеня подошел незаметно. Я увидел его, когда он сел на бруствер, почти над моей головой, точнее — не увидел, а почувствовал. Не смутившись, что меня застали в столь необычное время за таким странным занятием (пожалуй, никому не пришло бы в голову писать сразу же после боя), я написал несколько слов, потом закрыл тетрадь и взглянул на друга. Как заострилось его лицо, как за последние три дня углубились его большие глаза! — Что ты пишешь? — спросил он шепотом. Я поднялся, оперся на бруствер руками и доверчиво признался: — Дневник. — Дневник? — переспросил он удивленно. — А ты знаешь, на войне не рекомендуется вести дневник. — Ты думаешь, могут запретить? — встревожился я, веря, что Сеня все знает. Он подумал. — Нет, запрещать, пожалуй, не будут. Но на что он тебе? Я не люблю дневников. В них лгут. Я сжал его колено и горячо зашептал: — Нет, я пишу правду. Напишу все, что пережил, что передумал. Я пишу для Саши, а ей я никогда не лгал. Я хочу, чтоб ты, когда меня не станет… — Петя! Выбрось из головы глупые мысли. — Ты думаешь, мы выйдем живыми из этого ада? — Никто не знает, кто погибнет, кто будет жить. Но все мы должны думать о жизни. Иначе какой смысл в борьбе? — Все это верно, Сеня. Но у меня предчувствие, страшное предчувствие… — Глупости. У тебя просто страх. Думаешь, у меня, у всех наших его нет? Но мне кажется, что я начинаю побеждать этот животный страх. После сегодняшнего боя… — Бой! Какой это бой! После него стало еще хуже! Как мы стреляли! Позор!.. Он усмехнулся. — Действительно, стреляли — хуже нельзя. Говорят, первый блин всегда комом… — Блин, — начал злиться я. — У кого ты набрался такой рассудительности? Такие «блины» нам боком вылезут! Завтра, а может, через час налетят опять… Мы посмотрели на небо. Сколько времени оно будет оставаться чистым? Сеня вздохнул и задумчиво сказал: — Да… За восемь месяцев мы научились хорошо ходить на лыжах, классически козырять. И только стрелять из своего орудия не научились. Все эти сухие тренировки без боевой стрельбы — чего они стоят? А дурень Кидала даже силуэтов не знает. Доказывает, что это были «Ю-88». — Песоцкий! Вы опять за свое. Не проучили вас? — неожиданно прозвучал из ниши голос сержанта Тарных. — Шапетович, спать! Разболтались! Нас подслушивали! Сеня вздрогнул, побледнел и, поднявшись, понуро побрел к своему дальномеру. У меня болезненно сжалось сердце. Стало жаль этого хорошего, умного парня. «Опять за свое». За что «свое»? Что плохого он сказал? Почему некоторые не любят правды? Почему порой неучи, выскочки, солдафоны находятся в большем почете, чем такие, как Сеня? Сколько он пережил за эти три дня! Больше, чем мы все. И не жалуется, не ноет, не бросается в панику, а мужественно и стойко держится. Мне хочется написать обо всем, что произошло с ним. Возможно, мои записи через Сашу дойдут до его матери. Начну сначала. …Мы так уставали от занятий, работы, учебных тревог, что воскресенья, когда можно лишний час поспать, ожидали как праздника. Но для меня то воскресенье не было радостным: за чтение Горького на политзанятиях я получил три внеочередных наряда и должен был дневалить. Шел дождь. Вторые сутки низкие тучи окутывали вершины сопок и непрестанно сеяли густой дождь. Накинув плащ-палатку, я ходил по линейке, которую сам только что старательно подмел. Линейка тянется вдоль землянок, вырытых на склоне песчаного пригорка, на котором виднеются накрытые чехлами орудия. Внизу скачет по камням веселый говорливый ручей. Вокруг пустынно и тихо. После завтрака мои друзья «добирают» то, что недоспали за ночь, или пишут письма. Мне завидно: хотелось и поспать и написать письмо. Но вместе с тем было приятно ходить в одиночестве и думать под шум дождя, — никто не мешал. Я думал о Саше, «писал» очередное письмо, подыскивая самые ласковые и теплые слова. В двенадцать часов в поселке, километрах в двух от нас, заговорило радио. Слова трудно разобрать, но по интонации диктора мне показалось, что передают что-то важное. Захотелось послушать. Репродукторы были в ленинском уголке и в офицерской землянке. В уголке политрук и редколлегия выпускают стенную газету, где, вероятно, расписывают и меня — мои наряды. Я не люблю младшего политрука Сидоренко. Ничего плохого он мне не сделал и вообще, кажется, человек не плохой, добродушный и простой. Но мне не нравятся его шутки. Меня, например, он довольно часто называл «женатик» и не однажды с неприятным любопытством расспрашивал, как я женился, какая у меня жена. Поэтому я пошел не в ленинский уголок, а в офицерскую землянку. Лейтенант Купанов сладко и беззаботно спал, по-ребячьи раскинув руки. Я тихо включил радио и… остолбенел. Война! Я растерялся, не зная, что должен делать, как дневальный, боец, человек, наконец, как гражданин своей Родины. Кажется, я со стоном произнес: — Саша! — Мне стало так больно, словно я в тот миг навсегда потерялее. Лейтенант открыл глаза, взглянул на меня и… повернулся на другой бок. Наверно, ему показалось, будто он что-то видит во сне. Тогда я крикнул: — Товарищ лейтенант! Война!.. Он, вскочив как по тревоге, начал стремительно одеваться. Мгновенно натянув брюки и сапоги, он вдруг застыл, всунув руку в рукав гимнастерки. У него странно побледнела и затряслась нижняя губа, когда он услышал заключительные слова выступления. Впервые я увидел растерянным и испуганным того, кого мы с уважением называли «Наполеоном». — Что делать, товарищ лейтенант? — Что делать? — Он опустил гимнастерку и обессиленно сел на кровать. — Что делать? Он, как и я, не знал, что делать в этот страшный миг, и очень долго — может, целую минуту — сидел неподвижно с окаменевшим лицом. Потом спохватился, вспомнил свои обязанности и крикнул: — Тревога! — Тревога! Тре-во-о-га! — не своим голосом подхватил я, выскочив из землянки. Виктор, выбежавший первым из землянки, раздраженно бросил: — С ума вы сошли с Наполеоном! Какая тревога в такой дождь? Три дня орудия потом будешь чистить! Я не успел ему ответить: надо было как можно быстрее сбросить чехол с орудия. — Второе готово! Первое готово! Прибор готов! — как всегда, весело докладывали командиры, довольные ловкостью своих расчетов. Комбат стоял посредине огневой позиции в одной гимнастерке и смотрел на запад, в пелену дождя, словно ожидая чего-то страшного, потом крикнул: — Запросите звукоуловители! Гула моторов не было слышно. Шумел дождь. Я сказал своим товарищам по расчету: — Война, ребята! Поверили не сразу. На митинге Сидоренко, заикаясь больше, чем обычно, сообщил, что в четыре часа утра фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Меня больше всего поразило, что уже восемь часов идет война, а мы ничего не знаем, боевая батарея спокойно, по-мирному отдыхает. Почему? Мы же знали, что в Норвегии немцы, а это ведь так недалеко! Видимо, это встревожило не только меня, но и многих курсантов. Мысли наши высказал непосредственный Сеня Песоцкий. Когда политрук закончил свою речь, он спросил: — Товарищ младший политрук, чем объяснить, что мы так поздно поднялись по боевой тревоге? В век радио… Сидоренко смутился, он не знал, что ответить, и, взглянув на командира батареи, приказал: — Т-т-то-оваршц П-песоцкий, д-держите я-язык з-за зубами. Первым выступил замполитрука Степан Кидала, тоже мой друг, хотя не такой близкий, как Сеня. Четыре года мы учились вместе в одном техникуме, в одной группе, даже некоторое время жили в одной комнате. Степан был на два года старше меня. Большими способностями он не отличался, но был необыкновенно настойчивым в достижении цели, а потому всегда активным. В техникуме он возглавлял профком. В армии тоже быстро пошел вверх и через полгода нацепил треугольники замполита. Он говорил с таким пафосом и так громко, словно перед ним была не батарея, а по меньшей мере дивизия. Даже где-то за Туломой, в горах, гудело эхо его басовитого голоса. — …Фашисты плохо знают могущество нашей Красной Армии. Скоро они узнают его. Не пройдет и недели, как мы будем маршировать по улицам Берлина! Враг будет разбит на его же земле! Потом он говорил, что фашистские самолеты, как только появятся здесь, над «северной крепостью», будут сбиты метким огнем наших батарей. (Я вспоминаю теперь, после налета, его слова, и моя неприязнь к этому пустослову растет.) Мы все твердо уверены, что в мире нет более могущественной армии, чем наша. Мы верим: война будет перенесена на чужую землю — в Польшу и дальше в Германию. Но слишком крикливая, самоуверенная речь Кидалы произвела на меня неприятное впечатление. Зачем так кричать? Разве такие слова нужны людям, чтоб воодушевить их? Курсанты брали слово неохотно и в своих речах повторялись. Политрук обратился к Сене — он был отличником учебы: — Вы, Песоцкий, скажете? Сеня отказался. Может, потому, что ему только несколько минут назад приказали «держать язык за зубами». После митинга мне захотелось поговорить с Сеней, услышать, что он думает и чувствует. Возможно, это было хитрое желание: проверить свои личные ощущения, свой страх, который все больше и больше охватывал душу. Расчеты находились возле орудий и приборов, хотя вряд ли в этом была необходимость: дождь и тучи заволокли всю окрестность, и самолеты в такую погоду не летают. Я попросил у командира разрешения сходить к дальномеру. Ребята сидели под чехлом, молчаливые, угрюмые. Я сел рядом и спросил у Сени, почему он не выступил на митинге. — А что говорить? — Сеня как будто рассердился. — Кричать, как Кидала? Обещать через неделю взять Берлин? Неумное выступление! Нельзя забывать, что у немцев двухлетний опыт войны, лучшая авиация… танки… Война с таким врагом будет страшная! — Значит, вы не верите в победу, курсант Песоцкий! — вдруг прозвучал над нашими головами голос Кидалы. Он стоял на бруствере неглубокого дальномерного котлована, из-под капюшона накидки блестели его злые глаза. Сеня не растерялся и смело ответил: — Я верю в победу! Но кричать, не зная врага, что мы закидаем его шапками, не стоит. Зачем? Чтоб успокоить нас? А я не хочу быть спокойным в такое время! Не хочу!.. Понимаете?.. — Ах, не хочешь? — Нет! Я хочу быть готовым ко всему, к самому страшному! — К чему — страшному? — Ко всему, что может быть на войне. — Больно ты умен. Посмотрим, откуда у тебя этот ум! — Перестань, Степан! Не строй из себя начальника. Не такой сегодня день, чтоб ссориться, — не утерпел и вмешался я. — А ты чего здесь, подпевала? Твое место у орудия! Бегом — арш! Я остолбенел. Всего я ждал от Кидалы, но такого… Нет, я плохо знал этого человека!.. Не прошло и часа, как на закрытом комсомольском собрании обсуждался вопрос: «О пораженческом настроении курсанта Песоцкого». — В то время как вся наша великая Родина, весь советский народ поднимается, чтобы дать отпор наглому врагу, в наших рядах, товарищи, нашелся человек, который сомневается в могуществе Красной Армии… — Неправда! Я не сомневаюсь! — возразил побледневший Сеня. Все взглянули на него с удивлением: оборвать политрука — нарушение дисциплины, за это можно получить еще большее взыскание. — К-курсант П-песоцкий! — Сидоренко терялся, когда ему мешали говорить, а потому долго молча ходил перед комсомольцами, которые понурили головы, тер ладони и, наконец, произнес, но уже не спокойно-информационным тоном, а с гневным возмущением: — В-видите, этот человек хочет подорвать боеспособность батареи. Распускает панические слухи… Восхваляет фашистскую технику… авиацию… Я сидел немного в стороне и видел лица многих курсантов, моих и Сениных друзей, с которыми восемь месяцев вместе спали, ели, учились, читали одни книги, обсуждали одни события. Все уважали Сеню за его знания и скромность. А теперь, я читал это на лицах, почти все верили словам политрука. В такое время, через два часа после сообщения о войне, когда горело сердце и появился страх, возможно, что и я поверил бы, если бы обвиняли кого другого. Но Сеню я знал, как никто, и слышал, что он сказал и как сказал. Какие же это панические слухи? Он произнес простые, рассудительные слова, от которых мне совсем не страшно, а может, даже стало спокойней. Другие же, видимо, поверили, что именно он, юноша из интеллигентной семьи, «маменькин сынок», «книжник», как его называл тот же Кидала, мог стать пораженцем. Я не осуждаю своих товарищей, но мне стало страшно, когда я прочитал в их глазах гнев и даже презрение к Сене. Выступая, Кидала сначала довольно точно, почти слово в слово, передал наш разговор, подслушанный им, а потом сделал вывод: — …Теперь, товарищи, нам понятно, почему Песоцкий не захотел выступить на митинге. Что мог сказать человек, не верящий в победу? Я больше скажу. Нам следует спросить: почему у Песоцкого такой интерес ко всему немецкому? Мы все учились, но кто из нас знает немецкий язык так, как он? Никто! Вы вдумайтесь в такой факт… Еще до того, как мы начали изучать силуэты, он один из всех курсантов знал марки немецких самолетов, названия линкоров. Откуда? А у кого была необходимость, скажите мне, запоминать состав гитлеровского правительства? Мне лично противно запоминать эти фамилии. А Песоцкий знает каждого из этих бандитов. Я ужаснулся: страшное обвинение вытекало из его довольно прозрачных намеков. И я не выдержал — зло перебил Кидалу: — Как тебе не стыдно, Степан! Ты обвиняешь Песоцкого в том, что он читал газеты. Давай вали, прославляй невежество! Ты забыл, как нам было стыдно, когда ты, замполит, не знал, кто премьер-министр в Англии. И ты ставишь это себе в заслугу? Позор!.. Кидала смотрел на меня с ненавистью, если бы он мог, то, казалось, съел бы меня. Его лицо, обычно красное, самодовольное, побледнело. Он посмотрел на политрука так, словно приказывал, чтоб тот успокоил меня. И Сидоренко закричал: — Курсант Шапетович! Молчать! С кем вы так разговариваете? Как себя ведете? Для вас замполит Кидала — «товарищ замполит», а не Степан. И чтоб я не слышал этого «тыканья»! О, если бы это было не в армейских условиях, а где-нибудь в нашем техникуме, я сказал бы, кто для меня этот проходимец! Но тут я был вынужден молчать. Сидоренко «перенес огонь» на меня: вспомнил мои наряды, споры с младшими командирами. И вдруг выступил Купанов. Я все время следил за ним и ждал, что он, умный и сдержанный, своим авторитетом командира прекратит эту позорную комедию. — Думаю, что курсант Кидала преувеличивает. Я радостно встрепенулся, потому что словом «курсант» комбат многое ставил на свое место, а в первую очередь этого выскочку. Он такой же курсант, как и все, и мы имеем полное право обращаться к нему как к равному. — Нельзя обвинять человека за то, что в школе он изучил немецкий язык лучше, чем мы с вами, Кидала. Бессмысленно обвинять бойца Красной Армии за то, что он читает газеты… более внимательно, чем некоторые. И все, больше — ни слова. Меня разочаровало выступление командира. Но большинство комсомольцев вздохнуло с облегчением, выступление Кидалы на всех произвело тяжелое впечатление. Своими глупыми выпадами он пытался превратить Сеню в фашистского агента. Купанов отмел этот вздор. Так почему же он ничего не сказал о пораженческом настроении? Неужели верит, что такое настроение могло появиться? По предложению Сидоренко большинством голосов Семена Песоцкого исключили из комсомола. Мне влепили выговор. За что? Я всегда был честным и активным комсомольцем. Правда, я не очень переживаю из-за выговора. Что он значит в сравнении с тем, что ожидает нас впереди? А ожидает, возможно, смерть… Но Сеню мне жаль, хотелось успокоить его, подбодрить. Я снова пошел к дальномеру. Увидел: Сеня понурив голову одиноко сидит в котловане. И все подготовленные слова показались мне никчемными, ненужными, даже оскорбительными. Я молча сел рядом. Он взглянул на меня и прошептал: — Это страшнее смерти, Петя… И я снова не нашел, что ему ответить.
…Странно раскрываются души людей! После того как сержант приказал нам прекратить разговоры, я подчинился и лег спать. Проснулся — и удивился: было позднее утро, я проспал добрых пять часов. Сержант приветливо улыбнулся мне и по-дружески спросил: — Выспался? Суп твой вон там в котелке… в нише. Сержант Тарных был безжалостный командир, во время учебы он не давал ни минуты покоя и отдыха. И мы не любили его. Он никогда не позволял себе фамильярности с курсантами. И вдруг такая забота: дал выспаться, не разбудил даже на завтрак, приказал принести суп… и дружеское «ты». Странно!.. Снова небо заволокло тучами. Накрапывает дождь. Слава тебе, небо севера, что ты часто покрываешься тучами! Кажется, со вчерашнего дня я очень полюбил такую погоду. Да разве я один? Правда, никто не может дать гарантии, что они не прилетят и в дождь. А пока их нет, мы пользуемся передышкой. Командир батареи собрал возле первого орудия заряжающих и тренирует до седьмого пота, не может простить им заклинения. Мне жаль ребят: им во время учебы доставалось больше, чем остальным, и теперь тоже. А так ли уж они виноваты? У них дрожали руки, как у всех нас, как, вероятно, и у самого Купанова. Я думаю, что наш умный комбат поступает не очень разумно: а если налет — смогут ли уставшие люди заряжать лучше? Хлопцы собрали деньги, попросили сержанта, и — странно! — тот разрешил, чтобы самый ловкий и проворный Роман Войтов отлучился в поселок, в лавку. Он принес полный вещевой мешок папирос, самых дорогих, которые, пожалуй, кроме Романа, никто из нашего расчета никогда не курил. Теперь командир и бойцы лежат за камнями, с наслаждением затягиваются ароматным дымом и беззлобно посмеиваются надо мною. — Не хочет — не надо. Пусть бережет свое драгоценное здоровье. — Дурень! Не пьет, не курит… Умрет — пожалеет. Умрет… Зачем лишний раз напоминать о смерти? Я стараюсь не слушать разговоры, залезаю глубже в нишу и пишу. Пишу с лихорадочной быстротой и чувствую, что не успею записать все. Надо полностью использовать эти свободные минуты. Какие события, какие мысли, какие переживания я забыл занести в эту тетрадь? Четыре дня кажутся вечностью. Боже мой, когда это на земле был последний мирный день, тот субботний вечер в красноармейском уголке, посвященный пятилетию со дня смерти Максима Горького! Я читал на память отрывок из «Человека». «Человек! Точно солнце рождается в груди моей, и в ярком свете его медленно шествует — вперед! и — выше! трагически прекрасный Человек!» Хорошо я прочитал эти и многие другие чудесные слова, сам зачарованный их музыкой, их глубоким смыслом. Ребята аплодировали мне так усердно, что я даже смутился. Купанов сидел, одобрительно кивал головой и как-то странно усмехался. А Сидоренко сказал потом: — Вы, Шапетович, плохо понимаете Горького. Меня это удивило и обидело. Я не понимаю Горького? — А как вы понимаете? — спросил я. Он не ответил, и я не знаю, что не понравилось политруку в моем чтении. И вот сейчас снова зазвучали в моем мозгу горьковские слова. Я не только их слышу, но и чувствую и вижу бесстрашную величественную Мысль, и Любовь, и Ненависть… и Надежду… Почему «пугливое бессилие Надежды»? А я хочу надеяться! И моя Надежда не может мне сейчас петь о радостях покоя, не может быть в союзе с ложью и толкать в тину сладкой Лени. Нет! Моя Надежда иная! А что сказано о страхе? Какое место в Человеке отводит ему великий писатель? Я напряженно припоминаю… Неужели о страхе ничего нет? Нет, вот — «страх смерти властно гонит Человека в темницу Веры»… Нет, невозможно, нельзя записать полет мыслей. Они как молнии охватили сразу все. А пишу я медленно, страшно медленно, хотя, возможно, ни один человек даже в обычных условиях не смог бы писать быстрей. Из всего хаоса мыслей я понял только одно: иначе, более глубоко и проникновенно, всем сердцем, принимал я те слова, которые четыре дня назад читал с пафосом, с тайным самолюбивым желанием блеснуть перед друзьями, которые знают Горького, и удивить тех, кто не слышал, не читал, не помнил «Человека». За многие чувства, и больше всего за страх, мне стало стыдно. Я написал это слово с большой буквы, но тут же зачеркнул его, нет, такое отвратительное чувство не имеет права на уважение! Но мне никогда не будет стыдно за мою Любовь! Никогда!.. Кажется, я хочу спорить с Горьким, поправить его. Наивно! В котлован зашел командир орудия, увидел меня — криво усмехнулся: — Роман пишешь? Я смутился. — Нет. Письмо. Жене. — Такое длинное письмо? — удивился он. — Смотри, чтоб лишнего не написал. Теперь военная цензура будет проверять. — Я знаю. — Кончай письмо и будешь тренировать установщиков трубки. Ну вот, передышка окончена. А я действительно хотел написать письмо Саше. Я знаю, с каким нетерпением ждет она, бедная, моих писем.
Вечер 26 июня
У нас не работает радио. Все утро мы не давали покоя связистам — просили запросить в командном пункте дивизиона вчерашнюю сводку. Пока ее не было, мы пытались догадаться, что делается на фронтах. Предположения были разные: очень оптимистические и умеренные, ура-крикливые и сдержанные, но в любом случае — источник один: сообщение, что «на Шауляйском и Рава-Русском направлениях противник, который вклинился с утра на нашу территорию, во второй половине дня контратаками наших войск был разбит и отброшен за государственную границу». Мы помнили только это и забывали о второй части сводки, где говорилось, что врагу удалось занять Ломжу, Брест. Очень хотелось услышать, что наши войска развивают наступление за границей, пусть хотя бы на одном направлении. В обеденное время, когда расчеты по очереди ходили в столовую, мы с Сеней встретились возле орудия. Меня тянуло к нему, хотелось поговорить, услышать его умные, обоснованные рассуждения. Но после того, что произошло, приходилось оглядываться, нет ли поблизости Кидалы. Беседа не ладилась. Мы стояли и молча наблюдали, как о сосны на сопках разрываются тучи. — Проясняется, — сказал я. — Да. К вечеру будет летная погода, — заметил Сеня. Люди, вероятно, никогда не проявляли такого внимания к небу, как теперь проявляем мы. Да и только ли мы? Нет, теперь все смотрят на небо, и совсем не для того, чтобы полюбоваться его красотой. Прелесть небесной голубизны исчезла, и нам больше нравятся низкие свинцовые тучи. Помню, я думал о том, какой день там, у нас, над Днепром. Неужели и Саша с таким же страхом смотрит на небо? Вероятно. Больно думать об этом… Из землянки вылез связист Мельников. Увидев нас, оглянулся, несмело приблизился, шепотом проговорил: — Слушай, Песоцкий, ты все знаешь… Скажи, Кобрин и Вильно далеко от границы? — А что? — насторожился Сеня, он стал подозрительно-недоверчивым. — Идут бои за эти города. — Врешь! — вырвалось у меня. Я хорошо знал Кобрин, жил там, когда ездил на преддипломную практику. В Вильно тоже был и тогда же проехал по многим дорогам, ведущим к границе. — Я сводку принял. Только политрук приказал пока что никому не показывать. — Дай! — попросил Сеня таким настойчивым голосом, что осторожный Мельников достал из кармана бумажку, развернул, но не выпустил из рук. Сеня заглянул в нее, и я увидел, как дрогнули его губы, побледнело лицо. Он молча отошел от Мельникова. Я пошел за ним. — Что там, Сеня? Он остановился, взглянул на меня и проговорил тихо, но с болью: — Петя, мы с тобой маленькие стратеги. И ты знаешь, я не паникер, не трус, напрасно на меня… Но теперь мне стало страшно. Там отступают… Сдают города… Наши города!.. Потом, когда сводка была переписана и прочитана во всех расчетах, меня тоже охватил страх. Почему наши отступают? Почему на третий день войны идут бои за Гродно, Кобрин, Вильно, Каунас? Кто-то из товарищей предположил, что это стратегический маневр командования — наши отступают до старой границы, где возведены укрепления, куда более прочные, чем линии Мажино и Зигфрида. Хочу верить в это!
Небо прояснилось, и мы стреляли по разведчику. Он шел на трехкилометровой высоте с юга на север: видимо, оглядывал железную дорогу. Страх, отвратительный, позорный страх, который я пережил в первом бою, пропал, когда я увидел, что это всего-навсего разведчик. В ожидании залпа я дрожал, напряженно звенел в теле каждый мускул, каждый нерв. Дрожал от злости, нетерпения и от огромного желания сбить стервятника. О, как мне хотелось сбить его! Словно от этого зависел результат всей войны. Я снова верил в наши сложные и точные приборы, которые мы в совершенстве изучили. И вот уже знакомое: — Есть совмещение! Застрекотали стрелки синхронной передачи. Я забываю обо всем, весь напрягаюсь, чтоб как можно точней совместить зеленую и красную стрелочки на приемнике азимута. От этого зависит меткость огня. Залп. Настоящий залп, чуть-чуть отстало одно орудие. Второй залп, третий!.. Хорошо стреляют ребята! Молодцы! Нет ни заклинения, ни отставания, ни лишнего шума. Один лишь третий номер кричит что есть силы — читает трубку. Я на миг отрываю глаза от стрелок, бросаю взгляд в небо. Красивые черные букеты разрывов висят в ясной лазури. Где же самолет? Неужели он еще не падает? Нет, гремят залпы. Стучат о сошники гильзы. Наконец, стоп! Все сразу утихло. Сбили! Сбили!.. Мне захотелось кричать от радости. Я соскочил с сиденья, глянул в небо… Что это? Фашист отдалялся от нас спокойно, на той же высоте, по тому же курсу. Он словно смеялся над нами, не обращая внимания на разрывы, что тянулись по его следу. Хотелось плакать от отчаяния. Кто же виноват? Орудия, приборы или мы, люди, наше неумение? Неужели это будет повторяться каждый раз?! Сержант злился. А мы боялись взглянуть в глаза друг другу. Было стыдно больше, чем после первого боя, когда мы, как суслики, спрятались в норы. Тогда нас бомбили, обстреливали. А теперь ничего не мешало нам сбить его. Кто-то из орудийщиков обвинял приборщиков: меткость огня зависит от них, а они боятся, у них дрожат руки, и они делают ошибки в вычислениях. Возмущенный, я первый крикнул им: — Халтурщики! Портачи! Соломой вас надо кормить за такую работу! А на дальномере и приборе — мои лучшие друзья. Лейтенант почему-то рассердился за мой упрек приборщикам, вызвал к себе и крепко «намылил» голову. Сидоренко при этом подзадоривал комбата, припоминая все мои грехи. Я ждал, что он скажет о моей дружбе с Песоцким. О, как бы я ответил ему, напомнив вчерашнюю сводку! Но этот «грех» он не вспомнил.
27 июня
Появилось Минское направление! Минское! Что там происходит? Ничего не понимаю. Ребята придают какое-то значение сообщению о переходе на нашу сторону немецкого солдата, заявлению пленного летчика о том, что воевать с русскими они не хотят, и делают из этого оптимистические выводы, надеются на революцию в Германии. А у меня нет такой надежды. Я не верю перебежчикам и пленным! Все они лгут, спасая свою шкуру. Меня больше волнует сообщение о том, что враг сбрасывает в Белоруссии парашютистов. Леденеет кровь, когда я думаю, что эти отборные фашистские головорезы могут очутиться там, где живет Саша. Что она будет делать одна, беспомощная, возможно, еще больная, с ребенком на руках? И вообще, где она теперь? Что с ней? Откликнись, мой друг, моя любовь, — и мне станет легче, я все превозмогу тогда! Снова дважды стреляли, и снова они улетели ненаказанные, показав нам хвосты со свастикой. Ужасно! Я начинаю терять веру в оружие, о котором нам восемь месяцев подряд рассказывали чудеса.
29 июня
По батарее пронесся слух, что нас будут посылать младшими командирами в другие батареи и дивизионы. Вполне естественно: нас учили, чтоб мы стали командирами, мы давно уже готовились к тому, что вскоре разъедемся в разные стороны. Хотя с этого края земли можно поехать только на юг, странные чувства овладели мною: до боли в сердце захотелось поехать туда, где идет страшная и непонятная для меня битва. Я знаю, что мое желание бессмысленное, что я не имею права даже высказать его, потому что каждый скажет: всюду советская земля и всюду надо защищать ее от врагов; от успехов на одном направлении зависит успех на других фронтах и участках. Все это я хорошо понимаю. Ах, если бы кто-нибудь знал, как мне хочется туда, на землю отцов, где каждая придорожная березка родная и заслонила бы от пуль! Там не надо долбить землю ломами, как этот черствый гранит, она такая мягкая, и любой орудийный котлован можно вырыть за час. Нет, дело здесь не в земле и березах! Непреодолимое желание очутиться там идет от чего-то более глубокого и сильного. Может, хочется скорей прийти к своему счастью, к тебе, Саша, чтоб не тратить потом даже дня на дорогу? Но как совмещается это желание со страхом смерти, который немного заглох в последние дни, но все еще живет в моем сердце, мозгу? Странно! Получается, что это желание победило страх. Оно сильнее его, значительно сильней, потому что это желание бороться, жить… А смерть? Кто знает, где и кого она встретит? Если мне суждено умереть как герою, а не как трусу, я хотел бы встретить смерть вблизи тебя, Саша, заслоняя тебя и дочурку своей грудью. На войне все делается быстро. Уже некоторых вызывают к командиру батареи. В нетерпеливом ожидании судорожно бьется сердце и дрожат руки. Позовут ли меня? Позвали. Я старательно оглядел себя, поправил ремень, по всем правилам зашел в землянку, козырнул и отрапортовал отчетливо и громко: — Товарищ лейтенант, курсант Шапетович по вашему приказанию явился! Само собой пришло желание показать себя в эту минуту с наилучшей стороны, словно от таких внешних атрибутов могла зависеть моя судьба. Купанов, маленький, перетянутый ремнем, стоя возле стола, откозырял, как всегда, красиво; он никогда не отвечал на приветствие младших по званию безразличным взмахом руки, как иногда делают другие офицеры. — Товарищ старший лейтенант, — послышался со стороны голос Сидоренко. Я не сразу понял, что к чему. И вдруг мой взгляд упал на петлицы Купанова, и я увидел на них третий квадратик. Не растерялся: — Поздравляю вас… — Благодарю, Шапетович, — просто ответил командир батареи и, приблизившись, ткнул пальцем в незастегнутую пуговицу на моей гимнастерке. Вот беда, всегда так получается: стараешься-стараешься, а все равно что-нибудь да не так. Застегивая злополучную пуговицу, я даже вспотел. Командир тем временем сел за стол, заглянул в какие-то бумаги. Политрук сидел за шахматным столиком в стороне (все это происходило в нашем ленуголке) и расчерчивал лист бумаги для какого-то списка. Я ждал: мучительно длинными были эти секунды молчания. Скорее бы услышать приговор, от которого, казалось, должна зависеть вся моя судьба! Купанов поднял голову, в глазах у него не было ни теплоты, ни усмешки. Я похолодел — возможно, даже побледнел, — потому что командир посмотрел на меня пытливо, с недоумением. Я давно заметил, что Купанов не любит, как политрук, испытывать людей психологически: смотреть в глаза, говорить полунамеками, ставить загадочные вопросы. Он долго думает, что сказать, а обдумав, говорит решительно, коротко: — Пойдете командиром орудия на вторую батарею. Собирайтесь! — Сможете командовать? — спросил Сидоренко, не отрываясь от бумаги. — Демократ вы большой, Шапетович. Я не ответил политруку, не сказал даже командиру нужного «слушаюсь». Рушилась моя беспочвенная надежда, и я склонился под этим обвалом. Неизвестно почему спросил: — Один я? — На орудие — один. — Второй на прибор? — И на дальномер. Я, обо всем забыв, шагнул к столу и горячо попросил: — Пошлите Песоцкого, товарищ старший лейтенант. Политрук спросил: — Что это за любовь у вас к Песоцкому? — Он умный парень. — Умный парень не всегда может быть умным командиром. Солидности у него не хватает. Маменькин сынок! «Неправда!» — чуть было не вырвалось у меня, но я спохватился. Ждал, что скажет командир. Он прошелся по землянке, остановился у стены, на которой висела большая карта Советского Союза. Хотелось бы мне знать, что он подумал, когда задержал свой взгляд на карте? Наверное, подумал о том, что происходит там, на юге. Но каким образом он связал свою мысль с Песоцким? Может, имел намерение послать его туда? Вряд ли. Туда будет направлять не он. Ему, надо полагать, приказали отобрать курсантов для своего дивизиона — и он их отбирает. Купанов вернулся к столу и сказал, задумчиво и как будто немного неуверенно: — Что ж, пусть будет Песоцкий. Позовите его. Поворачиваясь по уставу, я увидел, что политрук смотрит на комбата недовольно. Он — против. Я представляю, какой у них произойдет разговор! Однако этот человек с железной волей, наш лейтенант, не отступит от своего решения. Итак, мы с Сеней никуда не едем. Ехать — это то, о чем я мечтал, на что надеялся. Но что значат мои мечты? Не от меня зависит их осуществление, я — солдат. И, наконец, не все ли равно, где воевать, бить фашистов! Я благодарен комбату. Впервые с начала войны чувствую какую-то радость. Радуюсь не только тому, что рядом со мной будет мой лучший друг. Рад за Сеню: ему верят. О нелепом происшествии первого дня войны все молчат, даже Сидоренко не вспомнил и сказал о Песоцком другое — что ему не хватает солидности. Сеня вернулся от комбата весь просветленный, взволнованный. Пишет письмо матери. Надо и мне написать Саше. Получает ли она мои письма? От нее все еще приходят довоенные.
30 июня
Вот я и командир! И мне вдруг почему-то стало как-то по-иному неспокойно и страшно. Вспомнились слова Сидоренко: «Сможете командовать?» Никогда об этом я не думал раньше, все было ясным, как божий день. А теперь задумался: смогу ли я командовать? Будут ли слушать меня эти еще незнакомые мне люди? Их шестеро, и все они такие разные, есть старше меня по возрасту. Они встретили меня не очень приветливо. Или мне так показалось? Может, они были хмуры потому, что их подняли среди ночи? Мы приехали после двенадцати, когда все отдыхали. Командир батареи — старший лейтенант Севченко, веселый и простой человек, с добрым крестьянским лицом, слегка изрытым оспой, сначала представил Виктора Вольнова расчету прибора, а потом подвел Сеню к дальномеру. Его подначальных он не разбудил. Этих «аристократов» всюду жалеют: у них должны быть зоркие «стереоскопические» глаза. Наконец обратился ко мне: — Пошли к твоим орлам. Лучший расчет тебе даю. Только держать в руках надо, а то на голову сядут. Аттестация не очень высокая. Но мне понравился комбат, его простота, шутливость. Говорит он с украинским акцентом и когда хочет выругаться, то произносит странные слова — «японский бог». Тут как-то проще, чем там, на нашей батарее. Теперь я начинаю понимать, что, готовя из нас младших командиров, там довольно крепко «завинчивали гайки». Маленький смуглый дежурный доложил, что расчет отдыхает. — Разбуди! Поднимались медленно, спрашивали: зачем? Комбат разозлился и закричал сам: — Подъем! Вылетели пулей, откуда прыть взялась. — Разгильдяи, японский бог! Это вы и по тревоге так будете подниматься? — Ну-у, товарищ старший лейтенант… Вы же хорошо знаете, как мы поднимаемся по тревоге, — обиженно возразил хмурый ефрейтор — высокий, с тонкой, как у девушки, талией. Комбат усмехнулся и сказал, как, вероятно, часто говорил: — Разговорчики, Муха! — И представил меня: — Вот ваш новый командир — ефрейтор Шапетович. А это вам боевой заместитель — ефрейтор Муха. Хотя он больше похож на осу, чем на муху. Муха что-то пробормотал. Дежурный оскалил очень красивые, белые-белые зубы. Этот парень обладает удивительным свойством — смеяться беззвучно, одними зубами. Они разошлись так же хмуро и молчаливо, как и построились. Залезли в ниши. Я не знал, что им сказать, как, с чего начать знакомство. Да, собственно говоря, я и не имел права на длинные разговоры: командир батареи приказал спать. Я почувствовал себя неловко: на меня не обращали внимания, словно не признавая командиром. Только Муха спросил: — Командир, ты что кончил? — Как — что? Я из учебной батареи… — Нет. До армии. — Автодорожный техникум. — А-а… — с непонятным пренебрежением протянул он и, помолчав, сообщил: — А наш командир в университете учился… «Почему же не доучился?» — хотелось спросить с иронией, но я еще не видел этого человека, и было бы просто нечестным с моей стороны высказывать такой намек. Да и не это задело меня в словах Мухи, а его обращение на «ты». Не будет ли это подрывом моего командирского авторитета? Сколько месяцев нам упорно твердили, что наибольший дисциплинарный грех — быть с подначальными запанибрата. Но я чувствую, что у меня не хватит решительности потребовать, чтобы ко мне обращались иначе. Меня это беспокоит и в то же время кажется бессмысленным. Неужели надо решать такие проблемы, когда идет борьба не на жизнь, а на смерть, когда она, эта смерть, смотрит тебе в глаза каждую минуту? Хорошо в такое время отвечать только за самого себя! Написал я это и подумал: а каково тем, кто отвечает за судьбу целого полка, армии, всей страны? Никчемными показались мои проблемки, страхи, переживания. Я просто испугался новых трудностей. А я не имею права пугаться — надо все преодолеть, надо быть готовым к новым трудностям и большей ответственности. Когда все уснули, а мне, взволнованному, не спалось, я побеседовал с дежурным — этим смуглым красивым пареньком — и, к удивлению, узнал, что он не цыган, не молдаванин, а наш могилевский парень. Он блеснул своими девичьими зубами — беззвучно засмеялся и пояснил: — Нас в деревне Черняками прозвали, — секунду помолчал и добавил: — Муха занял место, где спал командир. Ваше место. Очень ему хочется командиром стать. Сеня не спал, а бродил по огневой позиции, и я подошел к нему. Сели невдалеке от моего орудия, за большим камнем, чтоб нас никто не видел. Внизу раскинулся город — весь как на ладони: пять улиц сходятся в центре, деревянные стандартные дома поселков на северной и южной окраинах, здания рыбокомбината у залива, портовые склады, к которым подходят железнодорожные линии, длинные стрелки причалов, возле которых сиротливо маячат одинокие корабли. Город спит. В домах спят женщины, дети. Тут, как и всюду на земле, много детей: я видел их, когда изредка получал увольнительную на выходной или приезжал в город по каким-нибудь служебным делам. Нет, неспокоен сон у людей в такое время! Возможно, только маленькие дети, такие, как моя Ленка, спят спокойно. Мы долго сидели молча и смотрели на город. Два больших красных солнца слепили нам глаза: одно — с белого северного неба, затянутого прозрачной дымкой, другое — с черного залива, неподвижного, зеркально-гладкого. Почему сегодня солнце такое красное? Я сказал: — Знаешь, Сеня, мне как-то по-новому тревожно и страшно. Возможно, боюсь, что не смогу командовать людьми, — я кивнул назад, где виднелся ствол орудия, направленного в небо. — Они неприветливо встретили меня. Первый номер Муха сразу на «ты». Как-то пренебрежительно… Прищурив свои голубые глаза под густыми бровями, Сеня взглянул на меня с иронией, как взрослые смотрят на детей. — Глупости. Не думай о форме, — сказал он. Я не сразу понял, что он имеет в виду. — Когда нас учили, то придавали слишком много значения форме, словно она играет решающую роль. От нас даже требовали — помнишь? — чтобы мы, я — к тебе, ты — ко мне, обращались на «вы». А разве в этом главное? Главное — в содержании, в сущности людей: в их искренности, преданности общему делу и приязни друг к другу, к тому, кто стоит рядом с тобой. Ты испугался, что тебя встретили не так, как ты хотел. Чудак, люди просто хотели спать. Пройдет время, вместе побудете в бою, ты проявишь свою волю, они… — Ты думаешь, она есть у меня, воля? — Ого, еще какая! Я меньше тебя способен командовать людьми, но я верю в них. Люди хорошие. Большинство. Они всегда помогут — и сами подначальные и командиры. Только твоему другу Кидале хотелось «утопить» меня… — Какой он мне друг! — Я тебе сознаюсь… Ты вот не спишь — чего-то испугался, чего — сам не знаешь. А я хожу и радуюсь. Знаешь чему? Что я оторвался от этого Кидалы. Стыдно признаться, но я боялся его и ненавидел. И это, понимаешь, как было тяжко… Это путало мои чувства… А я хочу, чтобы в них была полная ясность! Враг есть враг, и вся моя ненависть должна быть направлена туда, — он протянул руку в сторону залива. — А человек, который со мной стреляет по врагу, наш человек, — я его должен любить. Ну, хотя бы уважать, верить ему… А я боялся его и ненавидел, ходил и озирался. Черт знает, какая неразбериха была тут, — он прижал кулаки к своей груди. — А теперь успокоилось, стало просто и ясно. Я до этого не знал, что такое ненависть. Я любил людей. Мои родители были большие гуманисты. Отец добровольно поехал на ликвидацию эпидемии тифа и заразился там… С начала войны он никогда не говорил так много и сердечно — возможно, мешала обстановка. Теперь он говорил с каким-то удивительным наслаждением, положив голову на камень и порою даже закрывая глаза. Только вспомнив родителей, приподнялся, словно какой-то луч на миг осветил его лицо. Потом набежала тень печали. Он вздохнул. — Моя бедная мама!.. У меня болезненно сжалось сердце. У него — одна мать, у меня — и мать, и отец, и Саша, и дочка. Но разве мне легче? Я беспокоюсь, тревожусь за многих дорогих мне людей. На аэродроме, скрытом где-то за сопками на север от города, загудели моторы. Послышался голос командира батареи (значит, ему тоже не спится): — Разведчик! Что за шум? — Свои, товарищ старший лейтенант! В воздухе появились шесть тупоносых истребителей и, развернувшись, пошли не на запад, а на север, по заливу. Мы проводили их взглядами. — Полетели на помощь, — сказал Сеня. — Где-то в море наши корабли атакуют. — Ты слышал вечернюю сводку? — спросил я. — Они перешли в наступление на нашем фронте. Сеня кивнул головой. — Если и здесь произойдет то, что там, на Западном фронте, жарко нам придется… Отсюда некуда отступать. Меня передернуло, и я невольно оглянулся. За нашими спинами лежал громадный камень, который словно в самом деле преграждал дорогу назад. — Ты думаешь — у них там победа? — Они наступают, — ответил он со спокойствием, которое на этот раз возмутило меня… — Как это ты можешь вот так… спокойно? Не понимаю! А почему ты не думаешь, что это маневр, стратегический маневр, как у Кутузова? — Зачем нам обманывать себя? Надо смотреть правде в глаза. И без паники. Без страха. Так мы скорее мобилизуем свои силы. — Будь спокоен, эта мобилизация развертывается по всей стране! — Я говорю не только о мобилизации людей, армии, но и о мобилизации душевных сил. Моих, твоих… Наших, Петя! Наших сил. Чтоб все мы победили панику, страх. Я взглянул на него с уважением и как-то сразу успокоился. Мне стало стыдно, что я впадаю в панику, а Сеня, которого называли «маменькиным сынком», так спокоен и рассудителен. Хотелось сказать ему какие-то хорошие, сердечные слова, но я не находил их и сидел задумавшись. Когда же повернулся к Сене, то увидел, что он… спит, откинув голову на выступ камня. Я достал из кармана тетрадь и начал писать. Захотелось поскорее, пока не забылось, записать нашу беседу. А заодно подежурить возле Сени, чтобы разбудить его в случае тревоги. И вот заканчиваю свою запись. Солнце, как часовой, обошло Баренцево море и теперь уже глядит с востока, с просторов Кольской тундры. Небо снова стало голубым, безоблачным. Снова летный день!
3 июля
Три дня не было ни сна, ни отдыха. Кончался один бой — начинался другой. От разрывов бомб, выстрелов, усталости и бесконечного напряжения гудит в голове, болит все тело. Фашисты наступают где-то там, за Западной Лицей, на «Мурманском направлении», как официально сообщается в сводках, они хотят парализовать тыл, разрушить город, обеспечивающий фронт всем необходимым. Город горит. Второй день пылают бензосклады, и вся окрестность застлана черным едким дымом. От него слезятся глаза и кашель разрывает грудь. Все батареи дивизиона стянуты к городу. На помощь нам пришли военные корабли. Впечатление такое, что моряки принимают на себя удары пикировщиков, чтобы оттянуть их от города — большинство бомб падает в залив. Сегодня с утра пасмурно, и удалось немного поспать. Хочется многое записать, но это не удастся — передышка ненадолго. Память особенно ясно удерживает мой первый бой, когда я стал командиром. Заснуть в то утро мне так и не удалось. Комбат еще до завтрака начал учебную тренировку, подняв батарею по сигналу «тревога». Узнав, что стрельба не боевая, номера моего расчета ворчали, особенно Муха: — Мало боевых тревог — на тебе еще учебную! Надо было до войны учить. Севченко женку в тыл отослал, так ему не спится. Бродит всю ночь, как лунатик, злится. Я удивился и насторожился: на учебной батарее мы в присутствии командиров отделений не решались осуждать поступки и действия офицеров. «Не потому ли они так себя ведут, что не хотят признавать меня командиром?» — думал я. «Стреляли» вяло и невнимательно. Лишь маленький Черняк очень ловко ставил трубку и передавал снаряд заряжающему. Павел Астахов, высокий, с длинными руками, бывший кузнец Подольского завода, лениво принимал патрон, взвешивал на руках и не заряжал, а передавал его трубочному — Фриду. Патроны — учебные, на орудии их только два, и они должны переходить от одного номера к другому. Но мы, когда учились, заряжали. Почему же Астахов не заряжает? Нарочно, назло мне? Все время хотелось потребовать, чтоб он заряжал и «стрелял» — поворачивал рукоятку спуска. Однако я не решался: может, здесь поступали так и раньше, до меня? Когда же увидел, что первый номер — Муха — совмещает стрелки азимута приблизительно, без нужной точности, не выдержал: — Ефрейтор Муха! Разве так надо совмещать? — А как надо? — огрызнулся он. — Да при таком совмещении снаряд уйдет черт знает куда… — А ты хочешь каждый снаряд в самолет? Ого!.. — Мы и так в небо попадаем, — засмеялся четвертый номер — молчаливый Конкин. И тут же послышался крик командира батареи: — Четвертое! Куда у вас ствол глядит, японский бог? Командира ко мне! Я подбежал к разгневанному Севченко и не узнал его — куда девался тот добрый шутливый человек, который представлял меня расчету. — Что у вас там происходит? — Закрутился кабель синхронной передачи, товарищ старший лейтенант! — солгал я без запинки. Когда я вернулся к орудию, Черняк и Астахов взглянули на меня виновато и сочувственно. Муха же встретил нахальной, злорадной усмешкой: ага, больше не будешь придираться! Но я не узнал свой расчет, когда объявили боевую тревогу. Куда девалась вялость и невнимательность! Все подтянулись и застыли у своих мест. Самые неприятные минуты — это те, что проходят с момента тревоги до начала огня. По ориентирам КП и координатам, которые дали разведчики, мы быстро обнаружили самолеты в голубизне утреннего неба. Невооруженным глазом они стали видны километров за тридцать. Их было не два и не три. На город шла воздушная армада — машин двадцать. Куда они обрушат свой смертоносный груз? На кого? В городе ревели сирены воздушной тревоги. Маленькие человечки суетливо бегали по улицам. Куда они спрячутся? Достаточно ли там надежных мест? Сирены, услышанные мною впервые, породили новое чувство — страх не только за свою жизнь, но и за тех, что бегают там, по улицам, ища спасения от ненавистного врага. Какие-нибудь три минуты показались мучительно долгими, самыми долгими в жизни. Скорей бы они вошли в зону огня! Я увидел, как у Мухи побелели уши.Неужели и я такой же? Какой позор!.. Разве будут уважать такого командира? Слава богу, никто не смотрит на меня. Маленький Черняк и длинный Фрид, зажав коленями патроны, надели на дистанционные трубки ключи. Они, эти ключи, так плотно надеваются, а все равно звенят, ударяясь о трубки. Толстый, неповоротливый и медлительный коми Габов шепотом читает застрявшую трубку: — Сто шестьдесят два… сто шестьдесят два… сто шестьдесят два… Со стороны кажется, что он шепчет молитву. Четвертый номер за орудием. Это Астахов… Только на его лице, в его движениях, жестах не видно страха и беспокойства. Он топчется возле затвора, медлительный, важный, как добрый дед, и маленькой фланелевой тряпочкой старательно вытирает патронник. Неужели таким образом ему удастся скрыть свой страх? Нет, теперь, после трех дней боев, я знаю, что это у него естественное, этот кузнец скорее всех избавился от страха. Сеня Песоцкий сквозь оптику дальномера уже определил марки машин. — Группа слева — «Ю-88», справа — «Ю-87». Сверху — истребители! — сообщил он в напряженной тишине так громко, что услышала вся батарея. Каким, однако, может быть спокойным голос у людей в такую минуту! Я позавидовал ему и Астахову. Под Мухой забренчало сиденье. Противно это, неприятно. Надо бы ему сказать. А имею ли я право? Недавно оно так же бренчало подо мной. Да и голос… Еще неизвестно, какой будет у меня голос. Не выдать бы себя… Не свожу глаз с черных силуэтов; кажется, они заслонили собою все небо. Не пора ли стрелять? Почему не поставлены батареи на той стороне залива, чтобы встретить их огнем на подходе к городу? Да ведь они же могут зайти с любой стороны! Возможно, тогда не было этих мыслей, многие из них появились позже или только теперь, когда я пишу. Тогда было одно желание — скорее открыть огонь. Вот уже «мессершмитты» рванулись в сторону. Ага, в воздухе наши истребители! Сделав разворот, сошли с боевого курса «Ю-87». «На аэродром», — отметил я. Открыли огонь корабли. Наконец и у нас долгожданное: «Есть совмещение». — О-о-огонь!.. В первом залпе «рассыпали горох». Меня обожгла мысль: я, командир, лишний здесь, только мешаю трубочным! Действительно, мне нечего делать. Или, может, я забыл свои обязанности? Нет. Я наблюдаю за работой номеров и целями. Перед фашистами возникла завеса разрывов. Неужели разбили их строй или они перестраиваются перед заходом на цель? Они просто рассыпались. Видно, как от фюзеляжей отделяются бомбы и летят… Дьявольски медленно летят! Свист… Взрывы… Бомбы рвутся в городе, но бомбежка не прицельная. От сознания этого пришла уверенность. Я закричал: — Так их, хлопцы! Так их, гадов! Муха! Совмещай! Я нашел себе занятие — выбрасывал за бруствер пустые ящики, открывал новые. Меня увлекла работа Астахова. Черт возьми! Этот человек не воевал, а работал — так спокойно он заряжал и стрелял. Сначала даже казалось, что он делает это слишком медленно. Но Астахов ни разу не опоздал с выстрелом, зарядив, он еще какое-то мгновение ждал команды. Залпы наладились. Я подумал, что тут стреляют лучше, чем стреляли мы на учебной батарее, и люди ведут себя несравненно спокойнее. Правда, у них было больше боев, чем у нас, но все равно мне стало обидно. И вдруг все полетело к дьяволу. Началось с крика разведчика: — Самолеты над четвертым! А дальше было почти то же, что у нас в первом бою. Несколько «Ю-87» зашли с востока и неожиданно атаковали батарею. Они спикировали с диким воем и свистом; потом выяснилось, что вместе с бомбами фашисты бросали рельсы и пустые бочки, чтобы нагнать больше страха и паники. Одна бомба разорвалась совсем близко, нас обдало горячим воздухом и обсыпало землей. Стрельба с прибором разладилась. Сквозь разрывы, стрекотанье пулеметов, крики я услышал команду Севченко: — Прямой наводкой! Я повторил ее для своего расчета: — По самолету — прямой!.. Муха подсунул голову под оптический прибор, словно он мог закрыться от бомб и пуль, сгорбился и не реагировал на команду. Я схватил его за плечи. — Прямой! Муха! — и выругался зло, грубо, как, пожалуй, не ругался никогда в жизни. Муха в ответ еще больше сгорбился и вобрал голову в плечи — над ним снова завыл пикировщик. Я глянул вверх и, как в первом бою, увидел черные кресты в желтых кругах. Словно взрывной волной, ударила в сердце, в голову ненависть, лютая ненависть к этим крестам, а потом — к Мухе. Я рванул его с сиденья, толкнул на снарядные ящики, а сам очутился на месте наводчика и сразу поймал самолет. — Цель поймана! Огонь! Молодчина, Астахов! Выстрел грохнул без задержки. Второй — так скоро за первым, что я, ослепленный вспышкой, не успел снова поймать цель. — Заряжающий! Команду!.. И Астахов, этот спокойный и медлительный кузнец, услышал мои слова и понял их значение, хотя в этот момент снова где-то близко рвались бомбы и над нашими головами летели снаряды соседнего орудия. — Цель… О-онь! — не совсем по правилам скомандовал я. Но Астахов отлично понял: «цель» — заряжай, «онь» — стреляй. И вдруг я увидел, как над самолетом, который я вел в оптическом прицеле, взметнулось пламя — вероятно, взорвался бензобак, — и окутанная дымом машина, неуклюже и тяжело кувыркаясь в воздухе, грохнулась на соседнюю сопку. Сквозь увеличительное стекло я смотрел, как рвался и горел тот, что нес нам смерть! Вот тебе! Мы живые, мы будем жить! А ты сгоришь, истлеешь. И даже дети не будут знать, где ты похоронен, потому что не будет у тебя могилы на чужой земле! Наверное, так я о нем думал в то время. А грудь распирало какое-то новое, непривычное и очень сильное чувство. Кто-то крикнул «ура». Мне не хотелось кричать. Не было слов, чтоб высказать свое чувство, потому что оно было сильней любых слов. Если говорить просто, это была радость — радость первой победы, радость ощущения своей силы. Но было и еще что-то: возможно, победа над страхом, уверенность в своих командирских способностях или и то и другое. Я не сразу вспомнил наставление: сбил одну цель — лови вторую. Хотя мое любование костром от фашистского самолета продолжалось секунду-две, не больше, но когда я спохватился и начал искать другие цели, то увидел, что они далеко за заливом. Там шел воздушный бой. Вверху, как в карусели, как в странной игре, кружились истребители. А внизу, над самой землей, уже не боевым строем, как шли сюда, а по одному, врассыпную, как разбойники, удирали бомбардировщики. Да, было такое впечатление, что они удирают, — и от этого тоже стало радостно. Я все еще искал цель, когда кто-то схватил меня за плечо. — Отбой, командир, — услышал я голос Астахова. Я оглянулся и увидел Муху. Он сидел на земле между ящиками и держался за щеку; его лицо, руки были измазаны кровью. Я бросился к своему заместителю: — Вы ранены? В ответ он запричитал, зашипел, забрызгал слюной: — Ранен? Вы… вы… убили! Фельдфебель!.. Держиморда… Это тебе не фашистская армия! Вот пойду покажу комбату!.. Я ничего не мог понять и стоял растерянный, не зная, что делать. Муха вскочил, еще больше размазал по лицу кровь и хотел было выйти из котлована. Астахов схватил его за грудь и тряхнул. — Ты, баба! На кого жаловаться идешь? Да я тебя распишу, как бог черепаху. Впрочем, иди! Иди! — он толкнул его. — Жалуйся, сволочь! Трус несчастный! Ты же трус. Ты же не ловил цель, а прятал под оптику голову, как заяц… Тебя же по законам военного времени расстрелять надо. И я первый скажу… Иди! Астахов толкнул Муху. Но у того пропало желание идти жаловаться, он отступил назад в котлован, трусливо огрызаясь: — Не ври! Я совмещал… Может, я не услышал команды, меня оглушило. А он… показать себя захотел… Геро-ой! Подскочил маленький Черняк, блеснув своими девичьими зубами. — Врешь, Муха! Командир трижды повторил команду! Все слышали! — Вытри ему сопли, Ваня, — насмешливо посоветовал Астахов. — Пусть не размазывает по лицу. Наконец я догадался, что случилось: когда я сбросил наводчика с сиденья, он ударился о снарядный ящик и разбил щеку. У меня не было на него ни злости, ни обиды, потому что я хорошо помнил свой собственный страх. Но я увидел, что расчет признал меня: бойцам понравилась моя решительность и смелость. Оказывается, я могу быть смелым. Однако в «бою» между Мухой и Астаховым я стою в стороне, и это не на пользу мне. Надо и тут проявить решительность! — Эй, на КП! Санинструктора сюда! — Не надо, — испуганно возразил Муха. Раньше, чем откликнулся неповоротливый «медик», явился сам командир батареи. — Что произошло? Раненые? — озабоченно спросил он. — Да вот ефрейтору Мухе щеку… — ответил я, готовый объяснить все правдиво, если понадобится. — Чем? Осколком? Камнем? — Камнем, — солгал Муха. Переглянулись между собой бойцы, пряча хитрые усмешки. Севченко дотронулся до щеки «раненого». — О, с таким ранением будешь жить, Муха, и диты будешь маты. Комбат, довольный, веселый, оглядел всех нас и не удержался, чтоб не похвалить: — Хорошо стреляли, молодцы! — А это мы его, товарищ старший лейтенант! — кивнул Астахов в ту сторону, где догорал сбитый самолет. — Вы, конечно. Но не зазнавайтесь. Вообще стреляли еще погано. — Наша пушка сбила, — твердил свое упрямый кузнец. Меня неприятно удивила самоуверенность и настойчивость заряжающего. Я и не думал, что самолет сбит нашим орудием, потому что вели огонь все. Разберись, чей снаряд попал! Астахов думал иначе. — По этому били только наше и третье орудие. Командир батареи нахмурился. — Ладно, разберемся. Но видели? Нелегко им атаковать батарею, когда она ведет огонь. Вон куда бомбы побросали. Главное — не бояться! Когда он ушел, Астахов сказал мне: — Чудак ты, командир, а человек хороший. А за самолет надо бороться. А то Шарун, командир третьего, он из зубов вырвет. Начнет доказывать: он — старший сержант, а ты — ефрейтор, он — старый командир, а ты — один день… Я этих мастеров знаю. Больше горлом берут, чем работой. Мне не понравились такие рассуждения. Неприятно было думать, что надо бороться, доказывать, кто сбил самолет. Разве это игра, соревнование, спорт? Война — смерть, горе… Разве можно в такое время думать о какой-то славе, награде? Надо бить врагов, что растоптали мое… наше счастье. Бить и не считать, кто больше.
4 июля
Вчера выступал по радио председатель Комитета Обороны. Мы слышали речь, когда она повторялась дикторами. Лазебный — радиолюбитель, и в домике, где они живут с командиром, стоит радиоприемник его собственной конструкции. Воспользовавшись тем, что погода в первой половине дня была облачная, почти нелетная, нас по очереди приглашали к приемнику. Затаив дыхание выслушали мы суровые слова еще более суровой правды. Наконец стало ясным главное. Исчезли иллюзии относительно магических линий обороны и «кутузовской стратегии». Теперь мне стало понятно, почему появились Борисовское и Бобруйское направления. Но не могу, не могу согласиться с мыслью, что Минск уже в их руках. И Бобруйск… Я плыл… я шел от Бобруйска к Речице. Это же рукой подать до Приднепровья, там — Саша, там — моя Саша… Тишина. Город окутан едким дымом. Говорят, горят склады рыбы. Удивительно я изменился за эти дни: мне страшно от тишины и хочется боя. Вчера еще один стервятник нашел свою могилу в заливе. Второго истребители сбили над Колой. Фрид сидит в нише, латает свои протертые снарядами брюки и напевает до боли печальную еврейскую песню. И все слушают, прекратив работу. — Про что это, Ханон? — спрашивает Астахов. — О матери, старой матери. Она одна… — Утихни, — просит Муха нервно, с отчаянием в голосе. У Черняка по его смуглой щеке катится крупная и тяжелая, как ртутный шарик, слеза.
20 июля
Такой жары здесь не было семьдесят лет. Полмесяца на небе ни единого облачка, ни единой тучки, солнце пекло, как у нас в Белоруссии в дни сенокоса. Даже ночью, когда солнце пряталось за северную гору, что закрывает от нас аэродром, в воздухе не чувствовалось прохлады. А днем можно было купаться. Внизу под сопкой протекает ручей, и мы с завистью смотрели на тех счастливцев, которые могли окунуться в холодную воду. Порою там, за валунами, раздевались женщины. В городе шла какая-то своя жизнь, конечно, нелегкая, военная и не менее опасная, чем у нас. Но все же жизнь. А у нас ее не было, у нас — только война. Нам было не до купанья, не до отдыха и даже не до разговоров о чем-нибудь ином, кроме войны. Мы стреляли по нескольку раз в день. Они летают почти непрерывно. Высоко в ясной голубизне проходят разведчики, шныряют, как собаки, черные «мессершмитты». Они навязывают бои нашим слабеньким «И-153» и сбивают их. О, как это больно видеть! Дня два-три бомбовозы идут небольшими группами, по три — пять, изредка по одному. Потом — массированный налет! Теперь я не могу вспомнить, в какой день были налеты, когда и как мы стреляли. И дни и бои похожи один на другой, как близнецы. Навсегда запомнилось только одно — желание спать. Они не давали нам заснуть больше, чем на час-два в сутки. Удивляюсь, как люди держались на ногах! Мы ловили каждую минуту передышки, чтоб прилечь или по очереди, опершись на бруствер, подремать. Много хлопот было с Габовым. Он засыпал мертвым сном и не просыпался даже от выстрелов. Его ругали, стыдили, угрожали судом, но ничего не помогало. Тогда Астахов нашел способ: он выливал на голову Габова ковш воды, тот моментально просыпался и занимал свое место у орудия. Я возразил против такой меры, но сам «сын севера» не обижался. — Водичка теплая. Ах, хорошо! — шутил он. — А как зимой будет? Превратишься в сосульку. — До зимы мой будет кончать спать. И все же мне крепко досталось от командира взвода старшины Малашкина. Он любил Габова, которого научил читать и писать. А вообще Малашкин странный и пока что непонятный мне человек. Он и теперь ходит с учебником высшей математики и каждую свободную минуту читает его с таким интересом, как читают приключенческий роман, и делает какие-то расчеты. Бывает, докладываешь ему что-нибудь важное, а он словно не слышит, не обращает внимания. Иной раз может пройти мимо существенного нарушения, а то вдруг расшумится из-за мелочей. За воду он пригрозил мне трибуналом. Севченко стоял в стороне, не вмешиваясь в «проборку» взводного, и тайком смеялся. Муха после первого боя стал примерным солдатом: никаких «ты», никакого панибратства. Да и все остальные относились ко мне с уважением. Один только Астахов продолжал обращаться ко мне на «ты». Я хотел сделать ему замечание, да так и не решился. И хорошо сделал: такая официальность умному человеку не нужна. Мы стали друзьями, и наша дружба хорошо влияет на всех солдат. Расчет живет, если это можно назвать жизнью, дружной семьей. Во время коротких передышек между боями, когда «принимаем пищу» — завтракаем или обедаем, — сердечно разговариваем, шутим. И вот во время одной такой беседы я шутя спросил своего заместителя: — Слушай, Муха, откуда это у тебя такая нелепая фамилия? Сказал — и забыл. А Муха обиделся или, может, просто нашел причину пожаловаться командиру взвода. Тот отозвал меня к дальномеру и накричал. Он обвинял в некультурности, несоветском отношении к человеку, даже хулиганстве и тут же в «интеллигентской мягкотелости», панибратстве с подчиненными и неумении поддерживать дисциплину. Я ответил, что расчет стреляет не хуже других. — Это не ваша заслуга! — крикнул командир взвода. Значит, он считает это своей заслугой. «Пусть считает», — подумал я и обезоружил его покорным молчанием. Через минуту ему стало стыдно за свой крик, и он стал объяснять мне, каким должен быть командир Красной Армии. Мне почему-то стало жаль его: он сам не идеальный командир, но человек правдивый, и я уважаю его. А Муха заставил меня насторожиться. Я рассказал обо всем Астахову. Тот возмутился: — Вот подлюга! Шуток не понимает. Ну, мы его проучим!.. Неужели это самое главное в моей жизни — записывать такие обычные, будничные, мелкие разговоры, стычки? А мои мысли, переживания из-за того, что происходит там, на фронтах? Боль в душе не утихает и с новой силой дает о себе знать, когда в сообщениях Совинформбюро называется новое направление. Порою вспыхивает надежда… Так она вспыхнула, когда наши снова отбили Рогачев и Жлобин. Может, это перелом и дальше на восток и вниз по Днепру они не продвинутся? Но явилось Смоленское направление — и снова боль… Обрадовало нас соглашение между СССР и Англией. Снова надежда. Который уж день только и разговоров, что об этом соглашении. На коротком совещании младших командиров, которое комбат созывает после каждого боя, Сеня Песоцкий сказал: — Теперь можно представить, какое значение приобретает наш Мурманск. Единственный незамерзающий порт с выходом в открытое море. Кратчайший путь в Англию! Вероятно, сам Севченко не успел еще подумать об этом, потому что сразу подхватил Сенины слова, начал развивать их и приказал разъяснить бойцам. С Сеней мы встречались только на этих коротких совещаниях, хотя находились друг от друга в каких-нибудь тридцати шагах. Можем перекрикиваться из котлованов, но поговорить некогда, да и не разрешается — все время тревоги. А мне так хочется поговорить с ним, отвести душу, вспомнить наше Приднепровье, где его мать и моя Саша… Теперь я чаще, чем до войны, с большой печалью, с любовью и умилением вспоминаю эти места. Однажды мне даже приснилось, что я стою на берегу Днепра, там, в местечке, где все знакомо: больница, школа, тропинка во рву, по которому стекает весенняя вода. Только Днепр был не тот — раза в три шире, и вода бурлила и пенилась. А на другом берегу я видел не лес, как в действительности, а бескрайний ровный-ровный луг. Вдали маячили белые силуэты. Я до боли в глазах всматривался и никак не мог понять, что это — девичьи косынки или аисты? Странный сон! Хочется хоть раз увидеть во сне Сашу. Но напрасно — снятся какие-то кошмары, несуразица. Впрочем, это естественно — ведь мы уже почти забыли, что такое нормальный сон, то, что мы называем сном, — какая-то болезненная дремота, бред — спишь и продолжаешь стрелять. Из боев этих дней запомнились два — те, в которых мы победили, если можно назвать победой сбитые самолеты. Хочется так называть. Хочется победы! Их было пять. Они шли боевым курсом на город не с запада, а почему-то с юга. Потому первой их встретила бывшая учебная батарея, на которой я начинал службу. Она дала залп. Снаряд, как видно, попал в бомбовый люк самолета, потому что он взорвался. Взрыв повредил еще два «юнкерса». Один камнем упал на землю, а другой попытался улететь, но протянул недалеко — на том берегу залива летчики выпрыгнули с парашютами. Двое из тех, что уцелели, сбросили бомбы где-то между Колой и городом и бросились наутек. Их догнали наши истребители. Вот это можно назвать победой! Второй бой — воздушный. Нашего маленького «ишачка», который по тревоге поднялся с аэродрома, прижали четыре «мессершмитта». Мы держали их на прицеле, но не стреляли, они вертелись, как ужи, а вести огонь прямой наводкой не было смысла — очень высоко. Сердца наши сжимались: вот еще наш, советский человек, наш друг через минуту будет мертв. Зачем он поднялся один? Почему его друзья не летят на помощь? Истребитель так ловко, так умело маневрировал, что на батарее послышались восторженные возгласы. Вот он развернулся, пошел в атаку, и через минуту один «мессершмитт», оставляя за собой полосу черного дыма, врезался в скалы. Хлопцы закричали «ура!». «И-16» почувствовал свою силу и стал атаковывать еще более настойчиво. «Мессеры», прикрывая друг друга, старались зайти смельчаку в хвост. Но он все время навязывал им лобовую атаку сверху и умело использовал даже их преимущество в скорости. Когда и другой стервятник грохнулся о землю, хлопцы ревели от восторга. Спокойный Астахов подбросил вверх каску. Вдруг в небе невесть откуда появились еще четыре черных гада. Один против шести. Наш сокол, видимо, сообразил, что ему надо спасаться. Он бросился к нам. Мы сразу не поняли его намерения, когда он на бреющем полете начал кружить вокруг батареи. Но когда фашисты попробовали приблизиться к нему, Севченко скомандовал огонь прямой наводкой. Увидев букеты разрывов, «мессеры» отвалили. Потом долго ходили по широкому кругу, подкарауливая смельчака, но их обстреляли другие батареи. Тогда, разъяренные, они бросились на город так низко, что стрелять было нельзя, и начали строчить из пулеметов в окна домов. Это преступление не прошло безнаказанно. Они нарушили свой боевой порядок, и наш герой использовал это: когда они делали разворот, он бросился на последнего и… сбил его. Маленький Черняк перекувыркнулся через голову. Длинный Фрид начал скакать через упоры, как заяц. Муха, не отрываясь от оптики, молотил себя кулаками по груди. Какое это счастье — победа! Как она поднимает настроение людей! Фашисты убрались. «И-16» покружил над батареей. Приветственно помахал нам крыльями и спокойно полетел в сторону аэродрома. Расчеты наперебой спрашивали командира батареи: — Товарищ старший лейтенант! Позвоните — кто он? Как его фамилия? Через полчаса Севченко вышел из будки связи и крикнул: — Батарея, слушай! Звонил пилот капитан Сафонов и благодарил за поддержку. Полмесяца мы просили небо, чтобы оно послало непогоду, дождь, дало передышку. Сегодня оно смилостивилось над нами. Собственно говоря, не небо, а море — оттуда приплыл густой, как вата, туман. Сразу стало холодно.
21 июля
Письмо от Саши! Я, забыв о субординации, выхватил конверт из рук комвзвода. У меня дрожали руки. Видимо, я изменился в лице, потому что Малашкин, сухо взглянув, опустил глаза и молча отошел. Мне страшно было читать письмо в присутствии бойцов. Я вышел за котлован, спрятался за камень, рассмотрел штампы. «Речица, 3.7». Забилось сердце: написано через две недели после начала войны. Что там? Радость, горе? Наконец я набрался мужества и осторожно, как разряжают мину, разорвал конверт. Знакомая страница из ученической тетради. Жива! Здорова! Но странно, странно ты пишешь, Саша. Словно и нет ее, войны, и не подступает она к вам, хотя писала ты третьего июля, когда на фронте уже появилось Бобруйское направление. Неужели меня сейчас только и интересует твоя работа в поле или то, что наша доченька вся в меня, даже родимое пятнышко такое же на мочке уха?! Да, это интересует, это дорого мне. Но я же знаю, что не это главное сейчас и не этим ты живешь теперь. Нет! Я принял крик твоей души в конце письма, ты просишь, чтоб я был осторожен. Ты веришь, что я жив? Ты не можешь не верить — я понимаю. Да, я жив! Я буду жить, потому что я победил свой страх и научился убивать врага. Я вернусь к тебе! Вернусь, Саша!.. Сколько раз за день я перечитывал дорогое письмо! Сколько вычитал того, что там не написано! Но клевер… Зачем ей убирать клевер? Может, это намек? Вот этого я не могу понять, хотя голова моя, как снаряд, скоро разорвется от мыслей на мелкие осколки. «Сегодня полдня я помогала Ане убирать клевер. И Ленка была со мною на поле, это недалеко, за прудом. Помнишь, где мы сидели с тобой однажды у старых верб? Ленка все время спала…» Клевер… пруд… вербы… и ни одного слова о войне. Милая Саша! Впервые я не понимаю тебя. Правда, ты говоришь, что пишешь мне почти каждый день. Ты думаешь, что я получаю твои письма? Нет, их где-то по дороге глотает война так же, как и мои к тебе. Значит, она действительно близко от тебя, потому что Астахову из Подольска и ребятам из Москвы письма приходят аккуратно.
22 июля
Третий день плывет туман. «Как в Лондоне», — говорят хлопцы, хотя многие, вероятно, прежде ничего не слышали о туманах в английской столице. Теперь даже малограмотный Габов может прочитать целую лекцию о Британских островах. Хочется знать о тех, кто воюет совместно с нами против фашизма. После жары — осенний холод. Ходим в шинелях. Вот он, север! Севченко разрешил расчетам отоспаться. Но на холоде, в сырых нишах, не очень-то спится. По очереди ходим в землянки, за огневую позицию. Чудесные мирные землянки! Они кажутся хоромами, хотя теперь и там не очень уютно: от выстрелов и разрывов бомб полопались газеты, которыми были оклеены стены, потрескались доски, сыплется песок. Всюду следы разрушения. После обеда ко мне пришел Сеня. — Хочешь, пойдем к комбату? — Хочешь! Так я и захотел! Позовет — побегу. А без надобности… — Я с иронией взглянул на Сеню: друг комбата нашелся! — А зачем мне идти? Сеня усмехнулся. — Севченко стихи любит. — Стихи? — удивился я. — Он слышал, как я своим бойцам Шевченко читал. Вчера ему все перечитал, что знал. — И свои? Сеня покраснел, схватил меня за руку. — Слушай, о моих — ни слова. Как друга прошу… — Ладно. Буду молчать. Но скажи по секрету — пишешь? — Пишу. Пишу, — признался он таинственным шепотом. — Ну, пошли. Я шел с каким-то непонятным страхом. Комбат был в своей землянке. Мы постучали и получили разрешение. Я стал было докладывать: — Товарищ старший лейтенант… Севченко махнул рукой: не надо. И необыкновенно просто и гостеприимно предложил: — Садитесь, хлопцы. Он без ремня, с расстегнутым воротом сидел на табуретке перед печкой и подбрасывал дрова. В землянке тепло и приятно пахло жильем. Вообще тут было как-то по-домашнему уютно, не так, как в землянке Купанова. Там все по-солдатски просто, а тут — как в хорошей квартире: никелированная кровать, мягкий диванчик, на стене украинский ковер, картины, фотографии. Мой взгляд остановился на большом портрете молодой женщины с ребенком на руках. Какая это красота — мать с ребенком! Я подумал о Саше. Сколько было бы у нее теперь счастья, если б не эта проклятая война! Севченко, заметив, что я смотрю на портрет, пояснил: — Жена с сыном. Отослал их в Ижевск, сестра там у меня замужем. — И у меня жена и… дочка. — Я знаю. Мне говорил Песоцкий. О, как я благодарен за эти простые человеческие слова! В них не было ни сидоренковского любопытства, ни сочувствия, какое порою проявляют старшие к младшим, ни еще чего-нибудь такого, что могло бы оскорбить мои чувства. Это был сердечный разговор двух мужчин-отцов, хорошо понимающих друг друга. Мы разговаривали вполголоса. В землянке, кроме комбата, находились политрук Лазебный и командир прибора Виктор Вольнов. Они стояли возле стола над картой и горячо, как два заправских стратега, обсуждали положение на фронтах. Я всегда завидовал этому говорливому москвичу — нашему другу Виктору — за умение в любой обстановке, с любыми людьми держаться просто, независимо и быстро включаться в общую беседу, завоевывать общее внимание. Интересный человек наш политрук. Он ходит от одного орудия к другому, к прибору, связистам, разведчикам, проводит беседы — рассказывает эпизоды из истории русской военной славы, о героизме Красной Армии, о положении на фронтах. Интересно рассказывает. Он почти никогда не молчит. И, однако, у меня почему-то такое впечатление, что Лазебный самый тихий, молчаливый и незаметный человек на батарее. Почему — не могу понять. Может, потому, что он никогда не кричит, не повышает голоса? К беседе политрука с Виктором присоединился Сеня. Они разбирали Жлобинско-Рогачевскую операцию, делали прогнозы, как будет развиваться дальше контрнаступление наших войск. — Ваши далеко отсюда? — спросил меня Севченко, прислушиваясь к беседе. — Нет, недалеко… Хотя все же! На юг от Речицы. Почти на границе с Украиной… — Полесские болота не позволили им развить наступление в этом направлении, — сказал Лазебный, услышав мои слова. Я радостно встрепенулся. Конечно, тут Полесье, болота, тут они не смогут пройти. Как я забыл о таком важном обстоятельстве? Может, потому и Саша пишет так спокойно. — Вот Жлобин, вот Рогачев… Значит, наступление развивается на Оршу. А на севере, в районе Полоцка, наши. Немцы вклинились в середину, рвутся на Смоленск… Оголили свои фланги. Вот тут их можно резануть и — в мешок! — горячо объяснил Виктор свой стратегический план. — Твое место, Витя, в генштабе, а не на приборе, — сказал Сеня, улыбаясь, но с заметной иронией — он не любил пустых разговоров на такие темы. Политрук вздохнул: — Да, по карте все легко. А они всю Европу на нас бросили… И так внезапно… — Вчера письмо получил, — доверчиво признался я Севченко. — Писала третьего июля — и ни слова о том, что у них там… Он усмехнулся, поправил палкой пылающие поленья. — Они умеют беречь военную тайну и наше спокойствие… Моя тоже пишет… — Но что пишет, так и не сказал. Севченко отошел от печки, сел на диван, забросил свои длинные мускулистые руки за голову. — Давайте, братцы, минутку… одну минутку отдохнем от войны, — попросил он «стратегов», все еще шнырявших по карте. В странной усмешке скривились губы политрука. — Ты думаешь, Василий Павлович, это можно — отдохнуть от войны? — Попробуем, — хмуро, словно чувствуя неловкость за свое желание, ответил Севченко и повернулся к Сене: — Почитайте, Песоцкий, что-нибудь. Сеня встал посередине землянки, минуту подумал и начал читать, без смущения, без позы — просто, как по книге, немного даже монотонно:
По діброві вітер віе,
Гуляе по полю,
Край дорогі гне тополю
До самого долу…
И приняла, и обласкала,
И обняла,
И в вешних далях им качала
Колокола.
2 августа
Утром пришел ко мне Сеня с каким-то странным видом — не то опечаленный, не то чем-то обеспокоенный. Сел, закурил. — Не кури здесь. Снаряды. Это тебе не дальномер. — Ничего твоим снарядам не станет. Их, если бы даже хотел, не подожжешь, — но папиросу скомкал, сунул в коробок из-под спичек. Я работал. В перерывах между боями батарея строит новые землянки. Каждый расчет — возле своего орудия или прибора, чтобы можно было по тревоге выбегать за несколько секунд. Пока долбили камни, работали нехотя, особенно лодырничали Муха и Фрид. Но когда начали выводить стены, настилать пол, потолок, всех охватил строительный азарт. Люди соскучились по работе. Выяснилось, что Габов — плотник, Фрид — обойщик, а Астахов — мастер на все руки. У нас будет самая лучшая землянка — просторная, красивая. Командиры других отделений приходили к нам учиться. Мне показалось, что Сеня пришел с такой же целью. Вероятно, у него не ладится со строительством. «Интеллигентский расчет», все там такие, как командир, — пришли в армию со школьной скамьи. Надо помочь им. — Видишь, какой дворец строим, — сказал я, показав на землянку. — А зачем? — сморщился он. — Всю войну на одном месте провоевать хотите, что ли? — Ты почему сегодня такой?.. Он снова достал папиросу. — За месяц ты стал заядлым курильщиком, — упрекнул я. — Кидала приезжает, — глухо проговорил Сеня и сломал папиросу. — Степан? К нам? — Командиром взвода управления. — Фу, черт! А почему ты испугался? — Я не испугался, но знаешь… не люблю этого человека. Я говорил тебе… Хочу, чтоб в душе было все ясно: враг есть враг, а друг есть друг. — А на кой черт тебе его дружба? Ты — огневик, он — разведчик. Пусть занимается своим делом. Часа через два явился Кидала. Я сразу увидел его на командном пункте: высокий, плечистый, в новенькой гимнастерке, в офицерской фуражке — он казался генералом, богатырем рядом с маленьким, худощавым Малашкиным. Видимо, звание им присвоили одновременно. Малашкин только вчера вечером нацепил петлицы младшего лейтенанта. Мы поздравили его. Он смущался, как девушка. И почему-то злился: накричал на Муху за грязный подворотничок, на командира третьего орудия — за тряпки для чистки, которых у нас теперь не хватает. Кидала явно любовался своим новым положением — офицера, командира взвода, выставлял себя напоказ: отлично козырял, на всю батарею стучал каблуками и докладывал комбату таким громовым голосом, что, вероятно, было слышно в городе. — Что это за дьякон явился? — спросил Астахов. Я рассмеялся — очень меткое определение, если знать Кидалу. — Мой земляк. Мы вместе в техникуме учились. — О-о!.. — многозначительно протянул Астахов. Этот кузнец хитрый, как сто чертей, он все понимает и видит наперед. Кидала не подошел к орудию, и я не пошел к нему, чтобы поздороваться. Но когда батарея обедала, дежурный разведчик закричал: — Командира четвертого — к командиру взвода управления! — Земляк в гости зовет, — пошутил Муха и, как всегда, что-то пробормотал себе под нос. Кидала был один в командирской землянке. Еще за дверью я набрал полную грудь воздуха и, переступив порог, выпалил без запинки, съедая его глазами: — Товарищ младший лейтенант, по вашему приказанию сержант Шапетович явился. Он выслушал доклад до конца, став «смирно», сжав губы. Но лицо… Какое лицо было у него в тот момент! Нет, он не сиял, он посинел от натуги, стараясь удержать улыбку удовлетворения и радости. И все же не удержал! Улыбка расползлась по всему широкому самодовольному лицу, даже покраснели большие оттопыренные уши. — Давай без формальностей, — протянул он руку. — Мы с тобой старые друзья. Не один пуд соли съели вместе. И, видишь, опять нам вместе быть. Судьба!.. Садись. Он сел, и я примостился напротив на табуретке. Он вздохнул. — Остался я, Петя, без дома. Заняли, видимо, фашисты мои Паричи. Ни одного письма не получил, как война началась. У меня болезненно сжалось сердце. Но ни сочувствовать ему, ни высказывать свою боль не мог. Только опустил голову. Мы помолчали. Мне стало жаль его, в душе шевельнулось теплое чувство. У нас одинаковая судьба. — Ну, как ты живешь здесь? — спросил он. — Хорошо. Воюем. — Батарея хорошая. На КП хвалили. Как командир? — Севченко? Золотой человек! — У тебя всезолотые. Я тебя знаю. Помнишь, ты в техникуме физика Бруя хвалил? А его посадили… Я заступился тогда за тебя на комсомольском собрании, а то показали бы тебе кузькину мать. Помнишь? От моей приязни к нему ничего не осталось. — Странные у тебя скачки — от комбата к Брую. — Какие скачки? — испугался он. — Что ты! Я просто вспомнил. А Севченко я хорошо знаю, не один раз встречались… Он насторожился, взглянул на меня недоверчиво. Мы снова помолчали. — А нацдемчик наш как тут воюет? — Кто? — не понял я. — Дружок твой. Вмиг вспомнилась вся история первого дня войны. Сенин страх перед этим человеком, высказанный сегодня утром. Я возмущенно поднялся. — Какой он тебе нацдемчик? — Он все стишки читает. Немецким интересуется. Я оттолкнул ногой табурет, на котором сидел, и приблизился к Кидале. — Слушай, Степан, никак я не пойму — кто ты?.. Он угрожающе шевельнулся. — Ну-ну… — В техникуме я считал тебя человеком… Что тебе надо от Песоцкого? — Ничего мне не надо. Так, к слову пришлось. — Имей в виду… Если ты снова будешь придираться к нему… Что он тебе сделал? Образованнее тебя? Немецкий язык изучает… стишки любит… названия линкоров запомнил?.. Стыд! Позор! Ты же культурный человек. Одним словом, я не буду молчать, если ты… И Севченко поддержит меня, это тебе не Сидоренко, перед которым ты подхалимничал. Он уже стоял, официально вытянувшись, с надуто-красным лицом. Я ждал, что он вот-вот скомандует: «Смирно! Кругом — арш!» или что-нибудь в этом роде. Я не удивился бы, если бы он это сделал. Но он сказал довольно мирно: — Офицеров осуждаешь? Не забывай… — Кого я осуждаю? Тебя? Если ты меня позвал как друга, как земляка, то давай так и разговаривать. По-дружески… А если как старший, как офицер, то я вас слушаю, товарищ младший лейтенант! — Я тоже вытянулся, стукнул каблуками. — И разговор окончен! Он засмеялся. — Чего ты кипишь? У меня теперь без твоего Песоцкого хватит дел. Связь, разведка… Я в шутку сказал, а ты расходился, как… холодный самовар, — не очень остроумно пошутил он. — Садись, побеседуем. Пришел Малашкин с логарифмической линейкой в руках, углубленный в какие-то подсчеты, и помешал нашему разговору. И я не пожалел, даже обрадовался. Не хочется мне говорить с Кидалой, хотя мы два года прожили в одной комнате и… дружили.
7 августа
Время от времени я проваливаюсь в черную бездну, где, однако, не утихает канонада. Ничего не хочется — только тишины, одной минуты тишины, такой, чтобы обо всем забыть. Сегодня они еще не прилетали, а тишины нет — в голове гудит и грохочет. Третьего дня они прилетели во второй половине суток, вчера — немного раньше. Говорят, третьего дня их было шестьдесят. Не верю, их сотни! Возможно, сначала прилетели шестьдесят, а тех, которые потом прилетели, никто не считал. После первого массированного удара из дыма, сажи и пыли, поднявшейся над городом, еще долго выныривали по три, по два, по одному самолету, бросали бомбы на Колу, аэродром и голые скалы. Ствол орудия стал черным, и оно под конец не стреляло, а «плевалось»: снаряды рвались над нашими головами, хотя трубки устанавливали на большие дистанции. Они не атаковали батарею, они бросали бомбы куда попало, с расчетом уничтожить все живое в городе и вокруг него. Одна фугаска разорвалась возле третьего орудия. У нас обвалилась землянка, в котлован полетели порожние ящики из-под снарядов, которые я выбрасывал на бруствер. Меня оглушило. Я не помню, было ли совмещение, ловил ли Муха цель, потому что потерял не только слух, но и все чувства. Одно только запомнилось: Астахов, широко разинув рот, хватал снаряды и… стрелял, стрелял без конца. Лицо у него было страшное. Казалось, его невозможно остановить. И действительно, только когда бледный Малашкин тряхнул его за плечи, показывая на ствол, где пузырьками вздулась краска, Астахов опустил руки. Комвзвода что-то закричал. Я показал на свои уши. Он показал рукой на третье орудие. Я взглянул и увидел, что оно свернуто набок. — А люди? Что с людьми? — не помню, спросил я об этом или только подумал. Астахов пошел за Малашкиным. Я поплелся за ними. Люди, наши друзья… трое лежали на вытоптанной тропинке. Лежали в ряд, словно перед этим построились, потом упали на спины, лицами в дымное небо, где все еще гудели самолеты. Я узнал двоих: Панков, Хамидов. У третьего вместо лица — кровавое страшное месиво. Потом я узнал, что это Лисицын, веселый и наивный парень, который звонче всех смеялся. Мне стало дурно, кровавое пятно поплыло перед глазами. Кто-то окликнул меня, кто-то застонал… Как в тумане, вернулся я к своему орудию и сел на землю. Меня тошнило. Пришел в себя от крика: «Воды!» Повалившись на бруствер, Астахов рвал на груди гимнастерку. Он отбросил кружку с водой, протянутую ему Черняком, выпрямился, поправил ремень и начал вытирать затвор. Но как почернело, изменилось его лицо! И вот уже двое суток он молчит. Мы все молчим. Я слышу голоса, словно сквозь шум близкого водопада. В ушах горит, а в глаза словно песку насыпало. Закрою глаза — вижу веселое лицо Лисицына, открою — ужасное кровавое месиво. Мучительно!.. Вчера Сеня Песоцкий сказал на совещании командиров: — Почему нам не дали похоронить наших друзей? Куда их повезли? Есть же воинская традиция: подразделение само хоронит погибших… Севченко разозлился и накричал на Сеню, что он вмешивается куда не надо, — командование знает, что делать… А после совещания подошел к дальномеру, сел на бруствер, сказал тихо, с болью: — Песоцкий, не береди ран в душе. Не думай, что у одного тебя они болят. У меня они тоже кровоточат. Не трогай… Что случилось, то случилось. Война… Раны надо залечивать как можно скорей. Сеня понял его и извинился. Севченко махнул рукой. — При чем тут извинение?! И долго сидел молча, вглядываясь куда-то в даль. Казалось, что после двухдневной варварской бомбардировки в городе не осталось ничего живого. Ночью прошел дождь, погасил пожары, осадил пыль и дым. И вот он, город, снова перед нами, искалеченный, но живой. На станции маневровый паровоз перетаскивает вагоны. В порту поворачивает свой длинный хобот, словно что-то вынюхивает, подъемный кран. По заливу скользят катера. На улицах, как муравьи, копошатся люди. Много людей. Увидел все это — и легче стало на душе. Почувствовалась усталость. Впервые за двое суток захотелось лечь и уснуть. Хоть бы сегодня они не прилетели!
14 августа
Женщина на батарее! Голос ее, совсем не военный, а домашний, мирный, долетел словно с другого света, будто во сне. Бойцы перестали чистить пушку и, как аисты, вытянули шеи, выглядывая из котлована — кто она, откуда? — Военфельдшер из санчасти, — объяснил Фрид, который всегда обо всем узнавал раньше всех. — Голос приятный, — отметил Астахов. — Вот она идет с комбатом. — А косы, хлопцы, какие!.. — по-ребячьи восхищался Черняк. — Смотрите! Пилотка и косы. Красиво!.. — И в юбке! Не в брюках! — заметил Муха. Мне почему-то не понравилось это любопытство и реплики. — Разговорчики! Готовьте снаряды! И не очень распускайте языки! — крикнул я. Ребята переглянулись, удивленно передернули плечами. «Что мне до этой незнакомой женщины! И вообще ни одна женщина в мире не может интересовать меня!» Так я подумал в ту минуту. Так стараюсь думать и теперь, когда записываю это событие. И, кажется, начинаю хитрить с самим собою, потому что девушка заинтересовала меня. Увидел, что она обходит с санинструктором расчеты — побыла на приборе, дальномере, — и почувствовал, что ожидаю ее, волнуюсь, даже боюсь, чтобы не миновала наше орудие. Понимал, что это глупо. Думал: «Ну что мне от того, что она подойдет? Спросит о здоровье и, чего доброго, придерется к чему-нибудь…» И все равно ждал. Следил за ней, куда пойдет… Случилось так, что она направилась к нам. Я скомандовал: «К орудию!» Бойцы выскочили и построились вмиг, как никогда выпятив грудь, с надутыми от затаенных улыбок лицами. — Кру-гом! Смирно! Она смутилась, покраснела, замахала руками. — Не надо! Что вы… — Сам рядовой, — пошутил санинструктор Алеша Спирин, которого мы перекрестили в «Аспирин» и любим за грубоватый юмор и своеобразное лекарское искусство — всех лечить одинаково, не обращая внимания ни на какие назначения и указания военврача. — Доброе утро, — поздоровалась она совсем не по-военному. Бойцы не знали, как ответить на такое приветствие, и ответили кто как мог. Я больше не подавал команд, потому что перед этим мирным созданием исчезло все воинское, а только махнул рукой: «Разойдись!» В котловане она пригласила бойцов сесть. Щеки ее зарделись, это сделало лицо ее более привлекательным. Хотя вообще она не красавица: острый носик, серые маленькие глазки, живые, как у зверька, неестественно белые волосы с остатками завивки и румянец на щеках. С наивным, почти детским любопытством она осмотрела наше «хозяйство» и спросила о здоровье. Габов сказал, что у него болят зубы. Муха показал на живот. Никогда раньше он на свой живот не жаловался, а довольно часто в минуту затишья просился на кухню, чтобы выпросить у повара добавочный котелок супу или порцию жареного морского окуня. Мне стало стыдно за его ложь перед девушкой, такой деликатной. Я блеснул на него глазами, но он, поганец, и бровью не повел. — Брешет, сукин сын, — прошептал я Спирину. — Пусть! Кому не хочется, чтоб женская ручка пощупала твой животик, — ответил он таким шепотом, что услышали все и она тоже. На ее щеках загорелся румянец. Я отвернулся, чтоб не видеть, как Муха раздевается и как она будет щупать его худой живот. — Грязное белье, санинструктор, — заметила она. Мне и за белье стало стыдно, словно я был виноват в том, что его редко меняют. — Много копоти, товарищ военфельдшер, — ответил Спирин. «Какой копоти? Вот дьявол, он издевается над ее неопытностью!» — разозлился я на санинструктора. — Покажи свою ногу, — сказал он мне. Несколько дней назад во время боя я разодрал о снарядный ящик ногу. Ранка, на которую я сначала не обращал внимания, загрязнилась, начала гноиться. Нога болела. Но жаловаться на такую боль этому необыкновенному лекарю у меня не было желания. Я начал отнекиваться. — Нет, покажите, — неожиданно настойчиво потребовала она. Я сел на ящик, снял сапог. Она стала на колени и сняла повязку. Осторожно начала надавливать пальцем на опухоль вокруг колена. У нее была красивая рука, маленькая, пухлая, с ямочками над косточками пальцев. Мне так захотелось погладить ее. Я не удержался и осторожно коснулся руки. — Больно? — спросила она. — Нет, — ответил я и неожиданно для себя доверчиво сообщил: — У меня жена фельдшер. — Вы женаты? — Она удивленно взглянула на меня. — Такой молодой? — И дочку имею, — сказал я с гордостью. Она ответила с тонкой иронией — девушки умеют это: — Счастливчик, — и начала рыться в своей новенькой сумке, на крышке которой сиял красный крест. — Надо будет ему спиртовой компресс на ночь положить. Слышите, Спирин? — Ночи короткие, товарищ военфельдшер, — снова насмешливо хмыкнул тот. Черняк, который стоял рядом и не сводил с девушки глаз, блеснул своими ослепительно белыми зубами. Щеки ее снова зарделись. Словно чувствуя мою приязнь и поддержку, она доверчиво подняла глаза: — И где она… ваша семья? — Там… видимо, уж там… Письма больше не приходят… — Там? — глаза ее испуганно расширились, она с жалостью и удивлением смотрела на меня. Очевидно, она впервые увидела человека, у которого родные остались там, за линией фронта, в фашистской неволе. И я снова почувствовал всю глубину своей трагедии. Если бы она начала сочувствовать вслух, я, вероятно, расплакался бы, потому что слезы комом стояли в горле. Но она молча стала бинтовать ногу. Объявили тревогу. Шел разведчик. С дальномера давали координаты. Мимо орудия промчался Леша. — Смотрите, олень! — по-детски закричала военфельдшер. — Наш олень, — ревниво ответил Габов. Второй Леша — санинструктор — незаметно исчез, забыв о своем начальстве. Этот медведь боится орудийных выстрелов, у него от них «болит головка». — Будете стрелять? — спросила она. — Мне можно остаться? Больше не было военфельдшера-офицера, была девушка, которой хотелось побыть в самом опасном месте, где настоящая война, и которой, однако, не удавалось преодолеть страх: побледнели губы и щеки, она часто мигала… Все мы изведали этот страх. И уже некоторые забыли о нем. Муха, трус Муха, которого я когда-то шибанул с сиденья, теперь насмешливо смотрел на нее. Мне хотелось дать ему по морде. Вести огонь по разведчику для нас теперь, что семечки лузгать. Бойцы выполняли свои обязанности спокойно, даже весело. Но девушку первый выстрел оглушил. Воздушная волна сорвала пилотку, взлохматила светлые волосы. Она уронила сумку, зажала руками уши, лицо перекосилось от ужаса и стало некрасивым, как у старухи. Я взял ее за руку и отвел к Астахову, где воздушная волна от выстрела не так ударяла. А там ее испугала гильза, которая вылетела под ноги и дымилась. — Ой!.. — крикнула она. Я крепче сжал ее маленькую руку, оттолкнул ногой гильзу. На ее счастье, сделали всего пять выстрелов. Разведчик развернулся и пошел назад, набирая высоту. Военфельдшер смотрела на нас, как на героев. Забыв о всякой субординации, я тихо спросил: — Как ваше имя? — Антонина Васильевна… Тоня… Тоня! Потом спохватилась — вспомнила свое положение, свой страх, на который она не имела права по уставу, и, неизвестно за что поблагодарив, быстро ушла. Муха почему-то хихикнул. Черняк сказал: — Красивая. Астахов, собирая гильзы, вздохнул и… неожиданно прочитал известную строку из Некрасова: — «Доля ты! Русская долюшка женская!»
22 августа
Боль. Боль в сердце. Я думал, что люди говорят так, чтобы образнее передать чувство горя, печали. Болит сердце? Нет, оно не болит. Оно просто сжимается, уменьшается в два-три, может, в пять раз и не выполняет своей работы: не приносит бодрости, уверенности, радости. Оно сжимается — и все в человеке замирает, замедляется. Это страшнее любой физической боли… Утром, как всегда, первым обошел расчеты комиссар. — Какие новости, товарищ политрук? Мы привыкли к плохим новостям и уже не боимся их: верим, что скоро будет перелом. Я спросил бодро, потому что ночь была тихая и длинная. А что надо солдату, как шутят хлопцы: хороший харч и длинный сон! Лазебный как-то странно взглянул на меня и ответил не сразу: — После ожесточенных боев наши войска оставили Гомель… — Он сказал так, словно и для него это был самый дорогой город. Почему оно сжалось, глупое сердце? Разве я не ждал этого? Нет, этого нельзя ждать, как нельзя ждать смерти и думать о ней, потому что тогда не было бы сил для жизни. Все время была надежда: а может, перелом наступит до того, как это произойдет? Может, их задержат на Днепре? Даже когда несколько дней назад сообщили о сдаче Смоленска — она все еще теплилась, моя надежда. А теперь?.. Комиссар говорил что-то о стратегии, необходимости выравнивать линию фронта — я не слушал. Я слушал собственное сердце, а оно сжималось. Пошел к Сене. Он сидел на ящике из-под дальномера и курил. По выражению его лица, по печали в его глазах я увидел, что он знает о Гомеле. Мы долго сидели молча. Мы никогда так подолгу не молчали, это несвойственно нам. От молчания стало еще тяжелей, и я попытался успокоить его и себя: — Будем надеяться, что они эвакуировались. — Будем надеяться, — коротко ответил он и закурил вторую папиросу.
26 августа
Два «Мессершмитта-110» долго лазили между сопками. Мы не стали обстреливать их: они ходили так низко, что снаряд мог попасть в вершину горы. А там посты, люди. Непонятен был замысел этих шакалов. Что они вынюхивают? — Они дождутся, пока поднимется Сафонов, — говорили бойцы. — Он им покажет, чем пахнут сопки. Наш кумир Сафонов теперь летал на новеньком остроносом «МИГе». Время от времени он пролетал над батареей, приветливо махал крыльями. Но истребители не поднимались, и «мессеры» вели себя все более нахально. Батарея напряженно следила за их маневром, и на КП собрались все офицеры. Там же стояла и Ромашева, военфельдшер. Она уже третий раз на батарее и никогда не обходит мое орудие. Теперь мы встречаемся, как хорошие знакомые, и дружески беседуем. Однажды, как бы оговорившись, я назвал ее Тоней — она сделала вид, что не заметила. Теперь она осмелела и все время о чем-то спрашивала — слышался ее певучий голосок. Ей отвечал Степан Кидала; его низкий бас гудел в тишине, как колокол, хотя говорили они вполголоса. Рядом с Севченко, не спускавшим глаз с врага, настороженно стриг ушами Леша, высоко подняв свои молодые красивые рога. Орудия все время поворачивались по азимуту — наводчики не выпускали целей. Вот «мессершмитты», как акулы, разошлись, сошлись, скользнули вниз, блеснув крыльями, развернулись. — По самолету!.. «Мессеры» со звоном и свистом, так низко, что всколыхнулся воздух, пронеслись над батареей. Муха изо всей силы начал крутить поворотный механизм, чтоб развернуть орудие. И вдруг: — Ложись! — непривычная, непонятная команда, которую мы никогда не слышали. — Ло-ожись! — на этот раз Севченко закричал откуда-то из глубины, словно из-под земли. Я высунулся из котлована. На КП, на приборе, у дальномера никого не было видно — все лежали. Один только Леша стоял по-прежнему и испуганно нюхал воздух. Что произошло? Почему все лежат? Ах! Я бросился на землю как подкошенный и тоже закричал диким голосом: — Ложись!.. Между орудием и КП, ближе к прибору, лежала бомба. Мне казалось, что она шевелится, ползет. Секунда… другая… Тишина! — Что такое, командир? — спросил Астахов. — За нашим бруствером — бомба. — Бомба? — Фрид вскочил: видимо, хотел убежать. Астахов ударил его кулаком по шее и прижал к земле. — Куда, сумасшедший? Жить надоело? Проходит минута. Когда она, падаль, взорвется? Отвратительное чувство. Черняк не выдержал (он лежал с другой стороны орудия) — выглянул и сообщил: — Лежит. Я выругался. — Я тебе покажу, как выглядывать, цыганская твоя душа! И вдруг близкий звонкий голос: — Да помогите же, черт бы вас побрал! Я вскочил и похолодел: возле бомбы, подняв ее на попа, стоял Сеня Песоцкий. Он, видимо, думал, что это «пятидесятка», и хотел взвалить ее на плечи. Но «чурка» оказалась стокилограммовой — такая тяжесть была ему не под силу, и он звал на помощь. Пойти? Отвратительный холод кольнул в пятку и сразу отозвался в мозгу. Вмиг представилось: тело, мое тело, молодое, живое, разлетается кровавыми кусками. Брр!.. Ляскнули зубы. «Трус! — выругал я себя. — Иди!» Пока я боролся сам с собой, рядом с Сеней очутился… Кидала. Они скрестили руки, подняли смертоносный груз и понесли за позицию. Вся батарея поднялась на ноги, бойцы вылезли на бруствер и не сводили завороженных взглядов с двух смельчаков. Люди несут смерть, идут, словно по тонюсенькой веревочке над бездной. Ни словом, ни вздохом, ни кашлем нельзя помешать им в такой момент. Они отнесли бомбу в болотистую низину, осторожно положили на пожухлый мох и так же медленно, не торопясь, двинулись назад. Шли в ногу, плечом в плечо: один высокий, коренастый, другой на голову ниже. Первым не выдержал Севченко. — Бе-гом! Бисовы диты! — закричал хриплым голосом. Песоцкий и Кидала отскочили друг от друга и, наклонившись, побежали. — Бегом! Японский бог! Ходите, как на бульваре. Я вас научу бегать! — уже гремел комбат, хотя ему хотелось обнять и поцеловать этих «бисовых детей». Бомба не взорвалась. Через час ее разрядили саперы, вызванные из города. Когда, наконец, все успокоились, я подошел к Сене и сказал, что хочу пожать ему руку. — Без лишних слов. Как друг… — Пошел ты!.. Опротивело мне… — Но, увидев, что это ошеломило меня, заговорил более приветливо: — Незачем делать из меня героя! Героизм — это сознательное и разумное. А я не очень-то разумно… Ты думаешь, я такой смелый? Глупости! Я боюсь смерти, как ты, как все. У меня и сейчас дрожат колени. Почему я вскочил? Просто порыв… Стало неприятно, обидно, оскорбительно, что мы нюхаем землю из-за какой-то паршивой бомбы. Я взглянул — лежит маленькая такая… Возможно, нечто иное… не помню… Может, хотелось показать себя — вот какой я! Полюбуйтесь! — он криво усмехнулся. — Девушка рядом стояла… Какой же тут героизм?.. — Напрасно ты, — возразил я. — Это все твой самоанализ. Ты обязательно хочешь все осознать, найти истоки и причины: почему, зачем?.. Ладно, это — порыв. Но благородный порыв. И я снимаю шапку… «Безумству храбрых поем мы славу! Безумство храбрых — вот мудрость жизни!» Так, кажется, сказал человек, которого мы с тобой одинаково любим? — Так-то так, но все равно на душе почему-то погано. — Погано! Вот у меня действительно погано, — признался я, отвечая на искренность искренностью. — Я вскочил, когда ты звал на помощь. Я заставлял себя пойти и разделить с тобой опасность. И не смог — побоялся… Так знай же, лучше чувствовать себя героем, чем трусом… Он взглянул на меня и задумался. — Я не чувствую себя героем, а ты не считай себя трусом. Смешно, если бы все бросились к этой проклятой бомбе. — Но Степан молодчина! — Да, если хочешь знать, у него это, пожалуй, героизм, он пошел сознательно. А я, дурень, даже не подумал, что не смогу поднять ее. Мы долго разговаривали на эту тему, спорили. Мою разбереженную совесть он, кажется, успокоил. Завтра нас должны принимать в кандидаты партии. Я сказал, что он накануне этого события доказал свое право быть в рядах партии, а я, наоборот, убедился, что не способен на подвиг. И если быть искренним, надо сказать о своих сомнениях товарищам. Сеня возразил — мол, все это идет от того же самокопания в душе, в котором я обвинял его, что меня никто не поймет и могут даже поднять на смех. Подумав, я согласился с ним и немного успокоился. Его я все-таки не могу понять: почему он недоволен своим поступком? Я гордился бы тем, что отнес с позиции бомбу, и, наверное, чувствовал бы себя героем.
6 сентября
Нас перебросили на ту сторону залива, на западную. Жалко было обжитых землянок, в которые наши находчивые связисты даже провели электрический свет. Уютно жилось, тепло… Муха ворчал: какая разница, где будет стоять батарея, с какой стороны стрелять. С ним молча соглашались. Но когда сразу же, как только заняли боевой порядок, Севченко начал тренировку — в этот раз не по самолету, а по… танкам и пехоте, умолк даже Муха, и все неузнаваемо изменились: стали молчаливыми, настороженными, внимательными. В прошедшую ночь, ясную, морозную («Да, уже мороз!»), мы видели с нашей высокой сопки далекие зарницы на северо-западе. Это фронт. Где он? Никто ничего определенного не говорит: ни комиссар, ни командир. По узкой каменистой тропе, что вьется вокруг сопки, сегодня шла пехота. С тяжелыми ранцами за плечами, с винтовками. Они смотрели на батарею и кричали что-то насмешливое, возможно, оскорбительное. Ребята болезненно воспринимают это. Тяжелыми ломами мы третий день долбим скалу, роем котлованы и землянки. На руках — кровавые мозоли. Пауза, отдых — тренировка по наземным целям. Батарея держит под прицелом ложбину, по которой уходит вдаль дорога. Пехота может обойти по лесистым сопкам, но танки смогут двигаться только по этой дороге, других путей нет. Неужели они могут прорваться и сюда? Тогда мы должны будем стоять насмерть. Каждый день, каждый час и минуту я готовлю себя к этому — умереть, но не струсить, не отступить. При своем росте я плохо заряжаю: когда низкий угол возвышения, не достаю. Упорно тренируюсь. Учу своих номерных. Многое будет зависеть от точной наводки и темпа огня. Я предложил, чтоб приборщики тоже учились наводить и стрелять. Страха нет. Того страха, который был в начале войны. Но чувствуется какая-то странная боль в сердце, как тяжелая грусть расставания с чем-то дорогим. Сегодня пошел снег. И все вокруг покрылось торжественной, нетронуто-стыдливой белизной. Все, кроме залива, который стал еще черней, блестит, как деготь. Не люблю смотреть на эту траурную черноту. Неужели зима? В начале сентября? Не было же осени, не созрела даже брусника, которую тут, на солнце, хоть граблями сгребай. Красно-зеленые ягоды засыпает снег. От этого тоже становится грустно. И думается, что там, у нас дома, еще, в сущности, лето: осень едва трогает первой позолотой листья берез и осин. Дома! Что происходит сегодня там, где наш дом?..
11 сентября
Сегодня Севченко и комиссар решили организовать концерт батарейной самодеятельности, которую мы готовили. Это было неожиданно и непонятно. Люди смертельно устали; неделю долбили скалу, строили землянки, тренировались, вели бои — в последние дни налеты участились. Муха ворчал: — Поспать бы дали, а не угощали песнями… Не до песен, если глаза слипаются. В глубине души я тоже поддерживал его, хотя концерт меня интересовал — в нем участвовала Тоня Ромашева. Может, комбат нарочно выбрал этот день, чтобы украсить концерт единственной женщиной? Она приехала утром, после налета катер не пришел, и она осталась ночевать. Последние дни значительно потеплело, и недавно выпавший снег растаял. Бойцы собирались медленно, хмурые, недовольные. Разместились в центре позиции. «Артисты» выступали с возвышения, на котором обычно стоял и следил за небом разведчик. Под вечер с моря надвинулись тяжелые тучи — погода здесь меняется чуть ли не каждый час, — и быстро стало темнеть. Артиллеристы, рассевшись полукругом кто на чем, а больше на порожних снарядных ящиках, освещали свои лица вспышками цигарок. Первых исполнителей встретили сдержанно. Я тешил себя мыслью, что удивлю батарейцев «Дорогами Смоленщины». Это стихотворение очень взволновало меня. Я прочитал его два-три раза и единственный номер газеты спрятал в ранец, чтоб никто не прочитал. Вначале прочитал «Песню о Соколе». Мне вяло похлопали, и снова у самой земли стали вспыхивать спички. — Дай прикурить, Сухарев! — Муха, не гаси. — Докурить, Павел! Одна за другой загорались цигарки. Я стоял и мысленно ругал своих друзей, которых до этого любил: черствые, грубые люди! Им бы только курить и материться, ни какого чувства прекрасного. Уважали бы хоть Горького! «Дороги» читал, а самому хотелось плакать, голос дрожал, прерывался. «Дорогам» не аплодировали совсем, только почему-то погасли цигарки и стало тихо-тихо. Не летят ли самолеты? Нет, Леша фыркнул в темноте беззаботно, спокойно, а у него самый тонкий слух, он слышит шум моторов первый. Я сел за «сценой», на крыше землянки разведчиков, ошеломленный неудачей, обиженный и взволнованный. И вдруг гром аплодисментов. Кому? За что? Виктор Вольнов пел под аккомпанемент гитары. Ему кричали: — Бис! — Повторить! — Давай еще! Мне стало стыдно: несчастный эгоист, я даже не слышал, что поет друг, а сам требую внимания и признания! Он повторил «Воротился ночью мельник». «Хитрый москвич, знает, чем можно увлечь людей в такой момент: шуткой, юмором. Грусти, тяжелого раздумья хватает и без песен», — подумал я. И снова ошибся. Вышли Сеня Песоцкий и связист Лобода. Запели:
Ой, там за лісом, за дубиною
Сидів голубко с голубиною…
Дан приказ: ему — на запад…
12 октября
Снег и огонь… Огонь и снег… Огонь на земле — от разрывов бомб, бесконечных орудийных залпов. Когда они на некоторое время утихают, снег все равно продолжает гореть, светиться отблеском пожаров, бушующих в городе. А когда пожаров нет, огонь остается в усталых, воспаленных глазах. Небо, дай отдых! Но и там огонь! В безмерной высоте игриво колышутся, плывут, то подымаются, то опускаются, переливаются дьявольски красивые, разноцветные флаги северного сияния. Прошлой зимой я любил это чудесное явление природы, которому нет равных по красоте. Теперь не люблю. Когда я гляжу на эти переливы света, мне кажется, что небо смеется над суетой, происходящей на земле. Не люблю еще потому, что сияние — лучшая погода для налетов. У немцев новая тактика. Они редко прилетают днем, но зато летают всю длинную ночь. Летают по одному — так, что в небе, где-то там, в ясной бездне, где колышется сияние, — бесконечный шум моторов, то с одной, то с другой стороны. Стреляем не по самолетам, стреляем по шуму. Изредка хищник попадает в лучи прожекторов, что полосуют небо, тогда начинается прицельный огонь. И когда они вешают над заливом и городом «лампады» — бьем по ним, чтоб погасить. А так все время ведем заградительный огонь. Я не верю, что можно «заградить» небо. Бьем в белый свет, как в копейку. От этого тяжело на душе. Я думаю, что фашисты избрали такую тактику, чтобы вымотать наши силы. Мы валимся с ног. Фрид вчера крикнул: — О небо, дай отдых! — и это не в шутку. За ночь выпаливаем весь боезапас. Взвод боеснабжения не успевает подвозить снаряды. Трактор не может взобраться на обледенелую гору, и во время коротких передышек, когда не слышно шума моторов, мы сами таскаем четырехпудовые ящики, а приборщики делают это всю ночь. Под тяжестью ящиков полопались полушубки, наши спины словно обуглились — стали черными. Вчера, когда расход достиг рекордной цифры — около шестисот снарядов за ночь, Астахов стал рассуждать: — Говорят, каждый наш выстрел стоит около трехсот рублей. Правильно, командир? Получается, что одна наша батарея «выплюнула» за ночь добрых полтораста тысяч рубликов! Меня удивил его подсчет. — На войне рубли не считают, Астахов. Миллиарды гибнут. — А зря. Деньги народные. Все надо считать. Муха возмутился: — Люди гибнут, а ты рубли считаешь! — Если б я был уверен, что мы своим «заграждением» спасли хотя бы одного человека, то не жалел бы… А так — жалею… Сколько люди вложили труда в эти штуки! — показал Астахов на снаряды. — А мы их — в небо. Между прочим, в спорах, возникающих в минуты затишья, только один Муха горячо защищает заградительный огонь. Я хочу понять — почему? На совещании командиров я рассказал про подсчеты Астахова, но этого почему-то не поняли. Больной Севченко (у комбата уже который день температура, но он не покидает позиции) устало проговорил: — Меньше считайте, а лучше стреляйте. «Не сыпьте горох»! Залпы! Малашкин неожиданно сделал вывод: — Вы, Шапетович, в отделении развели гнилую демократию. У вас каждый рассуждает как командующий. Политики! Чтоб я больше не слышал таких разговоров! Обидно. За хлопцев обидно. Без сна, без отдыха, на морозе они не высказали ни одной жалобы. И разговоры их искренни, патриотичны. Как говорится, боевой дух высок. Особенно поднялся он после того, как комиссар сообщил, что фашисты получили по зубам на подступах к Мурманску и отброшены на Западную Лицу. Потому они звереют и так люто бомбят город и порт. А тут еще, им назло, в залив вошел караван английских судов — первая помощь союзников. Крепчает мороз. Половина октября — и такой мороз. А там, у нас, еще тепло и золотом горят леса. Ровно год тому назад я шел в армию. Саша проводила меня далеко в поле, по дороге на Речицу. Утро было ясное, солнечное, плыла паутина бабьего лета, и летели журавли. Всего один год! А кажется, прошла вечность. Сколько месяцев еще может продолжаться война? Астахов как-то сказал: два года. Безумец…
19 октября
Из подбитого «Ю-87» выбросился с парашютом летчик. Приземлился километрах в двух от батареи, на склоне голой горы. Севченко приказал: — Младший лейтенант Кидала! Возьмите разведчика Бурого и… — комбат задумался, соображая, довольно ли двух человек для такой операции, — сержанта Шапетовича. Задержать немца! Когда мы встали на лыжи, он дал новую команду: — Отставить Бурого! Сержант Песоцкий, пойдете вы! Видимо, комиссар подсказал комбату, что нужен человек, знающий немецкий язык. Мы быстро пошли по свежему снегу, довольные заданием — взять живого фашиста. На лыжах нас научили ходить, мы делали переходы по сто километров. Но успеть за Кидалой было нелегко. Высокий, сильный, он сразу вырвался вперед. Немец, освободившись от парашюта, подымался на гору, чтоб перевалить через гребень и скрыться в лесу. Над ним кружил наш истребитель. Летчик давал ему понять, что если будет убегать, то его пришьют к скале пулеметной очередью. Однако фашист упрямо карабкался на гору. — Вот гад! Куда он лезет? На что надеется?.. — Горы, тундра, снег… Ему сохраняют жизнь, а он лезет на смерть, — возмущался я. — Ты не знаешь, какие фашисты фанатики! Я не могу понять, как из таких трудолюбивых, трезвых людей, как немцы, воспитали столько фанатиков-убийц, — рассуждал Сеня. У подошвы горы мы взяли лыжи на плечи. Немец был уже почти на вершине. — Дай предупредительный выстрел, — сказал мнеКидала. Я лег грудью на камень, прицелился, но взял ниже, чтоб случайно не убить. Выстрелил. Фашист оглянулся и… вдруг исчез, видимо, прыгнул в какую-то расщелину. — Вот подлец! — выругался Кидала и выхватил из кобуры пистолет, словно собрался вести в атаку целый полк. — За мной! И снова мы не поспевали за ним. Он был легче одет — в шинели, мы — в полушубках. Ноги то скользили по голым обледенелым камням, то погружались по колено в снег. Непомерно тяжелыми стали винтовка и лыжи. Пот заливал лицо, сердце билось, казалось, не в груди, а в горле. Я хватал на ходу снег, чтоб заставить сердце вернуться на свое место. — Не ешь. Простудишься, — заботливо предупредил Сеня. — Если он идет так же, как мы, нам не догнать его до ночи, — прохрипел я. — Догоним утром, — спокойно ответил Сеня. — Разве Севченко дал такую команду? — Была команда взять его живым. Мы пошли быстрей. Кидала правильно рассчитал: мы достигли перевала более легким путем — через седловину. А там мы снова стали на лыжи. Лес начинался ниже, и мы, медленно снижаясь, бежали по открытому месту вдоль гребня, пока не вышли на след. Но в лесу лыжи пришлось снова сбросить: спуск был очень крутой, каменистый. Немец бежал, не выбирая дороги, стремясь отойти как можно дальше на запад. На что он надеялся — понять невозможно. Наш командир снова попытался вырваться вперед, но я остудил его: — Степан, он может отстреливаться. Осторожно. Кидала пошел рядом с нами и заговорил по-дружески просто. И вдруг… прожужжала пуля, выбила у меня лыжи, которые я держал на плече. Я первым нырнул в снег, крикнул: — Ложись! Прислушиваюсь к самому себе: не ранен ли? На мое счастье, пуля попала только в лыжи. Вот фашистская мразь! Чуть не отправил на тот свет. Судорожно забилось сердце. Впереди раздался еще один пистолетный выстрел. Надо поднять голову, выплюнуть снег, что набился в рот, протереть глаза, осмотреться. Но поднять голову было нелегко: очень уж крепко в таких случаях земелька прижимает к себе, даже и такая неприветливая, каменистая. Сбоку грохнул винтовочный выстрел. Это — Сеня. Ободренный, я, наконец, поднял голову и увидел врага: он был метрах в сорока, за большим валуном, возле которого стояли две кряжистые сосны. У него была удобная позиция, но он рано начал стрелять — не выдержали нервы. Увидев, что лежу на открытом месте, я отполз за ближайший камень и оттуда послал пулю в невидимого врага. Пуля высекла искру на валуне и со свистом срикошетила. — Песоцкий, не давай ему высунуться! А мы с Петром — в обход! Ты — справа, я — слева! — скомандовал Кидала. Я переполз к другому камню, потом сделал перебежку, спрятался за деревьями. В этот момент Сеня крикнул по-немецки. Фраза, сказанная им, есть в воинском разговорнике, и я понял ее смысл: «Сдавайся — гарантируем жизнь!» Я ждал, что он ответит. Выстрелит — пусть не надеется на нашу милость. Нет, над валуном поднялись две руки, в одной — револьвер, в другой — белый носовой платок. — Комен зи гер![3] Он вышел. — Лассен зи ди пистоле! Унд — хэндэ хох![4] Он бросил пистолет в снег и стоял с поднятыми руками. Кидала подбежал к нему и ударил по уху. Немец упал. Я не осудил Степана. За мою землю, которую они захватили, за счастье, которое растоптали, за только что пережитое напряжение и страх я, видимо, сделал бы то же самое. Я увидел его глаза, красивые, голубые; они были наполнены таким смертельным страхом, что мне вдруг стало по-человечески жаль его. Это был молодой парень, почти наш ровесник, высокий, сильный, с продолговатым лицом, высоким лбом — типичный ариец. Но без каких бы то ни было примет или черт садиста, убийцы, каким стал за последнее время в нашем представлении образ каждого немца. От этого даже пахло как-то мирно… духами. Мы приказали фашисту подняться и повели назад. Страх в его глазах исчез; но в них блеснули какие-то огоньки, и это заставило меня насторожиться. Меня раздражала его широкая спина, легкая походка, элегантная меховая куртка, красивые унты — вся его фигура чужеземца, врага. Сеня спросил, сколько раз он участвовал в налетах на Мурманск. — Цум эрстэнмаль[5]. — Врет, подлец! Боится ответственности, — не поверил я. — А может быть, из новой части, — высказал соображение Кидала. — Спроси, где он был до этого. Откуда прилетел? — Аус Берлин, — ответил он с хитростью и даже, как мне показалось, с издевкой. — Как фамилия? — Фриц Кронкер. — Все-таки Фриц, — засмеялся Кидала. — Спроси, Сеня, на что он надеялся, когда убегал. До Финляндии — сто километров. Надо быть безумцем, чтобы надеяться на спасение. Фриц выслушал вопрос, повернулся к нам лицом и начал отвечать горячо, убежденно, злобно. Сеня побледнел, бросился к немцу, схватил за ворот куртки, тряхнул и закричал ему в лицо, глотая от волнения и возмущения слова. Несколько раз повторил слова Москва и Берлин. Потом с отвращением оттолкнул немца от себя. — Фашистский выродок! — Что он сказал? Сеня не сразу ответил. — Нахальная морда! Он еще угрожает! Говорит: мол, не радуйтесь, что сбили его и взяли в плен. Видишь, получается, пленник не он, пленники — мы. Говорит, что три дня назад великая армия фюрера начала свое решающее наступление и уже штурмует Москву. Что нам здесь всем капут. Мы вынуждены будем сложить оружие. Вот гад! Я ответил, что его вонючему фюреру не видать Москвы как своих ушей!.. Не на тех напали! А вот мы… Мы придем в его Берлин… Вир коммен нах Берлин! — крикнул Сеня по-немецки. — Слышишь, сволочь гитлеровская? Фриц опустил голову, сгорбился, словно ожидая удара. Подъем был крутой, тяжелый, мы страшно устали, и нам было не до разговоров. Достигнув перевала, остановились на минуту передохнуть. Теперь можно не торопиться, хотя уже и вечерело; солнце давно скрылось за горами (оно еще выглядывает часа на два в сутки), но небо на юго-западе горело багрово-фиолетовым огнем, а на северо-западе было темно-синее: оттуда, с моря, наступала ночь. Мы видели свою батарею, чувствовали, что наши друзья смотрят на четыре силуэта на фоне неба и радуются, что мы задержали гитлеровца. Внизу, светлый от снежного блеска, город жил, дышал дымом паровозов и пароходов. Пленный долго не сводил с него глаз. Вероятно, его поразило, что город живет; может, ему казалось, что своими бомбами они уничтожили его до основания. Во всяком случае, что-то заставило его серьезно задуматься: он вдруг тяжело вздохнул и что-то сказал, как бы подумал вслух. Сеня пренебрежительно хмыкнул. — Дошло! Говорит, что это будет мировая трагедия, если, не приведи бог, мы придем когда-нибудь в Берлин. Нет, лжешь! Будет мировая радость!.. Ди ганцэ вельт вирд фро зайн[6], когда мы избавим людей от коричневой чумы. Немец с ненавистью взглянул на Сеню. Когда мы начали спускаться, то в стороне, примерно за километр, увидели трех человек; они шли наперерез нам и махали руками. — Из войск НКВД, за пленным, — догадался Кидала. — На готовое тут как тут, — он достал из кармана новенький блестящий пистолет летчика, с сожалением посмотрел на него. — Заберут мой трофей! В этот момент немец взглянул на свои часы на руке. Они были чудесные: большие, с черным циферблатом, белыми стрелками. Я увидел, как у Степана жадно блеснули глаза. — Песоцкий, скажи этому типу, чтоб отдал часы. — Зачем? — удивился наивный Сеня. — На память. Разве зря мы спасали его жизнь? — цинично усмехнулся Кидала. Сеня понял, смутился, помрачнел и сказал: — Т-товарищ младший лейтенант! Но это же… мародерство… — Ну… ты меня не учи! Они полмира ограбили, может, у тебя мать убили, а ты мне — м-мародерство! Делай, что приказываю! — Я не могу это перевести… Хотите — берите сами. Он поймет без слов… Кидала напыжился и перешел на тот официальный тон, который любят иные, не очень умные командиры, приветливый и в то же время издевательский: — Вы что это, Песоцкий? Не выполнять приказа в боевой обстановке?! Так, так… Фашиста пожалели, своячка нашли? Так… Четыре года учебы в техникуме, жизнь в одной комнате дали мне право сказать ему с возмущением: — Постыдись, Степан! Ты советский офицер! Но это взорвало его совсем. Он закричал во весь голос: — Какой я вам Степан, сержант Шапетович? Я был для вас Степаном когда-то. Но никогда больше не буду. Никогда! Зарубите себе на носу. Поняли? Я знал, как его успокоить: щелкнул каблуками, вытянулся, козырнул: — Так точно, товарищ младший лейтенант. Все понял! И вдруг мой взгляд упал на пленного. Он стоял, смотрел на нас и, как показалось мне, улыбался издевательски злорадно. Я похолодел от мысли: «А что, если он знает русский язык?» И мне стало страшно стыдно за Кидалу, так стыдно, что хотелось провалиться сквозь землю. Так унизиться перед врагом! — Смотрите, он понимает, — показал я на немца. Это дошло даже до Кидалы. Он смутился, оставил нас и толкнул пленного в спину. — Пошел, сволочь! — и зашагал рядом с ним. — Он мне опять словно в душу наплевал, — сказал Сеня, когда мы сдали пленного и остались одни. — Я снова потерял к нему уважение и снова боюсь… А это тяжело, Петя… Неужели он не понимает? Ограбить пленного! Гадко! Страшно за такого человека.
14 ноября
Который день раскрываю свою тетрадь и… ничего не могу записать. Мне стыдно перед самим собой… Перед Сашей… О, лучше не вспоминать, не записывать! Может, сжечь, уничтожить, чтобы ничто не принуждало меня к признанию? Чтоб никаких дневников, никаких следов. Но разве станет легче от сознания, что ни один человек никогда ни о чем не узнает? Я давал слово, что буду до конца честным, не буду таить ни событий, ни мыслей, не солгу, чтоб показать себя с лучшей стороны. Нет, я должен все записывать правдиво!
Меня легко ранило осколком в плечо. Отвезли в санчасть, которая размещена в бараке кирпичного завода; там, в глиняных карьерах, укрыты все тылы дивизиона — кирпичный завод ни разу не бомбили. Меня положили в большой светлой комнате. Хотя это сначала так показалось — после землянки. В действительности комнатка небольшая — тесно стояли четыре больничные койки. Из них только одна была занята — лежал обмороженный связист. Впервые за много месяцев я отдыхал физически и душевно. Все было приятно, приносило наслаждение: чистое белье, запах лекарств, ощущение собственного тела, даже легкая боль раны, прикосновение мягких рук Антонины во время перевязки, разговоры, которые мы вели с ней. А потом — книги, которые она начала приносить. Я набросился на них с жадностью голодного, потому что ничего, кроме газет, не читал с начала войны, а короткие передышки в нелетные дни отдавал дневнику. Я так увлекся чтением, что даже Антонина меня раздражала, когда заходила, а говорливого соседа просто возненавидел за то, что своей пустой болтовней он мешал утром углубиться в книгу. — Почитай ты что-либо, — просил я, лишь бы он умолк. — Я в доброе время не читал, а ты хочешь, чтоб я теперь забивал голову. На черта это мне, — отвечал он. Вот есть же люди! Связист скоро выписался, и я остался один. Утром в палату заглянула Антонина и по-дружески спросила: — Не скучаешь? — И сообщила: — Я сегодня буду дежурить. «Обрадовала! Придешь и будешь от нечего делать болтать. Не дашь почитать», — подумал я. Но она не приходила. А я только начал «Угрюм-реку». Маленькая лампочка под потолком светила тускло, я не обращал на это внимания — глаза мои могут читать и при луне. Скрипнула дверь. — Все читаешь? — с упреком спросила Антонина. — Испортишь зрение — самолет не увидишь, командир, — и выключила свет. Я замер, не ответил, ожидая, когда она выйдет, чтобы подняться, снова включить свет и продолжать чтение. И вдруг я почувствовал ее горячее дыхание. Она склонилась надо мной, рука ее коснулась моей головы, волосы упали на лицо, и я почувствовал их своеобразный неповторимый запах, от которого закружилась голова. Странная, непреодолимая сила заставила меня обхватить руками ее шею, привлечь к себе… И вот уже слились наши уста… И ее грудь, упругая, горячая, под которой часто и сильно билось сердце, прижалась к моей груди. Потом я почувствовал ее голые ноги… И тогда все поплыло, закружилось, зазвенело чудесной музыкой, исчезло все земное, реальное, словно я взлетел туда, где колыхалось, переливалось радугами, манило своей красотой это обманчивое чудо — северное сияние… А через минуту я лежал, душевно и физически опустошенный… Пустота была в сердце, в мозгу. Ни одной мысли и никакого ощущения! Одна чернота, как в бездне. Потом она стала заполняться чем-то страшно гадким: казалось, что-то живое, скользкое и отвратительное полезло в душу, в голову, загрязняло все тело. Я долго не понимал, что это такое, только чувствовал, что у меня нет сил, чтобы сопротивляться, и я безвольно с ужасом ожидал, когда оно обнаружит себя, это скользкое и противное. Что же это такое? И вдруг оно пришло, вырисовалось страшным понятием — измена. Да, измена! Я изменил самому дорогому и светлому, что было в моей жизни. Когда это дошло до моего сознания, я, видимо, застонал. Антонина хотела обнять меня. — Не надо! — в отчаянии попросил я. — Фу, дурень какой! А еще женатый! — обиженно фыркнула она и выбежала из палаты. Утром я так настойчиво потребовал возвращения на батарею, что военврач не стал меня задерживать. Я не хотел видеть Антонину. Но что мне до нее!.. Я сам безвольный, никчемный человек, тряпка… Я изменил Саше! В такое время!.. Меня раздражали бойцы, особенно их разговоры о девушках, о женщинах. А когда они однажды вспомнили Антонину, я накричал на них. Потом мне стало казаться, что они обо всем догадываются, и я стал бояться их, своих подначальных. Мне хотелось, чтобы без конца налетали немцы, чтоб смерть все время висела над головой: может, тогда я нашел бы хоть какой-нибудь покой. Но, как назло, дни были пасмурные, падал снег, и мы большую часть суток проводили в землянках, занимались теорией, политучебой. Своего настроения я не мог скрыть от пристальных глаз комиссара и комбата. Севченко как-то сказал: — По-моему, Шапетович, тебя не долечили. Может, тебе стоит вернуться в санчасть? Я испугался. Вернуться туда? Видеть эту женщину, разговаривать с нею? — Что вы, товарищ старший лейтенант! Я абсолютно здоров. Плечо зажило. А настроение — это так… Семью вспоминаю… — Ну, смотри… Не вешай носа. Семью вспоминаю… Дом вспоминаю. Но как? Измена… Вначале потряс сам факт измены. Но то страдание кажется незначительным по сравнению с тем, что я переживаю теперь. Если бы оставалась только измена, чувствую, можно было бы приглушить ее грубой солдатской философией: что поделаешь — война, она все спишет. Но этого нельзя приглушить, потому что чем больше я рассуждаю, тем больше оно растет, заполняет душу. Вдруг я стал замечать, что думаю о Саше не так, как думал до этого. Она, эта проклятая Тоня, поколебала мою веру в верность, в чистоту отношений, в любовь, которая сильнее смерти. В голову назойливо лезут разные бессмысленные истории о женской неверности, измене. Я слышал их сотни от своих друзей в техникуме и здесь, в армии. Тогда я возражал, ругался. А теперь сам очутился в этой грязи. Думая про Сашу, я чувствую ревность хуже той, которую я однажды испытал, когда она еще не была моей женой. Я понимаю, что это низко, пошло, чудовищно! Я сам негодяй, изменник и… ревную ее. К кому? Почему? В такое время! Она в несчастье, в неволе, в плену… А я… О боже! Кажется, я теряю остатки здравого смысла. Не будет удивительным, если я сойду с ума. Но что делать? Как вернуть прежнее душевное равновесие? Тогда я думал только об одном, чувствовал только одну боль. А теперь черт знает что творится в моей глупой башке! Ни разу на протяжении года я не вспомнил того молодого учителя — кажется, Лялькевич его фамилия. А теперь он все время стоит перед моими глазами, я вижу его победную презрительную усмешку — такую, как тогда, на волейбольной площадке. А минувшей ночью мне приснилось, что он обнимает, целует Сашу, а я стою как окаменелый, не могу сдвинуться с места и… только плачу. Черняк утром говорил, что я во сне плакал навзрыд. Я начинаю ненавидеть этого малознакомого человека, понимая всю дикость и бессмысленность своего чувства. Может, он где-то на фронте, раненый, может, он уже давно убит, а я… Нет, со мною явно происходит что-то страшное! И мои страдания усиливаются оттого, что я не могу рассказать об этом никому, даже Сене. Едва решился записать все это в дневник. Записал — и испугался. Боюсь оставить тетрадь в землянке, хотя раньше оставлял смело, уверенный, что после того случая с Мухой никто из бойцов не полезет в мой ранец. Может, вырвать эти страницы?
23 ноября
— Скажи мне, Петя, почему у тебя такое настроение? — А чему радоваться? Немцы под Москвой. Все может случиться. Тогда мы очутимся в западне… В ледяной западне. — Не нравятся мне твои мысли! Ты — кандидат партии, командир. Такое настроение в наших условиях перестает быть личным делом, имей это в виду. — Иди скажи комиссару. — А ты что думал? И скажу. Я удивленно взглянул на Сеню: серьезно он говорит или шутит? Нет, он смотрел на меня своими умными черными глазами так, словно хотел заглянуть в душу и все прочитать там. «А может, открыться тебе, чтобы ты, мой лучший друг, не думал, что я испугался обстановки на фронте? Нет, я не трус и в победу верю так же, как и ты. От другого нет покоя. Но поймешь ли ты? Ничего подобного ты еще не переживал. Ты все думаешь о мировых проблемах, высоких материях. Мои переживания, страдания могут показаться тебе никчемными, достойными смеха. И тогда мне будет еще тяжелей», — думал я. — Правда, я не верю, что ты стал таким паникером и пессимистом. Слишком много в тебе любви, чтобы ты мог потерять веру в будущее. — Любви? — удивился я. — К чему? — Ко всему. К жизни, к Родине… К близким, к жене… А-а!.. Я чуть не застонал: он коснулся самого больного места. — Потому и тяжело, что люблю. Кто не любит, тому что… тому все равно… — Мне все время кажется, что совсем иное угнетает тебя. Так ведет себя человек, совершивший что-то дурное, у кого нечистая совесть. «О, этот юноша может все понять, но признаться ему я все равно не могу!» Мы сидели в землянке. Сенины подначальные — расчет дальномера — работали на кухне. Скупой свет полярного дня проникал сквозь небольшое окошко в двери и падал на лицо хозяина. У него странное лицо — в последние дни слишком счастливое для такого времени. Может, потому я и не мог рассказать ему все свои тайны, как рассказывал раньше, — меня раздражало его лицо, непонятное отражение счастья на нем. Чему радоваться? Если даже быть самым великим оптимистом, то все равно обстановка нерадостна. Вот и сейчас он сидит и улыбается каким-то тайным своим думам. — Сеня, скажи, почему ты такой? — Какой? — Черт тебя знает какой… Словно один ты знаешь, что завтра конец войне. Лицо блестит, как намасленный блин. Он засмеялся и, пересев ко мне на нары, обнял за плечи. — Ты хороший друг, Петя. Я радуюсь, что у меня есть такой друг. Одному тебе я могу сказать, почему я такой… Но дай слово, что ты — никому… — А был я когда-нибудь болтуном? — И в дневник свой дурацкий не заноси. Я хочу, чтобы это было только моей тайной. Мне трудно было дать слово, что я не запишу нашего разговора. Кроме того, меня немного обидело, что он назвал мой дневник дурацким, я смолчал. Он тоже долго молчал: то ли ждал моего клятвенного слова, то ли раздумывал, можно ли мне доверить тайну. Потом тряхнул меня за плечи. — Я скажу тебе нечто необычное, то, во что ты не поверишь. Я влюбился. — Влюбился? «Полгода он не видел в глаза ни одной девушки, — блеснула мысль. — Ни одной, кроме… Неужели? Что же это происходит? С каждым днем мне не легче!» Я почувствовал себя так же плохо, как после той нелепой истории, принесшей мне такие страдания. Прошло полмесяца — и мои переживания стали притупляться. И вот тебе на! — Ты догадываешься, в кого? — Нетрудно догадаться. Антонина? — Да… Я резко поднялся, сбросил его руку с плеча. — Она не стоит твоей любви! Он схватил меня за ворот полушубка, словно испугался, что я уйду. — Не стоит? Почему не стоит? Впрочем, нет! Не надо! Ничего не говори! — Он оттолкнул меня. — Я не хочу ничего слушать! Я люблю, и мне хорошо, и я ничего не хочу знать. Ты, возможно, услышал какие-то сплетни. Если одна женщина и столько мужчин вокруг, всегда будут сплетни. Но я не хочу их слышать. Я, возможно, никогда не скажу ей о своей любви, не признаюсь. Она, видимо, любит кого-нибудь другого, выйдет замуж… Что ж, я пожелаю ей счастья и когда-нибудь освобожусь от своего чувства. А может случиться — все случается в жизни, — может случиться, что мы придем друг к другу… Но теперь я не думаю об этом. Мне хорошо от моей любви, она наполняет, украшает мою жизнь, и я не хочу, чтобы ее разрушили раньше, чем нужно. Я прошу тебя как друга… Он горячо и долго шептал мне слова, все их невозможно было запомнить. Я, понурый, весь ушедший в себя, стоял с другой стороны холодной чугунной печки и думал о своем. Нет, теперь это не только мое. Моя тайна, но она касается других людей, дорогих мне людей. Эта женщина стала не только между мной и Сашей, но вот она стала между мной и моим лучшим другом. В сущности, она разрушила нашу дружбу. Теперь мы уже никогда не сможем быть такими искренними друг с другом, как были до этого. Я со страхом думаю, что могло бы произойти, если бы я все рассказал ему. Не впервые я искал встречи с ним с глазу на глаз. Но каждый раз меня сдерживало его веселое, возбужденное настроение, его счастливое лицо. Что ж, пусть останется со своим воображаемым счастьем! Правда, я немного омрачил его. Он ничего не хотел слышать об Антонине, но на сердце у него стало тревожно, и он после моих горячих слов не удержался, чтобы не спросить: — А что ты слышал? Почему она недостойна моей любви? — Говорят, что ее любит начальник боеснабжения. Я умышленно назвал самого красивого и интересного офицера. Сеня засмеялся: — Любит! Да ее, может, десятки любят! И что из этого? Разве из-за того, что ее кто-то любит, я не могу любить? Меня удивляет твоя логика, Петро. Не стоит… Нет, я понимаю, ты слышал нечто более грязное. Люди — циники, сам ты когда-то говорил. И завистники. Но для меня она самая красивая, хорошая, чистая, и я ничего не хочу знать. А если и услышу что, все равно не поверю! Наивный мальчик! Когда-то и я был таким. И мне стало обидно и горько оттого, что теперь я чувствую себя иным — худшим, чем был совсем еще недавно.
1 декабря
Мастера ремонтировали орудие, и Севченко послал меня с пакетом на КП дивизиона. Сдав пакет, я неторопливо возвращался на батарею. С любопытством осматривал город. Мне давно хотелось узнать, как живут люди при почти ежедневной бомбежке. Всюду следы разрушения, руины домов, пепелища, засыпанные снегом. Но город живет полной жизнью. Приметы ее я видел на каждом шагу, и они приятно поражали, рождая уверенность и спокойствие. Я с удивлением остановился перед трехэтажным домом, одна половина которого была разрушена, а в другой жили люди. Гардины на окнах, цветы. В проеме лестничной клетки, где торчали остатки поломанной рамы, появилась женщина, повесила на подоконник ковровую дорожку, начала выбивать пыль. Мне показалось это чудом. Половина дома снесена войной, не сегодня-завтра сюда может попасть другая бомба, а люди наводят чистоту и уют. Три девушки, раскрасневшиеся от мороза, прошли мимо. Одна толкнула меня плечом. — Ворону поймаешь, сержант! Они засмеялись. А потом — школа. Я не сразу даже понял, что за шум, пока в здании на другой стороне улицы не открылись двери и целая ватага детей не высыпала во двор. Обычные ученики, как все остальные, такие же, каким когда-то был я сам. Один выехал из дверей на плечах у своего товарища. Другой толкнул девочку в снег. Третий подбежал ко мне, смело спросил: — Сержант, гильза автоматная есть? Автоматной гильзы у меня не было. — А пистолетная? — допытывался мальчик. — Нет? А из чего ты стреляешь? — Из пушки. — Из какой? — Из зенитной. — А-а… — разочарованно протянул он, махнул рукой и побежал догонять товарищей. Я пожалел, что не смог дать ему какую-нибудь гильзу. Можно было бы заговорить с ним и расспросить, как он здесь живет. На другой улице я встретил группу английских моряков. Важные, высокие, в беретах, с трубками — они напоминали героев книг о морских путешествиях. Я впервые видел живых англичан и не удержался, чтоб не пройти несколько шагов следом за ними, вслушиваясь в чужую речь. Они обратили на меня внимание, и один протянул мне большую сигару. Красноармеец с термосом в руках быстро пробежал мимо, безразлично поздоровался, потом остановился, подозвал меня и доверчиво сообщил: — Пива хочешь? В столовке пиво дают. Я пошел за ним. В просторном холодном зале, где окна почти все забиты досками, стояла очередь, человек тридцать. Однако набрать пива в термос моему «другу» не дали, но разрешили получить по кружке этой горьковатой жидкости, которую я выпил с большим наслаждением. Я задержался в столовой, чтобы послушать, о чем говорят штатские люди, какое у них настроение. Какой-то старик спросил меня: — Что, еще хочешь? Не дадим! Небось сто граммов каждый день выпиваешь? А я забыл уже, как она пахнет, дорогая. Хоть пивка понюхаю. Мне стало стыдно. Я торопливо вышел на улицу. Действительно, дней пять назад нам стали выдавать по сто граммов водки — от цинги, как объясняет Спирин. Оставалось больше часа до отхода катера на тот берег, и я снова пошел по городу. И тут, в самом центре, у Пяти Углов, меня захватил налет. Неожиданно и страшно неприятно заревели сирены воздушной тревоги. Я подумал, что они больше нагоняют ужаса, чем сама бомбардировка. На какой-то миг на пустых улицах стало многолюдно. Люди бегали, звали друг друга. Старая женщина крикнула мне: — Беги за мной! Убежище там, во дворе. Но я не собирался прятаться. Мне казалось, что зенитчику стыдно лезть в какую-то щель. Страха перед самолетами я давно уже не испытывал и по привычке стал искать их в небе. Мне хотелось также посмотреть со стороны, как стреляют наши. Разрывы снарядов увидел сразу, а самолетов не нашел. «Неужели разрывы так далеко от целей? Вот мазилы!» — мысленно ругал я друзей. Первая бомба упала где-то в конце проспекта, в районе того дома, где женщина выбивала дорожку, и, вероятно, попала в здание, потому что высоко вверх взметнулся столб черного и белого дыма. Потом разрывы стали греметь со всех сторон. Я стоял возле газетного киоска, под карнизом его фанерной крыши, и наблюдал. Вдруг дом на площади странно подскочил, словно оторвался от земли и хотел взлететь, но не смог и тяжело грохнулся на землю — так, что земля дрогнула под моими ногами и стены начали медленно оседать, распадаться. Меня загипнотизировала эта страшная сила разрушения, особенно когда я увидел, как вместе со стеной стали валиться шкафы, столы, кровати… «А может, и люди там?» — подумал я, и мне стало страшно, вспомнился мальчик, которому была очень нужна автоматная гильза. Вдруг я увидел маленького человечка, бегущего по площади. Нет, это не мальчик, это сгорбленный старик. Он смешно размахивал руками, будто загребал ими воздух, чтобы скорее бежать. За его спиной блеснула короткая вспышка огня. Взвихрилась снежная пыль, рядом со мной посыпались камни, забарабанили по крыше. Когда все это рассеялось, человека на площади не было. Кто-то схватил меня за плечо, сильно тряхнул. — Петя! Сумасшедший! Почему ты стоишь? Бежим! Быстрее бежим! Я оглянулся, увидел Антонину и удивился: откуда она взялась? Оглушенный взрывом, ошеломленный всем увиденным, послушно побежал за нею: она тянула меня за руку. Не помню, как мы очутились за развалинами дома, на заснеженном пустыре — видимо, бывшем дворе — и свалились в глубокую яму. — О боже!.. — простонала Антонина. — Чуть сердце не выскочило. Что ты, как столб, застыл там, посреди площади? Я увидела тебя еще до тревоги. Шла за тобою, хотела остановить — тревога! Я забежала вон туда, на ту сторону, в убежище… Какой-то погреб. Там еще человек пять сидело. Одна женщина вдруг закричала, что их дом разбомбили. Я выглянула — и, веришь, чуть не обомлела: ты стоишь один посреди пустой площади. И перед тобой бомба разорвалась… Казалось, совсем близко от тебя… Я не ответил. — И сейчас, смотри, как сердце колотится, — она расстегнула верхние пуговицы своего красивого, беленького как снег полушубка. Я отвернулся, взглянул на небо. Там, высоко в лазури, прошел «Ю-88», окруженный черными букетами разрывов. «Кучно хлопцы бьют! Молодцы!» — похвалил я в этот раз товарищей. Бомбы глухо бухали где-то в заливе. Редели залпы батарей. А я продолжал смотреть в небо, хотя из ямы был виден только небольшой кусок его. Тоня коснулась моей руки и спросила совсем другим голосом, несмелым, дрожащим: — Ты презираешь меня? «Я ненавижу тебя», — хотел было ответить я, но почему-то не смог произнести эти жестокие слова. И она вдруг заплакала. Я растерялся. — Конечно, все вы такие… Если девушка приходит сама, вы начинаете презирать ее, — сквозь слезы говорила она. — Вы думаете черт знает что… А я потому, что люблю… тебя люблю… Одного тебя, дурень ты этакий… Мне многие пишут письма, клянутся в любви… добиваются взаимности… А я не могу… Не могу!.. Я хочу счастья с тобой. Что я, подлая из-за этого, развратная?.. — Ты сделала подлецом меня. Ты же знала: у меня жена… Мы связаны до смерти… — Ах, бедненький! — Она вдруг от плача перешла на издевательский тон. — Его совратили!.. Чистюля! Если бы сегодня тебя разнесло бомбой, твоя жена… — Замолчи, Тоня! — крикнул я так, что она испуганно отшатнулась от меня. — Мы долго будем сидеть тут? — спросил я после короткого молчания. — Подсади меня, я вылезу. Я наклонился. Она ловко вскочила мне на плечи и вылезла из ямы. Потом подала руку, помогла выбраться мне. Вокруг тихо. По улице шли люди, хотя отбоя еще не было. Мы тоже вышли на улицу. Я вдруг почувствовал, что в душе моей нет злости, и сказал дружелюбно: — Тебя любит чудесный человек, Сеня Песоцкий. Ты не представляешь… В ответ она прошипела с лютой ненавистью, так, что перекосилось все ее лицо: — Пошел ты к черту со своим Песоцким! Я вас ненавижу! Всех ненавижу! — и быстро зашагала в другую сторону, оставив меня, ошеломленного, посередине улицы. Теперь я думаю: что она за человек? Один Сеня, возможно, мог бы объяснить ее поступки и слова. Но ему я не могу этого рассказать.
13 декабря
— Командир! К комиссару! — крикнул дежурный, открыв дверь землянки. Был поздний вечер, и я уже спал. Вскочив, я быстро надел полушубок, застегнулся и подпоясался на ходу. На тропинке, ведущей к офицерской землянке, встретил почти всех командиров отделений. — Что случилось, хлопцы? — Может, снова передислокация? — Хлебнем горя в эту стужу, если так. До металла дотронуться невозможно. Мороз трещал. Но с залива поднимался густой туман и окутывал всю окрестность. Этот туманный мороз самый зябкий и неприятный. Часовой в двух тулупах, ватнике и валенках не может простоять больше получаса. К нашему удивлению, дверь землянки открыл Севченко и весело скомандовал: — Залезайте пулей! А то холода напустите. Вскочив вместе с клубами пара в землянку, кто-то начал докладывать: — Товарищ политрук! По вашему приказанию… — Ша! — ответил откуда-то из темного угла комиссар. — Слушайте! Тихо говорило радио. Но голос диктора, необыкновенный, торжественный, заставил нас сразу застыть на месте, затаить дыхание. «…В предыдущих боях перешли в наступление против его ударных фланговых группировок. В итоге начатого наступления обе эти группировки разбиты и спешно отходят, бросая технику, вооружение и неся большие потери…» «Победа! Победа!» — застучало сердце так сильно, что даже болью отдалось в висках. Захотелось закричать это самое лучшее слово на свете. А когда диктор закончил, комиссар дрожащим от волнения голосом спросил: — Поняли все, товарищи командиры? Я выкрикнул в ответ: — Победа! Товарищи! Друзья мои дорогие! Победа!.. И, обняв Сеню, стоящего рядом, поцеловал его в щеку. Никто не засмеялся от такого несолдатского проявления чувств. Комиссар обошел всех нас и каждому пожал руку: — Поздравляю с полным разгромом гитлеровских армий под Москвой! А Севченко сидел на кровати раскрасневшийся, в расстегнутой гимнастерке и высказывал свой восторг с более заметным, чем обычно, украинским акцентом: — О це показалы Гитлеру Москву! А що зъив, гад ползучий? Москву захотел? Не на тех напал, вонючий пес! Мы тоби ще не таку кузькину мать покажемо! Небо тоби будэ в овчинку! А наши — какие молодцы! А? Ей же богу, жалею, что я не там сегодня. — Каждый на своем месте помог этой победе, — сказал комиссар. Потом по радио запели «Священную войну». Виктор Вольнов подхватил песню, и мы все вместе спели ее как гимн. — А теперь идите и расскажите бойцам! С порога землянки я весело закричал: — Подъем! От такой команды уже отвыкли, потому что полгода нас поднимает слово «тревога». Муха, самый нервный и чуткий во сне, приподнял голову и недовольно пробормотал: — Что там такое? — Победа, хлопцы! Сразу взлетели под потолок землянки полушубки — вскочили все, даже Габов, которого часто по тревоге мы выносили и бросали в снег, чтобы он проснулся. — Какая? Где? До поздней ночи не могли угомониться бойцы. Выслушав эту радостную новость от меня, рассказывали ее друг другу. Пришел с поста Астахов — все наперебой рассказывали ему. Сменился Черняк — опять стали рассказывать сначала, внимательно разглядывали карту, хотя на ней, кроме Клина, не было ни одного из освобожденных городов. Начался новый день. И хотя он полярный, очень короткий (солнце не покажется до конца января), все равно казался светлее всех предыдущих: его освещала победа под Москвой. В такой день было особенно больно и горько видеть, как прилетели «мессеры» и в воздушном бою сбили два наших самолета. Правда, самолеты не наши — английские «харикейны», но летчики на них наши. Один выбросился с парашютом, но фашисты застрелили его в воздухе. Ух, палачи! Мы радовались, когда полмесяца назад над городом начали баражировать «харикейны» — помощь! Но радость наша меркнет. Их часто сбивают. Кое-кто пытается это объяснить тем, что наши летчики еще не освоили чужую технику. А по-моему, глупость! Нам всем не нравятся эти машины с длинными и черными, как гробы, фюзеляжами. Очень уж они неуклюжие, неповоротливые и тяжелые, особенно когда видишь их рядом с нашими серебрянокрылыми «МИГами», с которыми фашисты даже боятся вступать в бой. Сегодня поднялась тройка наших «МИГов» на помощь «харикейнам» и сразу наши связисты услышали по радио: — Ахтунг! Ахтунг! Сафонаф ин дер луфт! Сафонаф ин дер луфт![7] И «мессеры» сразу скрылись. Вот нагнал на них страху наш Сафонов!
12 января
Снежная пустыня… Тишина. Такая тишина, что становится жутко: невольно начинаешь говорить шепотом. А то вдруг захочется закричать так, чтоб услышали за сотни, за тысячи километров — там, где люди, где война и жизнь. Я вглядываюсь в эту снежную равнину, такую белую, что даже глазам больно. Нет, не всегда она белая, часто кажется мне кроваво-багровой, словно на ней застыли вспышки тех огней, которых так много было там, в Мурманске. Может, это от неба: тут уже на какой-нибудь час показывается солнце, и когда оно восходит или заходит, небо горит разноцветными огнями. Мне надо смотреть в небо: не летят ли вражеские самолеты? А я не могу оторвать глаз от снежной глади озера, напряженно всматриваюсь в далекий-далекий, затянутый голубой дымкой тумана противоположный берег. Мои новые подчиненные смотрят на меня, как на ненормального: не надоедают лишними разговорами, стараются, чтоб я как можно реже становился на вахту. А мне хочется стоять одному, чтоб никто не мешал думать, переживать. Я часто забываю, где я, что со мной, и вижу Сеню… Он лежит среди снежной пустыни один, сжимается от холода, зовет на помощь. А вокруг пусто. Нет, он сидит, закрыв глаза, засыпает… Снег начинает двигаться, подниматься волнами, как море в бурю, и заливает, засыпает его, набивается в уши, в рот, за воротник, в рукава… Бросаюсь к нему на помощь… И один раз бросился так, что чуть не свалился с обрывистой скалы в озеро. А тут метров десять высоты. Это, вероятно, видел кто-то из моих бойцов. А то порою из снежной пены выплывает нахальная морда Кидалы. Он усмехается. Он может спокойно мылиться и усмехаться после того, как убил… убил (у меня нет иного слова) Сеню! Я тычу ему в лицо кулаками, замахиваюсь прикладом винтовки. Мысленно… А может, и не только мысленно. Кажется, однажды я действительно замахнулся. Возможно, и это видел кто-то из солдат или слышал, как я кого-то страшно ругаю… Меня тяжело поразила смерть Сени Песоцкого. Очень тяжело… Если бы он погиб в бою, от бомбы, от пули, а то такая бессмысленная, мучительная смерть! Только вчера я мог рассказать более или менее подробно эту печальную историю своим бойцам. Тогда они поняли мои странности и стали смотреть на меня другими глазами. Может, потому, что я излил свою душу, или благодаря сочувствию этих пожилых людей у меня стало как-то легче на душе. Минувшей ночью я даже спал без кошмарных сновидений. И, кажется, смогу, наконец, последовательно и сравнительно спокойно записать все события в дневник. Командир взвода управления Степан Кидала собрался проверить НП. Метеослужба предсказывала нелетную погоду, и комиссар решил послать с ним Сеню Песоцкого. Его недавно избрали комсоргом, и Лазебному хотелось, чтобы он, новый комсорг, лично навестил комсомольцев на наблюдательных пунктах, рассказал им о разгроме немцев под Москвой, собрал членские взносы, побеседовал с лучшими комсомольцами о приеме в партию — такое важное дело он мог доверить только Сене. Утром, еще в потемках, они вышли: до ближайшего НП было километров пятнадцать нелегкого горного перехода. А после обеда вернулся из обхода по другим землянкам Ханон Фрид и печально сообщил: — Командир, замерз сержант Песоцкий. — Что значит замерз? — спросил Муха. — Совсем. Насмерть. Я вскочил с нар, схватил Фрида за грудь. — Ты что болтаешь? Когда? Где?.. — Только что позвонили с НП. Я бросился в землянку комиссара и комбата, но там их не было. Нашел их в будке связи, у телефонов. Забыв о всякой субординации, я с порога крикнул: — Что с Песоцким? Севченко бросил под ноги окурок, тяжело вздохнул. — Эх, Песоцкий, Песоцкий… Тогда я понял, что сказанное Фридом правда. Минуту стоял оглушенный горем, потом уперся лбом в деревянную стену и… зарыдал. Сеня! Дорогой Сеня! Мой друг! Умная, светлая голова!.. Как же я буду жить и воевать без тебя? Словно из какой-то глубины дошли до меня слова комбата. Не знаю, рассказывал он мне или кому-то другому, может, комиссару: — Им осталось немного до НП, Кидала говорит — километра три-четыре. Но Песоцкий совсем выбился из сил и не мог дальше идти. Кидала предложил ему посидеть, отдохнуть. А сам побежал на НП, чтобы вернуться вдвоем или втроем и забрать его. Говорит, пришли они через час, не больше. И нашли его мертвым… — Лжет он! Лжет эта сволочь, Кидала! — вдруг вырвалось у меня. — Он нарочно… нарочно оставил Сеню! Он не любил его… Мстил… Я не верю, что он вернулся через час! Не может человек за час замерзнуть. Не такой мороз. — Успокойся, Шапетович! — сказал комиссар. — Все выясним, и если кто виноват… Легко сказать «успокойся», когда так бессмысленно и страшно погиб лучший друг, дорогой человек! Я ходил сам не свой. Плакал, не стыдясь слез, не стесняясь бойцов. Не мог заснуть ночью — закрывал глаза и видел одну и ту же картину: Сеня один на склоне голой заснеженной сопки; ветер вздымает поземку, снег засыпает глаза, мороз крепчает, забирается под полушубок, — я вижу мороз как живое существо, уродливое и безжалостное. Нет, виноват не мороз! Я знаю, кто виноват! Я убежден… Фрид потом рассказывал: связисты шепчутся между собой, что командир взвода сначала пообедал на НП и только потом пошел с разведчиками на помощь Песоцкому. «Все выясним, и если кто виноват…» Как его накажут? Разжалуют, пошлют в штрафной батальон? А Сени нет. Золотого человека! Неужели нет? Неужели больше никогда не зазвучит его тихий, добрый смех, не заискрится золотая россыпь его пытливого ясного ума! И мать, его несчастная мать, больше никогда не дождется своего единственного сына? Он не успел даже сказать ни единого ласкового слова той, которую полюбил своим чистым юношеским сердцем, хотя она и не стоит его любви. Порою мне казалось, что все это только сон, страшный сон. Я вскакиваю, хочу бежать в землянку дальномерщиков, разбудить его, Сеню, и рассказать обо всем этом кошмаре. Свист ветра за дверью, хлопанье парусинового чехла на орудии возвращали меня к действительности. На следующий день вернулся Кидала. Узнав об этом, я сразу пошел к нему. Без стука открыл дверь землянки, в которой жили командиры взводов и старшина батареи, и застыл на пороге. Человек, на совести которого смерть Сени, сидел в одной нижней рубахе за столом и намыливал свою физиономию; делал он это спокойно и старательно, будто в целом мире не было ничего важнее его бороды. — Дверь почему не закрываешь? — бросил он мне, не отрывая глаз от зеркальца. Я прикрыл дверь, но все еще стоял онемелый, не зная, что ему сказать. Положив кисточку и беря бритву, он взглянул на меня и вздохнул. — Да, брат, слабец оказался твой друг. Маменькин сынок. Не мог дойти до НП, остался на час на морозе — и готов… Война, брат… Такой цинизм — это уж было слишком. Я рванулся к столу. — Ты… ты еще оскорбляешь?.. Гад! Убийца! Это ты… ты убил его! Он медленно поднялся, расправил плечи, в прорезе рубахи виднелась сильная волосатая грудь, по которой сплывал клочок мыльной пены. — Ты почему кричишь? На кого кричишь! Кругом! Шагом… — Шагом?.. Ты еще хочешь командовать? Разве ты офицер? Убийца! Ты запятнал честь советского офицера! Ты умышленно бросил Сеню… Ты мстил… за часы, за все… И я все это докажу… В любом трибунале! — Сержант Шапетович, я приказываю вам выйти вон отсюда! — прошептал он, и лоб его стал белее мыльной пены. — Приказываешь? А какое ты имеешь право приказывать? Кто ты? Ты убийца! На твоих руках кровь человека. Настоящего человека. А ты… — Выйди вон! —закричал он не своим голосом, бросился в сторону, к кровати, и… вдруг в его руке блеснул пистолет. Он направил его на меня. — Кру-гом! — Стреляй! Стреляй, если тебе мало одной смерти! Стреляй же! — закричал я, наступая на него. И вдруг под ноги мне попала табуретка, стоявшая у стола. Миг — и я со всего размаха ударил ею по руке с оружием. Пистолет, отлетев, упал на пол. Второй удар — по ненавистной намыленной морде… Он опрокинул на меня столик, больно ударил по коленям, но сам, когда наклонился, получил третий удар табуреткой по голове. Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы вдруг кто-то сзади не схватил меня за руки. Малашкин! Он услышал крик, вскочил и кого-то из нас спас от смерти: видимо, меня, потому что Кидала снова держал в руке пистолет. Из его рта и носа летели хлопья кровавой пены, как у раненого быка, и падали на разбитое зеркальце. Но выстрелить он не успел. Между нами стал Малашкин и довольно ловко выбросил меня из землянки. Долго я сидел возле своего орудия, и никто меня не трогал. Я не чувствовал ни мороза, ни страха, ни даже той боли и горя, которые привели меня к Кидале, руководили моими поступками. Я не раскаивался в том, что сделал. Но неясно осознавал, что сделал что-то не так или, возможно, не довел до конца месть за смерть Сени и теперь как бы отрезал себе путь, — это сознание причиняло боль. Хотелось плакать от бессильной ярости и обиды. Мои бойцы проходили мимо, сочувственно вздыхали, узнав, что произошло. Астахов сказал: — Напрасно ты, командир, трогал это дерьмо… Теперь они ЧП устроят. Сержант поднял руку на офицера! Знаешь, могут раздуть? — Черт с ними, пусть делают, что хотят! Мне все равно, — отмахнулся я. Мне не хотелось ни с кем говорить, даже с этим добрым и умным Астаховым. Подошел Малашкин — я продолжал сидеть. Он постоял возле меня, может, минуту, словно не решаясь высказать то, что ему приказали. Потом тихо проговорил: — Встаньте! Я поднялся. Он сам, избегая смотреть мне в лицо, расстегнул мой ремень. Я понял, берут под арест. У котлована стоял разведчик с винтовкой. — Отведите на КП дивизиона и сдайте начальнику караула, — сказал ему младший лейтенант. Из землянки вышли мои бойцы. — Прощайте, хлопцы, — попытался я бодро улыбнуться, но улыбка, видимо, не удалась. У Черняка на глазах блеснули слезы. От этих слез у меня запершило в горле. — Пошли, — сказал я конвойному и быстро зашагал через позицию. И тут увидел, что не только мой расчет, но и все остальные, вся батарея провожает меня сочувственными взглядами. И мне тоже захотелось попрощаться с батарейцами, сказать что-то — пускай бы поняли: я не чувствую себя виноватым. Возле буссоли на своем обычном месте стоял Леша, понурив голову, пережевывая ягель. Я подошел, обнял его за теплую шею, поцеловал в холодные ноздри и громко сказал: — Будь здоров, друг Леша! Не горюй! Ничего, не пропадем! А буду жив, пусть этот подлец не попадается на моем пути. Так и передайте ему! Олень махнул головой и фыркнул. — Шапетович! Что это за комедия? — послышался голос командира батареи. Я повернулся. Он шел от дальномера. Я опустил руки и ответил серьезно: — Это не комедия, товарищ старший лейтенант, а трагедия. Если свой убивает своего… Он подошел ко мне, пристально заглянул в глаза, вздохнул: — Эх, Шапетович, Шапетович!.. — и, махнув рукой, прошел мимо, раздраженно бросив: — Анархист ты и… дурак! Я понял, что он тоже переживает, и, может, потому мне стало немного легче. Но ненадолго. На траулере переправлялось много народу — военных и штатских. И я заметил, что многие смотрят на меня, как на преступника — дезертира или изменника. Даже обходят стороной, словно я прокаженный. О, как это больно и обидно… Я едва удержался, чтоб не крикнуть, что я не преступник и пусть они на меня не смотрят с таким презрением. Выручил какой-то матрос — спасибо ему! — спросил: — За что, братуха, влип? Я не мог ответить, чувствовал — произнесу слово и брызнут слезы. Ответил мой конвоир: — Офицера ударил. — А-а!.. Видать, было за что… — сказал матрос, но, заметив поблизости капитан-лейтенанта, сразу исчез. Однако после этого короткого разговора на меня перестали смотреть, как на преступника. А во взгляде одной молодой женщины я уловил даже сочувствие. Но она, эта женщина, вдруг почему-то напомнила мне… о дневнике. Я забыл свой дневник! И теперь, безусловно, его возьмут, будут читать, он пойдет по рукам… Меня бросило в жар от этой мысли. Особенно казалось страшным, позорным, что все смогут узнать о моих отношениях с Антониной, о ее поступке. Показалось, что в такое время, когда хотелось сохранить душевную чистоту, я совершаю подлость. Пусть она поступила плохо. Но, может, действительно полюбила? А если и нет, все равно я не имею права — не имею! — кричать об этом на весь дивизион, потому что это подло, недостойно, низко, не по-мужски. А дать дневник в чужие руки — значит закричать именно так, во весь голос, бесстыдно, цинично, дать пищу для самых грязных сплетен. Зачем я писал этот дурацкий дневник? «Дурацкий»? Кто сказал так? Сеня, друг… Умный, славный, дальновидный человек. Неужели правда, что тебя нет в живых, что я никогда не увижу тебя? Боль за Сеню, приступ злобы при воспоминании о том, кто виноват в его смерти… И снова тревога за дневник. Она росла с каждым шагом, приближавшим нас к штабу. Сто раз я намеревался попросить конвоира: пусть передаст Астахову, чтоб тот спрятал мою тетрадь (он знает, какую тетрадь) и никому ни в коем случае не отдавал ее. Астахову я верил. Но конвоир — человек из взвода Кидалы — раньше, чем сказать Астахову, может рассказать кому не следует, и тогда уж, наверно, дневник попадет в чужие руки, чего доброго, еще самому Кидале. Все эти переживания довели меня до лихорадочного состояния. Когда я был посажен на гауптвахту — камеру-сушилку, где пахло кирпичом, углями и дымом, который въелся в каждую пору шероховатых стен, мои «друзья по несчастью» вскоре заметили, что меня лихорадит. — Да ты, сержант, больной. Надо врача позвать. Я ухватился за это предложение: может случиться, что придет Антонина, и я скажу ей о дневнике — пусть спасет его: там ее женская честь. Действительно, пришла она. Увидела меня — удивилась и даже расстроилась. — Как ты попал сюда? — О, военфельдшер не знает, как попадают сюда! — оскалил зубы один из арестованных. — Боже мой, и весь горишь! Тебе в санчасти надо быть, а не здесь. Что произошло? Поставила градусник. Я наклонился к ней, доверчиво прошептал: — Тоня, я набил морду Кидале. За смерть Песоцкого. Меня могут судить. А там остался мой дневник. В нем о многом записано. Ты понимаешь? Передай как-нибудь Астахову: пускай спрячет и никому не отдает… Астахову можно доверить. Термометр показал тридцать девять градусов, и она добилась, чтобы меня перевели в санчасть, в ту же палату, где я лежал тогда. Мне казалось, что она сделала это нарочно. Неприятно было в такое время, думая о смерти Сени, вспоминать то, что произошло с Антониной. Но прежней злости на нее не было, ибо само собой получилось так, что теперь, когда не стало Сени, она, в сущности, единственный человек, которому можно доверить многое. На следующий день Антонина принесла мой дневник. — Вот. Астахов передал его мне. Сказал, что ему трудно прятать — охотится Муха. Раззвонил на всю батарею… Она села рядом на табуретке, закрыв меня от соседей по палате, проверяла пульс, мерила температуру и говорила шепотом. Выглядела она усталой и печальной. — Начальник штаба требует отдать тебя под суд. Говорит, нельзя прощать, когда младший чин поднимает руку на старшего. — А если из-за этого старшего чина погибает человек — это можно простить? Да? — возмутился я. — А почему ты кричишь на меня? Люди говорят, что ты дурак. Нашел метод. И я согласна… Севченко и Лазебный ругают тебя, но, я почувствовала, будут защищать. Они тебя жалеют. Я замолчал. Мне тоже стало жаль себя. Я попросил, чтоб она спрятала дневник и, если со мною что случится, передала бы его, когда можно будет, по адресу, написанному на многих страницах тетради. — Только ничего не трогай. Она взглянула на меня с удивлением, видимо, не поняв, что там можно тронуть. Я объяснил: — Там не совсем хорошо о тебе написано. Она вся вспыхнула, стыдливо опустила глаза. — Я знаю. — Ты читала? — Нет. Я знаю, что ты не мог написать обо мне хорошо. Ты все еще презираешь меня? Я не ответил. Теперь я уже не испытывал ненависти к Антонине — наоборот, появилось какое-то новое чувство, но признаться в нем я боялся даже самому себе. Мне казалось, что дружественное отношение к ней — оскорбление для Саши. И в то же время обстоятельства, неумолимые обстоятельства, принуждали меня доверить ей самое заветное, что доверяют только хорошему другу. Дня через два, когда я почувствовал себя лучше, меня вызвал командир дивизиона — капитан Купанов, бывший командир нашей учебной батареи. Мне вернули ремень — и это обрадовало. Я шел на КП один, без конвоира и в полной форме. Этот короткий путь был для меня нелегким. Чем ближе подходил к КП, тем больше тяжелели ноги, и, наконец, я шел уже как во сне, когда хочешь идти, энергично поднимаешь ноги и все же не можешь тронуться с места. Меня охватил страх. Что скажет мне этот человек, которого мы прозвали «Наполеоном»? Что я отвечу ему? В голове словно погулял сквозняк — ни одной мысли. Казалось, легче стоять перед десятью суровыми судьями, чем перед одним капитаном. Я уважал его и боялся. Простой, словоохотливый Севченко никогда не вызывал во мне таких чувств. Я уважал его не меньше, но не боялся даже тогда, когда он «пропесочивал» за что-нибудь. К нему я пошел бы с радостью и был бы готов выслушать самый суровый приговор. Купанов, все такой же стройный, перетянутый ремнями, быстро поднялся, когда я, получив разрешение, вошел и начал докладывать. Он слушал меня и пристально вглядывался в мое лицо, словно хотел узнать или, наоборот, увидел впервые и хотел навсегда запомнить. Естественно, что я не выдержал его взгляда, опустил глаза и почувствовал, что мне душно; на лбу, на шее, на спине выступает пот, и такой едкий, что зачесалось все тело. Но я не мог шевельнуться. Пугала мысль — единственная, сверлящая мозг: если он так же молча будет смотреть на меня еще хоть одну минуту — я не выдержу, мне станет дурно. Наконец капитан сказал: — Я вас слушаю, сержант Шапетович. И тогда я встрепенулся, «прорвался», как говорят, — шагнул к столу и заговорил так быстро, словно боялся, что не смогу высказать всего за то время, которое мне отпущено судьбой и командиром: — Товарищ капитан, я был уверен и теперь убежден, что он… он, Кидала… нарочно бросил Сеню Песоцкого. Я знаю этого человека, я учился с ним. В техникуме и здесь, в армии… Он ненавидел Песоцкого. За что — я не знаю… Помните, в начале войны? Кидала выдумал тогда, что Песоцкий пораженец. А потом эта история с часами… Когда мы задержали немецкого летчика, он хотел забрать его часы. А Сеня сказал, что это мародерство! И вот он отомстил ему. Как отомстил! Убийца! — Говорите спокойнее! — бросил Купанов. Но в тот миг мне было действительно безразлично, что сделают со мной. — А я не могу говорить спокойно! Вы можете послать меня в штрафную, куда хотите. Но если я снова встречу этого типа, пусть он хоть генералом станет, я не только расквашу ему морду, я… — Довольно! — резко оборвал меня капитан. Я замолчал — ему нельзя было не подчиниться. И тогда снова появилась боязнь: что он решит, почему так долго думает? Наконец он сказал, как всегда коротко, официально, по-военному: — Пойдете в батальон ВНОС[8]. Сегодня же отбыть! За документами обратитесь к помначштаба лейтенанту Муравьеву. Можете идти! Вместо того чтобы ответить, как положено по уставу, я снова «сорвался»: — А он… он не понесет никакого наказания? Кидала?.. Я увидел, как вздрогнули, взлетели ко лбу светлые брови командира дивизиона. Непонятно, удивился он, разочаровался или рассердился? — Можете идти! — повторил он тихо, но с такой твердостью, с такой силой, что мгновенно вспомнилось все, чему он когда-то учил нас. Я выскочил из душной землянки, жадно глотнул морозного воздуха. И только тогда осмыслил его слова: «Пойдете в батальон ВНОС». Почему в этот батальон, не понимаю и сейчас. Но в ту минуту я понял, что спасен от чего-то страшного и позорного, что нашлись люди, понявшие мое душевное состояние — почему я схватил табуретку. Впервые за те черные дни я увидел день, и хотя он был короткий, хмурый, полярный, но мне показался необычно ясным. Я увидел белый снег, без отблесков огня, синий залив, непокоренный город — и обрадовался жизни. Только выругал себя, что не поблагодарил Купанова и даже не простился с ним по-человечески. Свинтус! Получив необходимые документы и свой ранец с бедными солдатскими пожитками, я пошел в санчасть, чтобы забрать у Антонины дневник. Помню, пожалел, что отдал его. Паникер! Стало стыдно перед ней, что я так встревожился за судьбу дневника. Но пусть она поймет, что я спасал ее честь. Она не опечалилась, узнав, что я уезжаю. Не помню, что мы сказали друг другу, слова были незначительные. Дневник передала аккуратно завернутым в марлю и клеенку. Вышла из барака в одном халате, чтобы проводить меня. И во дворе сказала: — Мне передали его письма. Три письма. Он писал мне и носил с собой в кармане… — Сеня? Отдай их мне. Она покачала головой. — Нет. Я никому не дам их. Я прочитала — и что-то словно оборвалось у меня здесь, — она показала на грудь. — Я хожу сама не своя… — Отдай мне эти письма, — снова попросил я. — Зачем они тебе? Ты не любила его… — Не любила, — грустно повторила она. — Но писем я тебе не отдам… А может… может, я стану лучше, если они будут при мне? Она произнесла это таким голосом, что мне стало жалко ее. И минута расставания сделалась печальной. Хотелось сказать ей что-то теплое, ласковое, но нужные слова не нашлись. Попросил ее передать привет «моим хлопцам». — Особенно Астахову и Черняку. А Севченко и Лазебному скажи «спасибо». Никогда их не забуду. Она спросила: — Ты напишешь мне? — Не знаю, — ответил я искренне, действительно не зная, смогу ли ей писать. Простились коротким пожатием рук.
Февраль
Я не ставлю даже даты. Дни так похожи один на другой, что отличаются разве только тем, что бывают ясные, когда из-за далекой гряды лесистых сопок показывается часа на два-три желтое холодное солнце, а ночью переливаются в небе чудесные кристаллы северного сияния. Порой поднимается метель, и тогда весь мир закрывается снежной пеленой. Стирается грань между днем и ночью, между реальностью и сказкой. Снег и снег. Повернувшись, не знаешь, куда идти, — где восток, запад, землянка, где обрыв и озеро. Становясь на пост, обматываешь себя длинной веревкой, другой конец ее привязан за железную скобу, забитую в стену бревенчатого дома. В такие ночи дежурному приходится время от времени поднимать всех, чтобы прочистить глубокий проход от двери к площадке и сбросить снег с крыши: пропусти минуту-другую — и мы будем заживо погребены, не сможем ни открыть дверей, ни выбраться через окно. Хижина, в которой мы живем, построена в расщелине между скалами. Расщелина, расширяясь, спускается к покатому берегу бухты. Это единственный выход на широкий простор — «ворота в мир». Правда, теперь, когда намело сугробы снега, с крыши можно забраться по левой скале вверх и оттуда спуститься в лесную долину. На первый выступ скалы взойти легче: природа создала естественные ступеньки, которые мы аккуратно чистим, потому что там, на вершине, наш наблюдательный пункт. Там стоит часовой и следит за небом. С трех других сторон скала отвесно обрывается в озеро. Узкое и длинное, как почти все озера севера, оно тянется на северо-запад так далеко, что его противоположный берег можно увидеть только в ясное утро. Когда восходит солнце, озеро слепит своей белизной. Нет, не белизной — голубой искристостью. Теперь я никогда не вижу снег белым — таким, каким видел раньше, дома. Теперь он всегда кажется цветным: то розовым, то голубым, то синим, то даже желтым. Наш пост — самый дальний. От Кандалакши, где находится штаб батальона, надо ехать поездом в сторону фронта до маленького лесного полустанка, возле которого размещены какие-то прифронтовые тылы. От этого полустанка, с которым мы имеем телефонную связь, надо идти на лыжах километров пятнадцать к северу. Вспоминаю разговор с командиром батальона. Из дивизиона нас приехало сюда пятеро: я и четверо разведчиков. Их послали на должности командиров постов, потому что батальон только сформировался. Узнав об этом, я не понимал (да и теперь не понимаю!), почему Купанов послал сюда меня, огневика. Хотел скрыть от трибунала? Или боялся, что, оставшись в дивизионе, пусть и на другой батарее, я неизбежно встречусь с Кидалой? Майор Журавлев, худой, изможденный (потом я узнал, что он приехал из блокированного Ленинграда), рассеянно просматривал наши документы. Когда очередь дошла до моих, он с любопытством взглянул на меня. — А-а, это ты? Купанов мне рассказывал… Что же это ты своих бьешь? — Среди своих бывают такие… — Я не мог найти подходящего слова и запнулся. — Которых следует бить? — усмехнулся майор и тяжело вздохнул: — Бывает… Я сразу почувствовал симпатию к этому человеку — люблю людей умных и простых. — Пойдете командиром девятого, — сказал после короткого молчания Журавлев. — Но имейте в виду — самый ответственный пост. Самый далекий и самый близкий от фронта. Там надо держать ухо востро. Наблюдать не только за небом, но и следить за землей. Порою через линию фронта прорываются вражеские лыжники. А финны знаешь какие лыжники? Летом тут ни проехать, ни пройти… Людей у вас будет мало, всего три человека, вы — четвертый. Нести дежурства придется всем. Люди своеобразные. К каждому надо подобрать ключик. И вот когда я прожил полтора месяца с этими «своеобразными людьми», «ключики» нашлись сами собой. А вернее говоря — никаких «ключиков» не понадобилось. Может, я плохой командир, «либерал», как ругал меня Малашкин, но и с новыми подначальными быстро подружился. И служба у нас идет без всяких недоразумений: каждый знает свое место, свои обязанности, и все точно и быстро выполняют мои нехитрые приказания. А люди действительно своеобразные. Двое из них — Федос Ефремович Сушилов и Евлампий Маркович Самородов — старше моего отца. Самородов показался мне старым человеком, и я невольно стал называть его дядя Евлампий. Это прилипло к нему, и все теперь называют его только так. Дядя Евлампий — колхозник из какого-то глухого района Кировской области, человек малограмотный, тихий. И странно — крестьянин, отец большой семьи, а какой-то неумелый, как ребенок, не приспособленный к жизни. У него семеро детей, два старших сына на фронте. И, кажется, нет у него других мыслей, кроме дум о своих детях. Садимся обедать, он вздыхает: — Где же теперь мои сыночки-голубочки? Ест он аккуратно, бережливо и так, словно ему стыдно за то, что он может есть много и вкусно. Как-то он это высказал: — А что там мои детки едят? Не густо у них. Я заметил, что он не съедает весь сахар, а складывает его в вещевой мешок. — Зачем это вы, дядя Евлампий? Он смутился, даже глаза покраснели, и начал объяснять: — Доченька моя, Танечка, очень сахар любит. Бывало, иду в лавку — всегда просит… — Когда вы приедете к ней? Напоминание о том, что не скоро он увидит своих детей, взволновало старика, и он долго не мог успокоиться. Кстати, о сахаре, который он откладывал. Дня четыре бушевала метель, и мы не могли выбраться за продуктами. Окончился хлеб, сахар, ели одно мясо. Опротивело. Платон Чуб не попросил — потребовал: — Дядя Евлампий, выкладывай свой сахар! На какой черный день ты собираешь его? Отсыреет. Самородов не отказал. Но я видел, как тяжело ему было опорожнять свой мешок. Чуб хохотал: — Вот кулак! Видел ты, командир, кулака? Мы же тебе отдадим, когда получим. Не скупись. Думаю, что сахар он жалел не от жадности, он не сомневался, что мы вернем его. Возможно, откладывая кусочки сахару в мешок, он представлял, что отдает их детям. Часто, когда я дежурю, особенно ночью, он выходит из дому, как-то виновато просит: — Не спится мне, товарищ командир. Давай я постою. Дежурить он любит, но я всегда боюсь, что он будет думать о детях и ничего не услышит и не увидит. Чуб дядю Евлампия недолюбливает. Издевательски посмеивается над ним. Недавно он рассказал мне: — Этот «хоцу», — у Самородова вятский диалект, и вместо «ч» он произносит «ц», — долго лежал в госпитале. Экзема у него на ногах никак не заживала. А сюда пришел — без лекарств заживает. А я знаю, что он там делал: солью посыпал свою экзему, чтобы на фронт не послали. Было неприятно это слушать. Не понравился мне Чуб за то, что наговаривает на товарища и наделил старого человека такой оскорбительной кличкой. Я сказал об этом Чубу. Он, видимо, не понял и несколько дней держался официально. К Сушилову я проникся уважением с первых же дней. Он из архангельских поморов, но не рыбак, а охотник, хотя рыбу ловить умеет так же ловко, как и стрелять зверя. Он — полная противоположность дяде Евлампию. Тот худой, сутулый; этот коренастый, как комель старого дуба. Тот уже почти седой, а у этого волосы темные, густые, с рыжеватым отливом, косматые брови почти совсем рыжие, а усы черные. По движению руки, которой Сушилов часто прикасался к подбородку, я догадался, что он носил бороду. Потом он признался: в строительном батальоне, где он служил до этого, командир заставил его сбрить бороду. Он попросил, чтоб я разрешил ему отрастить ее, и я разрешил — на свою ответственность. Через неделю его лицо неузнаваемо изменилось. Чуб смеется: — Хитрый ты, Федос Ефремович: ленишься бриться — бороду выдумал. А я вот скоблю через день тупой бритвой… У Сушилова двое взрослых детей: сын — военный моряк, а дочь — студентка, осталась в блокированном Ленинграде. От сына приходят письма, о дочери ничего не известно. Но он не вздыхает, как Самородов, и не вспоминает о детях. Только, заметил я, в газетах очень внимательно прочитывает все, что написано о Ленинграде. Чуб прозвал Сушилова «наш кормилец». И это не шутка, это действительно так. В первые дни под впечатлением смерти Сени я ничего не видел и не замечал, что ем, откуда берется рыба, мясо. И вот один раз ко мне обратился Сушилов: — Мяса нет, товарищ командир. Разрешите раздобыть. — Раздобыть? Где? Поехать в батальон? Он усмехнулся над моей наивностью. — Сходить на охоту. Может, удастся хоть куропатку подстрелить. Он пошел ранним утром на лыжах, с винтовкой и топором, притороченным к ремню. Вернулся поздно вечером и принес на плечах молодого оленя. У меня дрогнуло сердце: вспомнился наш батарейный любимец Леша. — Зачем вы? — спросил я Сушилова. — Как зачем? На мясо, — просто и даже, показалось мне, раздраженно ответил он. Чуб и Самородов посмотрели на меня, как на сумасшедшего (в первые дни они серьезно считали, что у меня «не все дома»), и начали с крестьянской хозяйственностью и серьезностью свежевать оленя. Через несколько дней Сушилов отпросился на озеро — «рыбки захотелось» — и принес полмешка окуней. Он не только умел охотиться и рыбачить, но и мастерски готовил пищу. Из оленины приготовил столько блюд и таких вкусных, которых я никогда в жизни не пробовал. И в батальон за продуктами чаще всех ездит он, «наш кормилец», сам просится. Ему давай любую работу, самую трудную, лишь бы не стоять на голой скале и не всматриваться в пустое небо. Не переносит помор неподвижности и бездействия. Платон Чуб лет на десять старше меня. Он кубанский казак, гордится своим казацким званием и очень переживает, что из-за болезни не попал в кавалерию. Человек он не без хитрости и чудачеств, но сердечный, по-крестьянски простодушный. Чуб любит петь. Сидит или где-нибудь стоит — и вдруг закроет глаза, качнется, словно задремал, и заводит как-то по-женски — протяжно:
Ты взойди, ты взойди, красно солнышко,
Над горою взойди над высокою,
Над ущельями взойди над глубокими,
Над лесами взойди над дремучими…
Несколько дней назад позвонили с «Елки» и сказали, что к нам приедет «двадцать первый» — майор Журавлев. Начали советоваться, как встретить командира. Сушилов сразу предложил не скупиться и ничего не жалеть. Дядя Евлампий высказал опасение (старик всего боится), как бы излишнее гостеприимство не повредило нам: увидит майор, как мы живем, возьмет и обрежет паек. — Вот так кулак! — засмеялся Чуб. — Видел ты, командир, кулака? Дядя Евлампий! Да ты гостей-то когда-нибудь принимал? Или у вас, вятских, это не заведено? — Я сына женил, — обиделся старик. — Все село на свадьбе гуляло. Но теперь не до веселья. Война… Сушилов задумался. — Оленину, я думаю, товарищ командир, не надо выставлять. Неизвестно, как майор отнесется к нашему браконьерству. Но принять надо по-людски. Я куропатку подстрелю и рыбы наловлю. Остатки оленьей туши мы запрятали в снег, подальше от поста, чтоб она не попалась на глаза начальству. Я пошел на полустанок встретить комбата. На обратном пути заметил, что Журавлев слабый и больной человек. Пятнадцать километров дороги на лыжах по лесу и сопкам лишили его сил. Он бодрился, шутил, старался не отстать от нас (с нами шел его ординарец), но я видел, как тяжело ему, и он чаще, чем требовалось, останавливался отдыхать. К нашему приходу Сушилов приготовил царский обед. Чтобы не есть из котелков, он еще раньше вырезал чудесные тарелки из березы. Когда мы вошли в хижину, вся эта посуда, наполненная холодной закуской, стояла на столе. От жаркого, что подогревалось на печке, шел такой аппетитный запах, что у голодного человека могла закружиться голова. Майор остановился возле двери, закрыл глаза и покачнулся. — Что это? — неуверенным голосом спросил он. — Чем богаты, тем и рады, товарищ майор! — бодро приветствовал «наш кормилец». — Рядовой Сушилов — охотник и рыболов. Ну, вот куропатка, рыба… — объяснял я, немного боясь, что майору может не понравиться такой торжественный прием. Журавлев устало опустился на нары. — Испугали вы меня. Думал — снова галлюцинация. У меня в блокаде часто было: слышу запах вкуснейших блюд и даже вижу их… Потом он встал и долго ходил вокруг стола, всматривался в поджаренную рыбу, нюхал наваристый суп и желтую аппетитную куропатку. — А готовил кто? — Я! — откликнулся Сушилов, надеясь, вероятно, на благодарность. — Поваром в батальон не хотите? Чуб потом признался, что он чуть не лишился сознания, услышав вопрос майора. Он больше всех любил вкусно поесть. А лишиться Сушилова — значит сесть на треску и гороховый суп. — Никак нет, товарищ майор! Никогда не был поваром и не желаю им быть. А это — кивнул «кормилец» на стол, — постарались все вместе для дорогого гостя. Чуб с облегчением вздохнул: пронесло! — Ежели такой обед — доставай, Лунин, наши запасы, будем пировать. Давно я не сидел за таким столом, — сказал майор. Самым существенным в мешке ординарца была фляга. Журавлев налил в кружки по глотку водки. — Ну, товарищи, за нашу победу! Хорошо мы пообедали — просто, сердечно, по-семейному. А потом Чуб пел свои задушевные песни. Утром, когда я стоял на посту, комбат поднялся на скалу. Поздоровался, внимательно оглядел окрестность и затянутое тучами небо. — Что ж, пост удобный, — отметил он, вглядываясь в широкий простор озера; потом закурил и пошутил: — Живешь ты тут, Шапетович, как бог. Я почувствовал, что это удобный случай попросить о давно задуманном. — Товарищ майор, направьте меня на фронт. Не могу я… Стыдно. Понимаете: стыдно с дедами лысыми бездельничать… Майор швырнул окурок вниз, в озеро. Лоб под шапкой стал, как гармонь, — весь в морщинах. Ответил не сразу: — По-вашему, значит, тут можно обойтись одними дедами, как вы говорите? Собрать слепых, глухих, без знаний, подготовки? Плохо вы понимаете значение вашей службы, Шапетович. — И сказал жестко, словно приказывая: — Служите честно там, где вас поставили! Я внутренне сжался, ожидая, что он упрекнет меня историей с Кидалой. Нет. Журавлев не из тех людей. Он помолчал, свернул цигарку и сказал мягко, дружески: — А на фронт попадешь, не горюй. Не завтра война кончается. Люди понадобятся. Я вот… доцент, политэкономию преподавал. Война началась — ополчением командовал, укрепления строил вокруг Ленинграда. Потом вывезли из блокады, опухшего от голода, подлечили и сказали…
22 мая 1942 года
Какой радостный день! Вдвойне радостный. Тамара Романовна разрешила мне выходить гулять. Но вчера шел дождь. А сегодня все залито солнцем, земля легко дышит, напоенная животворной весенней влагой. И такая теплынь! Для меня сказочная, невероятная — кажется, что я сразу, в один день, перенесся из снежной пустыни, где гуляла морозная поземка, в цветущую подмосковную весну. Подмосковную! Оттого, что я под Москвой, тоже радостно. Все утро я гулял по лесу вокруг госпиталя. Сосны высокие, медноствольные — такие же, как и у нас над Сожем и Днепром. Порою я забываюсь, и кажется, что это тот лес, среди которого я вырос, даже отдельные деревья — старые знакомые, друзья моего детства, и мне хочется разговаривать с ними так же, как в далекие детские годы. А перед красивым белым фасадом главного корпуса (до войны тут был санаторий) цветет сирень — словно сизым дымом заволокло зеленые кусты. Чудесный запах наполняет окрестность — запах сирени и сосны. Дышишь и чувствуешь, как приливают силы. За один день я намного поздоровел. Замечательная штука жизнь! Гуляя, я увидел, что одному из бойцов, которого выписали из госпиталя, отдали его фронтовой вещевой мешок. Значит, в некоторых случаях вещи раненых везут вместе с ними в тыл. Я бросился к сестре. — Женя, милая, там отдают вещи. Может, и мои есть? Нельзя ли узнать? Она улыбнулась тепло, ласково, у нее всегда каждому раненому улыбка как майский день. — А что у вас — ценности там, что вы так волнуетесь? Я на миг смутился, но тут же решил сознаться — она умная и чуткая девушка, москвичка, дочь профессора, поймет. — Дневник у меня. — Дневник? — С самого начала войны я веду дневник. Я не ошибся: она поняла. И вот — какое счастье! — она снова в моих руках, знакомая, родная, засаленная, распухшая тетрадь. Я сижу один в дальней беседке под соснами и разговариваю с дневником, как с верным другом. Перелистал, перечитал, вспомнил… Последняя запись обрывается словом «сказали». Я уже не мог дописать, что сказали майору Журавлеву… Писал я поздно ночью при свете коптилки, сделанной из гильзы крупнокалиберного пулемета. Рядом беззаботно спали Чуб и Самородов. Чуб смешно храпел. А за дверью тонко свистел ветер — тот крепкий ветер, который снимает верхний пласт снега, взметывает тонкие снежные пылинки и несет их в бесконечную даль. Такая поземка засыпает след за пять минут. Вдруг открылась дверь, ветер колыхнул пламя коптилки. Сушилов, стоящий на посту, прошептал тревожно и таинственно: — Командир! Сюда! Я набросил полушубок и выскочил. Часовой быстро поднимался на скалу, я за ним. Он не стал там в полный рост, как обычно, а лег на камень, шепнув мне: — Ложись. Я упал рядом с ним. — Видишь? — показал он на озеро. Я пристально вглядывался, но ничего не видел. — Лыжники. Много лыжников. Идут цепочкой один за другим. В маскхалатах. Ты их не увидишь. Тени. Обрати внимание на тени. Ах, чертово светило! Было полнолуние. Ветер гнал по небу обрывки туч, и луна то ныряла в них, то снова появлялась; по озерной равнине плыли тени. Громадная тень закрыла от нас часть озера. Но понемногу она отступала в сторону, к левому лесистому берегу. И на залитой лунным светом глади вырисовывались другие тени — от невидимых людей, что двигались в нашу сторону. — Человек сорок, если не больше, — прошептал Сушилов. — Как думаешь, свои, чужие? — Финны, Федос Ефремович! Я не сомневался — так идти могли только враги. Они знали, что тут берег покатый и легко выбраться с озера. Пост наш новый, они могли о нем не знать или имеют приказ захватить неожиданно и уничтожить. — Будем драться? — спокойно спросил Сушилов. — Будем! Они не должны пройти! Я спустился вниз, вскочил в хижину. — Тревога, товарищи! — Я потянул за ногу Чуба, спавшего крепким сном. — На озере — финны! Идут сюда, прорываются в тыл. Они не должны прорваться! Будем драться, товарищи, до последнего патрона, до последней капли крови. Как наши братья там, на фронте… Я весь дрожал, но не от страха — от напряжения, жажды боя, мести. — Мы не трусы, — бодро сказал Чуб, хватая винтовку. — Умирать, так с музыкой! — и сочно выругался. — Каждый на свое место! Как учил майор. Взять все патроны, все гранаты! Пулемет возьму я. Мы ударим по ним со скалы. Комбат, навестив пост, провел с нами учение по обороне от нападения с земли и воздуха. Тогда я смотрел на учение слегка скептически. А теперь понял, как оно было кстати: каждый знал, где ему залечь, что делать. Я дал распоряжения и бросился к телефону. Мы были связаны с полустанком, где на коммутаторе дежурили девушки. По первому слову «воздух» они соединяли с «Елкой» — штабом батальона, и мы передавали сведения о полете вражеских самолетов. Холодными туманными вечерами Чуб любил покалякать с телефонистками, как он говорил, «отвести душу». В последние дни и я, бывало, «отводил душу»: приятно среди снежной пустыни и тишины услышать женский голос, пошутить. Но была среди телефонисток одна очень злая, «баба-яга», она не любила этих разговоров и угрожала, что доложит нашему начальству. — Девушка! Дорогая! — крикнул я в трубку. — Какая я вам девушка? Пустомели. Покоя от вас нет… — Мать! Товарищ дорогой!.. Передайте на «Елку», на «Калугу» (штаб тыловой части, расположенной возле полустанка)… На озере — вражеские лыжники. Вступаем в бой. Просим помощи! Помощи!.. Голос телефонистки сразу изменился: — Передам! Все передам… Держитесь, родные мои… На разговоры не было времени. Бросив трубку, я схватил ручной пулемет, банку с дисками и полез на скалу. Сушилов лежал на самом краю обрыва. Я примостился рядом, придвинув пулемет ему — он лучший стрелок. От него взял винтовку. — Вот они уже где… Видишь? — прошептал он. Да, теперь на фоне снега выделялись темные пятна — лица, руки, части неприкрытого оружия. Ветер донес даже голос, но пока еще невнятный — нельзя было разобрать, на каком языке. Разговаривают — значит, не знают о нас. А может?.. Сомнение, возникшее у меня, высказал Сушилов: — Командир, а вдруг свои? Подумалось о том, что в батальоне засмеют, если тревога, поднятая нами, окажется ложной. А главное — не ударить бы по своим. — Подождем. Они идут на нас, — прошептал я. — Будем держать на мушках. Я считал пятна и насчитал больше пятидесяти. Вот они, совсем близко, в нескольких десятках метров внизу. — Может, окликнуть? — прошептал Сушилов; даже у него, бесстрашного охотника, стали сдавать нервы. — Подождем. И вдруг четкая команда на чужом языке. Нет, не могли посреди ночи, в такую погоду идти свои с запада на восток! — Огонь!.. Пулемет полоснул длинной очередью. Крик, стон, громкая команда — и все стихло. Я придержал Сушилова за локоть. Прислушались, присмотрелись. Фигуры словно провалились под лед — нигде ни единого пятна. Проклятая луна! Как назло, она нырнула за самую темную тучу! Сильнее засвистел в ушах ветер. На озере метет поземка, подвижный снег скрыл врагов, которые легли и ползут. Но куда? Отступают назад или подползают к берегу, к нам? Хотя бы сделали один выстрел. Они не могли не засечь вспышки пулемета. Какая дьявольская выдержка! Мне показалось, что кто-то застонал под самой скалой. Я достал из кармана гранату, швырнул вниз. Глухо грохнул разрыв. И снова никакого ответа. — Страшный зверь залег, — сказал Сушилов. — Мастера! — Если они надумали атаковать нас, то сделают это отсюда, с суши. Караульте здесь, Ефремович, а я с пулеметом — к Чубу. Я поднялся — и сразу над головой у меня просвистела пуля. Выстрел прозвучал не с озера, а с берега бухты, куда спускалась наша расщелина. Вон они где! Значит, блокируют, окружают. Я скатился со скалы на крышу хижины, мысленно ругая своих снабженцев, выдавших на четырех человек только один маскхалат; засаленные полушубки и темные шапки демаскировали нас. Я подумал о том, что если враги поймут, что нас немного, то могут атаковать по наиболее короткому пути — по расщелине, которую обороняет один Самородов, старый, трусливый человек. Я позвал Сушилова и приказал ему подняться с пулеметом к Чубу. — Займите такую позицию, чтоб можнострелять вдоль расщелины. Я прыгнул с крыши, заглянул в хижину, чтоб еще раз позвонить, сообщить обстановку. Телефон был мертв: они успели перерезать провод. Надо ждать самого худшего. Я удивился своему спокойствию: в душе ни страха, ни паники, только нетерпение — скорее бы они начинали! Когда выходил, в лицо ударил яркий свет. Я упал за штабель дров, сложенный у самых дверей. Свет испугал: я не сразу понял, откуда он. Потом увидел — ракета. Враги прощупывали наши позиции. Ракета зашипела в снегу на скале. Ослепленный, я бросился к Самородову. Он лежал за одним из камней. По приказу майора мы сбросили эти камни с горы, чтоб укрыться за ними, если придется отбивать атаку. Я лег за другой камень и шепотом подбадривал старика: — Держись, дядька Евлампий! Он тяжело вздохнул: — Будем умирать, значит, товарищ командир? Я вспомнил, что Сушилов спросил совсем по-иному, и сердечно ответил его словами: — Будем драться! Драться до последнего… К нам идет по… Я не закончил фразы, потому что увидел их. Они, вероятно, не учли, что за их спинами черный фон — сосняк, или хотели скорей расправиться с неожиданной помехой. Белые фигуры, склонившись, бежали на нас. — Стреляй! — крикнул я Самородову и выстрелил из винтовки. В ответ затрещали автоматы. Много автоматов. Пули засвистели над головой, с визгом рикошетили от скалы, от камня, за которым мы скрывались, шлепались в снег. Вспышки выстрелов приближались. Я бросил гранату. Следом за мной швырнул гранату Самородов. А сверху ударил из пулемета Сушилов. Фашисты залегли и прекратили стрельбу, чтобы не демаскировать себя. Я был уверен, что теперь они попытаются атаковать с другой стороны — с той, которую прикрывали Сушилов и Чуб: там были самые удобные подступы, и диверсанты, безусловно, разведали их. Я крикнул Сушилову, чтоб они с Чубом смотрели в оба. Действительно, через несколько минут вверху заговорил наш пулемет и затрещали вражеские автоматы. Атака послужила сигналом для тех, что залегли невдалеке от нас. Они тоже начали строчить из автоматов и снова бросились вперед. Какое устаревшее оружие винтовка! Пришлось снова использовать гранату. Она, видимо, разорвалась удачно — там послышались стоны и крики. Но я с ужасом вспомнил, что бросил последнюю гранату, их было у нас немного — всего десяток. У кого остальные? — Самородов! Гранаты есть? В ответ послышался стон. Я бросился к старику. Он лежал, уткнувшись лицом в снег. Я повернул его и увидел вместо лица черное пятно. — Дядя Евлампий! Что с вами? — Умираю, командир, — прошептал он. — Дети… Сыночки мои. Де-ти!.. Передай… Что передать, я не дослушал, потому что снова засвистели пули. Увидев рядом с винтовкой Самородова гранату, я схватил ее, но не бросил. Луна засветила так ярко, что отчетливо стали видны фигуры на снегу, видимо убитые. Один шевелился и стонал. Немного ниже полоснула короткая очередь. «Надо бить из винтовки по вспышкам, — решил я. — Гранату надо приберечь». Я прицелился и вдруг почувствовал, что что-то горячее и липкое заливает глаза. Провел рукою по лицу, по волосам (шапки не было, я не почувствовал, когда ее сорвало) — всюду мокрое и теплое. Кровь! Ранен! Надо перевязать. Нет, надо перевязать товарища. — Дядя Евлампий! — Командир, жив? — послышался со стороны голос Чуба, странный голос, показалось мне — веселый. — Платон? — удивился я. — Что случилось? — Сушилов сказал — справится один. Там их немного. Послал поддержать вас. Евлампий жив? Помню, я подумал: сказать ему или не сказать, что я ранен, а Самородов убит? Не сказал. Спросил: — Гранаты есть? — Три. — Стреляй… Не давай им подняться. Он выстрелил и злобно выругался, вспомнив всех святых, бога и черта, Гитлера и всех захватчиков. Кровь заливала мне лицо. Когда я почувствовал на губах ее соленый вкус, закружилась голова. В глазах двоилось; фигуры, тени, луна — все переломилось, пересеклось красно-фиолетовыми линиями, стало дрожать и колыхаться. «Нет, надо сказать, что я ранен… Если потеряю сознание…» Но меня удержала… песня. Пел Чуб. Или, может, мне только показалось? Нет, действительно он пел свою любимую:
Посею лебеду на берегу,
Посею лебеду на берегу…
Мою крупную рассадушку…
На последней странице моей тетради написано нетвердой рукой химическим карандашом: «Дорогой товарищ командир, Петр Андреевич. Лежал я неделю с вами рядом в госпитале в Кандалакше, да не пришел ты в сознание — так тяжело тебя посекла проклятая граната. Товарищи наши Евлампий Маркович Самородов и Платон Иванович Чуб погибли смертью храбрых на поле битвы как верные сыны Отчизны. Вечная память им! Я отбивался один. Потом прилетели наши самолеты. Осветили все вокруг. Высадили десант. Говорят, переловили всех, кто уцелел от наших пуль и гранат. Петр Андреевич, увозят вас в тыл. Врач говорит: будешь жить, потому что организм молодой. А я свое отвоевал, мне доктора отпилили левую руку. Вылечусь и поеду в свой совхоз. Поправитесь — напишите. Передаю докторше, которая будет вас сопровождать, все документики ваши и тетрадь, которая так и лежала на столе раскрытой: что-то вы писали, да не дописали. Обнимаю тебя на прощанье, сынок. Встретиться вряд ли придется. Федос Ефремович Сушилов».
Я не сразу нашел эту запись. Теперь перечитываю скупые строчки письма и сквозь слезы, как сквозь туман, вижу веселого кубанского колхозника Платона Чуба, умершего с песней на устах. Она звучит у меня в ушах, эта веселая песня:
Посею лебеду на берегу,
Посею лебеду на берегу…
27 мая
Он пришел в нашу палату в тот день, когда меня навестил майор из штаба ПВО, чтобы поздравить с наградой — орденом Красного Знамени. Майор принес два экземпляра газеты, где очень неточно и восторженно описывался наш бой. Кастусь заглянул, чтобы поздравить. Он пришел на костылях, едва касаясь пола забинтованными ногами. Сел на кровать. — Давай, земляк, пожму твою мужественную руку. Молодчина! Так и надо уничтожать их, погань фашистскую! По произношению я понял, что передо мной земляк, белорус, и обрадовался. — Вы белорус? — Если там, — он показал на газету, — правильно пишут, что ты гомельчанин, то я из Хойник. Знаешь? С Полесья! — Так это же рядом! У меня жена в Речицком районе. Я пешком ходил до Хойников, — еще больше обрадовался я. — А вы с какого фронта? — Я? — он как-то странно усмехнулся. — Я оттуда… — Откуда? — Из Полесья. — Да нет же, чудак, я спрашиваю: где воевал? — Там и воевал. Вероятно, у меня было такое выражение лица, что он не удержался от веселого смеха. — Да, брат, там. В партизанах. А потом направили меня для связи в Москву. Шел через линию фронта, провалился в какое-то гнилое болото. Ноги обморозил. И вот валяюсь два месяца. Просто досада берет. Плакать хочется. Там у нас, я знаю, весною хлопцы дали такой разворот… Гитлеровцам жарко! Я смотрел на него с радостью, гордостью, восторгом, потому что он пришел оттуда, где осталось мое счастье, с той земли, за которую я умирал и готов умирать снова. Он живой свидетель всего, что происходит в родном крае, захваченном врагом. Словно боясь, что он уйдет, ничего не рассказав, я схватил его за руку, хотя мне нелегко было это сделать: каждое движение причиняло боль. — Что там? Как там у нас? — дрожа от нетерпения, спросил я. — У нас? Воюем. Бьем паразитов. Собираем силы. Сначала тяжко было… — Он рассказывал удивительно спокойно, как о самом обычном. — А они? Они что? — Кто? — Гитлеровцы. — Понятно — что… Отбиваются. Пытаются уничтожить нас. Да нас не уничтожить, на нашей стороне весь народ. Было бы оружие, так бросили б клич — все в лес пошли бы. Есть, правда, отдельные предатели, полицаи разные. Да с такими разговор короткий. Партизанский приговор — и готово! Лично я четыре таких приговора привел в исполнение… — А народ… людей в деревнях они не трогают? — Ого, не трогают! Лютуют, как бешеные звери… Жгут деревни. Расстреливают. Не смотрят — старики ли, дети… У меня дедушку повесили. Семьдесят восемь лет. Мы всей семьей в партизаны пошли, а он остался. Думал, старика не тронут. Он понял мою тревогу, деликатно помолчал минуту, потом успокоил: — Не волнуйся. Может, и твои в партизанах. — У Саши ребенок… маленький. Он, видимо, вспомнил о чем-то своем, таком же дорогом, и тень глубокой печали на миг затуманила его голубые глаза. В этих глазах как бы погасли жизнерадостные светлячки, блиставшие там в продолжение всего разговора. Как будто моя боль за Сашу и ребенка передалась ему. Он судорожно скомкал пальцами край простыни и сказал не мне, а куда-то в пространство — туда, где был враг: — Всех не уничтожат. Нет! Сами раньше полягут! Так началась наша дружба. Правда, у партизана дружеские чувства ко мне появились не сразу. Но я привязался к нему с первой же встречи. Я полюбил Кастуся. Пока я не мог еще вставать, для меня был мучительным, несчастливым тот день, когда он не приходил. Я выдумывал разные причины, чтоб его позвали. Он, вероятно, почувствовал это и некоторое время относился ко мне несколько высокомерно, как взрослый к ребенку. Но я не обижался. И когда стал подниматься и ходить, то не отступал от него ни на шаг. Все время, днем, вечером, мы были вместе, и он стал относиться ко мне тоже дружески. Мы бесконечно долго разговаривали. Вспоминали родные места и дорогих людей, мечтали, спорили на политические и военные темы. Наконец в один из дней я высказал ему свою мечту, которая возникла почти сразу же после нашей первой встречи. — Кастусь, сделай так, чтобы и я полетел с тобой в тыл. — Ты? — он серьезно задумался, а потом, видимо, решил немного подразнить меня, помучить: — А что ты умеешь делать? — Как что? Стрелять… — Стрелять теперь все умеют. — Я артиллерист. — Артиллерии у нас пока нет. Его игриво-спокойное отрицание всех моих качеств довело меня до бешенства. Я крикнул: — Дороги умею строить, мосты! Мало тебе?! — Нам строить не надо. Нам их взрывать надо! — А если я умею строить, то смогу и взорвать! — А вот это, пожалуй, правильно. Строитель должен знать, где слабое место. Чтоб меньшим зарядом — больше вреда. Нет, ты серьезно хочешь в партизаны? — Серьезно! Да я не знаю, что сделал бы, только бы очутиться там! — Жаль, что ты не радист. Но ничего. Когда выпишусь, поговорю в Партизанском штабе. И вот сегодня командира разведки партизанского отряда «За Родину» Кастуся Гомонка выписали из госпиталя. Я проводил его до ворот. Он шел бодрый, веселый, любовался своим военным обмундированием, которое ему выдали, — он франтоватый парень. Кроме меня, его провожали раненые, санитарки, сестра Женя. Стыдно признаться, но мне не нравилось это, я как бы ревновал его ко всем. Я хотел бы остаться с ним наедине и побеседовать. Только на прощанье, когда он, поцеловавшись с санитарками, обнял меня, я смог сказать: — Костя, ты же смотри, не забудь. Прошу тебя… — Что ты, Петя! Разве я могу забыть? Для меня теперь это тоже главное. Ровно через три дня ты получишь ответ. Я приеду сам. Он ушел. Я стоял, смотрел ему вслед, и непонятная печаль сжала мое сердце. И сейчас я не нахожу себе места, хотя прошло уже много часов после его ухода. Получится ли что из задуманного нами? Взял дневник, перечитал кое-что и задумался. Куда девать его, если моя мечта осуществится? Отдам сестре Жене и попрошу, чтобы спрятала в своей московской квартире. Если не вернусь, пусть перешлет по адресу, который тут записан.
3 июня
«Ровно через три дня ты получишь ответ. Я сам приеду». Эх, Кастусь, Кастусь!.. Прошла уже неделя, а от тебя ни слуху ни духу. Забыл. Неужели забыл, оказался болтуном? Хотя бы сообщил, что ничего не получается, и я не ждал бы, не волновался. А может, ты не виноват? Ты ведь не большой начальник и, может быть, самого загнали куда-нибудь? Напрасно я так лелеял свою мечту. Несчастный фантазер! Вчера врач хотел меня выписать и направить в батальон выздоравливающих. Я притворился, что чувствую себя плохо, даже температуру «настукал», попросил Женю убедить врача, чтоб подержали меня хотя бы денька два. Огонек надежды все еще горит. Горит! И трудно его погасить. Эх, Костя, Костя, зачем ты его зажег?..
4 июня
Ура! Я лечу в Беларусь!
ПОИСКИ ВСТРЕЧИ
повесть четвертая

Перевод А. Островского
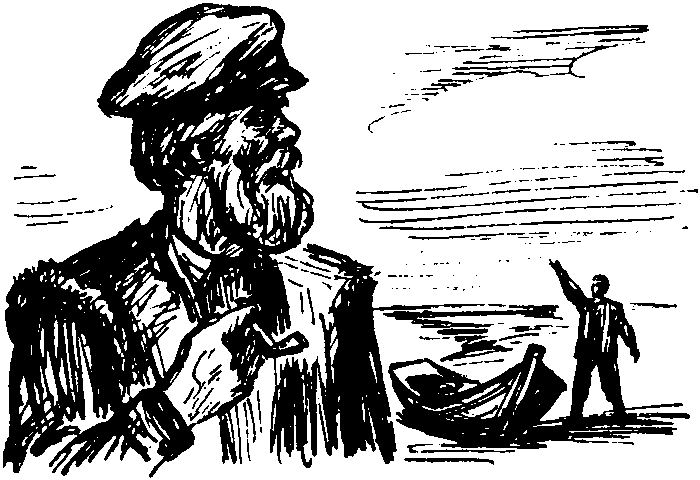
I
Петро лежал на опушке. Молодой сосняк подступал почти к самым огородам. От плетня, за которым клонилась к земле пожелтевшая кукуруза, его отделяла неширокая ложбина, поросшая ольховыми кустами. Тут все лето пасутся телята, гуси, свиньи, играют маленькие пастухи. Когда-то и он протирал пузом траву на таком вот выгоне. Только там, в их деревне, лес не подступал так близко. Он зубчатой стеной синел за речкой — загадочный, приманчивый и чуть страшный. Вспоминалось еще, что обычно в августе выгон становился черным и твердым, как ток, и даже кусты у оврага редели. А тут все нетронутое — и кусты и трава. Или, может быть, так кажется потому, что все облито густой холодной росой? За дорогой, у старого леса, по земле уползают в чащу последние пряди тумана. Солнце еще не взошло. Только рассветает. В эту пору все кажется обновленным. Нет, трава здесь и впрямь не так уж вытоптана. Понятно почему. Нет ни свиней, ни гусей, и вряд ли есть телята. Все сожрал ненасытный фашист. Правда, во дворах кое-где мычат коровы — кличут хозяек. Самые хлопотливые хозяйки уже растапливают печи: там и сям над трубой в ясную лазурь неба поднимается дым — то густой, черный, а то прозрачный, словно марево над пашней в знойный день. Жизнь идет. Петра всегда радостно удивляла эта необоримость жизни. Радовала там, в Мурманске, когда он видел с горы, на которой стояла батарея, как быстро после бомбардировок оживал город. Удивляла в госпитале, когда он слышал, как люди, потерявшие ноги, руки, мечтали о счастье, о любви. Радует непобедимость жизни и здесь, на захваченной врагом земле. Он проходил с отрядом по следам карателей — там, где остались одни пепелища. Сколько горя и смерти сеют эти насильники! Кажется, все-все: науку, технику, политику, мораль — заставили они служить уничтожению, гибели, смерти. Но остановить жизнь они не в силах! Петро уверен, что он лежит как раз напротив Сашиной хаты. Огород с кукурузой у плетня — это их огород, Трояновых. Он хорошо помнит, как Саша однажды сказала, что от школы их хата девятая. Он пересчитывает в который уж раз. Новых домов нет, пожарищ тоже не видно, значит, девятая — эта, как была, так и есть. Сюда он шел двое суток. Нет, не шел. Бежал. Летел. Без сна, без отдыха. Жаль, что немножко запоздал, рассчитывал прийти затемно, до рассвета — самое удобное время для партизана наведаться в малознакомую деревню, — а пришел, когда рассвело, потому что проплутал ночью в незнакомых лугах и в лесу. Теперь надо быть настороже! Не нравится ему школа. Никого там Петро не видит. Тихо, спокойно, как и везде кругом. Но за хлевом на жердях висят сети. И не одна — штуки три. Двух месяцев партизанства ему было достаточно, чтобы узнать, какие «рыболовы» располагаются в школах! Если на чердаке сидит часовой, он сразу заметит человека, который идет из сосняка в деревню. Петро достал из кармана пистолет, проверил его. Так же внимательно осмотрел завернутую в грязный носовой платок «лимонку». Оружие надежное. Но ему совсем не хочется встречаться с врагом. Не для этой встречи он месяц упрашивал командира, чтоб тот отпустил его сюда, за сотню километров. Хорошо, что командир отряда — отец Кастуся Гомонка. Помог Костя. Вместе просили. Горят подошвы. Странно немеет шея — трудно голову держать. Он падает лицом на мягкую хвою. Влажная августовская земля пахнет грибами — с детства знакомый запах. Вспомнил, как два месяца назад, спустившись на парашюте в Василевицкие болота, он, выбравшись на сухое место, целовал ее, родную землю. Целовал и плакал от счастья. И сейчас ему захотелось поцеловать землю: здесь, под этими сосенками, не раз проходила Саша. «Саша! Родная моя! Проснулась? Или спишь? И даже не снится тебе, что твой Петя, твой муж, отец твоей дочки, притаился в ста метрах от тебя? Мне страшно так внезапно появиться перед тобой. Ты, наверно, глазам своим не поверишь. Подумаешь, привидение… с неба свалился. Славная моя! Неисповедимы крутые дороги войны. Куда они только не заведут! Но меня вела моя любовь. Через все смерти, все препятствия и испытания, большие и малые… Через все! Прости меня. Я склоняю голову… Я стану на колени и поцелую твои ноги… Вот так, как эту землю…» Петро был уверен, что Саша здесь, в этой хате, с которой он уже несколько минут не сводит глаз. Прошлой ночью по дороге сюда он завернул в знакомое ему Заполье, к Ане. Хозяйка рассказала: в начале войны Саша уехала к отцу, она, Аня, сама проводила ее туда. Недавно, весной, Саша передала ей с одной женщиной, которую повстречала в Гомеле, привет, сказала, что живет в родной деревне. Каким счастливым сделала Петра эта весть. Оттуда, из Заполья, он и правда летел как на крыльях. Не нашел на Соже лодки — переправился вплавь, спрятав патроны и гранату в резиновый мешочек — изобретение Кастуся. «А может, и нет в школе гарнизона? А если и есть, не сторожат же они все время. Скорее ночью дежурят, а сейчас спят, как совы. Один бросок — и я на огороде, в кукурузе. А там — бороздой. В самом деле, не сидеть же мне тут до следующей ночи. Позднее народ проснется. Пойдут к колодцу, выйдут на огороды… Скот погонят. Нет, ждать нельзя…» Но сердце… отчего оно так странно себя ведет? То сжимается и словно замирает, то начинает стучать так, что даже в висках болью отдается. Кажется, никогда еще так не билось. Ни тогда, когда в февральскую ночь на озере появились финские лыжники, ни даже тогда, когда готовился прыгнуть с самолета в черную бездну, не зная, что внизу: лес, поле или болото, и кто встретит — свои или враги? А ведь здесь известно, кто встретит, — самые близкие, родные люди, жена, дочка… Успокойся же, глупое сердце! Петро еще раз внимательно оглядел огороды и школу. Привстал на одно колено, как на старте беговой дорожки, переложил пистолет из штанов в карман потертого, мокрого от росы пиджачка — чтоб был под рукой, если понадобится. Несколько шагов прошел, низко наклонившись. Потом немного выпрямился и, разрезая головой воздух, молнией проскочил выгон. Присел за плетнем, оглянулся назад. На серебряной нетронутой росе ярко-зеленые следы казались неестественными, не человечьими — слишком уж он широко прыгал. Не понравились следы. Лучше было тянуть ноги, чтобы получилась сплошная тропка. Напрасно так бежал. Нельзя бежать. Надо идти не спеша, чтоб издалека казалось, что идет свой человек и никого не боится. Так рассудив, Петро перелез через плетень, в кукурузе постоял немного, поглядел вокруг и тихим шагом пошел по борозде. Даже попробовал, чтоб успокоиться, насвистывать. Вот и ворота. Они приоткрыты. Петро прислонился плечом к верее, затаил дыхание, прислушался. Тихо. Хорошо, что ворота не закрыты — не будут скрипеть. Протиснулся в щель. Выглянул из-за хлева. У крыльца умывался мужчина. Стоял наклонившись, спиной к Петру. Перед ним на скамейке ведро, он зачерпнул из него кружкой, сам себе полил на руки, плеснул пригоршню в лицо, фыркнул. Вылинявшая майка, загорелые руки, давно не стриженная голова. Фигура и плечи не стариковские. Это не Сашин отец. Брат?.. Человек, должно быть, почувствовал чужой взгляд и быстро обернулся, как-то неловко переступив ногами. Взгляды их встретились, и… Петро мгновенно узнал его. Может быть, он не узнал бы так сразу, если б не думал об этом человеке. Он думал о нем и в землянке под Мурманском, и на посту под Кандалакшей, и в госпитале… Только за последние сутки не вспомнил ни разу, потому что узнал, что Саша дома, значит Лялькевич никак не может быть там, где она. Не может? Нет, он очень близко! Вот он! Значит, не зря терзался. Не подвело предчувствие. Чудовищная измена застала его там, куда он так стремился! Злоба, лютая злоба затуманила ум. Одним прыжком он очутился возле Лялькевича. Левой рукой схватил за грудь, смял майку так, что у того оголился живот. — Присосался, сукин сын? Войной воспользовался? — И, не дав Лялькевичу рот раскрыть, по-боксерски (так учил Кастусь, он добивался, чтоб разведчики всё умели) ударил по мокрой переносице и сильно толкнул в грудь. Лялькевич перелетел через крыльцо, загремев деревяшкой, которой Петро и не заметил. Считая, что сделано все, что надлежит в таком случае, и больше ему тут делать нечего, Петро бросился обратно на огород и дальше — в лес, где можно укрыться от любой беды и выплакать свою тяжкую обиду. Саша услышала грохот, вышла из хаты посмотреть, что случилось, увидела Владимира Ивановича на земле и… прыснула: накануне прошел дождь, у крыльца стояла грязная лужа, и комиссар сидел прямо посередине. Но, увидев, что из-под ладони, которой он зажимал нос, течет кровь, испугалась и забеспокоилась. Наклонилась, помогая подняться: — Что с вами?… — но тут же спохватилась и громко спросила: — Что с тобой, Петя? Кто это тебя? — Кто? — он обхватил ее левой рукой за плечо, оперся, чтобы подняться. — Кто? — Саша оглянулась. — Никого ведь нету. Почему ты упал? Голова закружилась? Я говорила: нельзя косить без шапки. Такое солнце… Поднявшись на ноги, он не снял руки с ее плеча. Никогда им не приходилось стоять так близко друг к другу. Вот она, любимая, славная, заботливая. Прямо из ведра пригоршней черпает воду, чтоб обмыть ему лицо, как ребенку, как сыну, которому разбили нос. Не много надо — смолчать, и можно быть уверенным, что тот, настоящий Петро никогда уже больше не вернется. Тогда можно надеяться, ждать… Искрой мелькнула эта мысль — и он весь передернулся, покраснел. Какая подлость! Не сказать о том, кто ей всех дороже? Солгать этим чистым доверчивым глазам? Да он бы возненавидел себя после этого, потерял бы право быть коммунистом, партизаном, комиссаром. Он уже совершил… совершает преступление уже потому, что так долго молчит. Надо задержать, вернуть его! Вернуть как можно скорей! Лялькевич крепко сжал Сашино плечо. — Кто? Он! — и кивнул на огород. — Кто — он? — удивилась Саша. — Петро. — Какой Петро? — Твой. Мгновение она смотрела ему в лицо: шутит он или примерещилось? Нет, комиссар говорит серьезно, грустно, тихо, почти шепотом — как обычно сообщает конспиративные новости. — Я ахнуть не успел. «Присосался, — говорит, — сукин сын?» — и по морде… Не самый лучший способ выяснять истину, но я понимаю его… Саша сразу поверила: приходил Петро, ее Петя! Она оттолкнула Лялькевича так, что он снова чуть не упал, и кинулась на огород. Комиссар понял свою ошибку, когда услышал, как она за хлевом крикнула отчаянным голосом: — Пе-е-тя-а-а! И на здоровых ногах он, вероятно, не бегал с такой быстротой, как сейчас на протезе, который так давил, что от острой боли темнело в глазах. Он мигом догнал Сашу. Схватил за плечи, повалил, зажал рот. Пускай думают, что они дерутся — это бывает между мужем и женой, только бы не вызвать подозрения у соседей, полиции. — Саша! Саша!.. Что вы делаете? Опомнитесь! Вы провалите себя… всех нас… Она вырывалась, билась в его сильных руках. — Пустите! Пустите меня! Где он? Что вы ему сказали? — Я не сказал ничего. Не успел. Успокойтесь! Нельзя так! Мы выдаем себя. А Петра мы разыщем! Только — спокойно!.. Прошу тебя — спокойно… Даника, спавшего на сеновале, разбудил Сашин крик. Хлопец увидел сквозь щель, как борются на огороде комиссар с сестрой, удивился, даже растерялся сначала, но оставаться в стороне не мог. Не зная, кого надо защищать, он бросился к ним. Правда, они уже сидели мирно, только комиссар держал Сашу за руку, а она плакала. Даник остановился поодаль, все еще в смущении. Лялькевич подозвал его: надо объяснить ему, чтоб хлопец не вообразил невесть что! — Даник! Послушай! — сказал Владимир Иванович, вытирая платком окровавленное лицо. — Только что здесь был Петро. Увидел меня, подумал… Представляешь, что он мог подумать?.. Расквасил мне нос, прежде чем я успел слово вымолвить, и убежал в лес. Значит, наш человек… Саша встрепенулась, бросила на Лялькевича взгляд, полный ненависти. — А вы думали, полицай?! Считаете, что только вы… Лялькевич съежился, точно от удара. — Я убежден, далеко он не ушел. Сидит где-нибудь в кустах. По росе — след… Даник! Пойдешь с Сашей… Она вскочила, вырвала руку, готовая бежать. — Но прошу вас — не кричите, не кличьте… Подумайте о дочке! — Саша вздрогнула. — Мы поругались, подрались — муж с женой… Естественно — Саша ушла из дому. И ты, Даник, уговариваешь ее вернуться назад, помириться… Понятно? — Понятно, Владимир Иванович! — кивнул Даник, дрожа от утренней прохлады и волнения. Саша побежала. Когда она перелезала через плетень, Лялькевич погрозил кулаком и крикнул во весь голос: — Ну и беги! И черт с тобой! Дура! Сумасшедшая! Немного переждав, Даник двинулся за сестрой.Вот он, его след, на росистой траве. Он повернул направо, где кусты гуще. «Петя! Родной мой, где ты? Глупый ты мой! Как ты мог усомниться во мне? Никто мне не нужен. Никто! Кроме тебя, мой любимый, неразумный. У нас же — дочка, твоя дочка. Как же ты мог убежать? Пускай ты подумал обо мне бог знает что. Пускай… Но все равно ты должен был посмотреть на Ленку…» Стало невыносимо обидно от мысли, что он не захотел повидать ребенка. «Неужто твоя ревность сильнее любви? Пускай не ко мне. К дочке… Это гадкое чувство заглушило в тебе все…» Она и раньше часто так разговаривала с ним, шептала по ночам или когда оставалась одна в лесу, в поле. Но тогда он виделся ей только в мечтах. А сейчас… след. Неужто и правда это шел Петя? Как он очутился здесь, когда был так далеко, на севере? На мгновение все это показалось невероятным. Не сон ли? Не пошутил ли Лялькевич? Не понадобилась ли ему в каких-то конспиративных целях эта выдумка? У него всегда тайны и неожиданности. Вот и след пропал… Пропал потому, что здесь не было травы, начался сухой сосняк. Саша так и вскинулась и, остановившись, посмотрела назад. Нет, след есть. Она, когда бежала, не наступала на него, чтобы не затоптать, и теперь на росистой траве протянулись две зеленые стежки. Куда же идти? Она снова крикнула: — Пе-е-тя-а! Сразу же рядом оказался Даник, схватил за руку. — Саша! Ты забыла, что сказал Владимир Иванович? Она разозлилась. — Иди ты со своим Владимиром Ивановичем!.. — Саша, не шути с огнем! — сурово предупредил Даник. — Ты подпольщица. Клятву давала. А теперь хочешь погубить все наше дело из-за своего Пети? Подумай! Наконец до ее сознания дошло, какую беду можно накликать на себя, на всю семью, на организацию. Повернувшись к брату, сказала с болью, с мольбой: — Даник! Да ты пойми только. Ленкин отец сейчас был здесь, у нас во дворе, в двух шагах… Где его искать теперь? Где? Данику стало жаль сестру. Он посоветовал: — Давай разойдемся, и ты окликай меня… Будто мы грибы собираем. Может, он узнает твой голос. Они углубились в лес, и Саша кричала и кричала: — Да-ани-и-ик! Дани-ила-а-а! Брат изредка откликался: — А-а-у-у! Потом подбежал к ней в волнении, уже захваченный поисками. — Там, у болотца, след на траве. Он пошел на луг. Бежим туда. На лугу будут видны следы, и мы догоним его. Они бежали по редкому сосняку что было силы. Суходолы, крутые взгорки, суковатые от самого комля кряжистые сосны — такой тут лес; он посажен был дедами на приречных песчаных наносах, чтоб остановить наступление песков на поля. Саша задыхалась. Сердце рвалось вперед, готовое выскочить из груди. Сердце — оно сразу нашло бы того, по ком изболелось, если бы дать ему волю. «Сердце мое! Любовь моя! Веди меня к нему! Петя! Петя! — беззвучно кричала она. — Остановись! Подожди! Не то мне тебя не догнать. Я упаду…» Наконец сосняк расступился и открылись широкие просторы присожских лугов. Миллиарды крохотных радуг сверкали на молодой отаве — всходило солнце. Лучи его отражались от недвижного зеркала, и на густой лозе висела радуга, неяркая, как бы затянутая редкой дымкой, но все равно неповторимо прекрасная. Саше было не до любования природой, однако и она подивилась этому чуду. Они остановились на песчаном пригорке, чтоб перевести дыхание. Даник знал: партизан (а он не сомневался, что Петро партизан) не пойдет среди бела дня по открытому месту. Но все же внимательно огляделся вокруг. Луг — не поле. Озерца, ямы, кустарник, рвы перерезают его вдоль и поперек. Есть где укрыться. Возможно, от ощущения простора стало легче дышать. Вдруг Даник притянул Сашу за руку. — Вон!.. Видишь? На пригорке, где три дуба… Видишь? Блеск росы слепил глаза, и Саша не сразу разглядела фигуру человека, медленно идущего к реке. Кажется, до этой минуты она еще не чувствовала во всей полноте, что Петя так близко. И сомнение, возникшее недавно, все еще жило где-то в глубине души. А увидела далекую фигуру — и мгновенно, всем существом ощутила: он, Петя, здесь, наяву, а не во сне, живой, здоровый. Они с Даником побежали еще шибче. Не разуваясь, перешли вброд протоку, пробирались сквозь колючие мокрые кусты, обдирая лицо и руки. Когда Саша отставала, Даник торопил ее: — Скорее, Сашок! Скорее. Если его ждут на берегу с лодкой… они не станут мешкать… Ищи их тогда в заречных болотах, что ветра в поле! Петин след! Только бы захватить его на этом берегу! Может, снова окликнуть? Но река — вот она, уже блестит широким плесом в лучах утреннего солнца. Одиноко склонился столб сигнального фонаря. Нет бакенщиков, не загораются по вечерам огни, не вздымают волн пароходы. Год назад замерла тут жизнь. Только река по-прежнему несет свои воды, и ничто не может остановить ее вечного бега. Саша и Даник добежали до песчаного берега, куда вел след. И вдруг Саша точно споткнулась, схватилась руками за пустоту и так застыла, обессиленная, побледневшая. Внизу, у воды, на отмытом черном дубовом кряже сидел Алексей Софронович и степенно, не торопясь, мурлыча что-то под нос, разматывал удочки. Когда первое разочарование миновало, брат и сестра поглядели друг на друга, как бы спрашивая: что делать? Спрятаться, незаметно повернуть назад или подойти к дядьке Алексею? Как объяснить свое появление здесь? — Надо рассказать всю правду. Старик должен знать все, — прошептал Даник. Саша молча согласилась. Даник кашлянул. Алексей Софронович, как говорится, и ухом не повел, он следовал правилу: служителю божию не страшно ничто земное, никакая неожиданность не может его испугать, смутить, вывести из душевного равновесия. Он закинул удочку, воткнул удилище в глинистый грунт и только тогда не спеша обернулся, чтоб поглядеть, кто это кашлянул за его спиной. Но когда увидел Даника и Сашу — куда девалось его спокойствие! Уронил банку с червями, полез по глинистому склону им навстречу. — Что случилось, дети? Почему вы здесь? Боже мой! — и схватился рукой за сердце. — Несчастье? Даник понял, о чем подумал старик, и поспешил его успокоить: — Нет, дядька Алексей, ничего страшного не случилось. На рассвете приходил Петро. Настоящий. Сашин муж. Увидел во дворе Владимира Ивановича, ударил его по лицу и убежал в лес… Мы его ищем. Следы вели на луг. С Халимоновой горы мы увидели вас и подумали, что это он за реку отходит… Кузнец опустился на влажную траву, свесил ноги с обрыва, утер рукавом холщовой рубахи вспотевшую лысину. — Напугали вы меня. Садитесь отдохните. У вас такой вид… Они присели рядом. Алексей Софронович взял Сашу за руку. — Вся дрожишь, отроковица. Они что, знали друг друга? — Встречались раза два. — Не сильна, значит, вера его в тебя, у Петра твоего. Молод. Но ничего, есть любовь — будет вера. Все в свое время! А ты, Александра, радуйся, что жив он, твой благоверный. И коли так пришел, то не только жив, но и духом крепок и сердцем чист… Мало тебе этой радости? Не пожелай сразу многого!.. Река расплылась в безбрежное море, два длинных и узких солнца заколыхались в воде, и белая тучка странно закачалась, сместилась — весь мир переломили горячие слезы. Наполнили, затуманили глаза и застыли — не брызнули, не покатились по щекам. Но легче стало на сердце! Сквозь слезы Саша посмотрела на дядьку Алексея, доброго, умного, рассудительного, и виновато улыбнулась. Он ласково погладил ее шершавую от жестких мозолей руку. Саша подумала: «Правда. Я год не знала, где Петя, что с ним. А теперь известно, что он жив, здесь, с нами… Разве мало этой радости?..» Она только сейчас ощутила тепло солнечных лучей, увидела, как на глади реки ныряет пробковый поплавок. — А-а, клюет! — совсем по-детски обрадовался Старик и на спине съехал с обрыва к воде, схватил удилище. Сверкнул на солнце трепещущий кусочек серебра. Поблуждав еще немного по лесу и лугу, Даник и Саша, усталые, вернулись домой. На огороде их встретила Поля. Лялькевич все ей рассказал. По Сашиному виду Поля не поняла, нашли они Петра или не нашли. Спросила взглядом — так разговаривать приучила подпольная жизнь: «Видели?» «Нет», — склонила голову Саша. Поля тяжко вздохнула и печально подперла щеку рукой. Она переживала все это по-своему. Вовсе не зная Петра, она ни умом, ни сердцем не ощущала в нем близкого человека и порой сомневалась в серьезности Сашиного брака. А Лялькевич за то время, что жил у них, стал и вправду как родной. Поля полюбила его. Проницательная и приметливая, как все умные женщины, она не могла не увидеть, что он любит Сашу. От всей души желая сестре счастья, она хотела, чтобы они стали мужем и женой… И вдруг Петро стал реальностью. Он шел к ним, как в родной дом. Сердцем почуял соперника. Поля понимала его и не осуждала, что он так поступил, только очень жалела. Теперь она поверила в их любовь — Петра и Саши, в их брак. И ей, женщине богобоязненной, стало стыдно за грешные свои мысли: как сводница какая-нибудь, хотела отдать сестру замуж при живом муже, а он, бедняга, неведомо где теперь и неведомо что думает об их семье. Вот почему ей больно было, что Петра не разыскали, что он бесследно исчез, так и не узнав правды. И еще ее испугало и поразило, что Саша как будто не слишком потрясена — не плачет, не жалуется, не винит Лялькевича, Даника, ее, Полю. В непонятном страхе, опечаленная, шла она следом за Сашей во двор: как они встретятся с Лялькевичем? Владимир Иванович был под поветью. Хотел поработать (подходил сезон на бочки), но рубанок валился из рук, и он играл с Ленкой. Малышка уже твердо держалась на ногах, без устали щебетала. Ей нравилось падать на мягкие душистые стружки, кувыркаться в них. — Та-та, ба-ах! — валилась она на спинку и заливалась смехом. Лялькевич с отцовским умилением глядел на нее, улыбался, но улыбка была грустная. Он думал об ее отце, который блуждал где-то по лесу с тяжкой мукой в душе. А малышка ему, чужому человеку, говорит «папа», так ее учат Даник и Поля. Он вспомнил, как Саша долго, молча и упорно сопротивлялась тому, чтобы Ленка называла его папой. Но потом покорилась и в последнее время как будто не обращает на это внимания. Саша бросилась под поветь, схватила дочку на руки, крепко прижала к груди, словно ей угрожала опасность. Лялькевича это резануло по сердцу. Он почувствовал себя виноватым. Ленке, как назло, не хотелось сидеть на руках у матери, она рвалась назад к стружкам. Саша унесла ее в хату. Поля прослезилась и с сочувствием посмотрела на Владимира Ивановича. Саша, даже на взгляд Лялькевича, вела себя странно. Ему, когда он вошел в дом, она сказала мягко, ласково, с беззлобной иронией: — Как же это вы, Владимир Иванович, ничего сказать не успели? Получили по носу — и словечка не промолвили? Он сам все утро думал об этом и не мог понять, как это случилось, что он, комиссар, подпольщик, который в самых сложных и неожиданных обстоятельствах умел действовать быстро и правильно, оказался таким недотепой. Ему неловко было смотреть Саше в глаза, он понурился, переминался с ноги на ногу, стуча самодельным протезом о пол. — Эта тихая жизнь мне не на пользу. Я стал слишком медлительным, тяжелодумом… А он, Петро, видно, подрывник или разведчик. Действовал, как молния. Я узнал его только тогда, когда уже с разбитым носом лежал в луже… Саша рассмеялась, ему показалось, даже весело, и больше ничего не сказала. Внешне все было, как вчера, позавчера, как прежде. Саша собрала белье, пошла на речку и взяла с собой Ленку. Лялькевич не мог этого не отметить. Поля убирала на огороде фасоль. Даник с косой отправился на луг «накосить где-нибудь копешку отавы». Хотя в действительности цель у него была совсем не та. Два дня назад на Соже села на мель баржа. На барже усиленная охрана. Ребята догадывались, что у немцев там важный груз, может быть даже боеприпасы. И выпросили у Лялькевича разрешение сжечь баржу. Даник и Анатоль, кося отаву, должны были понаблюдать за охраной, разведать подступы. Лялькевичу не работалось. Он раздумывал и об очередной операции и о Петре. Саша, конечно, болезненно переживает все это. Но она гордая и потому ни о чем не просит и никого не обвиняет. Когда она вернулась с речки и стала развешивать на плетне белье, он подошел к ней, стал рядом, сказал шепотом: — Я пойду, Александра Федоровна. Я найду его. Направим связных во все соседние отряды. Он либо из армейской группы Витя, либо из отряда Куцого. Им сбросили радиста и диверсантов для города… Саша подняла глаза, во взгляде ее светилась благодарность, и это было ему дороже всего. — Я уйду в Буду ремонтировать церковь. Поп просил… Он стал не только бондарем, но и плотником. Об этом знает вся деревня. Саша кивнула — не впервой! И молча коснулась рукой его локтя.
II
«Война уничтожает все. Гибнут люди… Черствеют сердца. Рушится любовь и верность. Разваливается семья. Один я, наивный, верил в завтрашний день, в счастье. А оно — все в прошлом. Антонина ничего не требовала за свою любовь. Жила сегодняшним днем… Неужто так и надо? „Если бы ты сегодня попал под бомбу, твоя жена…“ Меня не убило бомбой, я выжил после финских пуль и гранаты, а счастья — того, что было, — нет и никогда больше не будет…» Петро лежал, уткнувшись головой в мокрый мох. В тяжкие минуты много страхов приходило на ум, многое чудилось: Саши нет в живых, ее угнали в Германию, в неволю, на мытарства и поношения… И о Лялькевиче думал, ревновал, мучился. Но представить, что Саша — жена этого человека, что они живут в тихой лесной деревне и, может быть, плодят детей, в то время как вокруг идет жестокая борьба, — такая мысль ему даже в голову не приходила. Как можно ошибиться в человеке! Саша, Саша… Хотелось плакать, а слез не было. И мысли как искры — сухие, короткие, ясные. Только мох мокрый и пахнет родным, забытым детством. Самое странное, что злобы против Саши он не испытывал. Другое дело — Лялькевич. «Может, полицай какой-нибудь, подлюга. Надо было не по морде, а хлопнуть из пистолета… Одним бы гадом меньше…» Он достал из кармана пистолет, до боли стиснул шершавую рукоять. Но через минуту подумал, что, не зная всех обстоятельств, он не мог бы этого сделать — убить человека, тем более близкого Саше… Он не убийца. И притом… Пускай Саша изменила, изменила ему. Но поверить, что она изменила народу, Родине, живет с полицаем? Нет! Не может этого быть! «Надо вернуться и все выяснить! Если он честный человек, то не продаст… Но какой же он честный?! Да теперь уже и не пройти, чтоб не увидели… Вот уже пастух коров сзывает. Скрипят журавли…» Петро прислушался. Снова кто-то крикнул, но уже с другой стороны — в гуще леса. Кто там мог звать его? В первый раз, когда он бежал, показалось, что женский голос надрывно крикнул позади: «Петя!» Он остановился тогда, замер. Ждал. И если бы оклик повторился, он, наверно, забыл бы и про школу, и про полицейский гарнизон, и про Лялькевича… Побежал бы назад, навстречу этому голосу. Но напрасно он ждал. Никто больше не окликнул. Видно, ему, усталому, разбитому, потрясенному, просто почудилось. Он и раньше часто слышал Сашин голос. И вот сейчас ему снова показалось, что это она. Крик повторился — и погасла надежда, стало ясно: перекликаются между собой люди, пришедшие по грибы. Имя какое-то непонятное — не то «Маник», не то «Ваник». И в ответ мальчишеский голос: «Ау-у!» Люди живут, грибы собирают. «Может быть, пойти к ним, обо всем расспросить? О чем? Что могут знать чужие люди? Скажут, что здесь она, Саша?.. Так ведь Аня же говорила. Услышать от чужих еще раз, что живет не одна — с мужем? А может быть, вернуться к ним и сказать: „Я хочу увидеть свою дочку. Где моя дочка?“ Посмотреть на малышку и глянуть в глаза Саше. Какие у нее будут глаза?» Он необычайно ярко представил ее глаза, как целовал их, и застонал от боли. Нет, возвращаться нельзя. Он просто не имеет права, это глупо и опасно, может привести к нелепой гибели. А он должен жить, бороться, мстить и за свои, и не только за свои обиды и горе. Завтра он обязан быть в отряде, там его ждут Павел Петрович, Кастусь, товарищи, ждут большие дела. Завтра. А ему идти километров сто. Надо спешить. Петро поднял голову. «Что ж, прощай… — обратился он мысленно к Саше. — Не думай, что я больше не верю в любовь, которая сильнее смерти. Может быть, моя любовь не сильнее смерти, но она верная и преданная! Ты слышишь? Я и теперь тебя люблю, Саша, слышишь? Вернись…» Он хотел сказать: «И я все прощу», но почувствовал пошлость этих романсных слов, разозлился, по-солдатски выругался. Надо идти, но он никак не мог оторваться от земли. Как будто сломался хребет, отключились нервы, и руки, ноги, сердце — все тело перестало слушаться приказов, посылаемых мозгом. Возниклосомнение: Лялькевич ли это был? Не ударил ли он ни в чем не повинного человека? Бывают же люди, похожие друг на друга. Петро тут же отбросил эту мысль: он вспомнил взгляд того, кого он ударил, — это был взгляд человека, который узнал его и растерялся. Если б он не узнал и не растерялся, то не стоял бы столбом. Теперь люди все настороже, они не ждут, пока их схватят или ударят. А этот тип чувствовал себя, как шкодливый пес. «А я шел хозяином…» Пронзила мысль: «Хозяином… Почему же ты бросился бежать? Не подождал, не повидался с Сашей?.. Пускай бы посмотрела в глаза». Казалось, это подумал кто-то другой — тот, с кем он часто беседовал, у кого искал совета, другой Петро Шапетович. Даже в пот кинуло, когда ответил: «Струсил. Испугался, что Лялькевич закричит, поднимет на ноги полицию…» Попытался оправдаться: «Совсем не струсил… Просто не хотел ее видеть, не хотел объяснений… Зачем? Чтоб было еще больней? Я не боялся немцев и полицаев, я боялся самого себя, душевных мук…» Однако почувствовал, что кривит душой. «Ты же кинулся бежать, как заяц… Как трус…» Это было очень обидно. Может быть, в начале войны он и в самом деле боялся смерти, но потом никто уже не мог, не имел права попрекнуть его этим. А тем более теперь, когда он стал партизанским разведчиком. И он докажет и себе и всем, что не трус! Сейчас же вернется и поговорит с ними! Его охватила отчаянная, безрассудная отвага. Он вскочил с земли и зашагал в деревню. Однако не попал на то место перед выгоном против хаты Трояновых, а вышел по другую сторону сухого болотца к ольховым кустам, среди которых чернели свежие следы прошедшего стада. Эти следы как-то сразу охладили Петра. «Коров много, — подумал он, — значит, „мирно“ живут, не „вредят“ немцам, раз те коров не трогают. Верно, здесь полицейский гарнизон из своих бобиков…» Да и деревня уже вся проснулась, по улице ходят люди. В такой ранний час незнакомого человека сразу засекут. Петро снова отступил в глубь леса, снова забрался в чащу и повалился на мох. «Надо идти!» — приказывал он себе и… не трогался с места. Там ждали друзья. А здесь — Саша… Как уйти, не поглядев ей в глаза? А как взглянуть?.. Теснились мысли, планы… Но усталость — две бессонные ночи — взяли свое. Петро уснул. Проснулся в испуге: ведь мог же кто-нибудь невзначай наткнуться на него. Но сон как-то хорошо успокоил, вернул рассудительность, трезвость. Хотелось есть, — уже сутки, кроме поздней черники, ничего не ел. Спал, должно быть, часа три, потому что солнце уже поднялось высоко. Раздумывал: «В такое время в деревне пустеет. Одни дети да старики. Пойду. Попрошу поесть у какой-нибудь бабки. И между прочим спрошу о Саше. Скажу, что когда-то до войны вместе учились. А там, может быть, удастся послать какого-нибудь мальчишку, чтоб позвал Сашу в лес. Чего мне бояться, если у меня такое оружие?» С опушки облюбовал себе хату, почему-то третью с краю, самую зажиточную на вид. Зашел прямо с улицы, не таясь. Во дворе встретила молодая хозяйка. Она расставляла для сушки тучные снопы проса. И тут Петро стало немного не по себе: слишком уж зажиточная хата по нынешним временам — занавески на окнах, в хлеву визжат поросята, на гонтовой крыше греются на солнце пузатые желтые тыквы и аппетитные красные помидоры. Но пути к отступлению не было. Не попросил, а потребовал поесть. Молодица не испугалась и не стала, как это водилось в те времена, если заходил чужой, жаловаться, что в хате крошки хлеба нет. Только как-то странно улыбнулась, стыдливо прикрыла сочные губы уголком линялого платка и пригласила в хату. Сняла скатерть, постлала другую, попроще, положила большой каравай свежего хлеба, от аромата которого у Петра закружилась голова. Он сразу жадно отломил большой ломоть. Женщина снова ухмыльнулась. — Я вам молока холодного из погреба принесу. И на чердаке погляжу — нет ли яиц. Кудахтали сегодня… — Мгу, — промычал Петро, набивая на диво вкусным хлебом рот. Хозяйка вышла. Петро огляделся. Хата чисто побелена, на никелированной кровати — гора подушек. На жерди — завешенная простыней одежда. «Не боятся, что немцы отберут…» Он знал, видел, что теперь в крестьянских хатах пусто: добро припрятано, потому что оккупанты забирают все, что попадет под руку, — не только хлеб и скот, но и одежду, полотна, скатерти, полотенца, посуду. «Не к старосте ли я попал?» — мелькнула мысль, и он проверил пистолет — подарок, полученный Кастусем в Москве, в партизанском штабе. Новенький красивый и блестящий, как игрушка. Вдруг в стекло за его спиной что-то стукнуло, словно кинули камушек. Он оглянулся. Мальчик лет десяти кивал и показывал рукой на огороды — подавал знаки, смысл которых нетрудно было разгадать: удирай, мол! «Кажется, влип, — подумал Петро. — Может, прыгнуть в окно?» Но тут же отказался от этого намерения. Схватил буханку, выбежал во двор, оттуда — на огород. И тут, за хлевом, столкнулся лицом к лицу… с ней, с хозяйкой, красной, запыхавшейся, и с мужчиной, заспанным, в измятой нижней сорочке, с винтовкой в руках. Женщина ойкнула от неожиданности и мигом юркнула за спину своего «архангела». Мужчина поднял винтовку, но, застигнутый врасплох, не успел дослать патрон, — верно, собирался сделать это во дворе. Петро опередил его: выхватил пистолет, направил на полицая. Но почему-то сразу не выстрелил. Приказал: — Бросай винтовку, сукин сын! — Бросай! — завизжала за спиной полицая женщина. И тот, посинев от страха, уронил оружие на землю. — Три шага назад! Они послушно попятились. — Руки вверх! Подняли руки. Петро подхватил с земли винтовку. — По партизанскому закону, я должен вас пристукнуть… — Ро-о-одненький, — шепотом заголосила женщина. — Молчать, немецкая сука! Мало у тебя добра? Хотела и за меня получить? Больше всего ярился Петро против нее, этой предательницы. Но он чувствовал, что не в состоянии вот так в упор выстрелить в женщину. А на белого как мел полицая, который не проронил ни слова, Петро почему-то не очень злился. Ну и лопух, даже патрона не дослал. Жена его, верно, заставила пойти в полицию. Не приходилось Петру в упор расстреливать людей. И легко ли это — убить безоружного! Черт с ними, пускай живут. Не миновать им кары. — Ложись! Легли. Она уткнулась лицом в его бок. Петра это развеселило. — Как там? Сухо в штанах? Лежать и не двигаться! Подымет кто из вас голову — пущу пулю. И от леса достану. И чтоб сегодня же бросил полицию. Потому что, имей в виду, мы тебя и под землей найдем. — И Петро побежал по огороду между высоких стеблей кукурузы. Знал бы он, кого помиловал! Самого начальника полицейского гарнизона Гусева! Тот уже прощался с жизнью: он решил, что пришел его час, что партизаны выследили его, когда он спал в саду у своей любовницы. И — о счастье! — партизан смилостивился. В амбаре, где они ночевали иногда, стояла винтовка. А мундир с пистолетом остался в хате. Гусев по борозде пополз во двор. Не успел Петро добежать до сосняка, как во дворе прозвучали пистолетные выстрелы, поднимающие тревогу. На них отозвался автомат возле школы. И тогда Петро пожалел, что отпустил этого гада. Выругал себя: «Размазня. Слюнтяй. Интеллигент. Что ты скажешь хлопцам?» Минут через десять позади уже строчило несколько автоматов — прочесывали лес. Глухо бухали винтовки. Одна пуля джикнула и срезала лозинку совсем близко. «Если у вас нет собак, то насыпьте мне соли на хвост», — злорадно подумал Петро, отходя все дальше в глубь подсохшего болота, хотя под ногами у него чавкало и кое-где среди лозняка поблескивали черной водой с красноватым отливом «чертовы ямы». Пока пробирался болотом, жевал хлеб, думал о том, как напугал полицая и его жену, — можно считать, доказал, что он не трус! Представил, как будет рассказывать об этом в отряде. Чувствовал, что, когда узнает командир отряда Павел Петрович, как неосторожно среди бела дня он зашел в деревню, где размещен целый гарнизон, вряд ли одобрит его за это. Сыну его, Кастусю, командиру разведки, тому, конечно, понравится. Тот любит рискованные предприятия. Но навряд ли похвалят его Кастусь и хлопцы за то, что он отпустил полицая. Не похвалят. Можно потерять уважение и доверие, это самая страшная кара — если тебе не верят. «Что же сказать? Соврать, что убил полицая? Но ведь надо же совесть иметь. Павел Петрович, пожалуй, похвалит, если сказать полуправду: „Не знал, где другие бобики — близко, далеко, может быть, тут же, на сеновале, спят, — а потому не решился стрелять, поднимать шум; обезоружил, уложил в борозду и — ходу“. Не надо разыгрывать героя, приписывать себе несуществующие подвиги. Правдой скорей завоюешь уважение! Принесу доказательство — винтовку. Нет, винтовку не донести. С ней днем идти опасно. Придется взять один затвор». «А о Саше… о ней что я расскажу? — вдруг обожгла мысль. — Прежде всего Кастусь спросит о ней…» Горько ему стало, горько и обидно. Не только потому, что он утерял самое дорогое, что у него было в жизни. Никогда еще он не чувствовал себя таким униженным. Ему казалось, что Лялькевич, хотя и получил по морде, смеется над ним. Может быть, вместе смеются. «Нет, нет… Саша не может смеяться. Не может! Она ничего не знает…» Петру хотелось думать, что Саша не виновата в том, что случилось, или виновата только отчасти — ее ввели в заблуждение, обольстили, вынудили. Хотелось, чтоб Лялькевич промолчал — не рассказал ей о его приходе. И он тоже будет молчать. Разве о таких вещах расскажешь даже лучшему другу? Придется врать. Выбравшись из болота, он оказался в знакомых местах: проходил тут ровно три года назад. Все из-за того же Лялькевича. Уже тогда тот стоял поперек дороги. Неужто и тогда между ним и Сашей что-то было? Неужто не зря он, Петро, ревновал? Да, предчувствие — это не пустяк… И все же ум, сердце, все его существо не могло примириться с тем, что Саша, добрая, нежная, чуткая, могла обмануть, изменить. Он вспоминал минуты, дни, месяцы их совместной жизни. Вспомнил свой первый, потом второй приезд… Первую близость и ощущение огромного счастья, которое жило в нем до сегодняшнего дня. Как же теперь он будет жить без этого счастья, без прошлого и будущего, без мечты? И, присев отдохнуть среди пересохшего болота, где сиротливо торчали обгорелые сосенки, он заплакал от охватившего его одиночества. Скорее к товарищам! Может быть, там развеется, забудется горе! К Днепру Петро вышел под вечер. Прошел по берегу, вдыхая речную прохладу, запахи ила и рыбы. Лодки нигде не было. Плыть он не отважился, чувствовал усталость да и боялся привлечь к себе внимание. На том, западном, крутом берегу он заметил людей. В одном месте дорога подходила к обрыву. Он видел, как по ней проехали возы, нагруженные снопами ячменя или пшеницы, прошли женщины. Кажется, будто идет обычная жизнь, люди заняты мирным трудом. И все-таки надо остерегаться. До чего же обидно — прятаться на родной земле! Что же делать? Ждать ночи? Жалко времени. Да и плыть ночью еще опаснее. Надо искать лодку. Укрываясь в прибрежном лозняке, Петро спустился вниз. За изгибом реки на том берегу показались белые домишки. Он узнал их. Они часто бывали там с Сашей. Это МТС, чуть подальше — больница, где работала мать Сени Песоцкого. Снова всплыли воспоминания. В устье речушки, впадавшей в Днепр, он нашел лодку. Но только прикоснулся к ней, как позади послышался суровый голос: — Эй, ты там! Не ты поставил, не трожь. Привыкли хватать чужое, точно свое! Петро отскочил, чтобы занять более выгодную позицию для обороны. Из кустов показалась рыжая борода, блеснули колючие глазки. Но Петро сразу увидел, что перед ним не враг. Из зарослей вышел старик лет семидесяти, вооруженный лишь ножиком да срезанными прутьями лозы. Правда, глядел он неприязненно, заросшее лицо казалось сердитым. Матюкнулся и повторил: — Не ты поставил, не трожь! Не твое… Петро решил договориться мирно и кротко попросил: — Перекиньте, дедушка, на ту сторону, пожалуйста. К сестре иду в Заполье. Старик окинул его проницательным и критическим взглядом. — А что дашь? — Что я тебе дам! В карманах у меня ветер гуляет… — Десять марок! — решительно заявил лодочник. Петра возмутила наглость и жадность старика. Собственно говоря, не столько жадность, сколько то, что он потребовал марки. Если б он запросил тысячу рублей, Петро только посмеялся бы. А то марки! — Ты что ж это, старый черт, разбогатеть задумал? — А это дело мое. Может, и разбогатею. — Марочник какой нашелся! Люди кровь проливают, а он марки копит… — Ну, так катись ты… — выругался старик и презрительно отвернулся. «Ах ты, псина старая! Сейчас ты у меня другое запоешь…» Петро достал из кармана пистолет, перекинул с руки на руку, словно вороненый металл жег пальцы. — Эй, ты, марочник! Гляди! Могу дать тебе марочку, золотую. Нет ей цены. Из этой вот игрушки. Старик искоса посмотрел на пистолет и молча двинулся в кусты. — Ты куда? — За веслом. — Другой разговор. Однако и я с тобой… — Да вот оно, весло, — наклонился он. — Не вздумай к немцам привезти, если собираешься еще богатеть, — предупредил Петро, вскочив в лодку. Он сел на носу, не выпуская из рук пистолета, лодочник — на корме. По реке плыли молча. На песчаном перекате старик живо, как молодой, выскочил и подтолкнул лодку. Когда выплыли на днепровский простор, он вдруг весело улыбнулся и спросил: — А я, кажется, уже перевозил тебя однажды? — Когда? — Не помню когда, а лицо твое запомнилось. Вид у тебя больно невеселый. На смерть краше идут. Петро вздрогнул: значит, этот дед перевозил его три года назад, когда он ушел от Саши, увидев, как они играли в волейбол, — Саша и тот… Пальцы впились в рукоятку пистолета. — А хлопушку свою спрячь, — говорил меж тем старик. — Был бы я твоим командиром — такую бы припарку тебе прописал за то, что ты вертишь этой игрушкой у каждого под носом. Дурень ты, брат… — Ну-ну! Командир! Поговори еще!.. — Мне не раз хотели рот заткнуть — не заткнули, как видишь. А как же мне тебя назвать, коли ты самый натуральный дурак? Скажи и на том спасибо… Петро усмехнулся. — Веселый ты, дед! — Знаешь, как это называется? — стукнул он веслом о борт. — Душегубка. Ты вот держишь свою цацку, а я могу во как, — лодка сильно качнулась. — Ну-ну! — Это я тебя предупредил, чтобы ты остерегся… А кабы я сразу… Пикнуть бы не успел. Пошел бы твой пистолет на дно, а следом — и ты. Я помог бы веслом по башке, чтоб долго не болтался. Я, брат, и спасать умею и топить кого надо… Петро почувствовал, как похолодел затылок. Он понял: здесь, посреди реки, он со своим оружием беспомощен перед этим седым, взъерошенным, слабосильным на вид стариком. Но вместе с тем тот вызывал теперь уважение и доверие. Нет, не десять марок были ему нужны, а что-то другое! Может быть, это какая-то хитрая проверка или пароль? Своего отношения к «новому порядку» старик не высказал ни одним словом, но Петро почему-то почуял в нем надежного человека и сунул пистолет в карман. — Не будем ссориться. Мы же — старые знакомые. Скажи лучше: ты, случайно, не оттуда? — кивнул он в сторону местечка, которое за выступом берега не было видно. — Оттуда. А что? — У вас там врачом работала Мария Сергеевна Песоцкая. Лодочник пристально посмотрел на него и уточнил: — Марья Сергеевна Кутека, это муж у нее был Песоцкий. Ага, работала. И теперь работает. — Работает? Где? — В больнице. Где же еще! При любой власти люди болеют, — философски-рассудительно сказал он и, немного помолчав, спросил: — А ты откуда знаешь нашу докторку? — Лечился у нее, — соврал Петро, чтоб не пускаться в лишние объяснения. — А-а… Лодка ткнулась носом в песчаный берег как раз у глубокого оврага. Такие овраги в высоких берегах вымывают вешние воды, отыскивая кратчайший путь к Днепру. У самой воды они глубоки и широки, дальше в поле мелеют, суживаются и разветвляются, как дерево. Там, где есть родники, ручьи в оврагах живут до лета, а потом пересыхают. Петро понял, что старик нарочно привез его к этому оврагу, чтобы оберечь от опасности на первых шагах. В груди колыхнулась теплая волна благодарности. «Вот он какой, этот дед: мудрый, хитрый, осторожный». Петро ступил на чисто промытый песок и придержал лодку, потому что старик уже уперся веслом в дно, чтоб оттолкнуться. — Спасибо, дедушка. Не обижайся, что я так… — Бог с тобой, — ответил тот, грустно склонив голову. — Будь здоров. — Будь здоров и ты, сынок. А когда Петро отошел, старик вдруг тихо окликнул: — Послушай! Хлопец! Ты к докторке? Будь осторожен. В школе немцы. Петро обернулся, кивнул головой — понимаю, мол. — Спасибо! Он помнил, что школа недалеко от больницы, через дорогу. Уверенность старика, что он пробирается в местечко, навела на мысль зайти к Сениной матери. Да, он должен к ней зайти! Непременно. Петро остановился в раздумье на дне оврага, на белом слежавшемся песке. Склоны поросли калиной, шиповником, еще какими-то колючими кустами. Заметив на песке свои следы, партизан подался в сторону, поднялся по склону наверх, оглядел поле, пустое и тихое, и лег в кустарнике над обрывом. Заходило солнце. Реку уже укрыла тень крутого берега. На верхушках дубов горели последние лучи. Вниз по течению плыла одинокая лодка. Где-то далеко замычала корова. Легкий ветер принес запах прелого зерна. Голова кружилась. Трехдневные переходы километров по пятьдесят, бессонница, все эти переживания совсем вымотали Петра. Ему казалось, что он медленно проваливался в глубокую яму, где сгущался мрак, глохли звуки, угасали мысли, как угли догоревшего костра, и становилось легко и хорошо. Но внезапно он снова всплыл на поверхность. Уже и в самом деле стемнело, в небе загорелись звезды. Внизу, у реки, подымался туман. Голова была ясная, как будто он отлично отдохнул, и снова вихрем закружились мысли. «Да, я навещу ее. Мы вместе поплачем над ее и над моим горем. Ей, матери, можно все рассказать. Потому что только любовь матери, и вправду, сильнее смерти. Ничто в мире не может ее охладить, поколебать… А зачем мне быть вестником горя? Убить последнюю надежду? Пускай надеется, верит… Так ей будет легче жить. А я могу поддержать эту веру, если передам привет от Сени, скажу, что он остался на батарее… Нет, я не могу лгать. Я выдам себя… Да и зачем? От этой страшной правды ей не уйти. Она все равно свалится на нее. Придет вместе с освобождением, победой… И тогда ей будет еще тяжелей среди всеобщей радости. Лучше теперь… Когда кругом горе, легче и свое перенести. Она мужественная женщина и врач. Пускай в ее сердце будет больше ненависти к врагу». Мысли обрывались, как гнилые нитки. А на черном небе вспыхивали новые звезды. Они мешали думать. Звезд стало без числа. Вот они колыхнулись, запрыгали с места на место. И Петро тоже колыхнулся и поплыл куда-то, покачиваясь, как на волнах. Нет, он должен идти! С усилием поднялся — ноги занемели, заболела грудь там, где были раны. Потом он еще долго лежал под самым местечком, в недозрелой гречихе, пахнущей медом. Во тьме безлунной ночи он видел белый домик больницы с одним тусклым огоньком — должно быть, в приемном покое. Его тревожили звуки, долетавшие из поселка: приглушенная музыка, голоса, пение. Кто-то развлекается. Кому-то очень весело. «Если это немцы, — размышлял Петро, — тем лучше: больше веселья — меньше бдительности. Где у них стоят часовые? Возле школы — понятно. У больницы? Зачем им охранять больных? Над обрывом, чтоб следить за лесным берегом, откуда могут переправиться партизаны? Но всего Днепра не огородишь штыками. Не хватит часовых. Я переплыл днем». Петро помнил деревянный домишко за больницей, где жила Мария Сергеевна, — показала Саша, когда они проходили мимо. Да и Сеня как-то говорил, что мать боится, как бы их лачуга весной или после хорошего ливня не очутилась в Днепре. Он полз по гречихе, по колючей стерне, через межи с засохшими сорняками. Как много стало меж! То и дело останавливался, припадал ухом к земле. Земля молчала. Звуки доносились по воздуху — чужая музыка, чужие песни и пьяные выкрики. «Веселятся, гады!» Они злили, эти звуки, наполняли сердце гневом. Когда подполз к разрушенной ограде, еще больше разозлился, обида обожгла сердце. Враги открыто пируют, а он вынужден ползти по родной земле, чтобы повидать мать друга, рассказать о гибели единственного сына… Довольно! Петро вскочил на ноги. Рядом стояла уборная. «Если здесь больница, то в уборную ходят больные, и на того, кто идет отсюда, не обратят внимания!» Подкрепив свой гнев таким логическим рассуждением, он в полный рост, но медленно, как ходят больные, двинулся к домику, черневшему возле белого здания больницы. И вдруг увидел тех, что веселились. По другую сторону улицы, в школе, окруженной густыми деревьями, светилось широко открытое окно; остальные окна были, вероятно, замаскированы, и только это смело глядело в ночь — через больничный двор, за реку, в далекий лес, как бы бросая вызов тем, кто скрывается там, в лесу, — хозяевам земли. Так показалось Петру, и его всего прямо заколотило. В большой классной комнате (может быть, в той, где учился Сеня) танцевали фашисты. Так разве может он, партизан, пройти мимо? Разве можно явиться к матери с одним горестным известием о смерти сына? У него есть граната, разве имеет он право уйти? Коли уж рисковать, так с толком, чтоб отомстить за Сеню, за себя, за все то светлое, что утрачено и растоптано. А если он, может случиться, не придет к Сениной матери — пусть она простит его. Петро повернул назад, в поле. Медленно отошел, потом наклонился и побежал. Перебежал дорогу и огородами (за школой стояло несколько хат) прокрался к аллее молодых тополей, листья которых и в эту тихую, безветренную ночь испуганно трепетали. Школьная ограда нетронута, не то что больничная, и даже укреплена: обтянута вверху колючей проволокой. Конечно, можно перебраться и через проволоку, но Петро боялся, что там сигнализация, и в поисках лаза пополз вдоль ограды. В одном месте штакетник расшатался, Петро раздвинул его и пролез внутрь. В школьном саду, через который он пробирался, стоял густой аромат спелых яблок. Он был голоден, и нестерпимо захотелось сорвать хоть одно яблоко. «Может, и яблоня эта посажена Сеней?» — подумал он, но преодолел искушение. Вот и здание школы: низкое, длинное. Над крышей в звездное небо вздымаются черные пики тополей. Петро прислушался. Во дворе тихо. И в школе музыка умолкла. «Не расходятся ли?» — подумал он с тревогой. С пистолетом в левой руке и гранатой в правой он стремительно пробежал последние метры до школы и прижался к теплой бревенчатой стене, от которой пахло нагретой смолой. Нет, они не расходятся. Они хохочут. «Пускай посмеются еще минутку. Многим из них больше не придется смеяться на этом свете». Не отрываясь от стены, он осторожно продвинулся до угла. Широкая полоса света падала на дорожку, посыпанную желтым песком, на аккуратно подстриженный куст сирени и калитку… Петро увидел все это мгновенно, отметил, что над калиткой нет колючей проволоки. Обратил внимание на тополя, листва выглядит в ярком свете не зеленой, а серебристо-алюминиевой, как рыбья чешуя. Обойдя крыльцо, Петро очутился возле открытого окна, заглянул в комнату. Они сидели за столом: шесть офицеров и две девушки. Одна заливалась пьяным смехом, другая говорила своему соседу, грозя пальцем: — Я вас накажу, Отто! Сколько раз повторяла: по-русски надо говорить не девки, а девушки… Вам непростительно! Вы не Густав, который ни бе, ни ме, ни кукареку… Петра передернуло от этих слов. «Шкуры продажные!» — Волен вир дойч шпрэхен. Цум тойфель русиш![9] — Либэ мэдхен, — закричал другой офицер, подымаясь, — тринкен вир фюр либэ![10] — Это ты, Генрих? — услышал Петро сзади тихий голос. Он не вздрогнул, не бросился бежать. Спокойно вырвал чеку, швырнул гранату в комнату, на стол и отскочил в тень под тополя. От взрыва погас свет. Петро метнулся к калитке, сильно толкнул, она с треском отворилась. Выскочил на улицу и побежал в поле. Но через несколько шагов споткнулся. «Неужто от усталости?» Вскочил и снова споткнулся, будто неведомая сила толкнула в спину. Почувствовал внутри что-то горячее. «Ранен? Чем? Когда?» Очевидно, выстрел часового прозвучал одновременно со взрывом, потому Петро и не услышал его. Почему-то пришла мысль, что спасение не в поле, куда он бежит, а там, за Днепром. Собрав последние силы, он бросился в больничный двор. На миг возникло ощущение необычайной легкости. Казалось, что он не бежит, а летит, и может вот так, прыгнув с обрыва, перелететь через Днепр. Скорее бы только обрыв! Скорей! Но та сила, что раньше толкала его, стала вдруг тянуть назад, как бы стремясь повалить на спину. Он обернулся с намерением ударить невидимого врага пистолетом, выстрелить ему в лицо. Но перед глазами взмыло красно-зелено-желтое пламя, казалось, северное сияние сорвалось с недосягаемой высоты и падает прямо на него. Он отшатнулся, закрыл руками лицо.III
К рассвету Лялькевич добрался до лагеря. На опушке его остановили дозорные. Когда он, устало ковыляя, стал уже тревожиться: «Неужто спят? А может быть, снялись?», с молодого дуба посыпались крупные капли росы и чуть не на голову ему свалился человек. Приставив ствол винтовки к груди, сказал: — Минуточку, господин уважаемый, есть разговор. Хлопец был незнакомый. «Пополняется отряд», — с удовлетворением подумал Лялькевич. В глазах партизана в предвкушении интересной беседы с «вражеским агентом» прыгали задорные чертики. — В такой ранний час добрые люди спят, уважаемый… Лялькевич улыбнулся. Дозорный нахмурился, собираясь, вероятно, проявить всю свою суровость. Но ему помешали. — Опусти винтовку! Свой, — приказал кто-то. Лялькевич обернулся и увидел одного из тех, кто пришел в лес вместе с ним в самом начале войны. — Доброго утра, товарищ комиссар! — Здорово, Корней Петрович! — Владимир Иванович, обрадовавшись, жал партизану руку. — Дед дома? — Дома. Молодой дозорный сошел с тропки, встал возле дуба и приставил винтовку к ноге. Он не знал этого хромого человека. Но если тот идет к самому Деду и «старики» называют его комиссаром, — значит, это не первый встречный. — Из города, — сказал Корней, кивнув на новичка. «Наше пополнение», — подумал Лялькевич и оглянулся, чтобы запомнить лицо человека, оказавшегося здесь благодаря работе, которую вел он со своими помощниками. Ему хотелось прийти в отряд незаметно, никого не будить. Примоститься где-нибудь на возу или в пустом шалаше и отдохнуть — очень уж ныла натруженная в неблизкой дороге нога. Но и в такую рань в лагере не спали. Только что вернулась из ночного похода группа разведчиков. Эти «партизанские гвардейцы» не только его бывшие подначальные, но и друзья. Увидели — от них не укроешься, — загорланили на весь лес. — Комиссар! — Володя! — Владимир Иванович! Протянулось сразу несколько рук. Тискали, хлопали по плечам. — В гости или совсем? — Тише вы! Разбудите людей! — Людей? Какие это люди? Сони! Довольно им пухнуть! Рады, что нет комаров… — Их и пушкой не разбудишь! — Слушай! Плюнь ты на свою культяпку! Давай обратно в отряд! Мы тебе тачанку организуем! С пулеметом! — Он там к такой молодице прилип!.. — Ого! Молодица — фельдшерица!.. — Женился? — Откормила она тебя… Скоро пузо отрастет. Как и где он лечился после ранения, почему задержался — о том было известно немногим в отряде. Но эти черти разведчики все пронюхают. И, главное, могут истолковать по-своему. Лялькевича беспокоили их реплики и шутки. — Ну и мастера же вы языком трепать! Вам бы не в разведке служить, а выступать на эстраде, — сказал он как бы шутя, но с укором: не болтайте, мол, лишнего! — О комиссар! Ты забыл, что такое разведчик. Это же всегда актер!.. — Владимир Иванович сам отличный актер! В центре лагеря, словно из-под земли, поднялась голова Черномора — этакая бородища, только шлема не хватает. Казалось, дунет сейчас — и взовьется вихрь. Но голова крикнула обыкновенным человеческим голосом: — Дажора! Что у тебя там за базар? — Дед! — Не спится ему! — Такой шум мертвого поднимет. Разведчики поодиночке растаяли. Только командир их, Генка Дажора, высокий, худощавый, с волосами, как лен, и девичьим лицом, остался с Лялькевичем. Дед — командир отряда Макар Пилипенко — увидел Лялькевича и сразу же вскочил с земли. Босой, в армейских галифе и майке, он шел навстречу Лялькевичу, широко раскинув руки. Обнял, защекотал ухо и шею бородой: — Володя, друг! — и встревоженным шепотом спросил: — Что случилось? — Ну и помело же ты отрастил! — шуткой ответил Лялькевич. Пилипенко потащил его в землянку. Бородатый командир, которого звали «Дедом» партизаны, окрестное население и даже немцы, был совсем молодым человеком — ровесником Лялькевича. Они много лет знали друг друга — Пилипенко работал пропагандистом райкома партии. Подружились они в истребительном отряде, когда ловили немецких парашютистов. Командиром отряда в то время был начальник милиции, они оба — его заместителями. Когда при приближении немцев райком отдал приказ создать из лучших людей ядро партизанского отряда, Лялькевич и Пилипенко возглавили его; с десятком надежных хлопцев, коммунистов и комсомольцев они перебрались с правого берега Днепра в лесное междуречье. Через каких-нибудь два месяца их отряд стал самым крупным в районе. Они с самого начала держали связь со своим секретарем райкома, а позднее связались с Гомельским подпольным горкомом и отрядами, действовавшими в южных лесах Гомельщины. Казалось бы, по логике вещей, математику Лялькевичу надлежало бы стать командиром, а пропагандисту Пилипенко — комиссаром. Но вышло наоборот. С первых же дней всем стало ясно, что Макар рожден быть командиром. Хорошая была у них дружба, настоящая, такая, что связывает на всю жизнь. Пилипенко очень обрадовался, увидав друга, но в то же время и встревожился: Лялькевич в отряд приходил редко. — Макар, ты снялся в своей бороде? Это же, знаешь, показать когда-нибудь! Вот был дед… в двадцать шесть лет! У другого и в сто такой не будет… — Ты моей бороды не трожь. Немцы за нее десять тысяч дают. Не сомневаясь, что Лялькевича в отряд привели исключительные обстоятельства, командир закрыл двери, чтоб тот скорее приступил к делу. Сквозь единственное маленькое оконце цедился скупой утренний свет. — Зачем закрыл? Дышать нечем. — Лялькевич толкнул рукой тяжелую, как в склепе, дверь. — Привык ты к простору. Не тяни кота за хвост. Не люблю… В самом деле ничего не случилось или ты прикидываешься? — Ей-богу, ничего особенного… для всех нас. Разве что для судьбы двух или трех человек… Лялькевич с интересом оглядел землянку. Вот где Пилипенко проявил себя как пропагандист, организатор районного музея! В землянке выставка народного творчества. От потолка до пола она увешана домоткаными коврами, дорожками, покрывалами, полотенцами, скатертями с белорусским и украинским орнаментом. Даже наволочки на подушках вышитые, как у богатых невест. — Это откуда же? — Немецкую почту взяли. Посылочки завоеватели отправляли с этим добром. Экзотика! Проснулся комиссар отряда — Копытков, заменивший Лялькевича, когда того ранили. Комиссар — человек солидный, лет на пятнадцать старше командира, с заметной сединой на висках, с широкоскулым выразительным лицом. Он — старый армеец, имеет немалое звание — батальонный комиссар. Окруженец. К отряду присоединился осенью с группой бойцов. Умный, образованный, но очень самоуверенный и самолюбивый. Узнав, что отрядом командует человек, три года назад вернувшийся из армии и всего с двумя треугольничками в петлицах, Копытков через неделю потребовал, чтобы командование было передано ему. Тогда Лялькевич с ним крепко поругался. Пришлось вмешаться подпольному райкому и деликатно побеседовать с батальонным комиссаром. — А-а, Лялькевич! Здорово! — протирая глаза, протянул Копытков. — Доброго утра, Сергей Николаевич. — Каким тебя ветром занесло? Лялькевичу не понравился тон комиссара. Нельзя так спрашивать человека, вернувшегося домой, в родную семью. И он не ответил. Пилипенко постарался сгладить неловкость. Добрая душа, он страдал, видя разлад между товарищами. Превыше всего он ценил мир и дружбу. — Знаешь, — обратился он к Лялькевичу, — мы получили тревожные известия… поэтому так наэлектризованы. В Гомеле — провалы. Правда, кажется, не в тех группах, с которыми связаны мы через тебя и твоих подпольщиков. Но многие группы имеют связь между собой. Вот и кольнуло, брат, когда я тебя увидел. И Сергей Николаевич… — О провалах я слышал, — сказал Лялькевич. — Мы приняли меры предосторожности. Копытков сел на постели, уперся руками в колени, тяжело закашлялся: с весны его душил астматический бронхит. — Хотят парализовать все сразу, — сквозь кашель выговорил он. — Да, нажимают, гады. Подступили к Сталинграду — прут на Кавказ… И здесь. Откуда у них, чертей, силы? Понатыкали гарнизонов везде, особенно у нас, в междуречье. В каждой прибрежной деревне — немецкий гарнизон. Где были румыны — сменяют, не полагаются на них. Какого дьявола им тут надо? Не можем понять… То ли они судоходство хотят наладить, то ли нас в клещи взять, прижать к реке и потопить. Если таковы их намерения — глупые у них командиры! Ты знаешь, чем мы им отвечаем? — Маленькие глазки над дремучей порослью бороды радостно заблестели. Пилипенко понизил голос и наклонился к Лялькевичу, который сидел на его постели и отвязывал протез, чтоб дать отдых ноге. — Объединяемся в бригады. Да, в партизанские бригады! Четвертак — уже командир одной из них. Насчет нашего отряда пока еще ничего не решено. Может быть, станем ядром отдельной бригады. Дед, гляди еще, выйдет в большие командиры! А что? — шутливо принял он важную позу и погладил бороду. — С такой бородой я могу далеко пойти. Копытков укоризненно покачал головой. Лялькевич массировал натруженную ногу. — Болит? — сочувственно спросил Пилипенко. Копытков закурил что-то сильно пахучее. Лялькевич удивился, так как знал, что батальонный комиссар не курит. — Травку какую-то дед посоветовал. Помогает. — И пояснил: — Не наш Дед. Настоящий. Лодочник на Днепре. Командир засмеялся. — Слышал, Володя? Я — дед ненастоящий. Комиссар не признает моей бороды. Считает, что незаконно выращена на частной усадьбе. Лялькевич знал: Макар шутит от полноты чувств — чистосердечно и просто. Копытков нахмурился: видно, подумал, что тот намекает на его претензию стать командиром отряда. — Почему же ты молчишь, Володя? — Думаю о настоящих и ненастоящих, — грустно усмехнулся Владимир Иванович. — Объявился настоящий Шапетович… Пилипенко свистнул. Комиссар поперхнулся пахучим дымом и снова закашлялся. — А сказал: ничего особенного. Откуда? — Не знаю. Появился вчера на рассвете. Я умывался… — Рано встаешь! — Увидел меня. Узнал. — Лялькевич объяснил Копыткову: — Мы встречались там, в Заполье, когда он приезжал к Саше. Он и тогда был со мной не слишком приветлив. — Видно, имел основания. — Не дури, Макар. А теперь… можно представить, что он подумал. Разговор был короткий. «Присосался, — говорит, — сукин сын!» И все… Если не считать небольшого физического воздействия, которое, как видишь, изменило нос и губы… — Вот черт! А я думал — ты поправился так. — Кинулся в огород — и как сквозь землю провалился. Я не мог не сказать Саше. Она полдня его в лесу искала… Я обещал найти. Помогите, товарищи. Копытков хмыкнул: — Романтика. Где ты его найдешь? — Нет, дорогой Сергей Николаевич, это не романтика, — сказал Лялькевич. — Если женщина рискует не только своей жизнью… — Весь народ рискует жизнью… — …не только своей жизнью, — повторил Лялькевич, — но и жизнью ребенка, наконец, женской честью, чтобы спасти партизана… И если она так дорожит своей любовью к мужу… Не морщитесь! В такой романтике — великая сила! И вот сейчас от того, как разрешится это нелепое недоразумение, зависит ее судьба, ее будущее счастье. Я не могу оставаться равнодушным, когда дело идет о таком человеке. Наконец, деятельность нашей группы… — Где ты собираешься его искать? Легче найти иголку в стогу сена. А может быть, он вовсе… — перебил Копытков. Пилипенко дернул себя за бороду. — Насчет «вовсе» не будем, Сергей Николаевич! Полицай пришел бы не в такое время и не оттуда. Безусловно, наш хлопец, партизан… Верно, из переброшенных с Большой земли. Ладно, Володя! Поищем. Сегодня же пошлю разведчиков к соседям. Эти орлы и под землей найдут! — Он выглянул из землянки, крикнул: — Дежурный! Дажору ко мне. Командир разведки явился так быстро, словно ждал вызова где-то в двух шагах. Вбежал, козырнул и тут же снял свою старую кепку. Одет он был по-штатски: серенький пиджачок с рукавами, протертыми на локтях, залатанные на коленях штаны, мокрые от росы ботинки. — Что же ты не доложил, где твои петухи отсыпались сегодня? Каких девчат обнимали — руднянских или дятловицких? — Товарищ командир, — притворно обиделся разведчик. — Не очень-то пообнимаешь — везде гарнизоны. — Что в Островках? — Около сорока полицаев, семнадцать немцев. Два пулемета, одна танкетка. — Танкетка! Ишь гады! Что ж, пускай будет танкетка! — И Пилипенко объяснил Лялькевичу: — Решили ударить по этому гарнизону под спаса… Чтоб они чувствовали, что не очень-то мы их испугались. Что еще? — Вчера днем кто-то шлепнул старосту Карповича. — Туда ему и дорога, гаду! Но кто это нас опередил? Не по-соседски работают! Он нам подсуден. — Ночью сгорела школа в местечке. Там был бой… Стреляли… Сашка Кудлач наблюдал из-за реки. Только что примчался оттуда. Школу жалеет. Он там учился. Лялькевич, молча слушавший рапорт командира разведки и шутливые реплики Деда, вдруг встрепенулся: — Слушай, Макар! Знаешь, что я подумал? Это его работа. — Чья? — Шапетовича. Староста и школа. Мстил по пути. — Ты полагаешь? — Мне так кажется. Чувствуется рука, которая саданула меня в переносицу. Вот так — с налету! Недолго думая… — Староста — возможно. А школа не под силу одному, — усомнился комиссар. — Вы же слышите — был бой. Не вел же его один человек. Пилипенко задумался, разглаживая бороду, потом решительно сказал: — Все равно. Поищем и за рекой!IV
«Не пожелай сразу многого» — это почти евангельское изречение утешало недолго, только поначалу. А уже вечером, когда Владимир Иванович ушел в отряд, Саша почувствовала, что нет ей покоя. Недостаточно ей того, что Петя «жив, здоров, духом крепок и сердцем чист», как сказал ей Алексей Софронович. Если б эта радостная весть пришла издалека — другое дело. А когда он сам был здесь, у них во дворе, рядом, и ушел, неведомо что думая о ней, — разве можно спокойно ждать? «Глупый! Боже мой, какой глупый! — шептала она ночью, сжимая кулаки от злости. — Я не знаю, что сделаю с тобой за эту глупость. Как ты мог подумать! Сумасшедший! Дурак ревнивый!» Но через минуту злость уступала место нежности, и Саша звала его: «Петя! Родной мой. Вернись! Погляди на дочку!» Она замирала, прислушиваясь к каждому шороху во дворе. Ждала, верила, что ночью он придет. Он ведь знал, что рядом полицаи, и не мог прийти днем. В полудремоте, в горячечных видениях она прижимала его голову к груди, целовала глаза, губы, повторяла самые ласковые слова. И становилось еще больнее, когда, очнувшись, убеждалась, что его нет. За ночь Саша осунулась и ходила как тень, как призрак. Поля и Данила не спускали с нее глаз, ухаживали как за тяжелобольной. На следующую ночь ее преследовали страшные сны, кошмары… Петя будто попал к фашистам, его били, пытали… А Лялькевича все не было. Саша начала сомневаться, ищет ли он Петю. Вспомнилось, как весной под поветью он обнял ее и стал целовать. Она оттолкнула его. А потом, позднее, когда они раскорчевывали делянку под просо и сели полудновать, он сказал: — Саша, я хочу, чтоб вы знали. Жизнь наша солдатская, и все может случиться. Я вас люблю… Люблю давно, еще с Заполья. Простите меня за тот порыв. Я ничего не требую… Никогда вас не обижу… Но вы должны знать… Он говорил «вы», хотя они давно уже обращались друг к другу на «ты». Ей стало жаль себя, Петю, Лялькевича. Хотелось плакать, и она ничего не ответила. Он стал жадно пить квас из баклаги, словно у него внутри горело. Ей не хотелось думать о Лялькевиче дурно. Но в бессонные ночи что только не приходит в голову. Даже закралась мысль, что он мог сказать Пете что-нибудь нехорошее, обидное, поэтому тот ударил его и скрылся так поспешно. Ей тут же стало стыдно за подозрение. Нет, не такой человек Владимир Иванович! На третий день соседка Аксана сказала: — Что ты, глупая, мучаешь сама себя? Иди к нему. Помиритесь. Мало ли я лаялась со своим? Поверь моему слову, он так же мучается. «Иди» — слово это как бы разбудило Сашу. — Я знаю, — сказала она Поле и Данику, когда соседка ушла, — где его искать. Он заходил к Ане. Я должна туда пойти. Поля едва удержала сестру, чтоб та не кинулась на ночь глядя, — так Саша убедила себя, что только там можно напасть на Петин след. На рассвете Саша ушла. Документы у нее были — часто ходила в город по заданию организации. За это время она привыкла к немцам и давно уже не испытывала такого страха, как в начале войны. Однажды в Гомеле ее задержали, отвели в комендатуру, и она отвечала на все вопросы смело, находчиво, и все обошлось благополучно. Но, дойдя до того места в междуречье, где их с Аней хотели расстрелять парашютисты, Саша снова почувствовала страх. И, странное дело, он больше не оставлял ее ни в лесу, ни в поле, ни даже в деревне, через которую она проходила. Это был даже не страх, а предчувствие чего-то недоброго. Она боялась встречи с немцами. И столкнулась с ними на берегу Днепра. Они выскочили из кустов, человек восемь, окружили и направили автоматы на безоружную женщину. У Саши екнуло сердце. Немцы что-то злобно говорили про партизан, глядели волком, вырвали из рук узелок и держали его с опаской — не мина ли? Один больно толкнул автоматом в плечо. Наконец посадили в лодку и под конвоем повезли в местечко. В лодке Саша с облегчением вздохнула: плыли туда, где многие ее знают. Вспомнила то время, когда приходила сюда с Петей, и даже залюбовалась знакомой днепровской ширью, забыла про страх. Только когдаувидела, что лодка пристает у больницы, сердце ее снова забилось. Поднялись по узкой тропинке на кручу, и первое, что бросилось в глаза — свежее пожарище на том месте, где стояла школа. Сиротливо и страшно, как привидения, возвышались белые печи и обгоревшие черные тополя. А больница цела, все три дома. Сашу повели в главный корпус, где она лежала, когда родила Ленку. — Партизан! — сказал один из конвойных часовому у больницы. — О-о! — удивился тот и направил на нее автомат. И вдруг Саша увидела Марию Сергеевну. Она вышла из амбулатории в белом халате, в косынке с красным крестом. Такая же, как год назад, разве что немного постарела. Саша крикнула: — Мария Сергеевна! Та глянула и сразу узнала: — Саша! Друг мой! Устремилась к ней, но часовой остановил движением автомата. — Мария Сергеевна! Я шла к вам, к Ане, навестить, а они задержали… Налетели на том берегу, как бог знает на кого… Скажите им. На крыльцо вышел молодой красивый офицер. — Вас ист хир?[11] Конвойные вытянулись и стали докладывать. Офицер отрывисто и сердито что-то спросил. Конвойные растерялись и начали оправдываться, перебивая друг друга. Офицер прикрикнул на них. Тогда к нему обратилась Мария Сергеевна: — Герр обер-лейтенант! — и заговорила по-немецки быстро и горячо. Он слушал молча, почтительно склонив голову. Саша понимала, о чем она говорит, по выражению ее лица, по жестам. Да и немецкие слова, которые она учила в школе и которые часто слышала за время оккупации, в устах Марии Сергеевны были куда понятнее, чем у немцев. Офицер показал на ее узелок. Солдат положил его на скамью. Развязал. Обер-лейтенант спустился с крыльца, достал из кармана брюк маленький блестящий ножичек, взял хлеб и стал отрезать от него тонкие ломтики. Один за другим они падали на песок дорожки. Саше стало больно и обидно за пренебрежение к хлебу, который они добывали потом и кровью. Видно, Мария Сергеевна прочитала это на ее лице, потому что сказала офицеру: — Герр фон Штумме, по русскому обычаю хлеб нельзя бросать на землю. Он удивленно посмотрел на нее, смешно вытаращил свои и без того большие, по-детски светлые глаза. Врач развела руками. — Народный обычай, его надо уважать. Офицер приказал солдату поднять хлеб. Тот собрал ломтики, небрежно обтер о рукав мундира и положил на платок, бросив злобный взгляд на Сашу. Обер-лейтенант осторожно разрезал каждое яблоко, но уже не кинул дольки на землю, а положил обратно. Потом пальцем поковырялся в соли. Саше стало смешно от этих педантичных поисков неведомо чего. Офицер повернулся к ней и сказал что-то по-немецки. Мария Сергеевна перевела: — Господин офицер требует съесть щепотку соли. Саша съела. Тогда он потребовал: — Документ! Саша достала из внутреннего кармана старого Даникова пиджака паспорт и удостоверение. Он внимательно прочитал, передал солдату, а сам подошел и стал обыскивать ее: ощупал карманы пиджака бесстыдно провел ладонями по бедрам, бокам, наконец по груди. Сашу передернуло от отвращения, она слегка оттолкнула его руку. Он испуганно отшатнулся и еще больше вылупил глаза. Протянул удивленно: — О-о! — Герр фон Штумме, вы же культурный человек… Как можно! — с укором сказала Мария Сергеевна. И Саша увидела, как немец покраснел. Впервые она наблюдала захватчика, устыдившегося своих поступков. Значит, живы еще в нем человеческие чувства. Но чтобы не выдать их, эти чувства, он надулся и строго спросил: — Куда вы шел? — Шла в Заполье… Я там работала фельдшером. Вот Мария Сергеевна знает. Там у хозяйки, у Ганны Целеш, остались кое-какие вещи. И теперь, когда обносилась, — Саша потрясла полу пиджака, тронула юбку, — я хотела их забрать. Она сказала правду, которая подтвердилась бы любой проверкой. Потом снова говорила по-немецки Мария Сергеевна. Офицер забрал у солдата документы и, словно нехотя, жалея об этом, отдал их Саше. — Карош, — перебил он Марию Сергеевну по-русски. — Я буду поверить вам, фрау Мария. Абер бенахрихтиге, ист[12] она партизан — их буду стреляйт вас, фрау Мария. — О, в таком случае я проживу сто лет. Он не улыбнулся на шутку врача. Еще раз оглядел Сашу, задержав взгляд на ее босых, исцарапанных стерней, но все равно красивых ногах, и сказал по-немецки: — Можете идти. Саша была всегда сдержанной в проявлении своих чувств, не любила нежностей, поцелуев, как иные женщины. Но тут не выдержала. Когда отошли на несколько шагов, она обняла Марию Сергеевну, поцеловала в щеку. — Спасибо вам. — За что, мой друг? А вообще твое счастье, что я вовремя вышла. От них теперь всего можно ждать. Два дня назад партизаны бросили в окно школы гранату. Там у них попойка была… Погибло пять офицеров. У них там, говорят, стояли бутыли со спиртом. Спирт загорелся… Некоторые из них, видно раненые, страшно кричали. И никто не пытался спасти их. Школа вспыхнула как порох. Этому, — кивнула Мария Сергеевна на офицера, который все еще стоял и смотрел им вслед, — повезло, он опьянел раньше других, вышел в сад и уснул на скамейке. Теперь говорит, что его добрая мать молилась о нем в тот вечер. Он одним хорош — не чинит репрессий. Боится. Мести боится. Ты видела, как он проверял твой узелок? До него был зверь. Гюнтер. Он сгорел… Тот любил выставлять на вид свою смелость: ничего, мол, нам не страшно. А этот очень осторожен. Запретил съезжаться на рынок… Наставил часовых… Никого из города не выпускает. Требует, чтобы я перебралась со своими больными в бывшую МТС. А там все разбито, разрушено. Ни одного целого дома. Едва упросила, чтоб повременил неделю, пока там сделают кое-какой ремонт. А больных видишь сколько? Заняла амбулаторию, дом, сарай. И одна со старыми жалостливыми бабками, которые по очереди заменяют санитарок. Девчата мои разбежались. Невозможно им тут с солдатами… Нинку помнишь? Сестрой работала. Беленькая такая. Опустилась девка. Спуталась с офицерами… И… сгорела вместе с ними. Две там таких… понесли наказание за свои грехи, как говорят мои бабки. Суровое наказание… Они подошли к обрыву у домика, где жила Мария Сергеевна, остановились. Врач задумчиво поглядела вниз, на спокойную и величественную гладь Днепра, а Саша — на заречный лес, вспомнила дочку. Заболело сердце по ребенку. Мария Сергеевна как будто отгадала ее мысли. — Ну, мою жизнь ты видишь… А ты… ты как, мой друг, жила? Как дочка? — Ничего. Растет. Бегает уже, — лицо Саши засветилось. — Мне кажется, я не пережила бы всего этого без нее, и в доме, верно, никто и не улыбнулся бы, если б не Ленка. А так и сестра, и брат, и… — она прикусила язык, — я сама… Поглядишь на ее шалости, засмеешься — и легче на душе становится. Она такая забавная. Говорить начинает… Мария Сергеевна тяжело вздохнула. Саша поняла, что она думает о сыне, и осторожно спросила: — От Сени больше вестей не было? — Нет, Саша, ничего. Как-то зимой мне вдруг показалось, что он погиб. Боже мой, что я пережила! А потом все это прошло. Я снова поверила, что он жив. Я верю… Материнское сердце, оно чует. «А я наверное знаю, что Петя жив. Петя здесь». Саше очень хотелось сказать это, но нельзя. Потому что тогда надо многое объяснять, и о Лялькевиче тоже. А это тайна организации, хранить которую она поклялась и не имеет права выдавать даже под страхом смерти. Она, конечно, уверена, что Мария Сергеевна честный советский человек. Но все-таки она так близка к немцам. Почему она не эвакуировалась? Говорила, что уйдет с последним красноармейцем. — Мария Сергеевна, а почему вы не эвакуировались? — Не могла!.. У меня на руках были дети… раненые дети. Бомба упала вон там, на берегу, и многих ранило… Я не могла их бросить и вынуждена была остаться. — А я… я заболела. Тогда, когда мы ушли от вас с Аней. — Я знаю. Аня рассказывала. Отошла? А я боялась, как бы не нажила эпилепсии. Собиралась сходить к тебе. Но помешала эта беда с детьми, а потом пришли они… Саша почувствовала, что женщина эта — близкий человек, друг. «Если б я имела право открыть ей, что знаю о Пете… Может, она помогла бы разыскать его». Хотелось сказать ей какие-то особенные слова, доверить самую заветную тайну. Но слова такие нелегко найти. А тайна — не только ее. Саша взяла руку Марии Сергеевны и с благодарностью сжала холодные пальцы. — Спасибо тебе, мой друг. За встречу. Мне очень приятно тебя видеть. Может быть, Сеня где-нибудь вместе с Петей… Вспоминают нас… Они же такие друзья! После этих слов Саше еще больше захотелось рассказать про Петю — как-нибудь так, чтоб не упоминать о Лялькевиче. Она ничего не могла придумать, да и что-то удерживало ее. Не близость ли немцев? В такие времена земля под ногами и деревья имеют уши. «Схожу к Ане, может быть, разузнаю побольше и тогда на обратном пути расскажу Марии Сергеевне. Придумаю что-нибудь. Скажу, что Петя заходил к Ане». Сердце рвалось скорее туда, в знакомую деревню, в знакомую хату. Может быть, там, где родилось их счастье, там оно и вернется? Но было неловко так скоро уйти от этой доброй женщины, что выручила ее из беды и встретила как дочь. Саша попросила показать больницу, потому что знала — Марии Сергеевне это будет приятно. — Не на что глядеть, мой друг! Белье изорвалось, медикаментов нет. По три раза стираем одни и те же бинты. Больных кормим чем бог пошлет… Зашли в бывшую амбулаторию, где лежали тяжелобольные женщины, главным образом старухи. Да, от прежней больницы, где все сверкало чистотой, ничего не осталось. Саша понимала, сколько нужно сил, чтобы в таких условиях, с таким персоналом поддерживать элементарную гигиену. Одна больная застонала, заплакала: — Докторка, родная, дай ты мне мышьяку какого-нибудь. Ох, силушки больше нет. О-ой!.. — Успокойтесь, тетка Алена. — Мария Сергеевна провела рукой по ее лицу, пощупала пульс. — Вам же лучше. — Душа болит. — У всех она теперь болит, душа, — сурово откликнулась другая больная, старуха с изможденным лицом великомученицы. — А ты себя как чувствуешь, мой дружок? — ласково спросила Мария Сергеевна у девочки лет восьми. — Хорошо, — пропищала та. — Аппендицит. С прободением. Чуть не загубили ребенка, — объяснила Мария Сергеевна. — Пусть благодарит спасительницу нашу, — сказала старуха, что сидела у окна, грызя черствую корку хлеба. — Докторка! Дай отравы! Христом-богом прошу! — Замолчи, Алена! Не гневи господа! — прикрикнула женщина с лицом мученицы. — Муж ее, полицай, пьяный сапогом в живот ударил. Звереют люди. Оперировала, но навряд ли выживет, — рассказала Мария Сергеевна, когда они пришли в маленькую комнатку врача. — Садись, Саша. Отдохни. Я перекусить соберу. Саша была поражена: Мария Сергеевна рассказывала об Алене с таким спокойствием, так безразлично! «Неужто и она, такая чуткая, сердечная, очерствела?» Быстро и бесшумно Мария Сергеевна прибрала со столика бутылки с лекарствами, поставила хлеб и помидоры. — А соль свою давай. У меня нет. Этот барон проверял, не отравлена ли она. Он из аристократов — фон… — Она устало опустилась на табурет по другую сторону стола, потерла виски. — Вот такая у меня больница. В моем доме — раненые полицейские. — И вы их лечите?! — вырвалось у Саши. Мария Сергеевна опустила глаза. — Я врач… Врач. Ты должна понять… Саша понимала. Все понимала. Но желания рассказать про Петю у нее уже не было.К Заполью она подходила под вечер. Большой ярко-красный шар солнца только что коснулся горизонта. С некоторых пор Саша начала бояться огненных красок заката. Каждый раз ей казалось, что это предвестье новых кровавых событий. Вокруг столько смертей, горя и слез, что невольно и она, комсомолка, подпольщица, фельдшерица, становилась суеверной. Нервы. Когда они напряжены так, как сегодня, и не такое примерещится. Шесть километров до деревни Саша бежала, изредка останавливаясь, чтоб перевести дыхание. Последний километр шла рывками: то бросится вперед бегом, то замедляет шаги, а то встанет и оглянется. Пугало безлюдье: на торной дороге, где до войны без конца сновали люди, повозки, машины, не встретилось ни одной живой души. Возле деревни она заставила себя на минутку присесть у обочины, чтоб собраться с силами. Страх и тревога толкали ее вперед и удерживали, заставляя обдумывать каждый шаг, каждое слово, которое придется сказать. Наконец украдкой, как вор, она свернула с дороги и пошла огородами. Вот знакомый сад, где каждая яблоня, каждая вишня — родные. Вот тут, под этой яблоней, она лежала, когда Петя впервые пришел сюда. А вот здесь… Нет, не надо вспоминать! Саша отворила ворота во двор, они заскрипели так же, как и год и два назад. Аня у колодца (в этой богатой деревне колодцы чуть не в каждом дворе) мыла подойник. Услышала, как скрипнули ворота, быстро обернулась. Узнала, бросилась навстречу. Обняла и заголосила. У Саши оборвалось сердце: беда. — А, Шурочка, а, родная моя! Кабы ты ведала, какое у меня горе! Забрали моего Колю, сыночка, погнали в Неметчину; а он же дитя еще горемычное. Шестнадцать годков всего… Немного отлегло от сердца: не самое еще страшное — не смерть. Не умела Саша утешать людей, не находила нужных слов. Погладила женщину по плечу, поцеловала в соленую от слез щеку, сказала: — Не надо, Аня… Не у вас одной. — Да, не у одной. Полдеревни забрали, ироды. Аня вытерла косынкой слезы и как-то сразу успокоилась. — Идем в хату. Что это мы стоим? Пойдем погуторим. Нинка! Ты погляди, кто к нам пришел! Девочка, очень выросшая за год, застенчиво поздоровалась. — Добрый вечер, тетя Шура. Саша поцеловала ее. — Погляди тут возле хаты, доченька, чтоб какая зараза не подшпионила, — сказала ей мать. — А мы хоть наговоримся, душу отведем… В хате, где по углам притаился сумрак и почему-то было не так знакомо и привычно, как в саду и во дворе, Саша спросила: — Аня, скажите… Петя… мой Петя к вам не заходил? — Ах, боженька мой! — всплеснула руками женщина. — А разве он у тебя не был? — Был… Но, знаете, как получилось… Я… меня не было дома, я у людей жала, на хуторе. А у нас рядом — полицаи… Он забежал на рассвете. Сказал сестре: передайте, говорит, Саше, что жив, здоров. И ушел… Куда — не сказал. Так мы и не повидались… Саша почувствовала, что рассказывает путано и не слишком правдоподобно. Не так собиралась она начать. Ее сбило искреннее удивление Ани: «А разве он у тебя не был?» Не обмануло, значит, предчувствие, что, прежде чем идти в деревню, Петя наведался сюда. — Значит, это он, — вдруг задумчиво прошептала Аня. — Что он? Где он? — рванулась к ней Саша. — Тише. Я тебе все расскажу. Она обняла гостью за плечи, отвела от окна и посадила на ту кровать за печью, где когда-то спал Петя, когда они еще не были женаты. Сама села рядом. — Слушай. Саша онемела — дохнуть боялась. — Пришел он ко мне… Я скажу тебе когда… сегодня суббота? С понедельника на вторник… Этак под утро… Слышу, кто-то не стучит, а скребется в окно. Я думала — Коля. Хочу встать и не могу: ноги отнялись. А потом подхожу к окну. «Кто там?» — «Я, тетка Аня, я, Петя». — «Какой Петя?» Голос будто знакомый, а признать не могу. «Сашин Петя». Боженька мой! Как сказал он это — так и заколотило меня всю. Отворила не дверь, а вон то окно. Сама не знаю почему. Он через окно и влез. «Куда уехала Саша?» — спрашивает. «Домой, — говорю, — поехала, к отцу. Я сама ее проводила». — «Спасибо, — говорит, — Аня, вам за все». — «Не за что, — говорю, — Петечка. Откуда же ты идешь? Может, из плена?» — «Нет, — говорит, — из лесов белорусских…» А потом попросил: «Не найдется ли, — говорит, — Аня, у вас ломтя хлеба?» Я дала ему хлеба, кусочек сала, огурцов. Он запихал все в карманы, поблагодарил, попрощался и снова вылез через окно. Больше я ничего не успела у него спросить, и он ничего не сказал… Саша нарушила молчание громким, полной грудью, вздохом. — Но это еще не все, Шурочка. Ты слушай. На третью ночь сгорела в местечке школа. Говорят, партизаны бомбу бросили, много офицеров убили… Немцы больных из новой больницы выгнали, сами туда перебрались. Докторка наша, Марья Сергеевна, разместила больных кого где: в сарае, у себя в доме… «Я это знаю, заходила туда», — хотела было сказать Саша. Но Аня вдруг понизила голос совсем до шепота: — А сестра моя, Кулина, — ты ж ее знаешь, — помогает ей там, за санитарку… Так вот слушай, Шурочка… Приходит она ко мне вчера и диво дивное рассказывает. Лежал в больнице полицай какой-то. Косой его так порезали, что живого места на теле не оставили. Видно, добрая цаца был, вроде нашего Гурка. Весь забинтованный лежал. Кулина — ты же знаешь — женщина верующая, ей жалко его стало. Один лежал, и никто к нему не приходил. Только она иной раз посидит, бывало. «Пусть, — говорит, — он полицай, однако же православный человек, крест на шее носит». Так вот, слушай… Когда немцы вытурили всех из больницы, пришла она убирать. «Спрашиваю, — говорит, — где Федос, полицай этот?» — «В моем доме, — докторка отвечает, — так немцы приказали». Пошла Кулина туда… «Лежит, — говорит, — в комнатке, где сын докторкин жил… забинтованный так же, крестик на шее… А глянула я, — говорит, — и чуть не сомлела: не тот человек… Другой, моложе, ростом пониже… Повернулась я, — говорит, — а на пороге Марья Сергеевна, и так смотрит, — говорит, — на меня, так смотрит, аж страшно стало. Я слова, — говорит, — не вымолвила, и она тоже…» Саша почувствовала, как застучало сердце, как стук этот заполнил грудь, перехватил дыхание. — Больше Кулина туда не пошла. А ко мне прибежала посоветоваться — ходить ли ей в больницу… Я сказала: ходи, но об этом — никому ни слова. «Да что я, — говорит, — маленькая, слава богу, пятьдесят шестой годок на свете живу». Я бы, Шурочка, промолчала бы, сама знаешь, время такое… кабы она мне в тот раз словечка одного не сказала. «Знаешь, — говорит, — Ганна, очень человек тот похож на мужа Шуриного. Глаза, — говорит…» Саша вскрикнула…
V
В оккупации люди научились молчать, и молчание очень высоко ценилось, зачастую оно выручало из беды, а то и спасало жизнь. Чем глубже было молчание, тем большую цену приобретало слово, тем сильнее оно действовало. Однако всегда находятся люди, которым легче, кажется, помереть, чем удержать язык за зубами. Старуха, соседка Трояновых, любила, пока невестка спит, заглянуть в куриные гнезда (на чердаке они прятали от немцев, лакомых до курятины, кур). Сквозь щель в дырявой крыше она увидела, что кто-то незнакомый пробирался во двор к соседям. Скоро он выскочил со двора в огород и, наклонившись, побежал к лесу. Немного погодя на огород выбежала Саша и закричала: «Петя!» Ее догнал муж («Безногий, а бежал, как на четырех»), повалил в картошку и стал душить. А потом к ним подбежал Даник. Они мирно поговорили, и брат с сестрой пошли в лес. Все это заинтересовало старуху. Она ничего не сказала невестке, женщине разумной и осторожной, а «под большим секретом» сообщила другой старухе. А та — своей дочке, а дочка — подружке, той самой довоенной вдове, любовнице Гусева, с помощью которой он чуть не поймал Петра. Гусев так и подскочил, когда услышал об этом. О его позорном разоружении, о том страхе, который он испытал, когда партизан уложил его в борозду, никто не знал. Лизавете он сказал: «Гавкнешь кому — голову сверну». Но все равно казалось, что об этом знают все — полицаи, село, — смеются за его спиной. Он стал еще более подозрительным, осторожным, ходил злой как собака. Никому не доверял, даже ей, своей любовнице. Таясь от всех, решал задачу со многими неизвестными: случайно попал партизан в деревню или нет? С какой целью приходил? К кому? И вдруг — такое известие… Можно было не сомневаться, что тот, что заходил на рассвете к Трояновым, и тот, что неожиданно оказался в Лизаветиной хате, — один и тот же человек. Однако что ему было нужно у Трояновых? Почему за ним бежала жена хромого? Сделать какие-нибудь логические выводы Гусев своими проспиртованными мозгами был не в состоянии. Но еще больше насторожился, когда узнал, что Шапетович «пошел в Буду ремонтировать церковь». Приказал своим подчиненным не спускать с хаты Трояновых глаз. Хорошие они, работящие, тихие, но «в тихом омуте черти водятся». В тот день, когда Саша пошла за Днепр, Гусев отправился к начальнику районной полиции. В разговоре, как бы между прочим, он высказал свои подозрения насчет Шапетовича. Хотел похвастать: вот, мол, какой я бдительный и прозорливый. А Милецкого будто пчела укусила: он подпрыгнул на стуле, вскочил и чуть не кинулся на Гусева с кулаками. — На протезе?! Идиот! Дубина! У тебя под носом руководитель городского большевистского подполья. А ты с ним самогонку пьешь. У тебя, у тебя, голова дубовая, их гнездо! И пожар склада, и подрыв грузовиков, и пароход, и листовки — все их работа… А я на тебя надеялся, ставил в пример… Сейчас же лети туда! Выскользнет у тебя из рук — расстреляю, повешу!.. Чего хлопаешь глазами? — понизил тон начальник и объяснил: — Вчера нас вызвал начальник гестапо Цинздорф. Один из арестованных, когда ему как следует всыпали, признался. Весной на заседание их группы приезжал откуда-то из деревни человек на деревянном протезе… Фамилии он не знает. Уразумел, дуб? Взять всю семью! Управишься? Подмога не нужна? — Мотоцикл! Дайте мотоцикл, — прохрипел Гусев. Он побоялся признаться, что Шапетович уже, видно, ускользнул. «Церковь ремонтирует!.. Ну, ничего… Будет в наших руках жена, ребенок — вернется… Ах, какой я дурак! Однако же и хитро работают, ой, хитро…» — Бери мотоцикл! Я позвоню Цинздорфу, и мы, может быть, приедем туда на машине. Но знай, Гусев… Три шкуры спущу, ежели что… Когда они вышли из кабинета, пышногрудая блондинка, работавшая в полиции машинисткой и переводчицей, которую начальники постов ненавидели за то, что она брезговала ими, а проводила вечера с офицерами гестапо и жандармерии, хлопнула по щеке молодого полицая, Кольку Трапаша. Он был известен во всех гарнизонах как самый веселый трепач, враль и бабник. Начальник полиции оглядел девушку с подозрительностью ревнивого мужа. — Липнет как смола, — бросила она, оправляя блузку. Милецкий загремел на весь дом: — Ты, барбос, кобель блудливый! Тебе бы только за юбками бегать!.. Машина готова? Я тебя, подлеца, на пост загоню, поближе к партизанам, они из тебя дурь повыбьют. Ишь морду наел! У самого начальника морда была в три раза толще, но он всегда попрекал своих подначальных, что они разъелись, ничего не делают, все лодыри и трусы. Коля молчал, вытягивался в струнку и виновато мигал. Благодаря этой покорности он удержался в должности шофера дольше, чем его предшественники. — Повезешь Гусева. Доставишь — и назад! Через три минуты они были за городом. — Скорей, скорей! — в нетерпении подгонял Гусев мотоциклиста. — Куда ты торопишься? На свадьбу, что ли? — На похороны. — На свои? — Твоей бабушки, заноза. — Моя живая. Замуж собирается. Могу тебя сосватать. Колька повернулся к коляске, оскалил зубы. Мотоцикл повело вбок. — На дорогу смотри, а то в канаве будем. — Боишься? Не все одно тебе, когда помирать? — А тебе все одно? — Мне? Чем раньше, тем лучше. — Брехун ты несусветный. — Что? — Брехун, говорю, ты. — Спасибо. Но культурные люди говорят — фантазер. Сама Эльза… — Б… твоя Эльза. — Можно ей это передать? — Ну, ты болтать болтай, однако не советую забывать, что жить тебе с нами, а не с Эльзой. Завтра и вправду можешь оказаться в гарнизоне. — Гусев знал, что накликать на себя гнев секретарши начальника страшнее, чем гнев самого Милецкого. Этой падали довольно сказать гестаповцам слово — и завтра от тебя останется мокрое место. Странно, что один только Трапаш, кажется, не боится ее — лезет целоваться. Колька, улыбнувшись, успокоил Гусева: — Не бойся. Я своих не выдаю. Гусев заискивающе попросил: — Послушай, ты меня потом в Буду подкинешь? — Начальник съест. Слышал, что приказал? — Если мы эту пташку сцапаем, слова не скажет. — Какую пташку? — Есть тут один тип. Тихим прикидывался. Бочки делал. Инвалид. — Кто это? Я же из Хуторянки, всех знаю. — Зять Трояновых. — Хромой? — Ага. — А что он делает в Буде? — Церковь ремонтирует. К богу подлизывается. Гусев приказал подъехать прямо к дому Трояновых. Во дворе Даник играл с маленькой Ленкой. Вокруг было пусто и тихо, как бывает в деревне в августовский день, когда все в поле, на гумнах. — Где твой зять? — спросил Гусев у Даника. — Какой он мой! Церковь пошел ремонтировать в Буду. — А сестра? — Какая? — Жена его. Какая! — полицай матюкнулся. — А что вы кричите, господин начальник? Понесла ему харчи. — Ах, сволочи! Ты меня еще учить! Выродок большевистский! Бери ребенка! Идем со мной! — Куда? — Там узнаешь куда. — А ребенка зачем? — глупо улыбаясь, вдруг спросил Коля. — Жара… Кричать будет. Пить, есть… одно беспокойство, господин начальник… — Ничего не понимаешь — не суй носа! — прикрикнул на него Гусев и сам потянулся к ребенку. Но вдруг увидел перед глазами пистолет. Икнул от неожиданности. Отскочил. — Руки вверх! — прошипел Коля. — Так. Выше… Выше ручки, господин начальник… Гусев поднял руки и, ошеломленный, протянул: — Ах, сво-о-олочи! — Еще одно такое слово — и шансы твои остаться в живых уменьшатся наполовину. Так и заруби себе на носу, клоп вонючий! — брезгливо ткнул Коля полицая пистолетом в зубы. Даник тем временем ловко опорожнил кобуру Гусева. — Пощупай карманы. Запасного нет? Так. В хлев — шагом марш! Даже маленькая Ленка застыла от удивления. И еще более удивленная пара глаз следила сквозь щель из соседнего двора. Начальник гарнизона не шевельнулся, только багровая его морда побледнела. — Слушай, ты, власть! Мы оставим тебе жизнь. Свяжем, заткнем хайло и тихо уйдем к своим. А пикнешь — выход у нас один, сам понимаешь… Гусев сгорбился и тяжелым шагом двинулся к хлеву. — Даник, вожжи! В хлеву ему связали руки. Потом Коля с усмешкой приказал: — Открой, душечка, ротик, — и сунул в рот жгут перепрелой вонючей соломы. Крыша в хлеву была дырявая, и в углу после недавних дождей стояла навозная лужа. Коля ткнул туда рукой: — Ложись! Гусев замотал головой, показывая взглядом на сухое место. — Без панских фокусов! Ложись, где велят хозяева! Тут будет помягче! И прохладно… Ну! Раз… Два… Начальнику связали ноги. Хлопцы выскочили из хлева и посмотрели друг на друга. — Коля! Лети к Старику. Передай ему… — сказал Даник. — Кто этот старик? — Поп. — Какой поп? — Алексей Софронович! «Полицай» от удивления глаза вытаращил. — Так и он наш? Вот это здорово! Микола Трапаш примкнул к подполью в самом начале оккупации, когда еще не служил в полиции. Но тогда он знал только трех человек: Толю Кустаря, Даника, покойного Тишку. Лялькевич и Алексей Софронович решили, что с другими членами организации его знакомить не стоит — хлопец неуравновешенный, и неизвестно было, как он поведет себя в полиции. Перебравшись в район, Коля наладил связь с подпольщиками в городе и помогал им. Кустаря и Даника он информировал об этом довольно скупо, да и вообще старых друзей стал забывать, считал, что маленькая группка деревенских парней немногого стоит. А себя как подпольщика он ставил высоко. Установил связь с армейской разведчицей-радисткой, а потому считал, что у него особое положение в подполье. И может быть, только сейчас, когда узнал про Шапетовича, про дядьку Алексея, с которым рыбачил в детстве, Коля почувствовал всю глубину, весь размах народного сопротивления захватчикам. Вот оно как разворачивается! И как разнообразны формы борьбы! Когда Коля уехал, Даник схватил на руки Ленку и бросился искать Полю. Она работала на другом конце деревни. Молотили на открытом току. Издалека было слышно, как отстукивали в четыре цепа, словно старые дедовские часы. Увидев Даника с девчушкой, Поля сразу поняла: что-то случилось. — Поля, отлучись на время. Гости. Она не стала спрашивать, какие гости. Только хозяин недовольно проворчал: — Кто это надумал в такое время в гости ходить? Ты там, Пелагея, не очень-то задерживайся. Гости гостями, а хлеб сам на стол не приходит. Даник по дороге рассказал сестре: — Провал, Поля! Приезжал Гусев за Владимиром Ивановичем. Хотел забрать меня с Ленкой. Мы с Колей связали его, лежит в хлеву… Надо бежать. Сейчас же. Даже не заходя домой… — Боже мой! — заплакала сестра. — Я так и знала — не миновать нам беды. Что ж мы будем делать? И хата и корова… Они же спалят, заберут… — Что ты о хате! Я вот ломаю голову, как Сашу предупредить. Чтоб ее не захватили. Да и Владимир Иванович может вернуться. Вот о чем надо думать! — Надо забежать хоть одежонку какую-нибудь ребенку захватить да еды… Боже ты мой, боже! Куда же мы денемся? Я так и знала, так и знала… Ленка, увидев, что тетя плачет, стала ладошками вытирать ей слезы, целовать и грозить пальчиком Данику: зачем обидел тетю? — Мама бу-бу… Это еще больше разжалобило Полю. Даник не пустил сестру в хату. Знал: слишком долго будет там копаться и наберет столько, что не унести. Он заставил ее посидеть с Ленкой в кукурузе, а сам побежал домой. — Я сам возьму что надо. — Молока бутылку налей. Сашино пальто не забудь… Сколько ты один-то возьмешь?! — Не вздумай сама идти, Поля! — строго приказал он. — Из-за тряпок можешь ребенка погубить… Чтобы дать ей почувствовать, что опасность действительно велика, он достал из кармана гусевский пистолет и, пригнувшись, пошел по борозде, держа его перед собой. Первым делом он достал в чулане из подпола немецкий автомат и гранату. Потом собрал самые необходимые вещи, главным образом для Ленки. На улице затрещал мотоцикл. Даник схватился за оружие. Но это оказались свои: Коля и дядька Алексей в поповской рясе. Хлопец обрадовался: трое — это уже сила! Старик вел себя так, будто ничего не случилось. Степенно поздоровался с Даником, сказал: — Ну, предупредили всех. Павлик полетел к Толе. Сбор на лугу… Выполним волю покойного Тишки и — с богом к своим… К немецким машинам дети никогда не выбегали, даже самые маленькие чувствовали, что это опасно. Но на мотоцикле приехал не немец и не Гусев, а дядька Алексей, который никогда не давал их в обиду, и дети высыпали на улицу. Алексей Софронович увидел их и поскреб заросший лохмами затылок. Позвал Колю и шепнул ему: — Иди, сделай так, чтоб мотор заревел во всю ивановскую. Тот стал разворачиваться, свернул с колеи и «забуксовал» в песке. Дети начали толкать мотоцикл, кричать, смеяться. Старик направился в хлев. Гусев увидел его, радостно встрепенулся, задергался: подумал, что пришло спасение. А поп достал из-под рясы пистолет и, нагнувшись, сказал: — Ну, Иуда, христопродавец! Молись в последний раз, если помнишь молитвы. Много на твоей совести слез и крови! Пришел час расплаты. Давно тебе вынес приговор покойный Тишка… Вечная память ему!.. Гусев посинел, глаза его, полные ужаса, молили о пощаде. Что он подумал в этот миг? Кто же не партизан, если даже поп с ними? Старик вытащил у него кляп изо рта. — Можешь сказать свое последнее слово, изменник! — Простите… отец святой… Век буду… Вдруг умолк мотоцикл, но где-то за школой послышался шум другого мотора. Гусев закричал отчаянным голосом: — А-а-а… Спа-а… Алексей Софронович нажал спусковой крючок. — Немцы! — предупредил Коля, вбежав во двор. Начальник гестапо Цинздорф действовал более оперативно и, безусловно, не так кустарно, как полицаи. Когда Милецкий позвонил ему и рассказал, что напал на интересный след, шеф приказал немедленно явиться лично. Выслушав подробности, назвал самодовольного начальника полиции «дураком» и «олухом» и через полчаса выехал на грузовике с десятком гестаповцев. Машина подлетела к школе. Милецкий поднял по тревоге беззаботно спавших полицаев. — Гусев где? Один из полицаев видел, как командир полчаса назад проехал на мотоцикле в деревню. — Хата этого… хромого… на протезе… Шапетовича! Скорее. Наспали морды, подлецы! Пошевеливайтесь! Из кузова гестаповцы увидели, что огородами по направлению к лесу бегут двое с узелками. На улице затрещал мотоцикл. Поднял пыль, удаляясь. — Взять этих! — скомандовал штурмбанфюрер, показывая на огороды. — Догнать мотоцикл! Штрик! Кноппе! Грубер! Взять всех живыми! — И сам выскочил из кабины. О, он опытный командир! Он никогда не суется вперед! Наилучшая позиция во время операции — за спинами эсэсовцев. Даник испугался, не найдя на огороде Полю с Ленкой. Неужто пошли в село? Нет. Поля увидела грузовик с солдатами и своевременно перебралась на выгон, в ольшаник. Увидев в конце огорода Алексея Софроновича и Даника, она тихо окликнула их. Когда подпольщики бежали через выгон, над головами засвистели пули. Перепрыгивая через плетни, по чужим огородам и пришкольному пустырю, им наперерез бежали гестаповцы и полицаи. — Стой! Стой! Стрелять будем! — кричали полицаи. Очутившись в кустах, Алексей Софронович сказал Данику: — Данила! Бери ребенка и пистолет, автомат дай мне… И бегите молодняком в Загатье. Протоку переходите вброд. У Марковой горы, в лозняке, соберутся хлопцы, оттуда пойдете в отряд… А я… я залягу в канаве и задержу этих собак. — Дядька Алексей!.. — Не рассуждай, Данила! Это приказ! Выполняй, как солдат! Будь счастлив, сын мой! Даник не выдержал. Припал на одно колено за кустом и дал длинную очередь по фашистам. Тогда только передал автомат Старику. Автоматная очередь ошеломила представителей власти. Они не ожидали сопротивления, и воинственность их остыла. Сразу всех потянуло к земле. Цинздорф прыгнул в траншею, вырытую возле школы. Начальник полиции нырнул вслед за ним. — Видите, что вы наделали? — прохрипел шеф гестапо. — Идиоты! Я повешу Гусева, а вместе с ним и вас. Подымите своих… — он презрительно сморщился, подыскивая обидное слово, — и атакуйте оттуда… Я пойду в обход… Что вы смотрите на меня как баран? Идите! Командуйте! Гестаповцы попробовали подняться и снова были прижаты к земле автоматной очередью. Тогда они открыли огонь по кустам из автоматов, карабинов, пистолетов. Алексей Софронович, убедившись, что Поля и Даник добежали до леса, прополз сухой канавой на выгон, чтобы враги не обошли и не захватили его врасплох. Позиция тут была удобная: он мог стрелять во все стороны. Только отступать было некуда. Но об этом он не думал. Тревожило одно: чтоб немцы не кинулись в лес за детьми, как он мысленно называл и Ленку, и Даника, и Полю. Им он отдавал свою любовь и ласку, благословил на борьбу, когда узнал, что Даник и Тишка тайком собирают оружие, остерегал от неразумных поступков, учил быть ловкими и хитрыми, связал с партизанами. За них он готов принять смерть. Стало душно. Алексей Софронович стащил рясу. Улыбнулся. «Маскхалат этот мне теперь ни к чему!» Фашистам, видно, показалось, что кто-то пробежал по канаве, и пули зацокали там, куда упала поповская ряса. «О, ты мне еще служишь», — снова улыбнулся веселый кузнец и подергал свою густую гриву, жалея, что нельзя сбросить и эту маскировку. Послышалась немецкая команда. Гестаповцы как будто начали отходить. Нет. Это маневр. Отбежав в сторону, поворачивают к лесу. Смело. В полный рост, потому что хорошо знают дальнобойность автомата. «Неужто догонят детей? — с глубокой тревогой думал старый подпольщик. — Может, броситься им наперерез?» Но пошли в атаку и полицаи: проклятиями и угрозами начальнику удалось их поднять. Алексей Софронович подпустил бобиков как можно ближе, бил короткими очередями. Надо экономить патроны. Их осталось всего два «стручка». Двое легли, видно, навеки: один ткнулся носом в землю, когда перепрыгивал через плетень, другой закричал, кинулся назад и упал, широко раскинув руки. Это подбодрило кузнеца. А на полицаев нагнало такого страху, что, как ни кричал, как ни угрожал начальник, никто из них больше и головы не поднял. Стреляли из винтовок, срезали пулями кукурузу, крушили тыкву и плетень. Алексей Софронович не отстреливался. Думал о Поле, Данике, о маленькой Ленке, Лялькевиче и Саше. «Успеют ли им сказать? Как бы кто из них не явился сегодня. А Коля… Молодчина! Не ошибся я в тебе, знал, что не изменишь, не продашь душу за тридцать сребреников, как эти вот бобики, что попрятались, словно кролики среди грядок. Трусы! Что ж не вылезаете? Ага, один высунулся. А мы тебя вот так, сукин сын! Коротенькой! Вся деревня, видно, в погреба попряталась от стрельбы. Что это? Стреляют из лесу? Из кустов? Ура! Значит, не бросились в погоню, не заметили. Отлично! Хотите окружить меня и взять? Берите. Однако не очень разживетесь! Не много вам будет пользы от моего грешного тела…» — Ми-и-ром го-о-оспо-ду-у помо-о-о-лимся-а! — грохнул он дьяконским басом, в последний раз посмеявшись над своим духовным саном. Повернулся и стал бить по гестаповцам, которые по одному перебегали из сосняка в ольшаник. Тоже как будто один кувыркнулся. «Значит, служат еще мне глаза». Однако эти черные не останавливаются. Это не бобики. Гестаповцы стреляли уже из ольшаника, в каких-нибудь тридцати шагах. Пули щелкали у самой головы. Одна, дура, ужалила руку. Алексей Софронович почувствовал, как набухает горячим рукав сорочки. Но стрелять еще можно. Да по ком стрелять? Все попрятались. И патроны последние. Он достал из кармана штанов гранату и положил на замшелую насыпь старой канавы. Потом вытащил белый платок и помахал им над головой. — Штать! — послышался из ольшаника резкий голос. Алексей Софронович понял — приказывают встать. Он поднялся в полный рост. — Хэндэ хох! Руки! Он чуть приподнял руки. Горячее и липкое потекло по боку. — Поп! Хлопцы! — в изумлении крикнул один из полицаев и выругался: — Наш поп! А, язви его… Полицаи вскочили все сразу, с гоготом и свистом кинулись к «попу». — Я ему, черту кудлатому!.. — Не устраивать самосуда! — закричал Милецкий. Гестаповцы были ближе, но не торопились. Они хорошо знали, что так просто партизаны не сдаются. «Ишь, начальство не спешит меня взять, — подумал Алексей Софронович. — Жаль. Ну что ж, пускай лягут эти сыны Иуды. Заслужили». Когда полицаи приблизились, он быстро наклонился, схватил гранату и швырнул в них. Снова наклонился — за автоматом, оставались еще патроны. Но поднять его не успел: несколько пуль пробило голову. Он упал ничком, широко раскинув руки, будто хотел обнять родную землю. Штурмбанфюрер приказал забрать тело кузнеца. На убитых и раненых полицаев он даже не взглянул. Обнаружив в хлеву Гусева, злобно пихнул его ногой, а когда увидел, что тот еще жив (дрогнула, видно, рука у Алексея Софроновича), достал из кобуры пистолет и выпустил в него всю обойму. Инстинкт старого опытного хищника подсказывал Цинздорфу, что из его рук выскользнула важная добыча, гораздо более значительная, чем он думал, когда ехал сюда. Несомненно, все они ушли в лес, к партизанам. Нечего тратить время на поиски в деревне, а в лес соваться страшно. Он уже знал, что машину, которая догоняла мотоцикл, в лесу обстреляли, шофера убили… Солдаты едва ноги унесли. Уезжая, Цинздорф собственноручно поджег хату Трояновых. Вместе с ней сгорела половина улицы.VI
Саша на миг замерла на пороге маленькой комнатки, скованная страхом — жив ли? Потом бросилась, упала на колени. — Петя, родной мой! Петенька! Я так тебя ждала. Он лежал неподвижный, с закрытыми глазами, с забинтованной головой, с марлевой наклейкой на лице. Только слышалось дыхание — прерывистое, тяжелое. Значит, жив. И рука, на которой знакома каждая складочка, каждая линия, горячая. Вот шрам на мизинце — еще в детстве рассек топором. Саша припала к этой руке. Подняла голову, увидела между бинтов родинку на мочке уха — такую же, как у Ленки, и невольно сквозь слезы улыбнулась, поцеловала ухо. Почувствовала запах его волос. Они пахнут так же, как и два года назад, родным и близким. — Петя, соколик мой… Открой глаза… Взгляни… Это я… Глупенький ты мой! Как ты мог подумать? Разве я променяю тебя на другого? Он молчал, и все вокруг молчало. Только внизу за окном плескалась река. Играли солнечные зайчики на белом потолке. И было тихо-тихо. Показалось — они одни во всем мире. Опять вдвоем над ширью Днепра. И никого им больше не нужно. Петя уснул усталый, потому что шел к ней издалека, спешил. Сейчас он проснется и прижмет ее голову к своей груди… Вернется счастье и станет хорошо-хорошо. Но вдруг чья-то чужая рука схватила ее за ворот и грубо подняла с пола. Саша опомнилась. Перед ней стояла Мария Сергеевна. Саша увидела ее лицо и ужаснулась. Сколько гнева в глазах, в лице этой доброй, ласковой, с мягкими движениями женщины! На побледневшем лбу выступили капли пота, нижняя губа посинела и дрожит. Что с ней? Почему она такая? Еще несколько минут назад она приветливо встретила Сашу, обрадовалась ей. Завела ее в приемный покой, а сама пошла к больным. Саша, ничего ей не сказав, побежала в домик, чтобы убедиться в том, что рассказала Аня. — Это… — хотела она объяснить. Но Мария Сергеевна резко и грубо закрыла ей рот рукой. А потом взяла под локоть и притворно-ласково сказала: — У тебя закружилась голова? Идем погуляем, мой друг. И так — под руку — вывела во двор. Повела мимо главного корпуса. По дороге поздоровалась с немецким часовым. — Гутен морген, Герман. — Гутен морген, фрау. — Хорошие парни — солдаты. Они мне помогают. Саша посмотрела на нее с презрением и хотела вырвать руку. Но Мария Сергеевна крепко держала ее. Они минуту молча постояли возле сарая и двинулись дальше — в поле. Как будто вышли погулять над Днепром. Когда отошли на добрую сотню метров, Мария Сергеевна достала из кармана халата платок, вытерла лоб, губы и не сказала, а простонала: — О боже мой! Какие вы глупые, молодые! — Мария Сергеевна! — схватила ее за руку Саша. — Это Петя! Мой Петя… — А ты спокойней, — отняла руку та. — Я знаю. — Знаете? — почему-то не удивилась, а испугалась Саша. — И раньше знали? — Нет. Стала догадываться. Вчера, когда он начал бредить… Он звал тебя и… Сеню… Моего Сеню. Тогда я нашла фотографию, где они сняты вместе… — Мария Сергеевна! Он будет жить? — Я сделала все, что могла в таких условиях. Третий день хожу над бездной и сама не понимаю, как держусь. А ты… ты своей неразумной любовью могла все погубить… Почему ты бросилась туда? Саша рассказала о том, что услышала от Ани и как она ночью хотела бежать сюда,но Аня не пустила до утра. Лицо у Марии Сергеевны посерело. — Боже мой, как это разносится! А я была уверена… — Мария Сергеевна! Как он попал к вам? Саша вся дрожала. А врач не сразу услышала вопрос — думала о чем-то своем. Потом встрепенулась: — А? Как попал? — и снова взяла Сашу под руку и повела вдоль самой кручи, подальше от больницы, от стоящего на крыльце немца. — Я не спала еще — думала о Сене. И вдруг — взрыв. От меня было видно раскрытое окно и как они там пировали… Они частенько этим занимались, и мне тошно было смотреть на них. Будто нарочно открыли окно, точно дразнили партизан… Я всегда думала, что партизаны доберутся-таки до них. Свет погас сразу же после взрыва. Но тут же вспыхнул пожар. Я не вышла, хотя боялась за больных. Я хорошо знаю, что в таких случаях лучше сидеть дома. Начинается стрельба, поиски… Странно, что они не сразу начали стрелять. Так их ошеломило… И вдруг я увидела его… На фоне пожара. Он бежал по больничному двору к обрыву. И вон там… вон, где столб от Сениного турника, свалился… Я не сомневалась, что это он — тот, кто бросил гранату, отомстил… Что мне делать? Как ему помочь? Боже мой! Оставить в беде такого человека? Я знала, что иду на смерть, что вот-вот они начнут обшаривать каждый дом, каждый угол… И в больнице, конечно, в первую очередь. Но я не могла иначе! Я советский врач. Я выбежала и затащила его в дом. Он был без сознания… На счастье, они не кинулись искать сразу. Солдаты остались без офицеров и были заняты пожаром… Школа горела, как куча сухого хвороста. А потом у них там произошел казус… Немцы обстреляли полицаев, которые бежали на пожар через огороды, вон оттуда… Это дало мне время спрятать его. У меня на кухне под полом яма, куда я ссыпаю на зиму картошку. Я сбросила в яму одеяло, подушку и опустила его туда. Откуда взялись у меня силы! Я несла взрослого мужчину, как ребенка! Поиски начали полицейские… А этот фон Штумме, отрезвев, ходил следом ошеломленный и только повторял: «Майн готт!» Я не выдержала, вышла, потому что они шныряли по больнице и могли расправиться с больными… Они схватили меня и повели, чтобы я оказала помощь двум солдатам, которые, тоже пьяные, обгорели. Искали они у меня в доме или нет — не знаю… Но что я испытала, пока перевязывала немцев! При свете пожара увидела, что левый рукав у меня в крови. «Кровь могла оставаться и на полу», — думала я. И представь, — на мое, на твое… уж не знаю, на чье счастье, — все обошлось хорошо. Они никого не нашли… только затоптали его след. Когда все стихло в ту ночь и напуганные больные понемногу успокоились, я вернулась и осмотрела раненого. Пуля попала в спину, пробила правое легкое. Я решила оперировать… Боже мой! Если бы мне до войны рассказали, что врач, пускай гений, пускай сам Пирогов, сделал такую операцию в таких условиях, я рассмеялась бы ему в лицо и назвала лжецом. И мне, верно, никто не поверит… В картофельной яме, под полом, стоя на коленях, при свете обыкновенной лампы, примитивными инструментами, без необходимых медицинских средств… А главное — одна. Пришлось делать «окно» — удалить часть разорванного легкого. А потом оказалось, что пуля прошла в грудную полость и засела в ребре. Пришлось резать второй раз… Хорошо, что никто не помешал… Ничего подобного я никогда не делала. И теперь удивляюсь… Выходит, что человек все осилит, все сможет, если любит, если знает, во имя чего… После операции он на миг пришел в сознание. Я влила ему в рот глоток воды. И он прошептал… Ты знаешь, что он прошептал? «Спасибо, мама…» В тот момент мне показалось, что это Сеня. Мария Сергеевна с усилием проглотила слюну и закрыла ладонью глаза, будто от солнца, светившего ей прямо в лицо. У Саши глаза были сухие, она слушала молча, только часто и неглубоко дышала да то и дело нетерпеливо оглядывалась на домик, где лежал Петя. Ей казалось, что в эту минуту, когда его оставили одного, он может уйти навсегда. Поэтому она боялась даже глубже вздохнуть, словно ее дыхание могло потушить его жизнь, как свечу. Мария Сергеевна опустилась на пожелтевшую траву, свесила ноги с обрыва. Ее тянуло прилечь. Она не рассказала, что три ночи не смыкала глаз и только днем в приемном покое засыпала на несколько минут. — Посидим немного. Саша не села. Она стояла рядом и смотрела на домик. — Не гляди так! Слышишь? Ты нас выдаешь. Мы отдыхаем. Ах, как мне хочется уснуть! Но я не могу спать. Я стою на часах, и неизвестно, кто и когда меня сменит… — Я, Мария Сергеевна!.. Я, родная вы моя… Теперь я буду дежурить при нем, — вырвалось, наконец, у Саши. Она даже попыталась обнять доктора. — Ах нет! Какое там дежурство! Понимаешь, закрою глаза — и вижу его… Не Петю… того, что в яме. У меня начинаются галлюцинации. Нервы. Да, он враг. Но я врач. Я всю жизнь спасала людей от смерти. Она взглянула на Сашу, увидела, что та не все понимает, и снова стала рассказывать тихим и ровным, казалось, равнодушным голосом: — Я понимала, что мне его не спасти, если он останется в яме. Раненому нужен воздух и хотя бы нормальные человеческие условия, присмотр… Перенести куда-нибудь в другое место и думать нечего! Что делать? «Помог» фон Штумме… Да… Он приказал очистить больницу. Я едва выпросила у него неделю, чтоб подготовить барак бывшей МТС. Он кричал: «Я не хочу, чтобы мне бросали в окно гранаты!» Но он уверен, что только молитва матери помогла ему остаться в живых. И я сыграла на его набожности. Я перевела больных в сарай, в амбулаторию, а этого полицая к себе в дом. Он и раньше лежал отдельно, в бывшей родильной палате. Когда его привезли, я в ужас пришла от жестокости того, кто с ним расправлялся. Его рубили косой, как саблей… Ни одного живого места, больше тридцати ран… Потом мне рассказали, что это сделал четырнадцатилетний мальчуган: отомстил за мать, которую этот палач расстрелял… Но я врач. Я лечила его, вырвала у смерти… Легко убить врага, стреляющего в тебя. А убить раненого, без сознания… Я не могла, не имела права… Но надо было найти выход, надо было спасти партизана… Настоящего человека… На что я рассчитывала? Ни на что! Мне было уже все равно — один ответ… Я пошла на самое легкое, хотя и самое рискованное. Я поменяла их местами. Того — в подпол, а Петра положила на его место, забинтовав так же голову, руки… Ты видела… Я даже убедила себя, что никто не заметил подмены. Наивная. Может быть, и больные так спешат сегодня выписаться, потому что узнали? — спросила она непонятно кого — Сашу или самое себя. Потом снизу поглядела на Сашу и быстро встала. — Что же нам теперь делать, мой друг? — И, не ожидая Сашиного ответа, прошептала: — Осторожность. Только осторожность может спасти нас всех. Но долго так тянуться не может. Надо связаться с партизанами, чтоб они забрали его. Ты должна пойти и разыскать их. — Мария Сергеевна! — встрепенулась Саша. Ей стало страшно от мысли, что, едва найдя, она снова покинет Петю, да еще в таком состоянии, когда рядом стоит смерть. Он даже не узнает, что она приходила к нему со своей любовью и верностью, и будет мучиться… Нет, она останется здесь, при нем! Она никуда не уйдет! Не может уйти! — А чем ты поможешь ему? Своими нежностями? — сурово спросила Мария Сергеевна. — Еще выдашь нас… Нет, тебе нужно идти! «Надо рассказать ей всю правду про Лялькевича и про Петю. Теперь можно. Это не будет нарушением клятвы, потому что она наш человек, можно считать — член нашей организации», — подумала Саша. — Мне кажется, кризис миновал… Сперва я боялась, что он в глубоком шоке. А вчера начал бредить… А это хорошо. Звал тебя, Сеню. Тогда у меня и блеснула догадка… Ругал какого-то Лялькевича. Погоди. Неужто Владимира Ивановича? Он тоже где-то в партизанах. Прошлой осенью наведался как-то ночью ко мне, просил медикаментов… Обещал, что будет заходить… Саша не выдержала. — Мария Сергеевна, я все расскажу… Простите, что таилась от вас до сих пор. Та выслушала Сашу молча, не проявляя ни удивления, ни излишнего любопытства, только под конец вздохнула и сказала: — О боже! Как она напутала, война! А его мать лежала у меня в больнице и каждый день плакала: где Володя? Может быть, и мой Сеня где-нибудь рядом. — Теперь вы понимаете, что мне надо остаться, надо, чтоб он меня увидел… Это поможет ему… — Боюсь я за тебя. — Мария Сергеевна, да я без вас и шагу не сделаю. Клянусь! Она задумалась. — Хорошо. Я скажу фон Штумме, что попросила тебя помочь. Будешь стирать белье… — Все, все буду… Любую работу, только бы… — Ты знаешь, о чем я сейчас подумала? Мы сделаем ему переливание крови. Одна я не могла. У тебя какая группа? — Вторая. — Мы не знаем его группы. Нет сыворотки. Возьмем мою. Я универсальный донор. Саша не могла найти слов, чтоб выразить благодарность этой женщине, спасшей ее Петю, ее счастье. Теперь у нее появилась уверенность, что Петя будет жить. Она не думала о том, как вырваться отсюда, уйти от опасности, ежеминутно угрожающей всем им. Один неосторожный шаг, одно чье-нибудь слово — и смерть. Нельзя ни на секунду забывать об этом. Когда они вернулись в больницу, Саша не удержалась: глазами, взглядом попросила Марию Сергеевну разрешить ей зайти к нему. Та укоризненно покачала головой, но пошла вместе с ней. «Жив!» — хотелось кричать от радости. Саша быстро наклонилась и поцеловала его в горячие, запекшиеся губы. И — будто вдохнула поцелуем силы. Раненый раскрыл глаза, посмотрел на нее и прошептал без удивления и радости: — Саша… Так шепчет малое дитя слово «мама», проснувшись на миг и убедившись, что мать сидит рядом. — Петя!.. Родной мой!.. Мария Сергеевна придержала Сашу за плечо, осторожно отстранила. А раненый вдруг шевельнул забинтованными руками, точно стискивая кулаки, и проговорил злобно: — Я разбил ему морду… Сеня… Слышишь? Надо было из пистолета… Вот так… Ах, гад какой!.. Пальцы Марии Сергеевны смяли Сашину кофточку. Женщина замерла: может быть, он скажет о сыне еще что-нибудь. Но Петро устало прошептал слова песни: — Посею лебеду на берегу… Свою… Саша стирала рваные больничные простыни и думала о том, как она, когда Петя заболел воспалением легких, пришла к нему в больницу и, несмотря на запрещение врача, просидела с ним весь день. А сейчас он в более тяжелом состоянии, и она не может сидеть возле него, потому что никто не должен знать, что он — близкий ей человек. Самый близкий, самый родной. А еще думала о Ленке. Как там дочка? Вернулся ли Владимир Иванович? Подошли два солдата. Остановились в трех шагах и наблюдали, как она стирает. Саша почувствовала, что у нее холодеет спина. Почему они смотрят так долго и пристально? Что вызвало их любопытство? Наконец один приблизился, обмакнул руку в грязную мыльную пену, провел ею по Сашиному лицу. И оба, довольные глупой шуткой, захохотали. Саша задрожала. О, как хотелось схватить намыленную простыню и хлопнуть по физиономии! Как она их ненавидела! Она переборола себя, подняла голову, вытерла лицо концом косынки и… даже улыбнулась. — О, гут, гут, — одобрил второй, постарше. Когда они отошли, крупные слезы обиды и боли закапали в мыльную пену. На этом дело еще не кончилось. Вскоре солдаты принесли ей кучу грязных тряпок, исподников и жестами приказали, чтоб она постирала. Она стирала и от слез света не видела. Но все сразу забылось, когда Мария Сергеевна вышла из амбулатории, держа в полотенце горячий стерилизатор, и позвала ее. Что значат все эти оскорбления, если она снова увидит Петю, поможет ему?! Чтобы его спасти, она все выдержит! У нее дрожали руки, и Марии Сергеевне пришлось ждать, пока она успокоится. — Соберись с силами. Это нелегко — перелить кровь в наших условиях. У тебя умелые руки, я помню. Я верю твоим рукам. Начнем с малой дозы. Мария Сергеевна сбросила правый рукав халата и легла на кровать рядом с раненым, рука к руке. Саша крепко перетянула ее руку выше локтя. Доктор стала сжимать пальцы, чтоб наполнить вену кровью, и в то же время руководила операцией: — Найди его вену. Вот так. Видишь? Успокоилась? Начали. Отпускай жгут. Действительно, Саша проделала все ловко и умело. Кровь врача влилась в вены раненого. Побледневшая Мария Сергеевна утерла рукавом халата холодный пот со лба и похвалила «ассистентку»: — Молодчина! Вечером переливание повторили. И Петро пришел в себя. Он открыл глаза, увидел Сашу, удивился: — Саша? — и мучительно, с болью, припоминая что-то, спросил: — Где я? Сашины слезы закапали ему на лицо. — Петя! Глупенький мой! Я тебе все объясню. Поправляйся скорее. И ни о чем дурном не думай… Мария Сергеевна отстранила ее, чтобы, воспользовавшись минутой, пока он в сознании, сказать главное: — Ты в больнице, мой друг. Но ты не ты. Понимаешь? Ты полицейский Букатый. Федос Букатый. Понял? Так надо. Рядом — немцы. Чуть слышным шепотом он спросил: — Вы мать Сени? Мария Сергеевна еще ниже склонилась над ним: — Где Сеня? — Там, — показал он глазами в пространство, и веки его опустились. Саше хотелось, чтобы он еще раз заговорил с ней и чтобы в глазах его она увидела не только удивление, но и радость. Но он словно забыл о ней. И ей стало больно. Обе женщины напряженно ждали, что он скажет еще. Но он молчал и не открывал глаз. Кажется, уснул. Мария Сергеевна кивнула Саше, и они на цыпочках вышли из комнаты. В коридоре Саша всхлипнула. Мария Сергеевна молча вытерла ей глаза марлевой косынкой. — За работу, мой друг! Назавтра Саша снова стирала, дезинфицировала койки, тумбочки, посуду. На хромой лошади перевозила больничное имущество в барак МТС. У нее чуть сердце не выскочило, когда она увидела, что обер-лейтенант и Мария Сергеевна пошли в дом, где лежал Петя. Потом доктор рассказала. Офицер встретил ее и неожиданно проявил внимание. — О, вы больны, фрау Мария! Вы такая бледная! Не желая убеждать его, что чувствует себя хорошо, она отважилась сказать правду: — Да, господин обер-лейтенант. Я плохо себя чувствую. У меня — тяжелобольные, раненые и очень мало медикаментов. К тому же я не только врач, но и донор. Я перелила свою кровь раненому полицейскому. — О-о! — с почтительным удивлением воскликнул фон Штумме. — Я хочу посмотреть на этого героя! Бывший начальник, Гюнтер, время от времени проверял больницу. Этот чистюля фон Штумме никогда туда не заглядывал и предлагал даже перевести ее куда-нибудь подальше. Он охотно закрыл бы больницу совсем, но фельдкомендант из каких-то политических соображений не разрешает этого. Мария Сергеевна перепугалась. А вдруг Петро в бреду скажет что-нибудь лишнее? Или увидит фашиста и в горячке бросится на него? Или тот, в яме, застонет? А фон Штумме, почуяв запах крови, поморщился, зажал нос надушенным платочком и поспешно покинул домик. Мария Сергеевна шла следом за ним. — Если бы господин обер-лейтенант отпустил мне немного глюкозы — я знаю, у вашего медика она есть… Как бы это подкрепило мои силы! Чтобы отвязаться, он пообещал дать глюкозу. Заодно предупредил, что любит точность: через два дня больница должна быть очищена. После обеда, когда Саша стирала белье, которое ей подкинули другие солдаты, во дворе больницы появился старик с мокрой сумкой. Она узнала его — это тот сварливый лодочник, что перевозил их в прошлом году. Часовой остановил старика. — Рыбу принес пану начальнику. За доброту его, что лодку вернули. Мне ж прямо смерть без нее, без лодки. Вот хочу отблагодарить… Фон Штумме сам вышел на крыльцо. Старик ему поклонился. Саша слышала их разговор. Офицер внимательно осматривал каждую рыбину и говорил: — Ты ист хитрый русиш альтер ман… Как это? Дед. О, дед… Их знайт, ты помогай партизан. Йя, йя… Я знайт… Мой зольдат будет ловить тебя… Йя… Буду вешать тебя тут, — и он показал на тополь. — Да чтоб мне, пан-господин, не сойти с этого места, когда я их и видал-то, партизан этих. Вот уж набрехал кто-то на старого человека. — Вас ист «набрехал»? — Говорю, наврал кто-то на меня. Какой я партизан! Смех да и только. Мне восемьдесят годов. Офицер погрозил ему пальцем. — Ты ошень хитрый… Шляу фукс…[13] Когда офицер ушел, приказав солдату отнести рыбу на кухню, старик направился к Саше. Издалека крикнул: — Дай, молодичка, воды напиться. А то, покуда втащил свои старые кости на кручу, семь потов сошло. Саша поднесла ему полное ведро. Он поднял его, закрылся и глухо сказал: — Саша! — Глянул одним глазом, услышала ли она. — Выбирайся отселе, молодица, покуда тихо. Но домой не иди. Провал. У хутора свернешь со шляха в сосняк и дальше пойдешь болотом. Тебя встретят. Сказал, поставил ведро и побрел прочь. Саша знала законы конспирации и ни одним движением не выдала себя. Но как закричало сердце: Ленка!VII
Второй день Лялькевич и ребята сидели на дорогах, ведущих от Днепра к Сожу, — подстерегали Сашу, чтоб она не вернулась домой и не попала в руки к фашистам. Как только в отряд явились подпольщики с Полей и Ленкой и принесли печальную весть о героической смерти дядьки Алексея, Владимир Иванович немедля попросил у Деда людей, чтобы отправиться на поиски Саши. Копытков заворчал: — Распыляем людей перед операцией. Владимира Ивановича, очень взволнованного событиями в деревне и смертью Алексея Софроновича, это взорвало: — Вы опять не думаете о человеке! Операция — чтоб поднять дух народа? А человека можно отдать в лапы гестаповцев? — Это вы провалили организацию. А теперь хотите оправдаться? — в свою очередь вскипел Копытков. — Почуяли провал — и бежали в лес. Лялькевич задохнулся. Такое оскорбление! Первый раз в жизни он потерял власть над собой, и рука потянулась к пистолету. Пилипенко встал между ними. Копытков понял, что хватил через край, и стал бить отбой. — Прости. Но ты первый начал. Ты первый меня оскорбил: будто бы я хочу, чтобы наша связная попала в гестапо. Глупости. Копытков нервничал. Теперь, когда отряд вырос в бригаду, вернулся этот Лялькевич. Не за тем ли, чтоб занять место комиссара бригады? Жизнь Копыткова прошла в заботах о званиях и чинах. Он считал, что окружение испортило ему карьеру, а чтоб поправить дело, ему необходимо занять место комиссара бригады. И он боялся Лялькевича, которого все любили и уважали, и хотел хоть как-нибудь скомпрометировать его. Лялькевич сам и не догадался бы. Сказал ему об этом Дед, когда они остались один на один. Владимир Иванович еще больше возмутился, а хитрый Пилипенко только посмеивался. — Не обращай внимания. Больной человек. Искалеченный войной! А вообще он хороший дядька, старый коммунист. Умеет поговорить с людьми… — Ты, черт тебя возьми, становишься толстовцем: все у тебя хорошие, всех ты прощаешь, — сердито сказал Лялькевич. — Всех, кроме фашистов и изменников, — отпарировал Макар. — Дашь мне людей? Или я пойду один. — Как тебе не совестно? Бери своих хлопцев, Дажору с его «ясновидцами», — и лети во все концы света. А чуть позже с мальчишеским любопытством и дружеской душевностью Макар спросил: — Скажи, тебе очень дорога эта женщина? — Мне дорог человек! — разозлился Лялькевич.Он лежал под раскидистым дубом на краю болота, уже немного успокоившийся, вспоминал эту стычку и корил себя за излишнюю раздражительность. Разумеется, провал организации потряс его больше, чем кого бы то ни было. Однако нельзя не согласиться, что подпольная деятельность окончилась довольно счастливо. Увести почти всех людей в отряд — это победа, а не поражение. Поэтому не было оснований так волноваться. И на Макара за его вопрос он зря разозлился. Да, Саша очень дорогой ему человек. Как товарищ в борьбе, как друг и — зачем скрывать? — как женщина. При других обстоятельствах он и Макару не постыдился бы признаться, что любит ее глубоко, всей душой и безнадежно. Он лежал вытянувшись, отдыхая после бессонной ночи и езды верхом, от которой успел отвыкнуть. Неподалеку в кустах фыркали их лошади. А на дубе сидел Даник — наблюдал за дорогой. Разведчики еще вчера установили, что Саша наведалась в Заполье, переночевала там, пошла обратно и в местечке задержалась в больнице. Толя Кустарь из-за реки видел ее в бинокль. Но предупредить ее всё не могли: рядом были немцы. И, наконец, сегодня разыскали старого днепровского рыбака — деда Клима, который не раз помогал партизанам. Теперь Сашу поджидали в условленном месте. «А если ее не отпустят? Задержат?» — думал Лялькевич. От этой мысли ныло сердце. Он подскочил, когда услышал радостный крик Данилы: — Идет! — Кто? — Саша! — Гляди хорошо. Она? Даник минуту помолчал. Потом с досадой крикнул: — Так и есть! — Что? — «Хвост». — Какой хвост? — Кто-то идет за ней следом. — Может, наши? — Нет, не похоже. Лялькевич укрылся в лозняке, не сводя глаз с хлопца, которого едва можно было разглядеть в густых ветвях дуба. — Даник! Идет? — Бежит. — А тот? — Спрятался в кустах. — Слезай. Идем навстречу. — Погодите. Кажись, наши? Наши! Идут вслед за тем. Лялькевич с облегчением вздохнул. …Возможно, фон Штумме не обратил бы на Сашу особого внимания, если б она помогла врачу перевести больных и потом спокойно ушла домой. Но когда «фрау Мария» сказала, что помощница ее заскучала по дочке и хочет уйти, просит пропуск, чтобы ее больше не задерживали, это показалось ему подозрительным. Так внезапно, под вечер, отправиться в неблизкий путь, через лес, болото, партизанскую зону? Он вызвал начальника полиции и приказал: пускай один из агентов проследит, куда пойдет эта молодая женщина. Сашу перевезли через Днепр на полицейской лодке. Чтобы не выдать своего волнения, она шутила с молодыми полицаями, среди которых был и ее «провожатый». Он спрятался в кустах и пошел следом за ней. Саша его не видела. А он не видел, что за ним следом так же тихо идут три партизанских разведчика, три здоровых хлопца. У края болота они связали его.
Саша и в самом деле бежала всю дорогу. Как только выдержало сердце! Оно, казалось, выстукивало одно слово: «Лен-ка, Лен-ка…» А в ушах гудело: «Про-вал, про-вал…» Кто остался в живых? Кто ее ждет? Ждать должны, кажется, где-то тут… И все же она вскрикнула от неожиданности, когда Владимир Иванович вышел из кустов навстречу. — Ах, — и бросилась к нему, вцепилась в рукав сорочки. — Ленка! Что с ней? — Успокойтесь, Александра Федоровна. Жива, здорова. В отряде, с Полей. А вон Даник. — Саша! — окликнул брат, слезая с дуба. — Один дорогой нам человек погиб — Алексей Софронович. Пошел на смерть, чтобы спасти Ленку, ребят. Усталая, измученная, радуясь за дочь, за своих и по-прежнему в тревоге за Петра, Саша уронила голову на грудь Лялькевичу и заплакала. Ни разу до сих пор она не плакала при нем. Он осторожно и ласково погладил ее плечо. — Что вы, Саша! — Владимир Иванович, спасите Петю, — проговорила она сквозь слезы. — Петю? А где он? — Там… в больнице… У Марии Сергеевны. Тяжело раненный… Он бросил гранату в школу… — Так. Моя догадка подтвердилась. Они что, схватили его? — Нет. Немцы не знают. Мария Сергеевна спрятала. — Вот как! — Она положила его на место раненого полицая, а того — в подпол. Но об этом знают бабы-санитарки… Могут проговориться, выдать… Или полицая проведать придут. Тогда смерть и Пете и Марии Сергеевне… Владимир Иванович! — Погоди. Расскажи все, а мы подумаем. Рассказала Саша уже после того, как состоялся суд над пойманным шпионом. Слушали ее все: Владимир Иванович, Данила, Толя Кустарь, Дажора, разведчики. И все думали. Собственно, раздумывали недолго. Лялькевич сразу прочитал на лицах партизан: надо спасать Петра и Марию Сергеевну! Да, надо спасать — таково и его твердое решение. Но как? В местечке, по подсчетам Саши и разведчиков, около сорока немцев и добрых полсотни полицаев. После случая в школе они сейчас особенно бдительны, настороженны. Попросить помощи в отряде и штурмом разгромить вражеский гарнизон? Нет, не пойдут на это ни Копытков, ни даже Дед. Попробовать выкрасть Петра? Послать за реку разведчиков и этих ребят, которые только что избежали лап гестапо? А не на верную ли смерть он пошлет этих смельчаков, сильных, жизнерадостных? Что тогда скажет Копытков? «Да ну его к дьяволу, этого Копыткова! С каких пор я стал на него оглядываться? Ничего он не может сказать! Не вернутся они — не вернусь и я, потому что пойду вместе с ними! Спасти Петю — мой долг!» Как они смотрят на него, особенно Саша и Даник! Ждут его слова. Верят, что он это слово скажет! Владимир Иванович тряхнул головой, как бы отгоняя неприятные мысли, и широко улыбнулся.
Ночь была холодная и темная. Изредка в просветах меж туч мерцали одинокие звезды. Но Саша не видела их. Она стояла на холодном песке и вглядывалась в заречную тьму. Река лизала ее босые ноги. Женщина не чувствовала холода. Река плескалась, неумолчно шептала что-то. А за спиной, словно тысячеустое живое существо, шевелился лозняк. Саша не боялась. Пускай разбушуется река, поднимется ветер, затрещат деревья. Пускай побольше будет шума — это даже лучше. Только бы тихо было там, на том берегу, куда поплыли ее товарищи. Сколько ей придется ждать? Она будет стоять до утра… Нет, всю жизнь, если они… Нет, нет… Там тихо. Только бы там не стреляли… Они высадились на том берегу, напротив, в поле. Потом поползут туда, где светится одинокий огонек. Может быть, это в доме у Марии Сергеевны? Может быть, худо Пете и она пытается его спасти? Или это светится у немцев? Хлопцы должны подползти туда незаметно, в случае чего тихо снять часового, уложить Петю на носилки и вернуться к реке, где ждет их старый рыбак с лодками. Сколько прошло времени? Час, два? Может быть, они уже несут его, а сзади идет Мария Сергеевна и шепотом просит, чтоб несли осторожно, не трясли? Может, плывут уже? Саша напряженно прислушивается. Вот плещет вода под лодками, тихо скрипит весло. Но нет, это только чудится. Ей, неверующей, хочется молиться богу, реке, тучам, чтоб ничто не нарушило тишины на том берегу. И вдруг там, на круче, где светился огонек, вспышка. Одна, другая… Что это? Докатился звук выстрелов. Ударил в самое сердце. Защелкали все чаще, чаще… Затрещали пулеметы, будто горох рассыпали. Показалось — весь мир наполнился грохотом. Зеленые, желтые, красные нити потянулись за реку. Под облака взлетели ракеты и осветили мертвенным светом воду. Везде смерть. Смерть! Саша отступила на шаг и без сил опустилась на мокрую траву. — Все… Это все, — шептали ее губы. — Неужто все? Неужто не будет Пети? Погибнет Мария Сергеевна? А Даник? А Владимир Иванович? Нет, нет! Не может этого быть! Не хочу! — закричала она и шагнула в реку. Что она задумала? Плыть? Может быть, и поплыла бы, если б не услышала тихого плеска весел и отфыркивания человека. Две лодки одновременно вынырнули из темноты. Вслед за ними, тяжело переводя дух, выбрались на мель разведчики. Кто-то тихо сказал: — Пускай салютуют, дураки. Другой так же тихо засмеялся: — Палят в белый свет… — Саша! — услышала она шепот Владимира Ивановича. — Саша? — мягкие и холодные руки обвили ее шею. — Вот и мы, мой друг. Спасибо тебе! «Спасибо вам. Всем вам», — хотела сказать Саша и не могла. Как всегда в такие минуты, слова были не нужны, излишни. Только теперь она ощутила часть той радости, которую два года предвкушала в мечтах, представляя будущую встречу с Петром. Там, в больнице, радости не было. Там были боль и горе. Радость пришла здесь, когда миновала опасность, когда рядом не враги, а друзья, а вокруг — бескрайные просторы родной земли, болота, леса, которые дадут им приют. Пускай это и не такая радость, о какой мечтала Саша, но то, что пришла она через муки и горе, через смертельную опасность, делало ее еще дороже. Она заполняла все существо, звенела чудесной музыкой в ушах, в сердце. Даже выстрелы там, за рекой, не нарушали ее стройной мелодии. Саше хотелось заплакать, и не так, как она плакала в эти два года, а впервые заплакать от радости. Хотелось обнять Лялькевича, хлопцев, Марию Сергеевну. Но она боялась шевельнуться, как будто могла расплескать свое счастье. Разведчики молча вытаскивали лодки на берег. Шуршал песок. Журчала вода. Старый Днепр ласково целовал ноги мужественных, храбрых, добрых и чистых сердцем людей.
МОСТ
повесть пятая

Перевод А. Островского
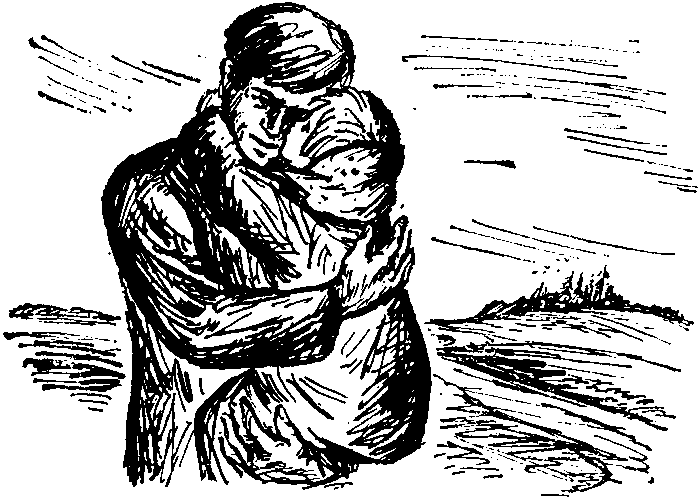
I
Лесник легко, одной рукой, поднял мешок, прикинул, сколько потянет. Крутанул головой, как бы осуждая кого-то, что поскупился. Наклоняясь, нагреб еще полкороба, высыпал в мешок. Казалось, что этот похожий на суковатое, когда-то сломанное бурей, но выдюжившее дерево человек все делает нескладно. Такое впечатление, очевидно, вызывала его неуклюжая фигура. Вглядевшись же повнимательнее, Шапетович увидел, что длинные руки лесника с узловатыми потрескавшимися пальцами действуют ухватисто и умело. Из таких рук ничто не выскользнет, они сделают любую работу, не слишком, правда, красиво и чисто, зато прочно, надежно. В хате находились еще три взрослые дочери лесника. Но он не попросил их помочь. Все делал сам. И ни одна из девушек не шевельнулась. Две сидели на узкой деревянной кровати, покрытой лишь старым солдатским одеялом, третья — на лежанке. Все три были похожи друг на друга и на отца: такие же высокие, неуклюжие, худые. Шапетович, которому до сих пор не доводилось их видеть вместе, разглядывал «лесных красавиц» с веселым удивлением. От односельчан и от Саши, не раз навещавшей больную лесничиху, Петро слышал, что старшей из лесниковых дочек за тридцать, а младшей — семнадцать. Однако он не сразу разобрал, которая из них старшая, которая младшая. Одеты они были по-разному. Но обуты… в «бурки», сшитые из солдатской шинели. И все без чулок. Из-под недлинных юбок выглядывали худые костлявые колени. Девушки тоже бесцеремонно рассматривали его, словно видели впервые. Гляди-ко диво — докторкин муж! Шапетович сидел на лавке, облокотись на шаткий стол, застланный рваной и грязной клеенкой. У лесника была ласковая и впрямь лесная фамилия, которая рассмешила Петра, когда он впервые ее услышал, — Листик. «На листики вы не похожи», — подумал он о девушках. Но не пожалел их. Говорят, старшие, которые могли учиться до войны, не кончили и четырех классов. Живут в лесу, а не имеют стола путного. На чем они спят, пятеро? А картошки вон какая гора! Прямо на полу, у стены, — видно, вчера открыли бурт и перенесли картошку в хату. Теперь на этой куче можно во как нажиться: двести рублей пуд! Увидев, что лесник подкинул в мешок еще полкороба, Шапетович сказал: — Не сыпьте много, не рассчитаюсь с вами. Неизвестно когда еще зарплата. — Ничего, дилектор. Рассчитаемся, коли живы будем. Непонятно, почему лесник упорно величает его директором, хотя отлично знает, что он просто учитель. — Я по дороге взвешу в лавке. Можете поверить. — Чего там таскать по лавкам? — Листик приподнял мешок с полу, перекинул ближе к двери, заключил: — Пуд верный будет, — и отряхнул с ладоней песок. Переглянулись меж собой дочки лесника, явно не одобряя отцовской щедрости. И сразу пропала у Петра веселая ирония, испортилось настроение. Стало обидно за такую бедность. Впервые — неприятно и горько, что он, учитель, секретарь парторганизации, вынужден просить этого лесного кулака продать ему в долг пуд картошки. Особенно противно стало оттого, что лесник насыпал не пуд, а добрых полтора, а то и два. Будто кинул кость, как нищему, или дал хабара. За зиму Петро свыкся с окружающей бедностью. Был частым гостем в хатах, где дети спали на голых досках, в землянках, где ни стола, ни табуретки, едят на березовой колоде. И это вызывало в нем сочувствие к людям, он даже рад был, что делит с ними все тяготы послевоенной жизни. А вот эта большая и пустая, с грязным полом и паутиной по углам хата вдруг вызвала неприязнь. Нечто подобное он уже испытал однажды, когда зашел в дом, где жила семья полицая… Но ведь лесник — не враг. Бобков рассказывал, что Листик и его девчата помогали партизанам. Петро вспомнил об этом и постарался побороть недобрые чувства. Однако оставаться в хате больше не хотелось. Он встал. — Спасибо. Из первой же получки заплачу. Не думайте… — А мы ничего не думаем, дилектор. — Листик переступил с ноги на ногу в своих растоптанных валенках с глубокими калошами-бахилами, склеенными из автомобильной камеры, — великое изобретение людей, разутых войной. Он как бы загораживал Петру выход. Почесал затылок, взъерошил черные, без единой паутинки седины, волосы под облезлой заячьей шапкой. — Вчера дрова брали, из Сухой Буды. Бутылку «чемергеса» поднесли. Огонь, зараза. Отведаем? Вместе жить, вместе робить, — будто бы несмело предложил лесник, однако в этом «вместе жить» была неприятная фамильярность и грубоватый нажим: мол, не ломайся, дают — пей. Диковинным словом этим — от «чемерицы», что ли? — называли в округе самогон, который гнали неведомо из чего — не из зерна, не из картошки — дорого! — а из ягод крушины, шиповника, рябины, даже, говорят, из хрена и еще каких-то диких кореньев. Пить Петру не хотелось. Но хотелось есть. Сразу представилось: добрая краюшка домашнего хлеба, испеченного на дубовых листьях, и ломтик, пусть хоть тонюсенький, белого сала, которого он не видел уже, верно, месяц. Даже голова закружилась от хлебного духа — лучшего на земле. Не удержался и судорожно проглотил сладкую слюну. Но ни хлеба, ни сала на стол не поставили. — Дуня, — сказал лесник одной из дочерей, — принеси закусить. — Чего? — нараспев спросила девушка. — Ну… капусты, — буркнул Листик и достал из шкафчика, висевшего в углу над лавкой, где стоят ведра и ушаты, черную, видно немецкую, бутылку, заткнутую клочком газеты. «Неужто и в этой хате нет хлеба? — подумал Петро и не поверил: — Хитрит, куркуль старый. И угостить хочет и бедность свою показать». Самогонка была мутно-желтая, что вешняя вода на дороге, и кислая, а капуста мягкая, как вата, и прогорклая. Однако «чемергес» разлился по телу приятным теплом и принес легкость, силу, веселое настроение. Сразу ушли серьезные, грустные мысли. Листик наполнил стаканы еще раз. Говорил он мало, а ел капусту с аппетитом, доставая ее из миски черными пальцами. Дочки лесника все с тем же любопытством разглядывали «докторкиного мужа». Когда одна из них пошла за капустой, две другие пересели. И Шапетович в хмельном веселье подумал, что ему теперь не разобрать, какая где сидела раньше в этой большой и пустой хате. Он сказал: — Почему девчата редко бывают в селе? Как раз женихи из армии возвращаются. — Одни сапоги на троих. Речь о женихах оживила сестер, Петру показалось — они на миг даже похорошели. Но отцовские слова смутили их и обидели. Они переглянулись, и лица их вдруг снова стали аскетически некрасивы, как у монашек. Шапетович понял: осуждают отца за скупость. И решил им помочь. — У вас столько картошки… Лесник недобро блеснул глазами. — На эту картошку хватает прорех. Сегодня в Буде о коне договорился, огород засеять. Десять пудов, гад, слупил. А еще кум! — Сорочиха — вот где твоя прореха, — вдруг как из могилы прозвучал слабый и глухой голос. Это не выдержала, отозвалась с печки хворая лесничиха. — Не каркай! — грубо оборвал ее муж, но тут же спохватился, выжал кривую улыбку и как бы извинился перед Шапетовичем: — Помирает, а все одно бабье на уме. Саша как-то возмущалась: «Жена еще жива, а он к бабе шляется, старый гриб». Петро дивился другому: лесник и впрямь «старый гриб», а вдова, Сорочиха эта, пригожая молодица лет тридцати пяти, не один мужчина помоложе на нее поглядывает. А она выбрала лесника. Необъяснимо. «У бабы бабье на уме»…«Чемергес» прогнал грустные мысли… Да и были ли они? Нет! Так — мелкие неприятности, нехватки, заботы. А вообще — жить чудесно! Который раз за год, что прошел со дня победы, его охватывало такое чувство полноты жизни, что хотелось кувыркаться, как озорнику мальчишке, смеяться и кричать. Вот и сейчас… На лесной дороге держался еще довольно крепкий ледок, и Петро шел быстро. Радовался, слушал весенний гомон деревьев и птиц, пел какую-то свою песню, смешную, наверно, если бы кто-нибудь подслушал: «Живу-у! Живу-у! И люблю!.. Все люблю… Людей… Лес, птиц… И лесника люблю, дочек его. Что с того, что жизнь бедная?! Будет богатая! Только было б это солнце и эта тишина. Только бы не убивали люди друг друга!» Увидел бы его сейчас кто-нибудь, наверняка подумал бы: совсем пьян человек. Легко перекинул мешок с плеча на плечо — никакой тяжести! Мог бы подбросить два пуда картофеля, как мяч. Мог бы пойти с ним вприсядку по скользкому льду. Даже хотелось выкинуть такое коленце. Но удержался: как бы в самом деле кто не увидал. Мало ли кого можно встретить в лесу. Люди — добрые, но языки у них острые, колючие. Станут рассказывать, как партийный секретарь один в лесу отплясывал да еще с мешком. Самому смешно стало. Пускай бы рассказывали. Получив столько картошки в долг, можно и сплясать. Ничего нет на свете вкуснее картошки! Видел Петро Европу, отведал разных блюд, и все уже забылось, не манит, а вот запах вареной или жареной картошки, драников[14], да еще аромат шкварки всю жизнь щекочет ноздри, гонит слюну, и во сне слышишь его, этот картофельный дух. Недаром писал поэт: «Из картошки тысячу, не меньше, варят и готовят разных яств». Петро с нежностью подумал о жене, о дочке: «Что нам еще нужно, Сашенька? Разве то, что я вернулся живой и не слишком искалеченный, и ты жива, и Ленка здоровенькая растет — не самое большое счастье? Сколько людей погибло! А мы живы. И любовь наша жива. И ничего нам больше не надо. Еще, пожалуй, ломоть хлеба да чугунок вот этой картошки. Покуда ты там, в Загалье, обойдешь больных, я принесу картошку… Во сколько! — он снова перекинул мешок с плеча на плечо. — Целое богатство! Не говорил я тебе, что свет не без добрых людей, за день что-нибудь да раздобудем, не ты, так я? И не такие трудности одолели. Пока ты вернешься, мы с Ленкой затопим печурку, начистим картошки… Нет, мы не станем ее чистить. Мы сварим ее в „мундире“. Почетнее для картошки было бы сказать: сварим в „шинелях“. Солдатский харч! А потом, Ленок, сдерем „шинельки“, картошечка желтенькая будет, аппетитная… Мы ее еще чуть поджарим на рыбьем жире. Совсем недурная приправа. Тебе очень полезно. А я привык на Севере. Когда на батарее началась „куриная слепота“, нас заставляли по полстакана в день выпивать. Вот только мама никак не привыкнет. Мы ее долю не станем жарить. Может быть, она принесет молока. Мы заставим ее выпить. Непременно, Ленок, заставим. Договоримся. Мы с тобой едим жир, а она все с „нетом“. И столько бегает! От темна до темна». Мысли о Саше, о том, как тяжело она работает, сразу отрезвили Петра. Схлынуло хмельное возбуждение. Стало жалко жену. И хотя не прошла радостная умиленность, закралась легкая грусть. Чтоб лучше накормить дочку и его, — ведь пуля задела легкое, и она, медик, знает, чем это грозит, если голодать, — Саша иной раз вынуждена принимать от теток, которых лечит, кувшин молока, кружочек масла или яйцо. Он как-то сказал ей: — Неудобно, знаешь… Станут говорить: взятки докторша берет. А докторша — жена секретаря парторганизации. Саша по своей привычке закусила губу, задумчиво сощурилась и долго молчала. Потом сказала, может быть, даже несколько сурово, как чужому: — Не бойся. Твоего авторитета я не уроню. А тут как-то вернулась из районной аптеки расстроенная. Не дали лекарств, потому что она не заплатила им за те, которые брала раньше в кредит. Петро невесело пошутил: — Новый сюрприз — растрата. Куда же девалась твоя аптечная выручка? — Куда она могла деваться? Я почти ни у кого не брала денег. Стыдно брать за лекарства. Не могу. Да и где они, деньги, у таких, как старая Щуриха или вдова Лазовенко? Получу зарплату (зарплату не выдавали четыре месяца), все внесу. Не впервой. Нет, она за все платит. Петро не раз уже думал о том, что его секретарский авторитет зиждется прежде всего на уважении и любви сельчан к ней, его жене. Сам-то он что сделал за пять месяцев? Провел в селах по нескольку собраний? Тревожный и вместе с тем веселый крик дроздов, которые, очевидно, вили гнездо в густом орешнике, прервал размышления Петра. Он проследил за их полетом, заметил набухшие почки на кустах, снова всем существом почувствовал весну, и какая-то горячая волна подхватила его… «Сашенька, славная моя! Ты еще будешь счастливой! Обещаю тебе. Подожди немного. И дорогу в честь тебя построю. И мост. Самый красивый в мире». Мечта эта явилась еще в сорок втором, когда он лежал раненый в партизанском госпитале и Саша была рядом. С необычайной силой захотелось ему тогда построить дорогу через болота в Междуречье, по которым он прошел дважды, и мост через Днепр в том месте, где перевозил его дед-лодочник. Потом — и во время партизанства, и на фронте — во сне и наяву видел он этот мост, что будет построен по его проекту, красивей всех мостов — и уцелевших, и разрушенных войной, — какие довелось увидеть на реках родины, Польши и Германии. И теперь, когда жизнь складывалась так, что вряд ли он вернется когда-нибудь к дорожному строительству, ему все еще часто грезится этот мост… Петро вышел на опушку. Когда-то здесь шумела чудесная березовая роща. Ее скосила война. Она еще и в эту первую мирную зиму продолжалась, война людей против леса. Высились одинокие деревья с обломанными ветками. Березы, умирая, как люди, хватались за близких — сестер и подружек. Плакали свежие пни. Мешок вдруг стал тяжелым. Заныло простреленное плечо. Страдания другого человека и раны земли, дерева всегда напоминают и о твоей ране. Он поставил мешок на старый сухой пень, присел сам. Оглядел лесосеку. «Может быть, эти свежие, залитые соком пни — от спиленных как раз им берез?» — подумал с мучительным стыдом. Как часто жизнь вынуждает делать то, что нельзя не только по закону, но против чего восстает собственная совесть! В лютые морозы остались без топлива. Сколько раз они с Сашей на больших санках привозили из лесу хворост, чтоб сварить обед и хоть немного согреть неуютную, темную и сырую комнату в старом господском доме. В ту пору председателем колхоза был избран Панас Громыка, бывший офицер-танкист. Очевидно, увидел новый председатель, как фельдшерица и учитель на себе таскают дрова. А к Саше у Громыки особое расположение. Она вылечила его сына. И вот как-то вечером Панас заглянул к ним и предложил: — Поехали в лес. По дрова. Снег славный пошел. Следов не останется.Лесник лежит пьяный у Сорочихи. — Красть? — в один голос воскликнули Петро и Саша. Панас рассмеялся: — Ох, недаром моя теща называет вас святыми. В наше время при этакой святости пропадешь от холода и голода. Поехали. И пилили вот эти березы. Крали лес те, кто должен помогать беречь его. Петро хоть старался выбрать деревья похуже — кривые, низкорослые. А Громыка, наоборот, облюбовал таких белых красавиц, что ныло сердце, когда пила и топор крушили их застывшие на морозе звонкие тела. На уговоры пощадить их отвечал: — Старые люди говорили: кто в лесу не вор, в доме не хозяин. — Когда лес принадлежал графу Паскевичу, пословица имела смысл. А теперь лес — наше добро. — Так-то это, Андреевич, так, кабы все на свете было по-людски. А когда не только лес — людей выкосили, как траву, вдовы и сироты без угла и тепла остались… тут, брат, не до высоких материй. Не спилим мы — спилят другие. Война все спишет. Сами лесники усвоили это лучше, чем мы, порубщики по несчастью. Пни испортили настроение. Куда девались легкость и молодая сила? Почувствовал себя слабым и усталым. Не то что плясать с мешком за спиной, — пугала даже мысль, что еще добрых два километра надо тащить этот мешок. Как все-таки мешают жить эти ежедневные заботы о куске хлеба! Хлеба! Если бы в результате на столе появлялся хлеб — о, какая б это была награда! О картошке мечтаешь! А тут не только о себе — о других надо думать. Неделю назад исполком сельсовета в полном составе целый день делил черную юнровскую фасоль. Но все, кто считал себя обиженным, шли жаловаться не в сельсовет, а к нему, партийному секретарю. Невозможно проследить и понять ход мыслей. Как они взлетают и падают, какие делают повороты, петли, зигзаги! То цепляются друг за друга, как шестерни передачи, то вспыхивают вольтовой дугой, то — как искры в ночи: гаснут одни, загораются другие. Лесник… Бобков… Саша, Ленка… Громыка… Снова Саша. Снова Саша! Вот уже семь лет везде и всегда — и когда она рядом, и когда далеко, в минувших боях и в нынешней работе — мысли его постоянно возвращались к Саше. «Саша! Я люблю тебя!.. Но почему ты мне кажешься не такой… не такой, какой была в ту нашу первую весну?.. Неужто война, страдания и заботы сломили тебя, состарили? Нет, Саша! Мы молоды. Мы очень молоды… Давай отдадим старикам все прозаические заботы… Эту картошку, золу, торфофекалии, фасоль… все… Отдадим… Кому? Кому ты отдашь это? Ты обязан и чужую беду взвалить на себя. Чудак. Мечтатель. Неси картошку. Дочка ждет». В лесу была тень и твердая дорога. В поле кирзовые сапоги глубоко увязали в размякшей, напитанной снежной водой глинистой земле. На самой дороге весело булькал мутный ручей, неся листья и пену. Идти приходилось обочиной. А поле здесь, под лесом, не заросло травой за войну — засевалось; видно, хорошая земля, потому ее не забывали. Солнце хотя и было уже на склоне, однако еще припекало щедро. День — на диво, настоящий весенний. На небе ни облачка, и ни одна сухая былинка не шелохнется от дуновения ветра. Ошалев от радости, заливаются жаворонки. Но разглядеть их нелегко — больно смотреть в ослепительно-голубую бездну. Да и не до них теперь Петру: казалось, свинцовым стал мешок с картошкой; шинель, гимнастерка, даже шапка — все отяжелело, набухло потом, жало, давило. Рана уже не ныла — остро болела. Кровь стучала в виски. «Не донесу». Он подумал о ребятах — своих учениках, которые играли на мосту, когда он шел к леснику, и, конечно, глазеют на разлив до сих пор, потому что от речки их в такую пору не оторвать. Может случиться, что именно там его оставят последние силы, он бросит мешок на топкую землю плотины и не в состоянии будет поднять. Правда, дети войны знают, что такое раненый, и давно уже не по-детски разбираются, чего стоит человек. Но все равно обнаружить перед ними слабость нельзя. Петро не изучал педагогики, но из чего складывается авторитет наставника — знал не хуже любого профессора. С умыслом, верно, насыпал столько, старый черт, — уже забыв о благодарности, подумал Петро о леснике и через минуту нашел выход простой и хитрый: дойти до сосняка, отыскать укромное местечко, высыпать под кучу хвороста половину картошки. А вечером прийти с Сашей, забрать. Только бы дойти до сосняка! Это совсем близко — песчаный изволок с редкими молодыми сосенками. Но перед ним — ручей, разлился, что добрая речка. Переходя его, Петро зачерпнул голенищами ледяной воды и уже еле добрался до сухого местечка — до пней и свежих сосновых лап. Бросил мешок и сам повалился на эти лапы. Стащил сапоги, размотал мокрые портянки, выжать их сил не хватило. Лежал, жадно вдыхая аромат хвои, и бездумно глядел в небо. Опять на миг стало хорошо. Опять захотелось вернуться к светлым мечтам и хоть на несколько минут заглянуть в будущее, попытаться построить свой мост… — Простудишься, Андреевич. Петро не вздрогнул и не смутился, он сразу узнал голос. Может быть, перед кем-нибудь другим и испытал бы неловкость, с этим же человеком за зиму сблизился так, что не боялся обнаружить перед ним свою слабость. Петро приподнялся. Панас Громыка присел рядом на ветки. Председатель был в такой же, как и Петро, офицерской шинели английского сукна, правда сильнее замасленной — танкист! Зато сапоги у него не ровня Петровым — самая лучшая натуральная кожа, и охотничьи высокие и мягкие, голенища, даже отвернуть их пришлось, и «поднаряд» на голенищах тоже из добротной коричневой кожи, хоть еще одну пару шей. Над Панасом подшучивали: не с Геринга ли он стащил этот трофей? Председатель не каждый день надевал сапоги — берег, и потому Петро удивился, что он так безжалостно заляпал их весенней грязью — по самые уши. — От Листика? — кивнул на мешок Громыка, счищая березовым прутиком грязь с сапог. — Два? Опять-таки Петро, пожалуй, никому не признался бы, что купил только пуд, а лесник неведомо почему насыпал явно больше. Панасу сказал: — Нет, один. — О-о! Загрызут старика девки. Жадные и скупые. Да и сам… Не верю я в его щедрость, хотя черт его знает, непонятный он какой-то, этот Листик. Никогда не знаешь, что он думает… — Пускай думает что хочет. Черт с ним. А у нас будет чем поддержать боевой дух. Петру хотелось обратить все в шутку. Но Громыка шутки не поддержал — вздохнул тяжело, очень уж серьезно спросил: — Когда это мы, Андреевич, разбогатеем? — Разбогате-е-ем! Не такое осилили! — Завидую я твоей вере. Заплатил за пуд двести рублей и мечтаешь о коммунизме. Такие хлопцы первыми бросались в атаку. Не всегда с умом, правда. Потому мало вас осталось. Жаль… — «Нас, вас»… К чему это деление? На сколько ты старше? Сам так же с танком бросался. Всех нас мало осталось. Но если уж мы из такого пекла вышли, да еще как вышли — всю Европу прошли! — то паниковать из-за теперешних трудностей… Это тебе не «тигр», не «пантера» и не «Фау-2». — Фау-фрау… Не «фау», конечно… Но на меня подчас такое находит. И под «фау» так не было. Вот как сегодня. Облазил все поля. Осмотрел. Видишь? — кивнул на сапоги. — Как одичали, как заросли! А чем поднять? Чем унавозить? На семнадцати доходягах, что остались в конюшне? Да и тех кормить нечем. — Есть МТС. — А что в МТС? Бригада из трех «ХТЗ» на пять колхозов? На этих же «ХТЗ» я еще до войны пахал, они и тогда уже больше стояли, чем работали. — С каких это пор ты, Панас Остапович, потерял веру в нашу индустрию? Сколько тебе танков дали за один какой-нибудь год? Забыл? За военный год! Когда немцы перли на восток и половина заводов была на колесах под бомбами. Пройдет год-другой — будут тебе трактора!.. Петра задело за живое: даже Громыка, председатель, коммунист, выходит, не понимает простых вещей. Но тут же спохватился. Как бы не стать пустозвоном вроде некоторых уполномоченных, которые все знают и всех учат. Вспомнил, как Саша недавно, послушав его выступление перед колхозниками, на его самолюбивый вопрос: «Ну, как?» — ответила: «Хорошо. Только не учи, пожалуйста, крестьян, как хлеб сеять. Ты его сеял?» Нет, Петро хлеба, по сути, никогда не сеял. А Громыка сеял. И из лукошка на своей единоличной полоске. И на колхозном поле — трактором и сеялкой. Так не умнее ли послушать сначала, что он думает про послевоенный хлеб? Но председатель не спешил высказаться. Хитрый дядька. Такой зря слов не бросает — лишь бы языком болтать. Взвесит, подумает. Вон как разглядывает свои сапоги и теребит сосновую ветку. Нюхает иглы. От нагретых и привядших веток будто не воздух льется в легкие, а сама растаявшая живица, густая, тягучая. Может, от этого такая расслабленность. Не хочется говорить. — В индустрию, Андреевич, я верю, — сказал Громыка после молчания, — как в победу нашу верил. А вот что мы с тобой, так руководя, за год-два хлебом накормим, признаться, не верю. — Что ж, по-твоему, пахать землю сложнее, чем вести такую войну? Громыка отшвырнул сломанную веточку. — Да как пахать. Пахать надо с умом, — он вздохнул, помолчал. — Между нами… знаешь, о чем я иногда думаю?.. Не ведает батька, что делается в деревне, как нас война подкосила, как люди живут. Кабы знал, так уж что-нибудь придумал бы. Ленин, когда увидел, как обстоит дело после гражданской, сразу нашел выход из разрухи. — Что нашел? — Ты историю лучше меня знаешь. И продналог и нэп. — Что же ты — нэпа захотел? Колхозы распустить, что ли? Черные глаза председателя недобро блеснули. Всегда он говорил с Петром уважительно и дружелюбно, а тут не выдержал — сказал тихо, но со злостью: — Ты, брат, задаешь вопросы, как в особом отделе. Я организовывал его, колхоз. Комсомольцем был. Мне кулаки смертью угрожали, а товарища моего, Василия Лопатку, подстрелили. Я сидел в танке и думал о колхозе, как мы подымем его после войны… За колхозную жизнь мы, крестьяне, шли, чтоб Гитлеру голову свернуть… А ты мне — «распустить». Ты думаешь, я такой дурак, что не понимаю: тех решений, которые принял Ленин, не скопируешь, жизнь ушла вперед. Однако кое-что и повторилось: война, разруха, нужда… Так если ты мудр, — он ткнул пальцем в Петра, — придумай такой же ленинский выход в новых условиях, в колхозных. Петру не понравилось раздражение Громыки, но возражать он не мог — знал, что любые из тех аргументов, которые заставляли умолкать на колхозных собраниях даже пьяных инвалидов, здесь будут разбиты. Нет, сейчас нужно говорить по-иному. — Не сразу и тогда наладилось. — А разве я требую, чтоб сразу потекли молочные реки? В том-то и беда, что в выступлениях мы все обещаем завтра же эти молочные реки. А что делать, как делать, чтоб и я понял и люди видели и верили, — вот этого никто мне толком не сказал. На фронте мне ставили задачу: взять пункт Н. Но я знал, что от семи до восьми «работает» артиллерия, потом «проутюжит» авиация. Сосед справа за десять минут до начала операции атакует пункт Б., чтоб отвлечь внимание. А сосед слева поддержит обходным маневром. За танками идут автоматчики, они закрепят мой успех. Бывали, конечно, неудачи. Но все разрабатывалось, как говорится, без дураков. Не забывали даже о том, каким путем отступать в случае чего… Потому что враг, он тоже голову имел, и часто не глупую. А тут же и врага нет перед тобой, разве что погода да это запустение военное. А идем мы — не идем, а тычемся, как слепые… Без компаса, без разведки… Никто толковой команды не может дать… — Ну, Панас, загибаешь, — покачал головой Петро. — Что это на тебя нашло сегодня? — Эх, Андреевич! Мы с тобой здесь одни. — Громыка оглянулся на сосняк. Петро насторожился. Ему не хотелось, чтоб Панас, которого он уважает, сказал что-нибудь такое, что коммунисту говорить не пристало. Может быть, остановить? Однако очень уж интересно послушать его соображения. — А давай посидим и подумаем попросту, по-человечески, над всеми командами… Ну, какую взять для примера? Вот, скажем, ту самую, о которой мы трубим каждый день… Подумай… Главные постановления по подготовке к первому послевоенному севу — о сборе золы и заготовке торфофекалия. Все как будто правильно. Без навоза на этой земле ничего не вырастет — каждый знает. Но хотелось бы мне спросить у тех, кто писал это постановление: подсчитали ли они, сколько можно унавозить земли золой и фекалиями? Да если я сам буду выгребать золу из всех печурок в землянках и хатах вот этих и каждому поставлю ночной горшок, как у немцев, сколько, ты думаешь, можно унавозить? Не надо быть ученым, чтоб подсчитать. Достаточно знать арифметику за четыре класса. Два, три, максимум пять гектаров. А их вон пятьсот лежит, одичавших, заросших кустарником. И так в каждом колхозе. А мы нашли спасение от всех бед — собрать фекалий. Проводим конференции в области, в районе, собрания в колхозах… А люди слушают и… смеются. Смеются, Андреевич! У нас на все село три уборные. А меня уже сколько раз заслушивали и на собрании и на бюро, как идет заготовка торфофекалия. Прокоп Грошик как-то говорит мне: «Дай, говорит, председатель, два пуда хлеба, пойду вычищу школьную и сельсоветскую уборные. Начальство тебя ругать не станет». Кто-то ему заметил: «Дороговато просишь». А он: «Да нет, не дорого. Вы ж, говорит, черти, на всю жизнь кличку приклеите — „золотарь“ или еще почище… Мне — черт с ней, с кличкой. Да детям, девчатам моим, срам». А потом, один на один, Прокоп спрашивает у меня: «Что это, говорит, Панас, издеваются над нами, колхозниками, за дураков считают?» Что я мог ответить? Скажи сыну Левонихи, Ивану: иди в колхоз, будет у тебя добрая работа — заготовлять торфофекалий. Он пол-Европы прошел, орудийным расчетом командовал, орденов до пупа понавешено… Я уж не говорю о том, что́ я могу посулить ему за такую работу, какую плату. Палочку в табеле? Сколько мужиков вернулось из армии, а сколько осталось в колхозе? Я да Петя Овчаров. Да и тот по несчастью — мать не встает с постели, доконала старуху вторая похоронная. Из трех сыновей один вернулся. Так-то, Андреевич… А я не думаю, что нет там умных людей, среди тех, что писали постановление. Есть! И, наверное, могли бы придумать что-нибудь такое, от чего больше пользы, чем от сбора золы. Пускай бы школьники золу собирали, а не вся партийная организация мобилизовывалась на золу. Мобилизуйте нас для удара на главном направлении! Только покажите, где оно, это место главного удара, от которого зависит успех на всем нашем колхозном фронте. Вы же генералы. Вам оттуда, с командного пункта, видней. Расставьте свои боевые полки! И мы такой героизм покажем! Солдат — он, брат, отлично понимает, нутром чует, где его ведут ради великой победы — тогда ему и смерть не страшна, а где — на пустое дело хотят растратить его силы, боевой запал… Были, Андреевич, и на фронте такие атаки — оттого что у какого-нибудь начальника не сварила эта полевая кухня, — Громыка кулаком стукнул себя по лбу. — Ты сам фронтовик, знаешь — разные были командиры и команды. — Он вдруг смолк, стал закуривать. Петро молчал. Снова откинулся на ветки, смотрел в небо, видел, как прояснялась предвечерняя синева: остывало солнце, и будто стирали с огромного стекла испарину. Сквозь ветки чувствовал разгоряченной спиной, как от земли тянет еще снежным холодком. Вспомнил частые наказы Саши: «Берегись, тебе нельзя простужаться с твоим простреленным легким». Когда осенью сорок третьего их партизанский отряд соединился с армией, естественно, что молодые партизаны были тут же призваны. Отбор шел, как говорится, на глазок, с участием одного врача. Потом, когда Петро попал в зенитную часть, врач их полка удивлялся: «Какой идиот взял тебя с таким ранением?» И даже хотел списать. Следовало бы встать, присесть на пенек. Но боялся сделать движение, чтобы не прервать Панаса. Даже не смотрел ему в лицо — нарочно, чтоб не смущать. Все, о чем говорил Громыка, Петро слыхал уже не однажды за те месяцы, что вернулся из армии. От разных людей. Даже от Саши. Она иной раз с неприкрытым гневом говорила о некоторых «мероприятиях». Резкость ее пугала Петра. Война и в этом изменила ее — раньше она была добрее, мягче. Однако Петро, опьяненный победой, отбивал все эти выпады с верой великого оптимиста. И радовался: его убежденность, что скоро все наладится, хорошо действует на людей. И на Сашу тоже. Она веселеет от его пламенных доводов и даже, он слышал это однажды, потом сама пользуется ими. По обязанности, по положению Петру надлежало одернуть председателя. Однако он не мог. Почему-то вдруг созданная им в мечтах такая же сказочная, как мост, картина ближайшего будущего поблекла, потеряла свои краски. Не говоря прямо, Громыка как бы показывал: все, что расписывает он, секретарь, на собраниях, — те же «молочные реки», которые якобы потекут оттого, что хорошо станут собирать золу или фекалий. Петра охватила непонятная тревога. И тоска. А он не желал, чтобы душу точили, как короед дерево, сомнения. Хотелось, чтоб все было просто и ясно. После такой победы! Когда такая весна! Послать его к черту, этого Громыку, с его рассуждениями! — Я тебе, Андреевич, скажу, — снова заговорил тот. — Думали бы мы все вместе, коллективно… Чтобы те, кто руководят, советовались с тобой, со мной, и чтоб я не боялся высказаться… — А чего ты боишься? — Самого себя боюсь, — криво усмехнулся Панас. — Сам себе не верю… Правда. А если б мы поверили себе и друг другу, то миром что-нибудь придумали бы. Подсказали бы батьке… А то мы ждем, что скажет он. — Его не трогай, Панас. Он… — А я не трогаю… Ты видел — он у меня в хате на том месте, где раньше образа висели, и я что ни день молюсь на него. И детей учу молиться. Одну тещу никак заставить не могу. Не признает, старая кочерга. — Он засмеялся, оскалив крупные, желтые от махорки зубы. Он часто так смеялся, этот прокоптелый тракторист и танкист. Петро любил его смех. И сейчас этот веселый смех снял тяжесть с души. Смехом председатель как бы сглаживал серьезность всей беседы, как бы говорил: намолол я вздора, позабавился маленько здесь, в сосняке, а теперь — хватит, забудем, займемся делом. Петро подумал: «Мужик есть мужик, он всегда скептик и маловер, и все ему хочется новой экономической политики».
II
Поначалу всё было так, как Петро рисовал себе, когда нес мешок. Саша задержалась у больных. Он сам начистил большой чугунок картошки и поставил варить. Можно наконец позволить себе такую роскошь. Трещали в печке сухие тонкие веточки, языки пламени с веселым гудением облизывали закоптелый чугунок. Вода еще не кипела, но на поверхности уже плавали клочья пены. Обжигая руку, Петро снимал пену ложкой. Пока они шли с Громыкой и тот нес мешок, пока Петро рубил хворост и растапливал печку, в душе еще оставался какой-то неприятный осадок — недовольство своим молчанием: не к лицу это секретарю. Но заполыхал огонек — и как бы выжег все это, унес с дымом в трубу. А закружила в чугунке вода — и вовсе стало весело. Бесспорно, многое делается не так, многое не совсем понятно. Но почему он должен ко всему относиться так болезненно, все принимать к сердцу. Разве эти проблемы — лишь его или Панаса забота? Думает весь народ, и работает весь народ. Сам же он, Громыка, не ждет — работает от темна до темна, чтоб лучше и больше посеять, собрать урожай. Возвращаются солдаты. Еще шесть возрастов увольняют. С какой жадностью они накинутся на работу! А будут люди трудиться — будут и плоды их труда. Что-нибудь сделают, чтобы и в деревне больше оставалось, в колхозах. Главное — победили, хотя и большой кровью. А раз мир, то все наладится. Народ — такая сила, что все одолеет. «Ну, историк из меня, кажется, выйдет: я уже хорошо усвоил, что движущая сила истории — народ», — мысленно пошутил над собой Петро, подбрасывая в огонь сухие прутики. Он сидел на перевернутом табурете, взял хворост, не обернувшись, и разорил какую-то дочкину игру. Ленка закричала: — Папа! Блать не! Он повернулся. Малышка успела сложить из коротких суковатых веточек несколько кривых клеток. Когда он вернулся из армии, дочка долго и упорно отказывалась называть его папой. С наивной детской хитростью обходилась вовсе без обращения. Ему никак не удавалось завоевать ее расположение. Это огорчало Сашу. Однажды она даже бросила: — Какой ты отец! Петро обиделся. Дочку он любил, относился к ней с большой нежностью. Беда только, что выказывал ее неловко, неумело, а детям, должно быть, нужны внешние проявления любви. Профессии отца тоже нелегко обучиться. Перелом в их отношениях произошел внезапно. Под Новый год он привез ей саночки. Подарок она приняла равнодушно. Перевернула, накрыла полозья косынкой, устроила «хатку» для своей единственной куклы Кати. Но когда он повез ее кататься и смело пустил санки с высокой горы, дочка завизжала от восторга: — Папа! Еще! Может, сто раз она повторяла это «Папа! Еще!», и сто раз он, ошалевший от радости, обливаясь потом, тащил по скользкой дорожке санки на гору, где чернели остатки бывшего ветряка, и с криком и гоготом, что тоже веселило малышку, пускал их вниз, в старый колхозный сад. Саша рассказала: Ленка, когда училась говорить, долго отрицание «не» ставила после глагола. «Ленка, хочешь молочка?» — «Хочу не». — «Ленка, упадешь!» — «Упаду не». А свою обычную просьбу «Мама, не ходи никуда» произносила так: «Мама, ходи куда не». К его приезду девочке пошел пятый год, и она говорила уже почти правильно. Во всяком случае, предложение строить умела. Но Петру так понравилось ее «не» в конце, что он сам в шутку стал говорить так же. И девчурка стала ему подражать. Саша сперва смеялась, а потом встревожилась: — Научишь, педагог! Смеяться будут над ребенком. Не надо так, Леночка. Папа говорит неправильно. Ленка следом за матерью стала делать ему замечания: — Папа, правильно не. Петро хохотал. Вот и это «блать не» рассмешило. Ленка догадалась, почему он смеется, и тут же исправила свою ошибку: — Папа, не надо блать. Сказала она это с той милой детской интонацией, которая всегда вызывает у родителей прилив умиления. Петро притянул дочку к себе, поцеловал беленькие пушистые волосенки. — Славный ты мой человечек! Но ведь надо сварить картошку. Ты хочешь картошечки? — Хочу. С жилом, — и глотнула слюну. А он, отец, долго потом не мог проглотить горький комок, который застрял в горле, рос, душил, выжал слезы. Ребенок голоден, но не плачет, не просит — терпеливо ждет. Горемычные дети войны! Ленка, не понимая, удивленно уставилась на него: почему у папы блестят глаза? Спросила: — От дыма, да? — От дыма, — улыбнулся Петро, отпуская дочку. — Что ты тут настроила? — Село. Ето — хата тетки Гапы, а ето — сельсовет, тут мамкина амбулатория, а ето — наш дом. — О, да ты великий архитектор! Петро достал ухватом чугун, поставил на шесток, ткнул ложкой — не готова ли? Нет, ложка скользила между картофелин. — Да, Ленок, придется тебе разрушить один домик. Нужны дрова, чтоб картошка доварилась. Какой ты разберешь? — Магазин. В нем ничего нету. Муки нету, соли нету… и кафет нету… Петро захохотал. — Правильно, дочка! Рушь магазин! Все одно райпотребсоюз ничего нам не завозит. Только водку, да и ту в три раза разбавляют водой. Наконец картошка сварилась. Сливая воду, вдыхая аппетитный запах, он рассуждал: — Да, ты — архитектор… Мы могли б с тобой строить мосты. Но мама никуда не хочет уезжать. Придется нам заниматься историей. Что ж, история тоже наука нужная. Чтоб люди не забывали о прошлом. Большая часть книг, — а их у него немало, — лежала на столе. Стол Саша раздобыла где-то антикварный — барский, может, столетней давности: две ножки его первым творцом украшены были искусной резьбой, правда сильно попорченной шашелем, третья, более поздней работы, гладко остругана тоже недурным мастером, а четвертую заменяла обыкновенная березовая чурка; ее приладила сама Саша — только бы стоял этот инвалид многих войн. Стол был и гордостью их — самый богатый атрибут меблировки, и предметом постоянных насмешек и шуток. Петро отодвинул книги, газетой прикрыл пеструю «трофейную» скатерку — не хотел запачкать. Чтобы найти самый неинтересный номер, просмотрел целую стопку. Газеты он жалел не меньше, чем скатерть, они нужны были для работы. Саша относилась к газетам не столь бережно, она безжалостно рвала их для своих порошков. Они иногда даже ссорились из-за газет. В «Звезде» на двух полосах был напечатан проект и описание деревни на шестьдесят дворов. На рисунке деревня выглядела райским уголком. Еще три дня назад он отложил этот номер, чтобы использовать его в очередной беседе или докладе. Он рассуждал: напечатали такой проект, значит, в нем есть потребность, значит, не везде такая разруха, что люди никак не выберутся из землянок хоть в какие-нибудь хатенки, а есть места, где могут строить такие вот деревни, как здесь, в газете, — кирпичные, с черепичными крышами, с типовыми хозяйственными постройками. Положив дочке картошки и налив в черепок рыбьего жира, Петро придвинул табурет ближе к окну, чтоб еще раз повнимательнее изучить проект сказочной деревни. В комнате было три окна, а света немного. Одно вообще было забито, в двух других — по нескольку стекол, составленных из кусочков, а больше — почерневшая фанера и ржавая жесть. Во время метели сквозь эти окна, как их ни законопачивали, ни затыкали тряпками, на стол наметало снега. Всю зиму они спали на печи. Хорошо, что печь — русская, широкая, троим на ней было совсем просторно. Уже давно зашло солнце. В дни, близкие к весеннему и осеннему солнцестоянию, смеркается быстро и незаметно. Окна выходили на север и восток, и Петро читал, с трудом разбирая слова. Говорят, в сумерки человека чаще всего охватывают грусть, тяжкие раздумья, тревога. Нет, он не мог это назвать ни тревогой, ни грустью. Это было что-то другое, чему трудно найти определение. Такой клубок чувств, что ему и самому не разобраться в нем, а тем более передать другому, даже такому близкому человеку, как Саша. Одно понял ясно: не станет он рассказывать колхозникам об этом действительно сказочном проекте. Пускай сами прочитают. А ему нечего с этим соваться. Это — та же зола, те же молочные реки, о которых говорил Громыка. «Ох, Панас, Панас, хороший ты человек, но беседовать с тобой вот так, с глазу на глаз, из души в душу, опасно. Умеешь ты загнать ежа в мозги». Саша вошла стремительнее, чем обычно. Петро сразу, еще по ее шагам за дверью, в коридоре, понял, что она чем-то взволнована… Поставила на подоконник завернутую в газету бутылку. Сняла свое единственное шерстяное платье, служившее и в будни и в праздник, надела старенькое ситцевое, короткое. Стала похожа на девочку-подростка: худенькая, груди — два маленьких бугорка, ключицы торчат. Петру стало больно. Сердце сжалось, защемило от жалости и еще от догадки, что Сашина взволнованность, ее молчание имеют отношение к нему. Опять какое-то недоразумение. В чем дело? Кто-нибудь насплетничал из учительниц? Есть такие вдовы-завистницы. Им чужое счастье — что бельмо на глазу. — А мы с Ленкой картошки наварили. Я пуда два приволок. Ленка уже поужинала. — Хорошо поела, дочушка? — Саша наклонилась к девочке, которая подбежала к ней, подолом платья, по-крестьянски вытерла замурзанное личико. — Холошо. А почему ты долго не плиходила, мама? — Я молочка тебе принесла. — Она развернула бутылку, налила в солдатскую кружку. Малышка, стоя посреди комнаты и обхватив кружку обеими руками, жадно пила, струйки текли по подбородку на платье. Саша словно не видела мужа, как будто его и не было. — Давай ужинать и мы, Сашенька. Она не ответила. Сначала он растерянно притих. Но тут же в нем поднялось возмущение: что за дурная привычка вот так молчать? Больно тебе — скажи, закричи! Я — здесь, я — вот он! И понимаю, вижу каждое движение твоей души. Должно быть, Саша почуяла бурю, потому что вдруг приблизилась к нему и сказала почти шепотом, но тем шепотом, что громче любого крика: — Ну, дорогой муженек, я думала, что ты по молодости и глупости нашкодил, как кот. Поверила, что и правда это был единственный раз… А ты — вон что… Ты… ты, — она задыхалась, — ты и потом нашел ее… — Она круто повернулась, схватила с кровати платье, вынула из кармана измятый конверт. — На, от твоей пепеже. Читай! Радуйся! Она мужа бросает! Не к тебе ли собирается приехать? Петро взял конверт, ничего не понимая, не догадываясь даже, о чем идет речь. И почерк ему ничего не сказал. Посмотрел на подпись. Тоня! Откуда она взялась? Как узнала его адрес? А-а, на конверте адрес его родителей. Письмо сюда прислали они. Обратный адрес: знакомый номер полевой почты — зенитный полк, где он начинал службу и войну. Только тогда это был отдельный дивизион, а теперь — полк. Там, в полку, адрес его родителей мог сохраниться в делах, в полевых сумках или в памяти его бывших сослуживцев. Он наскоро в полумраке пробежал глазами короткое письмо. Ничего особенного, даже никакого упоминания об их отношениях. Что же могло так задеть Сашу? Это: «Со Степаном у меня ничего не выйдет. Брошу я его. Оформляю увольнение, уеду к маме»? Ага, вот что: «Теперь я часто думаю (и ему говорю): не зря ты дал ему по морде. И слова твои вспоминаю, те, что ты сказал в госпитале, в Ландсберге». Да, только это. Когда-то, еще в партизанском госпитале, он, расчувствовавшись, чистосердечно признался в своей случайной связи с Тоней. Саша слова ему не сказала, раненому. Но он видел, что ей больно. Помнит, как вдруг изменилось ее лицо, глаза, как закусила она губу и какой стала потом — как бы отдалилась от него, — заботливая милосердная сестра, не более. Только добрая, умная Мария Сергеевна, врач отряда, помирила их. И Ленка связывала. Он тогда испугался, что может потерять ее. А когда снова пошел на фронт, боязнь эта превратилась в страх. Саша подогревала этот страх своими письмами. Как бы между прочим напишет: один раз о том, что заезжал к ней Владимир Лялькевич, другой — что в деревне, где она теперь работает, разместилась воинская часть и много молодых офицеров, третий — что к хозяйке, у которой она квартирует, приехал на побывку сын-капитан… Только вернувшись из армии, Петро узнал, что сообщения эти были местью ему, может быть не очень остроумной и уместной, но иначе их назвать нельзя. Воинская часть в Грибовке не стояла. На квартире Саша жила у жены Панаса Громыки. Правда была только про Лялькевича. Он был вторым секретарем райкома партии и, разумеется, мог приезжать. Но Петро уже тогда, в партизанах, излечился от ревности к нему. Страх потерять ее, конечно, прошел, когда он вернулся. Саша — его жена навеки, на всю жизнь, ничто больше не может их разлучить! Но боязнь, как бы она снова не отдалилась, помешала ему признаться, что он встретился с Тоней еще раз, в Германии. Боялся: не поверит Саша, что в огромном человеческом муравейнике, разворошенном войной, можно, расставшись где-то в Мурманске, совершенно случайно встретиться под Берлином. Правда, на войне бывали и еще более невероятные встречи! Чего только там не бывало! Однако захотела бы Саша понять? Скорее всего могла бы подумать, что они искали этой встречи. Бывает ложь во спасение. И бывает правда, которую лучше утаить. Однако нет. Нет, видно, такой правды. Недаром гласит старая мудрость: нет ничего тайного, что не стало бы явным. И это относится ко всему: к политике, к дипломатии, к войне и к жизни двух людей. Лучшая семейная дипломатия — это дипломатия полного взаимного доверия и абсолютной откровенности. Жаль, что многие из нас приходят к этому выводу слишком поздно. Растерянный Петро несмело шагнул к жене: — Сашенька! Я все объясню. Выслушай только спокойно… Зачем усложнять и без того нелегкую нашу жизнь?.. — Не надо мне никаких объяснений. Хватит с меня твоих сказок. Сочинять ты умеешь. — Это она сказала тихо, усталым голосом. Но когда Петро, обнадеженный, хотел взять ее за руку, резко отшатнулась и гневно крикнула: — Не прикасайся! Я ненавижу тебя! Ленка обняла ее колени, захныкала: — Мама! Не лугайся. Я боюсь. Саша схватила дочку на руки, прижала к груди, будто ей грозила опасность. — Не бойся, моя маленькая. Я не буду. Зачем ругаться? Мы с тобой никогда не ругались. Ни с кем. Только с немцами. И мы будем жить с тобой, и никто… — И папа с нами. Да, мамочка? Саша осеклась, будто язык прикусила, — больше ни слова. В предвечерних сумерках помыла девочке ручки и ножки и, не поужинав, легла с ней на узкой кровати, где, когда оставили печку, спали они вдвоем с Петром. Дочку укладывали на лежанке. Петро понял, что сейчас объясняться нет смысла, и ничем не нарушил молчания. Было до отчаяния обидно. С каким чувством он нес эту картошку, с какой любовью готовил ужин — и вот тебе, пожалуйста. Дурацкое и совершенно ненужное письмо испортило настроение, отравило вечер, который мог бы стать счастливым. Не так уж много нужно для счастья: любовь, доверие, накормленный ребенок… ну, и там чугунок этой самой картошки. Нет одного звена — цепь разорвана. Петру жалко было себя, а еще больше ее, Сашу. С восьми утра до двенадцати она принимала в амбулатории, а потом дотемна ходила по больным. Инвалиды, дети… Он не решился даже зажечь лампу. Сидел на табурете у стола. Стемнело. Стихли голоса детей на улице и у речки. Утих ветер. Все затихло… Когда люди научатся делать фонограмму — или как ее назовут? — мышления, раздумий, их очень удивит форма кривой. Она будет не только изломанной, с падениями, с взлетами, она будет извилистой, как сказочный лабиринт, как путаный моток ниток или что-нибудь еще более сложное. Ее нелегко будет расшифровать, эту мыслеграмму… Мысли Петра перескакивали от Саши к Громыке, с прошлого в сегодняшний день и даже залетали в завтрашний: от Тони — к бог знает кому, иной раз к совсем случайным людям. «Как ее фамилия теперь — Ромашева или Кидала? На конверте не пишет. Я не успел тогда даже спросить…» …Было это ровно год назад. В начале апреля. Не в этот ли самый день? Дивизию их на плацдарме за Одером сменил танковый корпус, срочно переброшенный из Восточной Пруссии, где война была закончена. Маршал Жуков собирал мощный бронированный кулак для удара на Берлин. Дивизию, которая понесла на плацдарме большие потери, особенно от проклятых Фау-2, как бы отводили в резерв, на отдых в ближний тыл, за какие-нибудь сорок километров от фронта, в город Ландсберг на Варте. Но зенитный дивизион не отдыхал. Он занял боевые позиции, чтоб охранять отдых измученных пехотинцев. Командный пункт дивизиона разместился на самом берегу реки, заняв здание какого-то яхтклуба и соседнюю кирку под наблюдательный пункт. Метрах в трехстах, не более, вверх по реке скалами из бетона и ребрами железных ферм торчали из воды руины взорванного моста. От этого широкого, построенного на века городского моста остался один пролет у противоположного берега, да и тот держался на сильно покалеченном быке. И однако какой-то умник командир не нашел лучше места, чтоб расположить взвод батареи МЗА — поставил его на этом пролете. Три «сорокапятки» своими опущенными книзу длинными тонкими дулами нюхали речную прохладу. Над ними были растянуты камуфляжные сетки. Но все равно взвод как на ладони. Издалека можно было пересчитать всю прислугу, которая на три четверти состояла из девчат. На берег, где разместился КП их дивизиона, долетали звонкие голоса, смех. А немного пониже КП над рекой возвышались нетронутые фермы железнодорожного моста. Там непрерывно гремели проходящие эшелоны. Оказавшись на берегу, Петро, всего-навсего старшина по званию, комсорг дивизиона, мигом оценил обстановку, выражаясь военным языком. Немцы огрызаются с воздуха уже редко. Однако все же огрызаются. И если они налетят на этот городок, то, конечно, главная их цель — железнодорожный мост. Петро знал, как нелегко попасть в мост. Откуда бы они ни заходили, со стороны железнодорожного полотна или по реке, будет перелет или недолет, бомбы лягут справа или слева. Но он был свидетелем не одного случая, когда эти «шальные бомбы» находили совсем неожиданную цель. Короче говоря, его обеспокоила судьба девичьего взвода. Командир МЗА, погнавшись за наилучшими «углами обзора», поставил своих людей на верную гибель. Даже если не будет прямого попадания, близкий разрыв разрушит и так перекошенный бык и люди окажутся в воде. Да просто взрывная волна — разрыв бомбы на площади перед мостом — может смести людей в бурливый весенний поток. А сколько из них умеет как следует плавать? Если б на мосту были одни мужчины, может быть, он не так бы тревожился. Где на войне не подстерегает опасность? Но у него было твердое убеждение, что не женское это дело — воевать. Беда заставила. Однако же можно расположить этих солдат в юбках в таком месте, где в случае чего будет меньше жертв. А тем более сейчас, когда уже ясно виден конец бойни. Петро пошел к командиру своего дивизиона, капитану Криворотько. — Товарищ капитан, у нас уже есть связь с соседями? — С этими, с ПВО? — Фронтовики, даже зенитчики, относились к войскам тыловой противовоздушной обороны с некоторым пренебрежением и иронией. — Скоро будет. Тянут связисты. — Позвоните вы им, скажите, что батарея на мосту поставлена под первую бомбу. Чем они там думают? Капитан из окна второго этажа посмотрел на злосчастный мост, покачал головой, усмехнулся в свои запорожские усы. — Да, какой-то дурак выставил, как блоху на пуп. Шуганет — что корова языком слизала. — И, большой любитель поговорить о женщинах, о любовных делах, зная идеалистические взгляды Петра на сей предмет, командир зажмурился, как кот, и чертики запрыгали у него в глазах. — Хлопочешь о девушках, старшина? Хватит их на нашу долю. Глядишь, после войны по три на одного будет. Попросят Калинина принять закон о полигамии, — капитан любил умные слова, — не оберемся тогда хлопот! Заклюют они нас. — Он рассмеялся, но, должно быть почувствовав, что Петру не до шуток, серьезно пообещал: — Ладно, комсорг. Позвоню. Тогда Петро поверил: позвонит. Криворотько — инженер, интеллигент, умный и чуткий командир. Когда произошло несчастье, усомнился: звонил ли? Теперь, особенно почему-то сегодня, после разговора с Панасом, думал: нет, не звонил. Наверное, рассудил: на кой черт ему лезть в дела абсолютно суверенного соседа, да еще когда там командир выше по званию? А сам он, Петро, разве проявил настойчивость? Мог бы сказать заместителю по политчасти, начальнику штаба. Нет. Увидел, возмутился, встревожился и хотя не забыл — батарея все время была перед глазами, но покорился суровости и непреложности армейского закона: стоящий ниже по чину и званию не имеет права вмешиваться в приказы и распоряжения старшего. Молчи и выполняй. Трагедия произошла дня через четыре. Немцы налетели под вечер такого же ясного, по-деревенски пригожего дня; там, в Германии, уже распускались деревья, зеленела трава. Шестерка «юнкерсов» зашла с востока по реке. Вместе с бомбами они сбрасывали плавучие мины, взрывы гремели еще долго после того, как самолеты, рассыпавшись в разные стороны, ушли или, может быть, были сбиты нашими истребителями, которые тут же, через минуту, поднялись в воздух. Никто потом точно не мог установить: то ли от бомбы — их взорвалось немало, то ли попала мина, то ли — были и такие догадки — в быке находился заложенный немецкий заряд, который взорвался от детонации, — но с командного пункта дивизиона всем было видно, как вдруг бык осел, будто провалился сквозь речное дно, и вся тысячетонная громада железобетонного пролета с легкостью деревянного мостка, резко наклонившись, скользнула в воду. На том берегу было пусто, спасать людей некому. Стояла какая-то тыловая часть, но воздушная тревога всех загнала в щели. Сквозь взрывы бомб и вой пикировщиков долетели полные ужаса женские крики. Над вспененной взрывами водой мелькали головы, руки. Сжатая бетоном река гнала весенний поток с бешеной быстротой. Всех, кто мог удержаться на поверхности, но не в силах был одолеть течение, сразу вынесло на середину. Кое-кто успел схватиться за торчащие из воды перила моста, подплыть к своему, ближнему, берегу. Капитан Криворотько, не обращая внимания на девушек-связисток, помянул всех святых и грешных и всех дураков. Увидел Петра — со злостью крикнул ему: — Напророчил, комсорг… душу твою мать! — как будто Петро был виноват в том, что произошло. И тут же скомандовал всем, кто был на КП, солдатам и офицерам: — Кто плавает — все в воду! Спасать людей! Бондарь! В лодку. Страховать и подбирать. Потонет свой — голову сниму! Звони соседу. Передай, что ему прачечной командовать, а не полком! Обалдуй! Человек десять выскочили на набережную, сбрасывая на ходу сапоги, гимнастерки. Петро был среди них. Увидел, как мимо река пронесла двух девушек. Они оказались почему-то далеко впереди остальных. Одна плыла тихо, отдавшись, очевидно, на волю течения, чтоб сберечь силы. Другая не переставая кричала «спасите!», махала руками. Петро швырнул на выбитую танками мостовую сапог, другой, гимнастерку… Надо обогнать и плыть наперерез! Следом за ним еще кто-то бежал. Звонкий девичий голос позади крикнул: — Плывем, комсорг! Тонут! На парапете набережной стояла в одних голубых трусах и бюстгальтере их радистка Леокадия Аничкина, девушка шумная, неугомонная, доставлявшая командирам немало хлопот. — Я — ту, что дает нырца! А ты бери эту, тихую! — скомандовала она и бросилась первая. Пошла размашистыми саженками, легко преодолевая течение. Видно было, что девушка эта выросла на воде. Петро не умел так плавать. Но не менее решительно кинулся наперерез «тихой». Ледяная вода обожгла тело. Крикнул: — Плыви ко мне! Ко мне! Но она как будто не слышала, — возможно, ее оглушило взрывом — и не шевельнула даже рукой, чтобы приблизиться к своему спасителю. Течение относило ее в сторону. И Петро выбился из сил, покуда догнал ее. Однако, как только подплыл, девушка, как говорится, мертвой хваткой вцепилась в его правую руку, сковала движения, начала тонуть и его потащила на дно. Петро хлебнул воды, но вытянул девушку на поверхность. Она открытым ртом хватала воздух: «Хе-эх, хе-эх!» — Отпусти мою руку, пусти руку! — закричал ей в лицо Петро. — И плыви спокойно. Ты же умеешь плавать. Не бойся! Я буду поддерживать. — Я тону, братик, — прошептала она посиневшими губами. В глазах ее не было ужаса, который Петро не раз видел за время войны, нет, в глазах ее была смертная тоска и усталость. Он понял: человек примирился со смертью, готов на тот свет, потому потерял волю к борьбе и последние силы. Это — как шок. Видел он такие случаи, когда был в партизанах. Потому она и не кричала, не просила помощи. Безвольно, умея немного плавать, держалась на воде. Петра испугала такая обреченность. Потонет она и его утопит! Пройти всю войну, сквозь огонь и воду — и так погибнуть… Штаны, которые он не успел, дурак, сбросить, стали тяжелыми, какжелезные гири. У Аничкиной, наверно, был опыт, если разделась почти догола. Неужто никого больше нет поблизости? Где Бондарь с лодкой? Нет, кричать нельзя! И он стал просить, умолять: — Сестричка, родная, милая, славная моя. Одну минуточку продержись, одну… Одну… Сейчас подойдет лодка!.. Подхватил девушку под мышки и ногой коснулся ее сапога. Это испугало еще больше: сапоги тянут ее ко дну! Да, как это он забыл, что она в сапогах? Если б сбросить! Попробовал сделать это ногой, и они снова погрузились, снова хлебнули воды. Петро чувствовал, как распухает сердце, заполняет всю грудь, живот, рвется из горла, стучит в голове. Конец! Закричал так, чтоб услышали на берегу: — Держись! Плыви! — и выругал ту, которую только что называл «сестричкой», «родной», гадким словом… Вспомнил, что слышал или читал где-то — полезно бывает обессилевшему утопающему причинить боль. Сквозь мокрую гимнастерку сильно укусил девушку в плечо. Она охнула. Это подбодрило Петра. Да и ее, кажется, встряхнуло. Но еще живительнее подействовал близкий взрыв. У правого берега взорвалась мина. Их обдало брызгами, подбросило на волне. После этого она начала загребать руками. Стала бороться. Приближался железнодорожный мост. У Петра появилась надежда: может быть, удастся ухватиться за выступ быка и продержаться, пока не подойдет лодка. Но еще раньше они наскочили на что-то железное, потом говорили — на затопленный катер. Ему поранило ноги и живот. Но он успел ухватиться рукой за какой-то прут. Течение завертело их. Еще сильнее обдирало живот острое железо. Он крикнул девушке: — Держись за меня! Очевидно, почуяв спасение, девушка так вцепилась в него, что потом остались от ее пальцев синяки. Тут подошла резиновая лодка, которую спустили тыловики. В лодке Петру стало дурно. То ли сдало сердце, то ли оттого, что увидел кровь, — она заливала живот и ноги. К крови он никак привыкнуть не мог: в партизанах однажды, когда пришлось перевязывать раненых, он тоже хлопнулся в обморок. Вернулось сознание — и он увидел над собой знакомое лицо. Его перевязывала Тоня Ромашева. Убедившись, что не бредит, спросил: — Ты? — Я, я. Удивляешься? Вот где встретились! Это наш полк. Петра это не удивило, не обрадовало. — Кто командует вашим полком? Она назвала незнакомую фамилию. Значит, не Купанов. Не хотелось услышать, что в полку Купанова так нелепо выставляют людей на смерть. — Сколько погибло? — Не знаю. На другой день Тоня пришла к нему в госпиталь. Физически Петро был здоров. Но им владела какая-то душевная депрессия: не хотелось ни подниматься с постели, ни есть, ни говорить с соседями, ни даже думать. Поэтому и к ее посещению он поначалу отнесся равнодушно. — А-а, ты? Она заметила это равнодушие и растерялась. — Я тебе меду принесла. Настоящий, натуральный. Не эрзац. Хлопцы из улья взяли. — Сколько погибло? — Девять, — она вздохнула. — Девушки? — Один мужчина. Командир взвода. — Как… та, что… — он хотел сказать «что я спас», но осекся: Лена Аничкина вытащила свою сразу, а он, мужчина, не осилил, чуть сам не утонул вместе с ней. — Ничего. Лежит у нас в санчасти. Молчит только, как немая. Напугалась. Переживает… — Молчит? Петро подумал, что у нее, верно, такое же душевное состояние, как и у него, и ему стала близка эта девушка, точно сестра. Вспомнил, как просил ее: «Сестричка, родная, славная моя…» Но странно — никак не мог вспомнить ее лица — какая она? — и мучился от этого. — У них была любовь с командиром взвода. Его перед этим на партсобрании разбирали. Петро задохнулся, чудно как-то хекнул, резко поднялся. Безразличие, депрессию смыло волной возмущения. Захотелось ударить Тоню за то, что она вот так — холодно, спокойно, равнодушно — сообщает: «У них была любовь…» Но он сдержался и снова упал на подушку, закрыл лицо руками. И вдруг с необычайной ясностью увидел мокрое лицо девушки со смертной тоской в глазах. «У них была любовь! У них могла быть жизнь и счастье! Жизнь и счастье! Что они полюбили друг друга — в этом увидели крамолу! А что поставили их на верную смерть — никто не увидел?» — Это батарея моего мужа — твоего земляка и товарища по учебе Степана Кидалы… «Что? Что она говорит?» Петро отнял руки от глаз. Тоня улыбалась, должно быть довольная эффектом, который произвели ее слова. — Степан — твой муж? Она вздохнула. — Теперь у него опять, наверное, будут неприятности. — Неприятности? — прошептал Петро и тут же сорвался — закричал на весь госпиталь: — Да его, гада, судить надо! Расстрелять подлюгу! Сам он небось не стал на этот мост! Вынес бы туда свой КП!.. На его крик обернулись все раненые, прибежала сестра. — Ты что шумишь? Оскорбленная за мужа, Тоня поднялась с табурета, сказала, криво улыбаясь: — А ты стал страшен. Раньше мог только ударить. А теперь хочешь стрелять. Как бы в себя не угодил!..Такова была их последняя встреча. Почему он не рассказал о ней Саше? Рассказывал же, как спас девушку, даже слегка хвастал: во, мол, какой я герой! А про Тоню — умолчал. Как теперь заставить Сашу поверить? Со злобой подумал о Кидале: живет, служит, гад! И ничего с таким не делается. Погиб Сеня из-за него — понизили в звании. Да, видать, ненадолго. Такой вывернется, покажет себя. При случае и бомбу вынесет на плечах с позиции. А все равно остается подлецом. Даже жена его наконец поняла это. «Теперь я часто думаю и говорю ему: не зря он дал тебе по морде. И слова твои вспоминаю, тогда, в госпитале…» А ведь оскорбилась! Вот как! Через год дошло… «Не сладко тебе, Антонина Васильевна, коли ты вспомнила обо мне, письмо написала, о своей беде решила рассказать. Я понимаю тебя. И по-человечески сочувствую. Но чем я могу помочь?.. А мне кто поможет? Зачем люди сами усложняют себе жизнь?..» Неизвестно, сколько времени он так просидел. Который час? Он не решился чиркнуть спичкой, чтоб взглянуть на будильник, глухо тикавший в углу на столе, за книгами. Болит голова. Может, выйти и постоять на дворе, подышать ночной прохладой? Саша, наверно, уснула. Но вдруг он услышал, нет, не услышал — почувствовал, что Саша плачет. Саша плачет! Как резануло это по сердцу! Не он ли когда-то дал себе клятву, что из-за него Саша не уронит ни единой слезинки? Петро бросился к кровати, упал на колени, провел рукой по ее волосам, по щеке. Щека мокрая. Саша отвернулась. Он припал губами к ее плечу. — Саша, Сашенька!.. Глупенькая… Ну, чего ты? Ну что случилось? Нельзя же так! Я люблю тебя, люблю, родная моя. А все это чепуха… Слабость моя… Вот за это казни меня, что я усомнился, побоялся — не поймешь ты, не поверишь… А ты — умная, ты — добрая. И ты веришь мне… Скажи — веришь? Ну, почему ты молчишь? Ну, закричи, ну, ударь! Выгони вон, если считаешь, что я негодяй. Только не молчи. Ну нельзя же так, нельзя! Я жалел тебя и потому не рассказал, что встретился с ней, с этой Тоней. Но как встретился!.. Ты послушай, я все расскажу… Все. — И так, стоя на коленях, целуя плечо жены, шею, задыхаясь от волнения, он рассказывал еще раз эпизод со взводом МЗА, со спасением девушки, но на этот раз уже все до конца — встречу с Тоней, короткий разговор с ней, все как было — так, как только что, сидя в темноте, вспоминал. Саша молчала. Не шевельнулась даже. — Ну, почему ты молчишь? Скажи — веришь, что я рассказал правду? Она молчала. — Не веришь? — И, как мальчонке, которого наказали за чужую вину, Петру стало жалко себя. — Не веришь, значит? Заворочалась Ленка, позвала маму. Саша поправила на ней одеяло: — Спи, моя маленькая, спи. — И сказала ему спокойным голосом, будто ничего и не произошло: — Разбудишь ребенка. Ложись спать.
И снова ему снился мост. Мост был почти готов — высокий, длинный. Не хватало одного пролета, у того, крутого днепровского берега. Огромный плавучий кран нес готовую ферму — основу последнего пролета. Он, Петро, стоял на быке так высоко, что кружилась голова, если глянуть вниз, где бурлила, пенилась река. Он махал руками, показывая крановщику, как лучше подвести и уложить ферму. Крановщик — Панас Громыка, он скалит зубы, они издалека блестят на его цыганском лице. Чему смеется? Не верит, что Петро все-таки достроит свой мост? Но вот Панас что-то крикнул, показывает рукой вверх. Петро поднял голову и увидел, что ферма медленно опускается на него. Но не испугался. Испугало другое: этот сумасшедший Громыка вылез на длинную стрелу крана и бежит по ней над бездной. Зачем? Хочет спасти Петра? Но ведь ему ничто не угрожает. Сорвется. Вот-вот сорвется. У Петра замерло сердце. Панас сорвался. Плюхнулся в воду так, что брызги долетели до Петра. А ведь вон какая высота! Надо спасать! Но никак не стащить с ноги тесный сапог. Петро бросается в сапогах. А в воде вместо Громыки — Тоня. Она кричит громко и весело: «Спасите!» А когда Петро подплыл, сказала: «Это твой земляк и дружок Степан Кидала столкнул меня». Петро разозлился: «Бешеная собака ему дружок, твоему Степану. Я еще не рассчитался с ним за Сеню Песоцкого». «Спаси меня — и я стану твоей женой». «Чего ты мелешь? У меня есть жена!» Какой-то провал, и вместо Тони — Саша. Она крепко обхватила его за шею. А вода с бешеной скоростью, вертясь, бурля, несла их на мост. «Петя, Петя, я тону. Я тону!» — со смертной тоской в глазах шептала Саша посиневшими губами. И тогда ему стало жутко. Он закричал, взывая о помощи. Наконец схватился одной рукой за выступ быка, другой поддерживая Сашу. А вода напирала. Он кричал, молил: «Держись, Сашок! Держись, родная моя!» Вода кружила, и он ударялся головой о кирпич и все просил жену продержаться еще хоть минуточку. — Петя! Петя! Что с тобой? Проснись! Не сразу понял, что это Саша будит его, трясет за плечи. — О боже! Что тебе снилось? Напугал: думала — голову о печь разобьешь. Он спал на узкой лежанке. Придя наконец в себя, осознав, что весь кошмар с рекой — сон, а Саша — вот она, живая, в белой сорочке стоит в утреннем полумраке перед ним, Петро порывисто обнял жену, притянул к себе, но она, поцеловав его в лоб, высвободилась из объятий. — Спи. Еще рано. И не надо видеть дурных снов.
III
Шапетович любил шестой класс. У преподавателей это бывает: симпатия к какому-нибудь определенному классу. Большинство, правда, не может толком объяснить, почему именно они любят этот класс, а не другой. Петро же, пожалуй, мог бы ответить, за что он отдает предпочтение шестиклассникам, — за серьезность. А разве серьезность так уж привлекательна в детях? Класс и впрямь относился серьезно к занятиям, даже серьезнее, чем старшие — семиклассники. Хотя понятие «старшие» и «младшие» в первый послевоенный год не соответствовало возрасту учеников, а лишь классу, в котором они учились. По годам дети были очень разные и все — переростки. Но у некоторых война сорвала лишь два года учебы — осенью сорок третьего они снова пошли в советскую школу. Другие же не учились все четыре года: отцы на фронте, надо было помогать матерям. А местным властям было не до закона о всеобщем обучении. Так что в шестом классе оказались ребята, которые по годам должны были уже быть в десятом. Все педагоги мира утверждают, что переростки самые трудные ученики. Петро мог бы легко опровергнуть это утверждение. С этими переростками, отставшими из-за войны, заниматься было легко и просто. Он говорил с ними, как с равными, — так же, как, будучи комсоргом дивизиона, говорил с бойцами. И видел, что ученикам нравится такой тон. Нет, серьезность их не была привлекательной, она была тяжела, потому что напоминала о войне, о том, что пережили они, дети войны, и переживают до сих пор. Так что любил Петро ребят не за серьезность, а за то, что на своих слабых детских плечах они вынесли не меньше, чем он, чем отцы их и матери. А скорей всего его особое отношение к этому классу объясняется тем, что добрая половина его — как-то так подобралось — сироты, и у сирот этих был на диво мужественный и не по-детски трезвый, прямо-таки мудрый взгляд на жизнь. Историю древнего Египта и Греции ученики знали, мягко говоря, плохо — все выветрилось из головы. Но зато историю войны, которую они пережили сами, знали получше многих взрослых. Если б инспектор-формалист попал на некоторые из уроков Петра в этом шестом классе, то, вероятно, учительская карьера его тут же и кончилась бы. Нередко уроки истории превращались в общую дискуссию о войне, о жизни, в рассказы о фронте и партизанах. Учительницы, проводившие уроки в соседнем классе, не раз жаловались Пыльскому, директору, и тот смущенно и деликатно делал замечания: — Петро Андреевич, опять у вас в шестом было шумно. — Было, Казимир Павлович, было, — покорно соглашался Шапетович, к удивлению учительниц, которые обычно возражали против каждого замечания. Но потом они перестали удивляться. Петро сам однажды слышал разговор: «Ему что — партизан, фронтовик, секретарь, с Лялькевичем в одном отряде был… Кого и чего ему бояться?» Постепенно Петро заинтересовал своих учеников и историей Греции — тогда, когда сам с головой окунулся в институтский курс, познакомился с удивительными мифами и вообще увлекся этой довольно занимательной наукой. Но кроме истории пришлось ему вести еще один предмет. Все отказались от немецкого языка, и уроки эти, по решению педсовета, отдали ему. Петро сразу разгадал сговор учительниц: мол, история — что, историю любой сможет преподавать, особенно если хорошо подвешен язык, а вот посмотрим, как ты без педагогического образования будешь учить языку, да еще иностранному. Он, хотя и разгадал это, не стал спорить: язык так язык! Знаний у него было немногим больше, чем у его учеников, потому что учил он немецкий только когда-то в седьмом классе (в техникуме в то время иностранных языков не изучали). Но, будучи в Германии, он усвоил сотни две-три бытовых слов. Это обстоятельство и дало основание педсовету сделать его школьным «немцем». Правда, дети ни разу не назвали его так, а всегда, в том числе и перед уроками языка, кричали: «Историк идет!» Петра радовала их тактичность. К урокам истории он готовился с удовольствием и проводил их с подъемом, работа давала радость. Немецкий язык был мукой. В шестом «Б», к которому он испытывал особое расположение, Шапетович сразу и откровенно признался: — Знаю я немецкий язык немногим лучше, чем вы. Учиться будем вместе. Он ожидал увидеть скептические усмешки в ответ на свое признание. Нет. Ни одной ухмылочки — серьезность полная. Только вдруг поднялся с места Сергей Солодкий — бывший партизан, целый год в отряде пробыл, — и хриплым басом (голос ломался) спросил: — Петро Андреевич! А на черта нам этот язык? Петро растерялся. Он понимал ненависть детей, нет, не детей уже — юношей, девушек ко всему немецкому. Хорошо, что обязанности комсорга и любознательность заставили его там, в Германии, познакомиться немножко с историей страны (может быть, тогда и возникло у него намерение пойти на исторический факультет), с революционным движением, немножко с литературой — Гёте, Шиллер, Гейне, Генрих Манн. И он весь урок горячо, с увлечением, которое не могло не захватить учеников, рассказывал им о Германии, о культуре, которую создал немецкий народ. Словом, рассказывал так, что, кажется, даже себя самого убедил, во всяком случае увидел: ребята поняли, что фашизм — это одно, а народ есть народ и язык его надо уважать, как язык любого народа. Но когда он сделал паузу, Таня Низовец, самая тихая девочка в классе, отличница, робко, совсем по-детски потянула вверх руку. Получив разрешение, спросила: — Так почему же такой народ, как вы рассказываете, позволил Гитлеру хомут на себя надеть? Тогда зашумели и хлопцы: — Правда, почему? Почему? Не первый раз Петро слышал этот вопрос. Его задавали бойцы, когда он беседовал с ними. Да и сам он, еще там, в Мурманске, в начале войны ломал голову и спрашивал у Сени Песоцкого почти так же, как Таня, — почему? Кажется, только Сеня умел убедить. Он не помнит уже всех его объяснений, но и он и другие ребята в конце концов сдавались под напором Сениной логики и эрудиции. Умом он принимал все эти объяснения, а вот сердцем… Год назад, в Германии, когда вслед за статьей Эренбурга появилась статья Александрова, перед офицерами их дивизии выступал полковник из Москвы, из Политической академии. Говорил с таким же увлечением и убедительностью, как и он со своими учениками. Но потом поднялся командир дивизиона «катюш» майор Яшенков и, заикаясь от волнения, спросил: — Что же выходит, товарищ полковник? Выходит, в том, что семью мою… мать-старуху, жену, маленьких детей… Ваню и Лешу… живыми… живыми!.. сожгли… значит, выходит, виноваты в этом только Гитлер и его окружение? А если бы я сегодня пошел да вот так же их детей?.. Кого бы обвинили? Но я не пойду! Я — человек! — крикнул майор осипшим от команд голосом. Полковник растерялся почти так же, как сейчас Петро. Сказал: — Я понимаю вас, товарищ майор, горе ваше, боль. Но именно потому, что мы человеки, как вы сказали, люди, гуманисты, мы никогда не перенесем нашу ненависть на весь немецкий народ. С этим общим положением офицеры тогда согласились, даже, очевидно, и Яшенков, потому что промолчал. Но ведь то офицеры. А тут — дети. Как им все это растолковать? Тут одного урока, одной беседы будет мало. И одного года, пожалуй, не хватит.Урока не знали. Никто. Как сговорились. Одни выходили к доске, крошили мел, мяли тряпку, мекали и бекали. Из каких-нибудь двух десятков слов, которые надо было выучить, хорошо, если вспоминали два-три, да и то только после подсказки товарищей. Другие отказывались с места: — Не мог достать книжки, Петро Андреевич. Учебников действительно не хватало: на десять человек — один, довоенного издания. — Матка корову послала пасти. — Какая пастьба! Травы еще и в помине нет! Что ты мне голову морочишь? Выручает товарища весь класс — хором поясняет: — Петро Андреевич! Уже все гоняют. В лозняки. Ветки да кору едят. Кормить же нечем. За Займищем весь осинник объели. Петру стало неловко. Что это он усомнился: «Какая пастьба?» Будто с неба упал. Он было разозлился на свой любимый класс. Чуть не сорвался — не накричал. Уже дрожала рука, когда ставил в журнале непривычные при его мелком почерке крупные «2». Но после того, что услышал, — смягчился. Чтоб не мучить больше ни учеников, ни себя, вызвал к доске Таню Низовец. Таня — любимица всех преподавателей. Не было еще случая, чтоб она не знала урока. А немецкий — Петро это не раз проверял — готовила лучше, чем он сам, учитель. У него выучить все новые слова не хватало времени, а она знала весь словарь учебника и все грамматические правила. У девочки была завидная память. А с виду неприметная: и по годам моложе всех, потому что пропустила всего две зимы, и так — худенькая, щупленькая, на бледном заостренном личике одни большущие, всегда как бы удивленные глаза. Вначале у Петра было к ней двойственное отношение. Как-то он говорил с ребятами о вступлении в комсомол. Сперва — в классах, со всеми вместе, потом с лучшими — по отдельности, верный армейскому методу индивидуальной работы. Так вот, Таня во время беседы вдруг зарделась, как мак, опустила глаза и, показалось Петру, чуть не заплакала. — Что с тобой, Таня? — Меня не примут в комсомол, Петро Андреевич. — Почему? — У меня отец — враг народа. — Враг народа? — Да. Вам разве никто не говорил, что отец мой был директором нашей школы? И его арестовали. Перед войной еще… Шапетович не знал, как закончить разговор с девочкой. Потом расспросил про Низовца. И странно ему было и непонятно. Со студенческих лет ему вбивали в голову, что каждый враг народа — шпион, выродок, а тут крестьяне, особенно женщины, которые не так сдержанны, как мужчины, и непосредственнее выражают свои чувства, хвалили Антона Петровича: «Золотой был человек, к каждому сердцу дорожку знал. И к малому и к большому». — За что же его арестовали? — А кто знает, за что… Разве его одного! Громыка ответил на вопрос Петра о причине ареста коротко: — С писателем каким-то долго переписывался, в гости к себе приглашал. С Головачом или Чаротом, не помню уже. На черта ему сдалась эта переписка? — Прозвучало это так: по глупости своей попал в беду. «Неужто не могли разобраться, что не виноват человек? — мучительно думал Петро. — Могли же спросить у людей, с которыми этот „враг“ прожил всю жизнь. Ведь здешний же он, местный». Позже узнал от председателя сельсовета Бобкова, что жена Низовца, мать Тани, целый год выпекала партизанам хлеб. Про нее никто из фашистских прислужников не мог подумать, что она помогает партизанам. — Однажды хлопцы пшеничную муку в гарнизоне забрали, — рассказывал Бобков. — И она нам таких булок напекла! Я сам приехал за этими булками. На рассвете. Достает последнюю выпечку прямо из печи. Горячие. Дух — на всю округу. Голова кружится. А дети проснулись — голодными глазами из запечья глядят, слюну глотают. «Ты что, спрашиваю, не дала им булки отведать?» — «Как же я дам чужую?» Во, брат, совесть! Святая Мария. С тех пор Шапетович еще больше полюбил Таню, и не только за то, что она первая ученица. Однако когда спросил у секретаря райкома Анисимова, можно ли Таню Низовец принять в комсомол, тот посмотрел на него как на чудака и с насмешкой спросил: — Тебе что — некого больше принимать? …Таня ответила урок как всегда без запинки — прочитала, просклоняла, построила предложение. — Вот как надо учить! Слышали, лодыри? — беззлобно попрекнул Петро ребят, подходя к шаткому некрашеному столику, чтоб поставить в журнале отметку. Он уже ставил ей «5+», хотя директор не раз замечал ему, что такой отметки не существует. Но вдруг что-то стукнуло у доски за его спиной. Класс вскочил. — Таня! Таня лежала на полу, бледная как смерть. Петро бросился к ней. — Таня! Танюшка! Что с тобой? — Нужно доктора! — крикнул кто-то из ребят. Да, доктора! Но не лежать же ей здесь, в классе, на полу, пока прибежит Саша! Медпункт в каких-нибудь пятидесяти метрах. Петро подхватил девочку на руки. Ребята бесшумно, чтоб не потревожить соседние классы, отворили перед ним дверь, и он быстро сбежал вниз со второго этажа. Саша увидела его в окно, выскочила навстречу. — Что с ней? — Упала у доски. — Ты накричал на нее? — Ну что ты! На Таню? Выскочили во двор работники сельсовета, в здании которого помещался фельдшерский пункт, и все следом за Петром и Сашей ввалились в крохотную комнатку. Таню уложили на кушетку. У Саши, всегда на диво спокойной и уверенной, дрожали руки, когда она расстегивала на Тане кофточку, открывала стерилизатор, брала шприц. Потом Саша рассердилась, резко прикрикнула на любопытных: — Что вам здесь нужно? Ступайте отсюда! — хотя были здесь все свои люди, с которыми она рядом работала, а с некоторыми даже дружила. Как ветром сдуло всех, кроме «хозяев» — председателя сельсовета и секретаря. Бобков взволнованно кружил по комнате, потирал правой рукой левую — контуженную, на которой постоянно носил шерстяную перчатку, и давал Саше советы, как показалось Петру — довольно дельные. За время длительного лежания в госпиталях Иван Демидович приобрел немало медицинских познаний. Секретарь сельсовета Халимон Копыл, хромой старик, стоял у двери, опершись на свою толстую можжевеловую палку, и все повторял одну фразу: — Всем война порвала нервы — и старым, и малым. Всем. Здоровье — от нервов. Но лицо его оставалось неподвижным — ни волнения, ни тревоги за жизнь девочки. Можно было подумать, что люди каждый день теряют сознание и он давно уже привык к этому: его, как могильщика, ничто уже не трогает — ни смерть, ни горе и слезы близких. На его лице, казалось, когда-то давно хаотически смешались и навсегда застыли совершенно разные черты и чувства: аскетизм — во впалых и всегда небритых щеках; сытость, плотоядность — в губах, толстых, розовых, жирных; доброта — в складках рта, в мягких линиях подбородка и почти враждебность — в маленьких, глубоко посаженных глазках под карнизом мохнатых бровей. Саша почему-то не любила этого человека, и ее неприязнь к Копылу постепенно передавалась Петру, хотя он и противился этому: вместе работать, вместе жить, и нельзя на том основании, что тебе не понравились нос или борода, плохо относиться к человеку. Таня пришла в себя до укола. Открыла глаза, поняла, где находится, испуганно охнула, попыталась подняться. Саша удержала ее. Присев к ней на кушетку и считая пульс, ласково спросила: — Ты ела сегодня, Таня? — Ела, — прошептала девочка. — Что ты ела? Она ответила не сразу: — Драники. — Из той картошки, что насобирали в поле? Таня не ответила. — Всем война порвала нервы… — Что ты дудишь про свои нервы! — разозлился Бобков. — Кто тебе рвал их, твои нервы! Сидел у женкиной юбки. Саша сказала с суровым укором: — Подумали бы, как детей накормить. Руководители! Болтуны несчастные! Петро остолбенел: никогда он не видел Сашу такой на людях. При школьнице!.. Бобков обиделся, «взвился» — закричал: — Александра Федоровна! Вы мне таких слов не бросайте! У меня у самого сердце горит! Но где взять, скажите? Где? Копыл как-то по-бабьи покачал головой. — Всем война… — начал он, но осекся. — Саша! Ты что?! — попенял жене и Петро. — Мы такого упрека не заслужили. Ты лучше, чем кто другой, понимаешь. Да, она понимала все. Слова эти вырвались от горечи и боли. Петро видел, что ей уже совестно. Но Саша не стала извиняться. Сказала почти так же сурово: — А вы не лезьте под руку, когда человек работает! — и чуть смягчила сказанное: — Мало ли что с языка сорвется! Во время этого разговора она набрала в шприц из ампулы лекарство и ввела Тане в руку. Девочка испуганно ойкнула. Через минуту на лбу у нее густо выступил пот. — Ну как ты, Танюша? — спросила Саша. — Голова кружится. — Полежи немножко, потом пойдем — накормлю тебя. — Я не хочу, — смутилась Таня. — Ну, ну, не выдумывай, до дому не дойдешь. На чем я тебя повезу? — Идти ей надо было в соседнюю деревню, километра три. Саша говорила так, будто в медпункте никого, кроме нее, не было. И вообще делала вид, что все они — муж, Бобков, Копыл — не существуют для нее, когда она занята делом. Они растерянно потоптались у двери, не зная, как наиболее благовидно, с честью, покинуть «поле боя». По одному шмыгнули в коридор. Но у себя в кабинете Бобков еще долго кипятился: — Ты ей скажи, Петро Андреевич. Мы ее уважаем… Но… Пусть не распускает язык… — Вот и скажи ей сам. — Петро знал, что ничего Бобков ей не скажет, потому что боится Саши. Она хотя и мягко, как бы шутя, но, однако, чувствительно, как никто другой, устраивала ему проборку за некоторые его слабости. Петро гордился женой: вон она какая — не смолчит, когда речь идет о правде. Сейчас ему это «болтуны несчастные!» казалось уже не обидным, а смешным, и он забавлялся про себя, слушая приглушенное «кипенье» Бобкова. Пускай старик выпустит пары. Петро испугался, когда Таня упала, и теперь успокоился, увидев, что она пришла в себя. С юмором он выслушивал жалобы Бобкова и осторожное — не задеть парторга и угодить председателю — поддакивание Копыла: — От нервов все… А у кого они сейчас в порядке, нервы?.. Отозвался на копыловские рассуждения: — Нервы, как сталь, они закаляются в невзгодах, — и ушел в школу. Но в классе им вдруг овладела тоска, душевное беспокойство. Почему — не мог понять. Ничего ведь особенного не случилось. Разве это для него новость, что дети недоедают? Почти все. Однако как ни старался успокоить себя, урок истории в седьмом классе не клеился — рассказывал он о походах Трояна скучно, неинтересно, сбивчиво. Ребята заметили, что историк не в обычном настроении, и сидели настороженно, тихо, как это редко бывало. Когда попробовал проверить, как усвоили новый материал, никто из учеников не мог толком повторить то, что он рассказывал. Петра это еще больше расстроило. Нет, он не сердился. Наоборот, как-то все больше стихал, уходил в себя, подолгу сидел задумавшись. Однако, когда в дверях неожиданно показалась почтарка Надя, рыжая застенчивая девушка, и, краснея, таинственным голосом сказала: — Петро Андреевич, вас вызывают. Уполномоченные. Шапетович сразу встрепенулся. У него непроизвольно вырвалось: — Пошли их к черту, Надя! — Ой! — вскрикнула испуганно девушка и захлопнула дверь. Класс весело загудел. Петро подбежал к двери и закричал в коридор вслед посыльной: — Скажи, что у меня урок! А урок никто не имеет права срывать! Сам господь бог! Нарком! Министр! Хлопцы-переростки не просто шумели — выли от восторга. Тогда Петро повернулся к ним: — А вы что загрохотали, как колесница Трояна? Зубарев, повтори то, что я рассказал! На задней парте поднялся парень на голову выше учителя, и стал совсем неплохо рассказывать о попытке одного из последних императоров возродить былую славу и величие Римской империи. Шапетович видел, что Зубарев бесцеремонно заглядывает в учебник, который ему подсунули дружки, но молчал: школьник проделывал это умело и ловко — с одного взгляда улавливал суть. Кроме того, Петро уже знал из своего небогатого опыта, что иной раз по рассказу товарища ученики усваивают материал лучше, чем со слов преподавателя. Вскоре увидел через окно: к школе ковыляет Копыл. Понял: зря он кипятился, с урока его все равно сорвут, как это уже не однажды бывало. И стало гадко на душе. Сказал ребятам: — Видно, приехал начальник выше и бога, и министра. Вон уже Копыл ковыляет по мою душу. Почитайте сами. Костя! Головой отвечаешь за порядок в классе. Если Мария Антоновна пожалуется, что вы шумели, — пеняйте на себя. Секретарь сельсовета, увидев Петра, укоризненно покачал головой: мол, как же это вы так неосторожно? И так же таинственно, как Надя, сообщил: — Сам Булат. Будет уполномоченным на всю посевную. Фамилия начальника райотдела МВД была Булатов. «Булат» — Петро услышал впервые, удивился и не мог понять, почему у старика такие испуганные глаза. Бывают же у них секретари райкома, однажды заглянул секретарь обкома. Заезжал нарком земледелия. Что ж его так испугал Булатов? Петро знал этого человека. Знал? Точнее сказать, видел много раз. Капитан всегда сидел в президиумах пленумов, активов, на заседаниях бюро райкома и… всегда молчал — ни разу не выступил по вопросам, обсуждавшимся коммунистами района.
В кабинете Бобкова собрался уже почти весь актив: Панас Громыка, Саша Грошик — бригадир колхоза, заведующая избой-читальней Катя Примакова — активистка военного времени: пока мужчины воевали, она перебывала на всех должностях; Панас сменил ее на должности председателя колхоза. Петро шел с намерением сказать уполномоченному, что срывать преподавателя с урока нельзя, что секретарь райкома Владимир Иванович Лялькевич никогда этого себе не позволяет. Но, войдя, смутился, даже вроде струсил. Разозлился на себя: откуда она, эта нелепая боязнь? Из армии, что ли, страх перед начальством? Да нет же! К своему командиру, Криворотько, хотя тот бывал подчас довольно крут, он, Петро, всегда входил не только смело, но даже с удовольствием: командир дивизиона был интересен ему в любых проявлениях своего характера — и добрый и злой, и задумчивый и насмешливый… Петро сказал, обращаясь ко всем, как привык, входя в класс: — Здравствуйте. Бобков отрекомендовал: — Секретарь наш, товарищ Шапетович. — Знаю, — сказал Булатов. У него странный голос — тихий, тонкий, какой-то не то бабий, не то детский. Петро подумал: не потому ли этот человек не выступает публично? Голос никак не подходил к его внешности — высокий брюнет, с чистым, как у девушки, словно ни разу не тронутым бритвой, красивым холеным лицом. Булатов сидел за столом председателя, застланным красной скатертью, так безжалостно испятнанной фиолетовыми чернилами, что красными на ней остались лишь свисающие края. Он и тут молчал, разглядывал присутствующих, казалось, безразлично, как бы скучая, но на деле, как приметил Петро, довольно пристально. Говорил заведующий райфинотделом Рабинович — распекал Бобкова и Громыку за то, что колхозы не начали еще сева. — Послушайте, у вас же пески. На вас же была надежда, а вы подводите весь район. Кто даст процент, если не вы? — Завтра выйдем в поле, — пообещал Бобков. — Рано. Земля холодная, — подал голос Громыка. — Товарищ Громыка! Ты ее щупал? Холодная, горячая… — Щупал. Копал. Мерзлота. Мой дед когда-то скидал штаны и садился на землю. Так проверял, можно ли сеять… — Слушай, Громыка, тебе таки скинут штаны. Я не хочу тебя пугать, но я хорошо знаю, кому их скидывают. Смотри, — погрозил Рабинович пальцем. — Абрам Наумович, не пугай бабу, как говорится… Ты сеял когда-нибудь? — с усмешечкой спросил председатель колхоза. — Что ты меня спрашиваешь? Что ты меня спрашиваешь? На что ты намекаешь? Я, может, больше тебя сеял. А ты мне тут про дедовы штаны рассказываешь. Дедовскими методами действуешь, товарищ Громыка! Вот о чем подумай! — Да сказал я, что завтра все выедут в поле. Выедем, Панас Остапович? — И Бобков, который ходил по кабинету и тер свою руку, лукаво подмигнул: обещай, мол, пускай отвяжется. Петро заметил, что Булатов поймал это подмигивание. Ожидал, что сейчас он вмешается в довольно уже шумный разговор, но неожиданно не только для него, а, наверное, для всех бабий голос спросил совсем о другом: — Шапетович! Какой вы урок давали? Все мигом умолкли. — Истории, в седьмом. — Что проходите? — Трояна. — Что? — Римская империя при императоре Трояне. — Угу, — капитан задумался, будто вспоминал историю, которую учил когда-то давно. Все ожидали, что после этих формальных — для знакомства — вопросов будет продолжен разговор о севе. Но Булатов спросил хотя и детским голосом, однако важно, как экзаменатор: — Чем прославился Троян? И Петро ответил, как школьник, только что не встал (потом вспоминал этот школьнический ответ и краснел от стыда): — Он сделал, по сути, последнюю попытку возродить былое величие империи. Совершал походы, завоевывал земли… — Агрессор, значит, был? — Агрессор. — Хватало их в истории, гитлеров этих, — вставил Бобков. — Троянский конь — его? — спросил Булатов. Петро понял, что капитан в истории, как говорится, ни уха ни рыла. Вот тут бы и обнаружить его невежество перед всеми. Так нет же, не хватило духу, не отважился — почему-то подтвердил явную чушь: — Его. Булатов удовлетворенно улыбнулся: показал присутствующим, что он знает историю не хуже их секретаря, у которого хватило нахальства не сразу явиться по вызову районных уполномоченных. Зевнул, вернулся к делу — сказал Рабиновичу: — Ладно, запиши, что завтра все колхозы выедут в поле. Сколько плугов? Бобков растерялся. Громыка ответил: — У меня — восемь. — Почему только восемь? — В колхозе семнадцать лошадей. — Ну, так сколько ты можешь запрячь? — взъелся маленький подвижный Рабинович, демонстрируя положенную уполномоченному активность. У Панаса побелели зрачки и надулись на шее вены. — Восемь, — сжав зубы, сказал так, что Булатов резко поднял голову, пристально посмотрел на него. — За лошадей отвечаю я! Если они подохнут… — И уже спокойно объяснил: — До войны не такие лошади были, и то пахали на паре. А теперь земли заросли. Булатов понял и перевел взгляд на окно, снова, как бы выключившись из разговора о деле, предоставив полную свободу заведующему райфо. Бобков красным карандашом на газете делал подсчеты и рапортовал: — «Ударник» — восемь, «Просвещение» — двадцать два, «Ворошилов» — тридцать восемь, «Красные пески» — одиннадцать… Рабинович заносил эти цифры в какую-то квитанционную книжку. Петро знал, что не выедут все эти колхозы завтра в поле, а если кто и выедет, то столько плугов, сколько называет Иван Демидович, нигде не будет. В том же колхозе имени Ворошилова (он считается самым богатым) всего сорок пять лошадей. А главное — земли его, заречные, пойменные, лучшие в этой зоне, еще, по сути, все под водой — коней потопишь. Из этого колхоза дети в школу не ходят из-за паводка. Только на лодке туда можно добраться. С потолка берет Бобков цифры. Даже плугов столько нет. У него, секретаря, все точно записано. С неделю назад на партсобрании говорили об этом, и коммунисты высказывались откровенно, без дипломатии. Люди по-хозяйски думали, рассуждали, как наладить работу так, чтоб посеять больше и лучшие сорта. Какого же черта Бобкову понадобилась эта липа? Подумал бы хоть, что все данные о тягловой силе и сельхозинвентаре есть и в райкоме и в райисполкоме. Толковые уполномоченные могли бы иметь и у себя. Подумал бы, что такими обещаниями ставит под удар всех — себя, председателей колхозов, парторганизацию: могут же проверить через несколько дней. Что же тогда скажут о их партийной совести? Петро уже раскрыл было рот, чтоб возразить Бобкову. Но что-то удержало его. Он уважал этого старого чудака и фантазера и знал, что в районе и так его часто клюют. А тут еще он выставит его обманщиком, лжецом перед этим… Булатовым? Не будет тогда доброго соседства (они живут в одном доме), дружбы, согласной работы. А ему хочется со всеми работать дружно. Очевидно, внутренняя борьба отразилась на его лице, потому что Примакова, эта нельзя сказать чтоб слишком проницательная женщина, придвинулась к Петру, толкнула коленом, прошептала: — Молчите, Андреевич. Громыка, сидевший напротив, тоже выразительно потер ладонью лицо, сделал этакое вращательное движение: пускай, мол, старик крутит — потом разберемся. Петру снова почудилось, что человек с детским голосом, который, казалось, скучал, заметил, понял и жест Громыки и шепот Кати. Сейчас он остановит Бобкова, поймает его на обмане. Любопытно было бы послушать, как он кричит, злится, этот Булатов. Остановил; сказал спокойно, почти безразлично: — С севом — ясно. Молоко! — Да, молоко! — сразу подхватил Рабинович, доставая из своей кирзовой сумки другие квитанционные книжки. — Товарищи дорогие, что вы себе думаете? Ай-ай-ай. Вам же на бюро головы снимут. Товарищ Бобков! Товарищ Шапетович! Вы же на последнем месте. Идет апрель, а у вас — шесть и три десятых процента… Шесть процентов! Что вы себе думаете?.. — Как шесть? Было одиннадцать, — схватился за свою сумку Бобков. — Какие одиннадцать? Какие одиннадцать? Вот вчерашняя сводка Маслопрома. Бобков, который так хитро и дипломатично вел разговор о севе, не сдержался: замахал руками, как подбитая птица, закричал, не глядя на уполномоченных: — Маслопром! Жулики там! Пром-прём, а куда прём, черт его знает! Полмесяца назад было одиннадцать, теперь — шесть. — Сколько вам лет, Бобков? — вдруг спросил Булатов спокойно и опять совсем некстати. Иван Демидович сразу увял. — Пятьдесят три. А что? Капитан не ответил. Шапетовича начал… нет, не злить, а как-то обижать, даже оскорблять весь этот разговор — шумное многословие Рабиновича, булатовская молчаливость и непонятные его вопросы. Все они — коммунисты. Почему же не подать хороший совет, не помочь? Кому нужна такая «накачка»? Неужто там не знают, как люди живут? Сколько этих коров, да и те остались чуть живы после зимы! Петро встал, решительно подошел к столу, постарался говорить как можно убедительнее, хотя это не очень получалось — волновался: — Товарищи, мы работаем для людей, чтоб им легче было, чтоб залечить раны войны… Короче говоря, мы должны знать, как живут люди. Какое сейчас молоко? Прутьями же кормят коров. За Займищем весь осинник объели… — И запнулся, заметив, как испытующе смотрит на него Булатов. Показалось, что тот сейчас спросит: «А вы видели этот осинник?» Про осинник сказали школьники, Петро и не помнил, какой там осинник за Займищем — большой, малый? Что за отвратительное ощущение! Как будто бы он боится этого капитана. А чего ему бояться? Однако никто еще так не гипнотизировал его, как этот знакомый и незнакомый человек с красивым лицом и детским голосом. — У вас приемник есть, Шапетович? Петро даже не сразу понял. — Что? — Радиоприемник. — Нет. — Вы не привезли себе из Германии радиоприемник? — Нет. — А что вы привезли? «Что ему сказать? Пушку привез, черт возьми! Немку привез. Что тебе еще нужно?» Но ответила Катя Примакова: — Книги, — и засмеялась. — Книги? — Да. Кто вез тряпки, а Андреевич — книги. — Какие книги? — Наши. Советские, — раздраженно ответил Петро. — Где вы их там взяли? Нет, от него так просто не отделаешься. Книга — вещь серьезная, и придется всерьез рассказывать правду. — В имении какого-то высокопоставленного фашиста мы нашли гору книг — три комнаты были завалены. Библиотека одного нашего института. — Какого? — Винницкого педагогического. Ну, я отобрал себе десятка два учебников… Знал, что у нас трудно с книгами, сожжено все… А хотелось скорей начать учиться… — Словом, вы присвоили книги института? Петро вспыхнул: — Вы были в Германии, товарищ капитан? Булатов не ответил. — Если были, то видели, что не до книг там было, когда война шла. Книги эти разбирал кто хотел — библиотеки частей, солдаты, девушки наши, которые в неволе были. Возможно, что все разобрали. А может быть, часть и теперь там лежит. Коли на то пошло, то я свои могу отослать в институт. Я чужого никогда не присваивал… — Так что ж будет с молоком? — так же внезапно Булатов вернулся к разговору, который сам же прервал. — Вырастет трава — пойдет молоко, — сказал Громыка. — Значит, рабочий класс, который восстанавливает города, заводы, должен сидеть и ждать, пока у вас вырастет трава? — закричал заведующий райфо. — Ну, а с чего ты его сейчас надоишь? — растягивая слова, медленно затаптывая ногой окурок, спросил Панас и вдруг матюкнулся: — Говоришь ты, Абрам, и как только у тебя язык поворачивается. Городишь хреновину. Ты же пятнадцать лет живешь в деревне. Больше. Я тебя помню еще в политотделе МТС. Тогда ты понимал колхозника, а стал финансистом… — Ему уже не нравятся финансисты. Вы слышали? Всё не нравится. Не думай, что если у тебя три колодки орденов, то тебе позволено… — Ничего мне не позволено. С меня все только требуют и ничего не дают. Жена и та за войну вышла из повиновения. Бунтует. — Ого, у тебя побунтуешь! — Смешливая Катя наконец нашла повод, чтоб громко и открыто засмеяться. — Ой, язык у тебя, Громыка! Ой, язык! Я тебе скажу, что тебе таки укоротят его, — уже добродушно качая головой, говорил Рабинович. — Хрен с ним. Что мне, языка жалко? Я жизни не жалел. Булатов опять пристально посмотрел на бывшего командира танка, как бы желая разобраться, серьезно он все это говорит или шутит. Должно быть, не разгадал, потому что зевнул, поглядел на часы. Спросил: — Сколько им за апрель надо сдать, Рабинович? Уполномоченный заглянул в свои мятые бумажки. — Шесть тысяч литров. — Выполним! — вдруг так же решительно, как с выездом в поле, заверил Бобков. Громыка выразительно кивнул Петру: мол, спятил старик. Но сам наклонился и стал сворачивать новую цигарку — лучше промолчать. Бобков опять на газете подсчитывал, в какой деревне сколько коров и сколько можно получить молока. Выходит, что все очень просто, что задание не только реальное, но, пожалуй, и заниженное. — Копыловцы, куркули эти, могут салом сдавать. У каждого полные бочки сала. Вон как у секретаря моего, у Копыла, — еще довоенное, прогоркло, задубело. Катя весело смеялась. Она знала, что Копыл слушает в соседней комнате. Рабинович сиял от удовольствия — ему лишь бы заручиться обещанием, тогда легче будет требовать: вы же сами сказали! Громыка, хотя и приказал себе молчать, не выдержал: — Не заливай ты, Иван Демидович. Товарищи из района и впрямь подумают, что людям некуда сало девать. А я тебе по хатам перечислю, у кого оно есть. У Копыла да еще у двоих-троих… — А я на сегодняшний день куска хлеба не имею! Я, может, сегодня не ел, — вдруг неведомо на кого рассердился Бобков. От этого его неуместного, но безусловно правдивого признания всем стало неловко, как будто человек сказал что-то стыдное. Даже Булатов встал со своего места и, повернувшись к окну, глядя на детей, которые высыпали из школы — на переменку, бросил своему помощнику: — Что там у нас еще? — Еще? Еще я скажу им приятную вещь. Не думайте, что от вас только требуют. Вам и дают. Советская власть, она добрая! — Рабинович достал из сумки новые бумажки. — Вот. Райисполком выделил вам две тонны — две тонны! — ячменя для населения… Петра обрадовало это сообщение, он сразу прикинул, сколько семей можно поддержать в эти тяжелые весенние дни. А если ячмень хороший, люди могут посеять на огородах. У Панаса тоже посветлело темное от природы и от тракторной да танковой копоти лицо. — И еще. По линии ЮНРА пришла кой-какая одежонка. Богатые американцы жертвуют для несчастной Европы свои обноски. — Абрам Наумович брезгливо поморщился: должно быть, видел уже эти обноски. — Вам тоже перепало кое-что. Вот. Обуви — семьдесят пар… Рабинович начал читать список. И все, любопытствуя, подошли к столу, чтоб заглянуть в этот перечень. Что ж, не грех принять и такую помощь. Пока они там наживались на войне, мы воевали: гибли, хоронили близких, голодали, донашивали то, что произвела не слишком богатая еще легкая промышленность за короткие мирные годы, вышли из войны разутые и раздетые. И вдруг, когда все были заняты перечислением кофточек и штанов, прозвучало уже вовсе ошеломляющее: — Громыка! Сдайте пистолет! Панас отскочил от стола, и лицо его сразу побелело. Булатов смотрел в окно. Казалось, и не он это вовсе сказал, а невидимый дух. — Какой пистолет? — Который вы привезли из армии. Немецкий. — Нет у меня никакого пистолета. — А мы имеем данные, что пистолет у вас есть. — На черта он мне! С жинкой воевать, что ли? Или детей забавлять? Булатов резко повернулся. — Нет? — Товарищ Булатов, я ведь не ребенок. Я взрослый человек. — Хорошо. Поверим, что нет у вас пистолета. — И снова отвернулся к окну.
Из сельсовета Петро с Громыкой вышли вместе и, не сговариваясь, направились к речке. Обоим хотелось поговорить. Впереди — сколько видит глаз — просторы залитых водой лугов. Остановились на плотине у моста. День был холодный, ветреный. Песчаную насыпь сердито облизывали волны. — А пистолет у меня есть, — не менее неожиданно, чем было требование капитана, признался Панас. — Только не немецкий — американский. А спроси — на кой он мне сдался? Все мы, как дети, любим игрушки. Вот и я привез игрушку на память. А кому она надобна, такая память? Хочу скорей забыть о ней, о войне, будь она проклята, а пистолет храню. Разве не дурак? — Почему же ты не признался? — Этому? Ты видел его метод? Если б он по-человечески — почему же не признаться? А так — подумал: заставит писать объяснение — где взял, почему сразу не сдал? А что я напишу? Что после хорошей выпивки мне подарил его американский лейтенант? А я, дурак, решил сохранить на память? Такой, брат, блюститель тут же пришьет тебе дело, да не одно: за связь с американцами… доказывай, что встречались мы целой танковой бригадой с их танковой дивизией… За незаконное хранение оружия… За что хочешь. Помолчали. — Придется утопить в омуте эту «память». И после паузы добавил: — Но хотел бы я знать, какая сволочь донесла? Кроме жены, ни один человек не знал. Гришка, поросенок, видно, подглядел и кому-нибудь похвастался. Петро стоял, смотрел на свинцовую воду и думал: почему Панас так откровенничает с ним? Зачем ему, секретарю, знать про его пистолет? Не хватало ему забот: хранить чужую тайну. И от кого? От советских органов. А если — упаси боже! — тот, кто написал первый донос, напишет второй? Что тогда может подумать Панас о нем, кому он доверился?
IV
Шапетовича давно уже обижало и возмущало поведение группы инвалидов. Кажется, хорошие люди, некоторые прямо герои — по три колодки орденов, как говорит Рабинович, а относятся к ним, местным руководителям, словно они… чуть ли не враги. Как будто все они — Бобков, Громыка, Копыл, он, Петро, — только и думают, как бы украсть, схапать, смухлевать, кого-то обойти, «съесть». Не раз Петру хотелось сказать им с горечью, но спокойно и прочувствованно: «Братки мои! Я воевал так же, как и вы. И такой же инвалид — дважды прострелен. Однако же я не кричу, не хвалюсь своими ранами. Я работаю. И не ради корысти. Кроме своей основной работы — преподавательской — тяну общественную. Мне поручила ее партия, я коммунист и потому должен думать не только о себе, но и о вас — обо всех… А что вы имеете против Бобкова? Человек с первых дней пошел в партизаны. За это фашисты уничтожили всю его семью… Пережил такую трагедию. К тому же и он дважды ранен… Выходит, у вас нервы, а у меня — нет?..» Но побеседовать так, по душам, не удавалось. Разговор каждый раз шел в повышенных тонах, потому что инвалиды требовали невозможного и сразу начинали с упреков, обвинений. Сразу с крика. Вот как сейчас… Только члены исполкома заперлись в кабинете председателя, чтоб разделить между наиболее нуждающимися ячмень и юнровские тряпки (поистине тряпки) — они, инвалиды, тут как тут. Человек семь. Перед этим, разумеется, заглянули в лавку, хватили по стакану, а может быть, и по два разливной и разбавленной вонючей водки. Уселись — кто на лавочке, кто прямо на земле перед окнами, и пошло: — Собралися: один сухорукий, другой сухоногий. Два сапога — пара. — Это про Бобкова и про Копыла. — Тот хоть свою мину пьяный разбирал. А этот где ногу покалечил? — Немцам яйки помогал собирать, — хотя всем известно, что хромает Копыл не с войны, а еще сызмалу. После каждого слова — витиеватая брань. Особенно старался однорукий Рыгор Прищепа. Бобков вскипел: — Позвоню в милицию. До каких пор терпеть? Работать не дают. Людей с толку сбивают. Я им — что? Я — советская власть на сегодняшний день. А выпады их — что? Это ж антисоветская пропаганда. Громыка поморщился, словно от боли. — Не бросайся, Демидович, словами. Антисоветская! Что они — за Гитлера руки да ноги положили, калеками стали? — Однако никому не дано права хулиганить! — Выпили хлопцы — пускай потреплют языками. Устанут — разойдутся. Окна же не бьют. — Только и не хватало, чтоб окна били! — Дадим волю — и до окон доберутся, — откашливаясь, прохрипел Копыл. — Эх, сдрейфили! — пренебрежительно хмыкнул в сторону Бобкова и Копыла Михайла Атрощенко, председатель сельпо, тоже инвалид, без правого глаза, с обожженной щекой. Весело засмеялся: — Разреши, Шапетович, я с ними поговорю. Любо-дорого будет послушать. Шпектакль! Петро знал, как Атрощенко «говорит». Слышал. Никого, пожалуй, инвалиды так не честят, как его. Но и уважают — свой. Мало кто умеет так «крыть», как он. Разойдется — им вдесятером не перематюкать его одного. Петро вынужден был пристыдить его на партийном собрании. Потому он теперь и спрашивал разрешения. Хлопнула дверь медпункта, и на улице появилась Саша. Инвалиды, наверное, забыли, что «докторка» может быть здесь. Увидели — смутились. Саша стремительно сбежала с крыльца, стала перед ними. Белый халат был накинут на плечи, ветер развевал его, и это придавало маленькой женщине воинственный вид — прямо Наполеон перед войсками. Петро в окно залюбовался женой. — Ну и красавчики! — протянула она, укоризненно качая головой. — А слова, слова — стены краснеют. Я хотела ватой уши заткнуть. — Простите, Александра Федоровна, — опустил голову Вася Низовец, самый молодой и самый изувеченный — без обеих ног. Он сидел, привязанный к своей примитивной коляске — доске на маленьких колесиках. — Школа вон рядом, — корила Саша, уже обращаясь к старшим — к Прищепе, к Осадчему. — Дети ваши. Посовестились бы. — Да, дети! — согласился Прищепа и по-командирски отдал приказ: — Всё, братва! Языки на замок! Кто распустит — вон из нашей компании! — А на какие это вы, голубчики, напились? Дома картошины нету… Петру даже страшно стало. Пошлет сейчас который-нибудь: тебе-то что за дело, молодица? Нет. Переглянулись, молчат. — Опять чьи-нибудь часы заложили? Признавайтесь. Ну, я эту шинкарку поймаю! Открыла лавочку! Корчма, а не сельпо! И старого юбочника опутала. Еще член партии! — Это Саша про Атрощенко. Председатель сельпо вскочил с места, но к окну не подошел. — Ну и пила у тебя, Андреевич, а не женка. У меня — бритва, ну, а твоя острее. Хоть бы перед этими крикунами не митинговала. Сказал бы ты ей. — Она еще перед тобой помитингует, — засмеялся Громыка, зная, как Саша относится к Атрощенко: не может простить, что он, отец четверых детей, две дочери — невесты, «крутит любовь» со своей продавщицей — вдовой Гашей. И всегда говорит ему это в глаза. — Кому-кому, а вам, Вася, нельзя пить. Ни капли. Для вас это хуже яда… Вася закричал: — А на черта она мне, такая жизнь? — Ну и дурачок, — ласково, необидно, как-то по-матерински укорила Саша. — Один ты такой? Мы, что ли, с Надей виноваты, что тебя Гитлер искалечил? — Александра Федоровна! — крикнул Вася, стукнув себя в грудь дощечками, которыми упирался в землю, толкая коляску. — А зачем ты мучаешь и ее и себя? Высохла девчина. Каждый день слезы льет. За что ты ее наказываешь? За то, что пять лет ждала? И теперь любит… — Жалеет она меня, а не любит, — опустив голову, прошептал Вася и тут же спохватился, словно застыдившись своей слабости, снова крикнул: — А мне жалости не надо! Ничьей! — А какая ж это любовь без жалости? Все мы вас жалеем. — Женись, Вася! Последние штаны продадим, а свадьбу справим, — весело сказал Иван Осадчий, вот уже два года закованный в стальной корсет — поврежден позвоночник. Между прочим, только он один не пьет, знает, что для него это — смерть. Но в компании всегда и свою долю на выпивку вносит. Бобков утверждает, что это он верховодит в группе и подбивает инвалидов «мутить воду». Хотя обычно шумит больше всех Рыгор Прищепа. — Вы, Иван Алексеевич, не шутили бы, а поговорили серьезно с товарищем своим. Это — его жизнь, его судьба. И — Надина. — А правда, Вася, чего ты ломаешься? Надя — это знаешь какая баба? Как моя Галя. Такая на руках будет носить всю жизнь, — вдруг горячо и всерьез стал уговаривать Васю Прищепа. Его поддержали другие. А Саша — как хороший дирижер перед этим хором. Атрощенко покачал головой. — Вот она умеет с ними поговорить! — Кто, Шура? Будь спокоен! Она еще и с тобой поговорит! — опять засмеялся Громыка и тут же потребовал: — Давай, Халимон, гони дальше. Некогда тут рассиживаться. Сеять надо. Копыл стал читать фамилии по списку. Пояснял, что за семья, как живет: он знал все восемьсот дворов — во всех деревнях и поселках. Решали, кому помочь. Иногда спорили. Петро заметил, что Копыл обо всех все знает, все старые грехи припомнит — кто в колхоз не хотел вступать, кого до войны еще судили за кражу артельных огурцов, — а вот о грехах в фашистской оккупации забывает. Тогда напоминает Катя Примакова. У нее ко всем, кто служил немцам, лютая ненависть. Как у Саши. Может быть, поэтому, такие во всем разные, они не то чтобы дружат, но хорошо друг к другу относятся, Саша даже подкармливает чем может Катиных полуторагодовалых близнецов — плод горячей Катиной любви к офицеру той части, что вызволила их село и некоторое время стояла здесь на отдыхе — собирала силы перед тем, как форсировать Сож и Днепр. Разговоры за окном отвлекают. Однако пока там уговаривают Васю жениться, пока Саша с жаром говорит о женской любви, которой дураки мужчины никогда не понимают, — работать можно. Но за окном опять заговорили о том, что не может не оторвать их, членов исполкома, от списков, от ячменя и кофточек. Саша. Знаете, что я вам посоветую, люди добрые? Идите-ка вы домой. Не мешайте, скорей киселя наварите. Прищепа. А кто там делит? Вы, Шура, в комиссии? Саша. Как же, больше у меня дела нет, только тряпки делить. Осадчий. Не в тряпках дело, Александра Федоровна! Не из-за тряпок мы пришли. Не подумайте. Принцип! Вот что главное. Чей там голос имеет силу? Кто знает людей? Ваш муж не знает. Председатель тоже не здешний, из соседнего сельсовета. Один Копыл всех знает… Вася. Но и мы его хорошо знаем! Незнакомый голос. Как он яйки немцам собирал. Прищепа. Что там яйки! Партизана продал. Повесили хлопца. Осадчий. Рыгор! Что не доказано, о том болтать нечего. Мало ли их, бабских сплетен! Прищепа. Хороши бабские! Саша. Он ведь в партизанах был. Вася. Потом надо ж было замолить грехи. Прищепа. Такой всюду пролезет. И к фашистам, и к коммунистам. Петро наблюдал за Копылом. Тот сидел, чуть не уткнувшись сизым носом в гроссбух, и, не поднимая глаз, бубнил фамилии как пономарь. Он, конечно, как и все они, слышал диалог за окном. Не случайно его малиновые губы посинели, нет, приобрели даже какой-то темно-фиолетовый оттенок, а виски и щеки стали желтыми. Петро думал: «Если все это неправда, так почему же ты, старый хрыч, молчишь? Ведь тут не только твой авторитет, но и авторитет сельсовета, советской власти. Выйди да хоть выругай как следует этих пьяниц болтунов». Взорвался вновь Бобков: — Нет, я все-таки позвоню в милицию. — И что ты скажешь? — разозлился Петро. — На жизнь твою покушаются? Иди поговори с ними сначала. Ты же власть. — Что с такими горлопанами говорить? — Не хочешь? Ну, так я поговорю. — И Петро направился к выходу, откинул крючок, широко раскрыл обе половинки дверей и вышел на крыльцо. — Заходите, товарищи, — радушно пригласил он инвалидов. — Зачем под окнами митинговать? Они растерялись от неожиданности. — Зайдем, ребята? — спросил Осадчий, но с места не тронулся. — Заходите, заходите, не стесняйтесь. Помогите Низовцу подняться на крыльцо. — Я сам, парторг! — И Вася первым подкатил на своей коляске к двери. Саша ласково кивнула мужу, явно одобряя его приглашение, и, запахнув халат, чтоб не сорвал ветер, пошла в деревню, должно быть к больному, — с ней был чемоданчик. Ячмень был передан в сельпо, а «юнровская помощь» лежала тут же, в кабинете: в одном углу — обувь, в другом — одежда. Привезли в мешках, но мешки имели цену, они были на учете у какой-то организации, и их забрали обратно. Все лежало в кучах. Когда инвалиды гурьбой ввалились в кабинет, напугав Копыла, удивив Бобкова и Примакову, Петро сказал им: — Ну вот, хлопцы, все добро перед вами. Пожалуйста, пусть каждый выберет по паре обуви, какой хочет, кто — себе, кто — жене, кто — детям. Инвалиды недоверчиво переглянулись. Члены исполкома молчали, затаив усмешки: они поняли Петров «ход конем». Вася подъехал к куче обуви первым, сразу взял в руки женскую туфлю, стал искать вторую. Но пары не было. Из всей кучи с трудом можно было выбрать несколько пар, одинаковых по фасону, цвету, размеру, все остальные — разрозненные. Как на смех, для издевки! Они, члены исполкома, это обнаружили еще утром, когда привезли «помощь». Звонили в район, оттуда ответили: «Все такое». — «Как же выдавать людям непарную обувь?» — «Как хотите». Было смешно и досадно, оскорбительно и больно. Стало ясно, что собирали эту «помощь», не уважая тех, кому она предназначалась. Сытый голодного не разумеет. Для многих там, в Штатах, это была одна из очередных благотворительных кампаний — очередное развлечение. А если трудящиеся люди и давали, что могли, от чистого сердца, то собиралось все это как утиль, без сортировки, упаковки, грузилось навалом, прямо в трюмы и потому так перемешалось. Уже позднее в мировой прессе промелькнули сообщения об этой «благотворительной организации» — что она посылала тем, кто начал войну и нес за нее ответственность, и какую «помощь» получали от нее те, кто спас Европу, а может быть и все человечество, от фашистского нашествия. — Да что ж это они, паразиты, считают, что все мы тут без ног остались! — злобно швырнул одинокую туфлю Вася Низовец, когда Петро растолковал, что другой такой, пожалуй, не найти. Не для старухи матери, конечно, хотел взять Вася туфли на высоких каблуках. О Наде думал, про ее разутые ноги. Следом за Низовцем и остальные побросали отобранные ботинки назад в кучу и брезгливо вытерли руки о засаленные, у некоторых, видно, единственные, несменяемые штаны и гимнастерки, выданные им еще когда-то на фронте старшинами. — Отослать им к такой-то матери все эти лохмотья назад! Такое же предложение и с не меньшей злостью Шапетович высказал еще утром, как только увидел эту «помощь». Но рассудили: кому отсылать? Кто виноват? В районе? Ведь не могли же украсть по одному ботинку из пары. — Ну, а теперь, товарищи, садитесь и помогите распределить это добро. Бобков, уже довольный, тер свою контуженную руку. Серьезность и степенное спокойствие инвалидов, которые несколько минут назад так угрожающе шумели, радовали его. Громыка тайком улыбался, пуская свой кисет с самосадом по рукам. — Браточки, если вы все разом задымите Панасовым горлодером, мы же друг друга не увидим. Это же смесь динамита с дымовой шашкой, — полушутя, полусерьезно просил Петро. Все смеялись, но цигарок не бросали. Копыл произносил фамилии громче, чем до прихода «представителей общественности», и старался держаться солидней, — видно, хотел показать, что он здесь тоже не мелкая сошка, а равный среди равных, а вместе с тем спина его была напряжена, будто человек ожидал, что его в любую минуту могут ударить. И голос как-то странно прерывался. «Прошли» одну деревню — Копылы. Взялись за вторую — Понизовье. Одна семья, вторая — мимо. О третьей: — Этим горемыкам надо что-нибудь подкинуть. Ячменя на кулеш. И хоть какие-нибудь ботинки. Девушка-невеста, а на вечерки ходит в бурках. — Так и запишем, Катя. Полпуда ячменя и ботинки. Никто не возражает? — Низовец, Ольга Петровна. Семья врага народа, — сказал Копыл, не подняв даже головы, уверенный, что тут задерживаться нечего. — Осадчий… Но Шапетович остановил секретаря: — Погодите, Халимон Аверьянович. Я предлагаю семье Низовец оказать помощь. Я не знаю, за что посадили самого Низовца, но… дети за отца не отвечают. Товарищ Сталин сказал… А дети — школьники… Младшая — отличница, Таня, в прошлую пятницу упала в обморок в классе. Фельдшер наш говорит — недоедание. — Тех, кто воевал, обходим, а кто… — возразил Рыгор Прищепа, хотя не очень решительно. — Женщина с детьми на фронт пойти не могла. Но и она воевала… Ольга Петровна не пошла служить фашистам. Нашим помогала. Хлеб партизанам пекла. Иван Демидович рассказывал. Иван Демидович? — Хлеб пекла, — тихо подтвердил Бобков, но как-то неуверенно, без обычного своего запала: и поддерживать и возражать до хрипоты. Шапетович увидел, что и другие — Громыка, Атрощенко — сидят с таким видом, словно он, секретарь, допустил промах и им неловко за него, а поправить неудобно — посторонние присутствуют. Один Копыл оторвался от списков и смотрел на Петра своими маленькими глазками-сверлами с явным любопытством. Петро не мог понять, почему они все так… Даже Громыка, человек смелый и решительный. Булатову и Рабиновичу вон как отвечал! А тут — глаза потупил. Неужто правда боятся поддержать? Но… Петро искренне верил в действенность формулы: дети за отца не отвечают. Сердце и разум говорили: помочь этим детям — твой святой долг как коммуниста, руководителя и педагога. Пускай помощь мизерная, но для такой семьи самый факт будет иметь значение — о них заботятся, как обо всех, они не отщепенцы. — Вспомните, и в райкоме нам сказали: в первую очередь помогать тем семьям, где дети… А дети есть дети! — Вы кого агитируете, парторг? — спросил Вася. — Об Ольге Петровне никто слова дурного не скажет. Разве что пес какой-нибудь гавкнет. Не только хлеб она пекла партизанам. А кто лечил наших маток да ребятню при оккупации? Докторов же никаких не было. Пускай Иван скажет, как жену его спасла. — Что там говорить: Ольга — человек правильный! И дети в мать пошли. Бобков быстро встал, стукнул костяшками пальцев по столу. — Ставлю на голосование, — сказал официально, как на большом собрании. До сих пор не голосовали, даже когда возникали споры и расхождения, договаривались так. Большинство высказывалось «за» — Катя заносила в список. Шапетович понял — проводит по всей форме из-за присутствия инвалидов: старик хитер и осторожен, не хочет, чтоб судачили об этой семье, лучше вынести официальное решение. Что ж, правильно. Он первый поднял руку. И все сразу подняли, но тут же опустили, так быстро, что показалось — только взмахнули руками. — А нам можно? — спросил Иван Осадчий. — Голосуйте, — разрешил Бобков. — Ну, так мы — за. Так, хлопцы? — обратился к «своим» Осадчий. — За. — Пиши. Чего там разводить антимонию. — Голосую двумя, — поднял обе руки Вася и в оправдание невесело пошутил: — Мне можно, я без ног. — Единогласно, — серьезно и опять-таки подчеркнуто официально заключил председатель сельсовета. И как бы поставили точку. Или, может быть, добрались до вершины перевала. Всем вдруг захотелось перекурить, перевести дыхание. Начали сворачивать цигарки. Заговорили совсем о другом — кто о чем. Но каждому почему-то хотелось вспомнить что-нибудь веселое. Когда перекур кончился, Осадчий сказал: — Считаю так, хлопцы! Нам тут делать нечего. Начальство само разберется. Оно газеты читает… — О! — вспомнил Рыгор Прищепа и обратился к Петру: — Что мы у тебя, парторг, хотели спросить, — и достал из кармана газету, сложенную во много раз — как на цигарки. — Объясни ты нам, грешным, вот эту заметку. Информация — несколько строк, помещенных где-то на четвертой полосе, — оказалась на первой страничке газетной книжечки. Это было сообщение о том, что СССР в течение апреля, мая и июня поставит Франции 400 тысяч тонн пшеницы и 100 тысяч тонн ячменя. Петро прочитал это еще вчера и тоже задумался, потому что понял, что это из тех заметок, которым в газетах отводят мало места, но которые много места занимают в головах людей. Знал: на первом же собрании, при первой же беседе колхозники спросят его об этом. Он готовился к ответу. И все-таки вопрос застиг его, можно сказать, врасплох. Он ожидал, что разговор возникнет, когда они будут делить свои две тонны ячменя. Тогда он узнал бы, что думают товарищи, и проверил бы свой ответ. Однако из актива никто о заметке не вспомнил. Не читали или позабыли? А вот инвалиды не забыли. Ждут, что он ответит. Смолкли. — Что мы, такие богатые? Своих накормили досыта? — Нет. Никто не говорит, что мы богаты. После такой войны… такой разрухи. Не легкая весна и у нас. Вот… по килограмму раздаем. Но потому, что знаем, что такое голод, потому и делимся последним куском. — Ничего себе кусочек! — хмыкнул Вася Низовец. Петро с еще большим жаром стал доказывать: — Все мы были на фронте. Кто — в партизанах. Кому из нас не приходилось делиться с товарищем последним сухарем! Франция — наш союзник, вся была под властью фашистских оккупантов… Народ голодает… Но в какое-то мгновение он ощутил, что слова не имеют под собой твердой почвы — внутренней убежденности. Слова эти хоть и простые, но какие-то легковесные, а потому явно не западают в сердца людей, а повисают в воздухе, как вот этот табачный дым. Иногда даже шум и смех слушателей не сбивают, не приводят в замешательство оратора. Это бывает тогда, когда человек сам твердо убежден в том, в чем хочет убедить других. А случается, что сбить, спутать может вот такое спокойное внимание с чуть заметными усмешками: мол, давай, городи, мы понимаем — тебе иначе нельзя. Такие скрытые ухмылки увидел Петро на лицах инвалидов и занервничал. Почти крикнул: — А голодным мы всегда поможем! Мы — гуманисты! — Во Франции голодают? — с удивлением спросил Прищепа. — Где вы, парторг, вычитали, что там голод? Мы тоже газеты читаем. Да и сами свет повидали… Андрей вот, — показал он на одного из своих товарищей — высокого белокурого парня с глубоким шрамом на лбу, в штатском костюме; человек этот за все время не промолвил ни слова. Петро впервые его видел, никогда раньше с этой компанией он не появлялся. — Полгода, может, как вернулся оттуда, из Франции. Партизанил вместе с французами. Он вам расскажет, как они там… голодают. Расскажи, Андрей… Петро слышал от Саши, да и от других, что есть в Понизовье инвалид Андрей Запечка, который, бежав из немецкого плена, стал французским партизаном, вернулся с их орденом, справками. Давно хотелось встретиться с этим человеком. Петро даже собирался пригласить его в школу — пусть расскажет детям о Франции, о Сопротивлении. Но все как-то не случалось познакомиться. И вот — познакомились. Запечка покраснел как девушка от обращенного на него всеобщего внимания. — А что рассказывать? По-разному и там живут. Буржуи, гады, так они и при бошах… немцах, значит, роскошничали. А рабочему человеку туго приходилось. Однако разрухи у них такой нет. Не разбито столько, не сожжено. А когда все целое, так, сами понимаете, легче как-то перевернуться… — развел руками и виновато улыбнулся, как бы извиняясь, что не умеет он рассказывать. Видно было, что человек и вправду не слишком разговорчив, может быть, и не от природы, — жизнь научила. — Понравились вам французы? — спросил Петро с любопытством. — Так разные ведь они… Партизаны — хлопцы свойские… Коммунисты некоторые из них. — Если мы вас пригласим в школу — расскажете? — О чем? — Ну, о Франции. Как партизанили там… Запечка растерялся: — Нет… У меня всего шесть классов. — У вас теперь университет. Академия. Столько пережить и увидеть! И вот тут Громыка неожиданно и слишком уж решительно, даже сердито, прервал их разговор: — «Кончай ночевать», как сказал казах. Давайте работать! Некогда переливать из пустого в порожнее. Сеять надо! Занимаемся черт знает чем!.. — Да, братки, пошли. Не будем мешать! — поддержал его Осадчий и первый направился к двери, но у порога бросил: — Не забывайте нас, обиженных богом. — Не забудем, — бодро и весело заверил Бобков. Петро молчал. Нельзя сказать, что выходка Громыки его обидела. Однако все-таки неприятно задела самолюбие. Обычно Панас слушал его так уважительно. А тут, при людях, по сути накричал, как на мальчишку. Почему? Что ему не понравилось?V
…Явилась женщина, прекрасная, как богиня. В сказочном одеянии — длинном до пят, пурпурного бархата. И села она рядом с ним за парту, залитую чернилами. Петро испугался, что испачкает она свой наряд. Хотел было сказать об этом. Но тут же понял, что обратить ее внимание на эти парты — показать свою невоспитанность, бестактность. Это можно сказать любой женщине, только не ей… Одно прикосновение ее одежды, мягкой, как гагачий пух, жаркое дыхание — опьянили его. Закружилась голова. Он растерялся и смутился, как мальчик. Но она ласково прошептала: «Обними меня». И он обнял ее с душевным трепетом и страхом, — вдруг увидит Саша? Но не Саша углядела его грех. Неведомо откуда появился Атрощенко с одним огромным, как у циклопа, глазом и, указывая на них неестественно длинным пальцем, злобно захохотал: «Ага, праведник! Теперь я тебя поймал. Меня ты за Гашу „песочил“ на партсобрании, а сам во с какой кралей целуешься! Завтра будешь на бюро райкома». Но в этот миг Петро догадался, кто она, и с упреком сказал Атрощенко: «Дурень, это — богиня Афродита. За богинь на бюро не вызывают». Атрощенко так застыдился своего невежества, что сразу принял обыкновенный человеческий вид, даже показалось, что не протез у него в правой глазнице под обгорелой бровью, а живой глаз, и не такой хитрый, как тот, единственный, здоровый, не глаз насмешника и матерщинника, а добрый, чистый как у ребенка. «Ага, хоть раз ты сел в лужу», — с радостью подумал Петро, глядя, с какой почтительностью, спиной, отступает от богини председатель сельпо. Но, оглянувшись, Петро увидел вдалеке, в сумрачном огромном зале, под мраморными колоннами, Панаса Громыку. Прежде всего подумал о колоннах — какой орден: ионический, коринфский? Попытался вспомнить, какая разница между этими орденами? В форме капители. Но капители тонут во мраке. Да и Громыка не дает сосредоточиться, подумать — смотрит скептически, насмешливо, укоризненно качает головой. Открывает рот, и голос его разносится эхом, летит со всех сторон: «Наивен ты, как дитя. Вовсе это не Афродита. Это — Ехидна. И она тебя подведет под монастырь, помяни мое слово. Бабы, брат, они все такие — хитрые, как черти». А богиня засмеялась смехом Марии Антоновны, их учительницы, самой языкастой. И поцеловала его в щеку, да не горячими и ароматными женскими губами, а какими-то деревянными, твердыми — даже больно стало.Открытая страница «Мифов древней Греции» была смята и смочена слюной. Край книги оставил рубец на щеке. Петро растер щеку, разгладил страницу, убавил огонь в лампе, стоявшей тут же на столе среди книг. Вот так, заснув над книгой (а это уже не в первый раз), он когда-нибудь опрокинет лампу и устроит пожар. Надо вешать на стену. Но тогда нечем заслонить свет, и он будет мешать Саше и Ленке. Подумал о жене, дочке — и только тогда в голове прояснилось. Петро вспомнил свой странный сон и не мог удержаться от смеха. Особенно смешно было, как Атрощенко отступал от богини. И еще — «за богинь на бюро не вызывают». «Каждая из вас бывает богиней», — подумал он о женщинах и тут же — о Саше. Поднялся, подошел к кровати, где спала жена. Ее голая рука лежала поверх одеяла. Захотелось поцеловать и эту руку и припухлые, как у ребенка, губы. Но жаль тревожить Сашин сон: за день она столько набегалась! На цыпочках прошел в угол, к двери. Чтоб не плескать, намочил в ведре край полотенца, обтер лицо, глаза. И — снова за стол, за книгу. Их не так просто запомнить, всех этих богов, богинь, героев. Нет памяти на имена, названия, даты. Для историка это верный провал на экзаменах. Он не раз задумывался, стараясь понять, почему его, техника-дорожника, потянуло к истории. Ведь не одни внешние обстоятельства тому причиной, не только то, что он приехал сюда, в село, где у Саши был уже какой-то обжитой угол и ему предложили работу в школе. Нет. Это стремление возникло еще там, в армии, в Германии. Иначе почему из тысячи книг он выбрал именно эти, по большей части исторические? Петро любовно выровнял высокую стопку книг, заслонявшую кровать от света. За зиму он привязался к книгам, как к людям, раньше он не испытывал к ним таких чувств. Блюститель порядка Булатов недвусмысленно дал понять, что книги следует вернуть институту, штамп которого стоит на них. Но жаль было возвращать свое единственное богатство, единственный «трофей». Припомнилось, как вез их, с какими приключениями. Демобилизовался он в Познани, там после победы был расквартирован их дивизион. Уволенных отправляли по очереди, сразу невозможно было получить столько вагонов. Из их зенитного дивизиона демобилизовалось человек сто. Провели прощальный митинг, произнесли много хороших слов — и наказы, и обещания. А вагонов нет. День, два, три… Уволенные, выйдя из-под власти командиров, доставали у поляков спирт, самогон, напивались, оказывали дурное влияние на тех, кому надлежало служить дальше. Капитан Криворотько до хрипоты ругался с интендантами, требуя вагоны. Вагонов не было. Демобилизованные, конечно, и сами рвались поскорее уехать. Кому не хотелось домой! И вот один пробивной всеведущий хлопец принес новость: нашелся железнодорожник, диспетчер какой-то, который даст вагоны… за полтонны пшеницы. Ребята знали, что надо предлагать. Другой платы не было. А пшеницу в первое послевоенное лето солдаты убирали в бывших имениях фашистских магнатов, и хитрые запасливые интенданты, не без согласия командиров частей, толику зерна оставляли у себя на складах на всякий случай — война всему научила. Был такой тайный от ревизоров «неприкосновенный запас» и в их дивизионе. Криворотько обругал самыми отборными словами сразу на четырех языках — русском, украинском, польском и немецком — спекулянтов, которые хотят нажиться на послевоенных трудностях, но в конце концов согласился: только бы скорей избавиться от тех, кто уже четыре дня болтается по казармам и разлагает остальных. Железнодорожнику отвезли восемь мешков пшеницы, и он честно выполнил условие: в назначенный час на далекий глухой путь товарной станции были поданы четыре вагона. Криворотько еще раз, перед вагонами, сказал короткую, но тронувшую до слез речь — не в пример своему заместителю по политчасти, который говорил долго, холодно и скучно. Назначил старшину Зашкарука старшим команды, Петра — парторгом, расцеловался с ними обоими и — бывайте здоровы! Но «неплановые вагоны» никто не хотел прицеплять к составу. К вечеру разъяренные хлопцы, для смелости хватив «сырца», пошли искать поляка, который продал вагоны. Нигде, разумеется, не нашли, но по-солдатски поговорили с дежурным. Тот любезно пообещал: «Бардзо проше, панове жолнежи! Рувна пшез годзине поедете до Бжесте». И действительно, скоро к вагонам подошел маневровый паровоз. Залязгали буфера. Демобилизованные закричали «ура!». Еще через час ритмично застучали колеса на стыках рельсов. Едем! Утомленные тревогой и волнением, все крепко уснули на своих солдатских мешках. Проснулся Петро утром. Состав стоял. Выскочил из вагона, прочитал название станции, достал из планшетки железнодорожную карту Польши, специально раздобытую в Познани, стал искать станцию на карте, чтоб выяснить, сколько проехали за ночь, порадовать ребят. Долго искал на восток от Познани, на главной магистрали — через Варшаву, на обходных линиях. Нет такой станции. А станция меж тем не малая. Судя по постройкам — узловая. Случайно скользнул взглядом по карте вниз, на юг — и… похолодел. Кинулся к вагону. «Тревога! Братки!» «Что ты горланишь? Не накричался?» «Дай поспать!» «Не в ту сторону едем!» Мигом вскочили. «Как не в ту? Что ты мелешь?» «Нас везут куда-то в Силезию. Смотрите!» Высыпали из всех четырех теплушек бывшие солдаты, двинулись к начальнику станции. Отцепили, конечно, сразу. А вот прицепиться… Двое суток стояли. Прямых составов тут проходило немало, в большинстве с репарационным оборудованием. С начальниками таких эшелонов договориться было невозможно, а советского военного коменданта, который мог бы им приказать, на станции не было. С трудом на третьи сутки прицепились к эшелону с репатриантами. Эшелону этому не давали «зеленой улицы». Он больше стоял, чем шел. Но стоял не на больших станциях, где были продпункты Советской Армии и можно было по аттестату получить сухари и консервы, а на каких-то глухих полустанках. Если же иногда останавливался в большом городе, то загоняли его в такие далекие тупики, что, не зная длительности стоянки (иной раз — час, другой — сутки), редко кто решался искать «харчевню». Никому не хотелось отстать от своих вагонов. В те дни, когда, казалось, перемещались целые народы, одни — на восток, другие — на запад, на юг, Германия, сложившая свое разбойничье оружие, и истерзанная ею Польша были в центре грандиозного передвижения миллионов людей. Вагон их жил коммуной. Когда все запасы были съедены, пришлось прибегнуть к древнему методу торговли — мене. Постановили: развязать мешки, выложить трофеи. Коллективом добросовестно и серьезно, с учетом индивидуально-семейных обстоятельств каждого, решали, чего трогать нельзя, а что можно выменять на хлеб, сало и самогонку. Двое отказались развязать свои мешки; отщепенцам был «поставлен ультиматум», и они вынуждены были переселиться в другой вагон. Дошла очередь и до двух больших чемоданов Петра. «Книги?» — удивились члены авторитетной комиссии по обобществлению «трофейных излишков». «Книги?» — удивились все вчерашние солдаты. Одни смотрели на него, как на чудака, другие — как на хитреца: а не спрятано ли там у тебя под книгами что-нибудь такое, за что можно напоить и накормить весь эшелон? Возможно, что первым импульсом было это недоверие — неизжитое недоверие к интеллигенту, который всегда, мол, перехитрит простого человека. Книги стали вынимать по одной, по две. Когда же убедились, что в чемоданах больше ничего нет, кроме обычного солдатского добра, — начали разглядывать книги с таким почтением и любопытством, будто первый раз в жизни держали в руках это чудо, сотворенное умом человека. Потом со смущенным видом, как бы желая загладить вину, помогли Петру уложить книги обратно в чемоданы. Всю оставшуюся дорогу к нему относились с каким-то особым уважением, от которого становилось неловко. Даже самогон щедрее наливали, подкладывали кусочек сала побольше. Когда Петро отказывался, говорили с солдатской простотой и грубоватостью: «Ешь, парторг, не стесняйся. За книги свои сядешь — придется подтянуть живот…» …Живот действительно приходится подтягивать. Но обычно Петро редко думает о еде, если о ней не напомнят. За книгами легче всего забываются жизненные невзгоды. Но вот припомнился польский пахучий хлеб и сало (хотя сколько его там было!) — и уже не до мифов. Боги, черт бы их драл, лакомками были, обжорами, без конца пировали, глушили свой нектар и закусывали амброзией и всякими сказочными плодами. А ему, горемыке учителю, сейчас хоть бы горбушку хлеба да ломтик сала… Напиться воды, что ли? Нет, от воды начинает неприятно бурчать в животе. Лучше выйти послушать соловьев. В старом парке в кустах черемухи вчера вдруг подал голос соловей. Не рано ли? Хотя почему рано? Весна в разгаре. Тепло. Вчера, после тяжелого партийного собрания, на котором присутствовали Булатов и Рабинович (неожиданные вопросы Булатова всех сбивали с толку, и коммунисты молчали, никто не хотел выступать, а Петро нервничал, расстраивался), первый соловей вернул ему спокойствие и хорошее, приподнятое настроение. Он позвал Сашу, она не спала еще, и они славно погуляли, послушали соловьиное пение. Саша молчала, задумчивая, тихая, но ни разу еще за эти суровые, голодные и холодные полгода Петро так не чувствовал ее теплоты, ее душевной близости… Петро встал, снова подошел к кровати и долго вглядывался в лицо спящей жены. Нет, сейчас будить не время. Первый час ночи. Тихо вышел один. Соловей молчал. Что с ним сталось? Кажется, вчера они с Сашей гуляли до такого же часа, если не поздней. А может быть, просто было так хорошо от Сашиной близости, что он забыл обо всем и теперь не знает, пел ли вообще соловей? Может быть, песня в сердце у него звенела? Санитарка Даша уверяла утром, что это не соловей, соловьи так рано не поют, это какие-то подсоловки. Пускай. Но слушать его было приятно, радостно. Слушаешь и как-то полней ощущаешь тишину — тишину мира, спокойствия, устойчивости и радости жизни. Как бы там ни было, но это величайшее счастье — не думать о том, что завтра тебя могут убить. Никто тебя больше не убьет! Ты уверен, что будешь жить завтра и послезавтра, через год и через двадцать. Поэтому можешь слушать соловьев, изучать греческие мифы, любить, нянчить детей… Ночь — совсем летняя, теплая, звездная. Туман над речкой низкий, над самой водой. Из белой пелены поднялись, выросли и вырисовываются на фоне неба, где у самого горизонта, как далекий фонарь, горит звезда, какие-то совершенно мифические деревья. Это придорожные вербы. А в такую ночь все необыкновенно. Правда, все вокруг имеет сказочный вид. Вот начитался! Правее, за речкой, сосновый лесок на взгорке выглядит цепью темных фантастически-крутых скал… Над ними низко повис заходящий месяц, он выщерблен не с той стороны, с какой мы привыкли видеть, когда он, еще узкий, появляется вечером, и цвет у него необычный, лиловатый. К ветру, что ли? Хорошо бы пошел дождь! Весна ранняя и сухая. Хотя и немало было снега, а земля у них песчаная, пересохла уже. Может быть, поэтому в районе такая нервозность с посевной. Райком не просто требует — угрожает. Вчера на партсобрании Рабинович заявил, что все они положат партийные билеты. А Булатов неожиданно спросил: «Кто у вас ведет антисоветскую пропаганду?» Двенадцать коммунистов переглянулись, пожали плечами. Что они могли сказать? Должно быть, через добрых десять минут, когда уже выступал Бобков, Булатов сказал: «Не знаете? Ничего не знаете. Французский шпион Запечка вел у вас под носом антисоветскую пропаганду. Вчера мы его арестовали. А некоторые члены партии даже хотели пригласить его воспитывать детей». Шапетовичу кровь ударила в голову и по спине пополз противно-липкий пот. Выходит, что Булатову известно о каждом слове, даже случайном. Это его потрясло. Откуда начальник райотдела МГБ знает обо всем? Прямо-таки ошеломленный этой всеобъемлющей осведомленностью Булатова, Петро сперва не задумался над судьбой Андрея Запечки. Даже эгоистично забыл обо всей этой истории, когда гулял с Сашей. Мало ли чего наговорили на собрании! Да и вообще ни о каких делах думать не хотелось. А утром проснулся чем-то встревоженный и сразу вспомнил Запечку, сердце больно сжалось. Петро виделся и говорил с ним всего два раза: тогда, в сельсовете, и позднее, когда зашел к нему домой в землянку. Растерявшиеся женщины — старуха, мать Андрея, и жена его — не знали,куда усадить учителя. Только сам «француз» (село уже наградило его этой беззлобной кличкой) вел себя так непринужденно, будто всю жизнь жил в землянке. Однако удовольствия от того, что к нему наведался парторг, не скрывал. Был приветлив, говорлив. Много рассказал интересного. И женщины были рады. А что они подумают теперь о его приходе, о том, как он расспрашивал о Франции? Петро похолодел от этой мысли. Звучал в ушах доверчивый рассказ инвалида, вспомнились слезы его матери, которые Петро увидел, когда сын рассказывал про лагерь военнопленных, где люди мерли как мухи, про шахты, про французов, устроивших ему побег из госпиталя, куда он попал после обвала в шахте; про второе ранение в «маки́», про сложную операцию, которую сделал французский врач, рискуя жизнью; доктор этот больше месяца укрывал советского солдата у себя на квартире… Такие люди, такой героизм, и вдруг — шпион. Нет, это невероятно! Никакой логики. Человек прошел через фашистский ад и не стал изменником. Дважды бежал из лагерей, рвался к борьбе. Дважды тяжело ранен. Зачем же, во имя чего после всего этого ему становиться шпионом? Да, наконец, и французам, союзникам по войне, на кой черт им такой шпион — инвалид, колхозник с образованием в шесть классов? Нет, тут что-то не так, какое-то нелепое недоразумение, ошибка. Мысль о Запечке не покидала Шапетовича весь день. За обедом рассказал жене. Сашу это ошеломило не меньше, чем его. — Арестовали Запечку? Андрея? За что? — Говорят, вел вражескую пропаганду. — Какую? Где? Неправда это! Неправда! Я лечила его! Я слышала, что он рассказывает. Дай бог вашему Булатову быть таким патриотом. — И вспылила, накинулась с упреками: — И никто из вас, конечно, слова не сказал в защиту? Герои! Только знай твердите, что всем руководит партия. Чем вы руководите? За человека не можете заступиться! Скоро этот Булатов вас самих начнет сажать, а вы молчать будете. Упрек был жестокий, обидный. Петро тоже вспыхнул: — Ну, ты Булатова не трогай. Его поставили на самый ответственный участок — блюсти государственную безопасность. И ему видней. Без причины у нас не арестовывают. Есть закон. — Закон есть. Да богиня эта, о которой ты читал, — как ее? — спит, видно. Шпиона нашли! Сам чуть живой вернулся, жена эпилепсию нажила, убегая от немцев… Взволнованная Саша, не доев картошки, стремительно встала, накинула на плечи свою старенькую шерстяную кофточку, бросила: — Приберешь со стола, помоешь тарелки! — и вышла. Последнее время она часто так делала — уходила, когда чувствовала, что они могут поссориться. Может быть, это и умно, потому что после ссоры очень уж гадко на душе. И все-таки эти стремительные неожиданные уходы жены (однажды она даже в гостях вот так оставила его) обижали Петра. Казалось, что Саша проявляет этим свое презрение к нему. Лучше бы уж обругала. Но тут ссориться им не из-за чего. Насчет этого несчастного Запечки он целиком согласен с Сашей. Да и насчет Булатова согласен. Нельзя так разговаривать с людьми, как говорит он. Как будто все они подсудимые. В душе согласен. А высказать это, даже перед собственной женой, не отважился. Начал защищать. Почему? Зачем? «Нет, тут что-то не так. Очень уж это неправдоподобно — шпион. Тайны госбезопасности тайнами, а я, секретарь, должен знать, за какую конкретно вину арестовали человека, — думал Петро, блуждая по ночному саду. — Надо поговорить в райкоме, с секретарями, с Анисимовым, с Лялькевичем». «Закон есть, — вспомнились Сашины слова, — а богиня… а богиня Фемида спит…» Фемида? Да. Он обрадовался, что так легко вспомнил имя богини — блюстительницы законов. Вот теперь она уже никогда не забудется — ни до экзаменов, ни после. Но не в экзаменах суть. А в чем? Чтоб Фемида не спала? В чем суть моей жизни? Твоей, Саша? Нашей? В крайнем дворе, совсем близко — Петро даже вздрогнул от неожиданности — голосисто закричал петух. Точно караульный — дал сигнал. И сразу же ему откликнулся один, другой… И так — дальше, дальше, будто передавали эстафету: от сарая к сараю, из деревни в деревню. Через минуту вся округа звенела от разноголосых «ку-ка-ре-ку!». Петухи пели и здесь, в старом парке, — возле школы, возле их дома, на колхозном дворе. Петро сразу повеселел. «Ого, живем! Сколько их развелось после немецких куроедов!» Видно разбуженный петухами, жалобно заржал в конюшне жеребенок, единственный в колхозе — предмет особой любви и забот Панаса Громыки. В липовой аллее, что шла вдоль ограды, от которой сохранились лишь остатки белых кирпичных столбов, вдруг — спросонья, что ли? — отозвался подсоловок. Вон где он! Может быть, певца надо разбудить? Петро двинулся по аллее. Вышел из-за тучки месяц, и в поредевшем за время войны парке, где не все еще деревья зазеленели, стало светлее. Тень от старых лип, плотная, черная, падала на кусты, выросшие в канаве у бывшей ограды, на песчаную дорожку. Крепко пахло крапивой. Ее, пока молодая, рвут здесь на борщ. Саша тоже варила борщ из крапивы. Ничего, есть можно. Если б еще хоть малюсенький кусочек мяса да ложка сметаны, была б еда — лучше не надо. На уцелевшей каменной скамье целовалась парочка. Петро повернул было в сторону, чтобы не смущать их, но влюбленные все-таки услышали шаги, вскочили. — Ладно, чего уж там, — улыбнулся им Петро и поспешил мимо. Он узнал и хлопца и девушку. Тезка его. Петя Овчаров — недавний сержант, разведчик. Это о нем говорил Громыка: Овчаров — единственный из молодых, кто, вернувшись домой с заслугами, остался в колхозе, трудится — пашет, сеет. По две нормы хлопец выгоняет. А потом, выходит, еще ночь сидит здесь, в парке. Молодость! Петро вздохнул и сам над собой посмеялся: старик! Давно ли сам таким был? Бегал на свидания за тридцать километров. На Ольгу Бондаренко не один парень поглядывает. Да и женатые глаза пялят. Красавица. Одета по-городскому — привезла из Германии. Жаль только, что, говорят, поехала туда по собственной воле. — Петро Андреевич, — Петя нагнал его, осторожно тронул за плечо. — Посидите с нами минутку. Шапетович удивился: — Я-то вам зачем? — Поговорить надо, — серьезно попросил хлопец. Петро вернулся, сел рядом с Ольгой, настроившись на шутливо-веселый лад. Но влюбленные смущенно молчали, а Петя тайком пожал девушке руку, как бы призывая: «Мужайся!», и Петро понял, что разговор его ждет серьезный. — Вот, Петро Андреевич… жениться хочу, — сказал Петя и вздохнул. Шапетович все-таки решил отшутиться: — Знаешь анекдот? Спрашивают у хлопца: «Женишься, Иван?» — «Женюсь!» И голос такой бо-одрый! Спрашивают, через некоторое время: «Женился, Иван?» — «Да, женился». И голос не тот, и вздохнул вот так, как ты. Что-то у тебя, тезка, наоборот, получается. На шутку ни тот, ни другая даже не улыбнулись. Сидят, глядят на дорожку, проложенную месяцем от школы сюда, под липы, где светлая полоса исчезает в тени. — Жениться мне надо… Мать больная… — Безусловно, жениться тебе надо, — уже серьезно подтвердил Шапетович. — Раз любишь — так женись. За чем же дело стало?.. Была б любовь… — Любовь есть, — твердо, без девичьей стыдливости сказала Ольга. — Но все равно не надо ему жениться на мне. Не надо! Запятнает он себя. — Чем запятнает? — не понял Петро. — Чем? — Ольга резко повернулась, будто хотела в темноте взглянуть ему в глаза. Сказала раздраженно, со злобой: — Да вы первый на своем собрании скажете: «Где, Овчаров, твоя партийная бдительность? На ком женишься? По своей воле в Германию поехала, и неизвестно еще, как себя вела…» Петро втянул голову в плечи, съежился, будто девушка не слова бросала — камни. Почему-то опять вспомнился Андрей Запечка, его арест, попрек Саши: «И никто из вас, конечно, слова не сказал в защиту?» — Оля! Что ты! Петро Андреевич этого не скажет. — Он не скажет — другие скажут. Хотя и он… Как жена его глядит на меня?! Палец у меня нарывал, я пришла к ней. Слова не сказала приветливого. Разрезать разрезала, а перевязывать сама не стала — акушерке спихнула. — Оля! Что ты болтаешь? — Ты же сам предложил все откровенно рассказать. Вот я и рассказываю… Мне уж все одно. Не думайте, что я в обиде на вашу жену, она — нездешняя, она не знает, почему я поехала в Германию. Свои-то ведь знают, и все равно… Тетка моя родная, Гаша, жена председателя… Я что-то такое сказала о вашей жене. Так она мне: «Шуру ты не тронь. Шура — наша совесть». Я же не дура, понимаю, чего она не договорила: «Шура, мол, наша женская совесть, а ты — наш позор, стыд». Вот что хотела она сказать. — Напрасно вы, Ольга, стали такой подозрительной. Лично мне никто слова дурного не сказал о вас… Правда, никто и не объяснил, почему вы поехали в эту чертову Неметчину. — Она за подружку свою поехала. За Галю Чалую. Не знаете? Что у мельницы живет с матерью и ребенком. У нее жених был, партизан. Заглядывал к ним… И она уже… это самое… ребенка от него ждала. А тут ее в Германию. Может, донес кто. Что делать? Не скажешь, не пойдешь на комиссию. Ведь начнут допытываться: от кого? Кто отец? Дознаются, что партизан, — петля… Когда вместо нее стал рассказывать Петя, Ольга вдруг закрыла лицо платком и всхлипнула. Парень коснулся ее плеча. — Не надо, Оля. Она по-детски шмыгнула носом, утерла глаза платком. — Простите, Петро Андреевич, — и стала рассказывать сама: — Галя мне одной сказала, мы с малых лет дружили, в школу ходили вместе… что она… тяжелая… Проплакали мы с ней всю ночь вон там, в сосняке. Его ждали. Степана ее. А он не пришел, ранили его перед тем. На другой день пошла я к старосте. Освободите, говорю, Галю, у нее сердце слабое. Я за нее поеду. Пузырь, староста, хотя гад был, а пожалел меня. «Знаешь, спрашивает, на что идешь?» — «Знаю». — «А как мать с малышами?» — «А вы ж говорили, кто сам поедет — хорошо зарабатывать будет». — «Хитрая ты, говорит, хочешь и дуру эту выручить и заработать». Однако согласился заменить. Ему лишь бы душа. У него наряд был на шесть душ. А что я добровольно — так это ему на руку: вот, мол, как он поработал у себя в селе. Нам, кто по своей воле ехал, привилегии были: всех в телятниках везли, а нас в пассажирском вагоне. И там спросили: кто куда хочет. Я в деревню попросилась. Боялась города… В имение генеральское попала. За коровами ходила. Врать не буду: не били, не мучили. И кормили хорошо. Но иной раз такое на меня находило, такая тоска — повеситься хотелось в коровнике. Казалось, на крыльях полетела бы домой, пешком пошла бы. А вот прилетела — и тут для меня нет радости… Виноватая, — девушка не всхлипнула, у нее словно перехватило дыхание, и она захлебнулась, закашлялась. — Не надо, Оля, — снова теми же словами старался успокоить ее Петя; слова немудреные, но говорил их вчерашний солдат с такой нежностью, что Шапетович даже растрогался. На девушку они, очевидно, действовали магически. Она сразу же гордо подняла голову. — Как это нет радости? — сурово, словно был им отцом, спросил Петро. — А то, что вы полюбили друг друга, разве не радость? По-моему, это величайшая радость, какая дается человеку в жизни. Если есть любовь и доверие, ничто не может помешать. Ты веришь ей, Овчаров? — Как самому себе, Петро Андреевич. — Что ж вам еще надобно? Выбросьте из головы, что его или вас кто-нибудь чем-то попрекнет. Чем? Глупости! У миллионов людей такая же судьба. Женитесь. Давайте я буду сватом, дружкой? Кем хотите. — Вы, верно, сами много пережили, что такой добрый, — раздумчиво сказала девушка. — Я пережил то, что все пережили, — войну. Добрее от этого я вряд ли стал. А вот я читал у одного поэта: за пять военных лет мы все постарели на двадцать. Правильно сказано. — Вот почему нам тяжело, — вздохнула Ольга. — Почему? — не понял Овчаров. — Что в двадцать три года мы старики. — Ну-у, старуха! Прямо бабушка! — пошутил он и рассмеялся. А Петро подумал, что этот парень, его ровесник, не чувствует себя старше своих лет. Ему повезло. Или, может, ему отпущен больший запас молодости? А вот Ольга, она это чувствует, потому по-матерински думает не только о себе, но и о том, кого полюбила, о его жизни, будущности — чтоб он ничем не запятнал себя. Он, Шапетович, тоже много старше своих лет. И ответственность на себя взял не по годам, а это требует не только соответствующего поведения — опять-таки не по годам, но и совсем иного строя мыслей. Вот каких советов у него просят — словно у мудрого старца. И он должен давать их с мудростью, которой неоткуда еще взяться. — А вы верните ее, украденную войной молодость. Я стараюсь вернуть. Работой. Любовью. Учебой, — сказал и тутже подумал: «А верну ли? Не изрекаю ли я газетно-казенные истины? Интересно, что об этом думает Саша? Мы почему-то ни разу с ней не говорили о том, какими мы были до войны и какими стали теперь. Должно быть, Саша считает это естественным, что мы стали другими». Ольга словно не слышала, заговорила опять о своем: — Я Пете говорю: зачем ему спешить с женитьбой? Ему учиться надо. Поехал бы на какие-нибудь курсы, теперь в каждой газете объявления… — А мать? — напомнил хлопец жестко. — За матерью я пригляжу. Можешь на меня положиться! — Станете невесткой и — приглядывайте, ему спокойней будет. — Да не поедет он никуда, если женится. Ведь я знаю. Так и останется в колхозе. А кем он в этом колхозе будет? «Вот у тебя какие расчеты! — с недобрым чувством подумал Шапетович. — Так бы сразу и говорила, а не кивала на себя». Однако, здраво рассудив, разве попрекнешь ее? Может быть, она и хитрит немножко, но хитрость эта от чистого сердца и впрямь самоотверженная. Боится она, что женитьба и ее, его жены, репутация помешают Овчарову «выбиться в люди». Готова взять заботу о его матери и ждать, пока он будет учиться. Пройдет время, забудется прошлое, заслужит она снова в деревне добрую славу — усердная работница и верная невеста… Оценит это он, получивший образование Петя, — ее счастье. Не оценит, другую найдет, — значит, «не судьба», как говорят. Что ж ты ей ставишь в укор? Ага, отношение к колхозу. Конечно, это его долг — давать отпор таким настроениям. Но те слова, которые он со всей искренностью и горячностью сказал бы в любом другом случае, не годились здесь, в залитом лунным светом парке, перед этими двумя влюбленными. Неуместны они перед их человеческой драмой, да и настроение у него не то. Поэтому сказал почти официально: — Поработает вот так, как сейчас работает, лето в колхозе, осенью мы сами его пошлем в областную партшколу. Мы уже говорили с Панасом Остаповичем. Ольга тайком вздохнула. Шапетович понял: о партшколе они знают, — наверно, сказал Громыка, потому Ольга и боится, что женитьба на ней может помешать Пете. Какая безжалостно-суровая предусмотрительность! Правду она сказала: потому нам трудно, что в свои двадцать три — двадцать пять лет мы смотрим на жизнь как старики. У дома Петро увидел белую фигуру. Узнал издалека — Саша. Она стояла, закутавшись в медицинский халат, прислонившись к кирпичному, щербатому, выветрившемуся за многие десятилетия столбу. Петро бросился к ней бегом: — Ты что? — Где ты был? Он обнял жену. — Я гулял. — А я проснулась от какого-то кошмара. Лампа горит, а тебя нет. Хотя бы лампу потушил, пожар устроишь. Что снилось — не помню, сердце и сейчас еще вот как бьется, посмотри. Петро положил руку ей на грудь — послушать сердце. Саша стремительно, в каком-то горячем порыве, обхватила его шею, поцеловала. — Ты вся холодная. И дрожишь, — сказал Петро, уводя ее в дом… …Он лежал рядом с ней счастливый, умиротворенный… Сказал, как говорил в такие минуты тысячу раз: — Я люблю тебя. — И я люблю тебя, хотя ты удираешь посреди ночи. — Саша засмеялась, пальцы ее нежно гладили его плечо. — Я уснул над своими мифами. — Уж не приснилась ли тебе богиня? Петро засмеялся: — Ты угадала. Снилось, что меня обнимает сама Афродита. Атрощенко пригрозил, что заявит в райком. И знаешь, что я ответил? Смех! «За богинь на бюро не вызывают». — У вас и за обыкновенных баб не очень-то вызывают, — усмехнулась она. — Уж не поджидала ли она тебя в парке, твоя богиня? — Ты — злюка. Скоро к снам начнешь ревновать. За что я люблю тебя, такую? — За что я люблю тебя? — а пальцы нежно коснулись его плеча. Немного спустя он спросил: — Ты считаешь — меня не за что любить? — Иной раз — не за что. — Любят человека, а не его поступки. А человек не ангел. Он не может всегда быть розовеньким. — Человек всегда должен быть человеком. — Ух, какая глубокая философия! — Спи, — Саша ласково провела рукой по его щеке. Обычно он скоро засыпал, вот так, припав щекой к горячему плечу жены. Но сегодня не спалось. Почему-то снова перед глазами встал Андрей Запечка, как живой укор его покою и счастью. А потом Ольга, с ее настороженностью, самоотверженным расчетом и жаждой услышать доброе слово успокоения. — Ты упрекаешь нас в нечуткости к людям. Считаешь, что у тебя одной сердце за них болит. А сама?.. За что ты невзлюбила эту несчастную Ольгу? Она видит это, переживает… — Уж не она ли та богиня, к которой ты бегал среди ночи? — Голос сразу стал язвительным. — Я встретил их с Овчаровым. Он хочет, чтоб они поженились. А она боится, как бы его потом не попрекнули… — Не зря, видно, боится. — Ты жестокая. Неужели ты в самом деле считаешь, что все, кто был там, вели себя… так, как ты думаешь… — Не все уезжали по доброй воле. — А ты знаешь, почему она поехала? — Знаю. — Она спасала подругу. — От чего? — Как — от чего? — Сперва крутили с партизанами, а потом нашли ход, чтоб и одной и другой было хорошо. — Уж куда как хорошо им было! — А то, скажешь, она горе мыкала, Ольга твоя! Приехала сытая, расфуфыренная. Воз тряпок привезла… — Нельзя так, Сашок. Ты видишь только внешнюю сторону. Жизнь есть жизнь. Она не останавливается. И живой думает о живом. — Ох, как ты умеешь защищать их, таких!.. «Жизнь есть жизнь», — сказала тихо, но со злостью. — А что бы ты запел, если б я?.. Я, может, больше, чем кто другой, могла б… чтоб жизнь не останавливалась… А я остановила ее! Задетый очередным напоминанием о его «грехе», обиженный недоверием — сколько можно попрекать? — Петро решил отплатить: — Ты говоришь так, будто жалеешь, что не поступила, как некоторые другие… Саша ответила не сразу. Но по дыханию ее Петро понимал, что пауза — опасная. Съежился в ожидании. — А что ты думаешь? И жалею! Как пощечину дала. И резко повернулась к нему спиной, натянула на голову одеяло. Не в первый уже это раз — внезапные переходы от горячих признаний и душевной близости к упрекам и даже ссоре. Он уже знал, что лучше всего в такую минуту смолчать. Смолчал. Но все-таки было обидно. Неужто она не видит, как он любит? Неужто не верит? Почему она стала такой? До войны, в ранней юности, в ней и следа не было этой бабьей ревности. Наоборот, она подсмеивалась иногда над ним, называла ревность пережитком, которого интеллигентный человек должен стыдиться. Почему же ей теперь не стыдно? Мы стали старше, а с возрастом приходит мудрость и покой. Саша ведь умная и выдержанная во всем, кроме этого своего чувства. Сказать ей спокойно об этом? Попробовать помириться?.. Нет, сегодня он не хочет так скоро мириться. Пусть видит, что он обижен. Петро повернулся к ней спиной. Месяц светил в окно. На полу лежали светлые прямоугольники — два у самой кровати и два ближе к окну, а между ними черно: середина рамы забита фанерой. Под печью ведет свою тоскливую песенку сверчок. Его, привыкнув, не слышишь, когда засыпаешь со спокойной душой, всем довольный. А сейчас он раздражает, когда такое вот настроение и не спится. Заговорила спросонок дочурка. Ребенок напомнил о себе — сразу как-то стало легче и светлее.
VI
Внезапно похолодало, как это часто бывает весной. После почти летнего тепла, державшегося еще вчера, — совсем осенняя слякоть. Дождь, который налетел полосами, в течение дня несколько раз переходил в снег. Петро пораньше протопил печку, наварил супу — не из великой любви к этой снеди, из экономии: пять мелких картофелин, кусочек масла, которое Саша купила для Ленки. А суп — слюнки текут от одного запаха. Ждал Сашу. Где она ходит в такое ненастье? Больные — страшные эгоисты, думают только о себе, фельдшерица для них — не знающая остановки и устали машина, ее можно вызвать в любой час дня и ночи, оторвать от домашних дел, от ребенка, от мужа. Петро уже однажды запротестовал, потребовал, чтоб Саша приучала людей к порядку: «Ведь ты же не скорая помощь». Она повесила на дверях медпункта объявление: часы амбулаторного приема, часы посещения больных на дому. Но это ей нисколько не помогло. Не может она не пойти к больному, в особенности если вызывают к ребенку. А детей болеет много, даже больше, чем зимой. Ослабевшие, босые, раздетые, они легко простужаются на обманчиво-теплом весеннем ветру. В Понизовье вспыхнула дифтерия. Саша трое суток не возвращалась домой — работала с эпидемгруппой. И теперь еще дрожит за Ленку. Все, в чем посещает больных, снимает в медпункте. Несмотря на жидкий суп и дурную погоду, настроение у Петра отличное. Не надо никуда идти, ни на какие собрания, а впереди еще добрых пять часов тихого вечера: можно спокойно почитать, поговорить с Сашей, позабавиться выдумками и бесконечными «почему» дочурки. Особенно приятна мысль, что будет время заняться историей. Он сам диву дается, откуда у него вдруг такая любовь к этой науке. Читает «Историю древней Греции», как увлекательный роман. А того времени, когда можно взяться за книгу, ждет с не меньшим нетерпением, чем когда-то свидания с Сашей. Прямо смешно. Саша не на шутку начинает ревновать его к мифическим богам и героям. Во всяком случае, сон, где его обнимала Афродита за три дня припомнила несколько раз, правда со смехом, но иногда довольно язвительным. Петро, как обычно, узнал жену по стуку ее сбитых каблуков по цементному полу коридора. И Ленка узнала. Бросилась к двери: — Мама! Саша услышала ее, сказала из коридора: — Ленок, маленькая моя, отойди от двери, я холодная и мокрая. Петя! Возьми ребенка! Петро посадил малышку на теплую лежанку. — Не хочу! К маме хочу! — Нацелуешься еще со своей мамой. Счастье такое! — Ты — бог! Несколько дней назад у дочки появилось это неожиданное бранное слово — конечно, от маминых насмешек над его богами. Они от души посмеялись. Петру хотелось, чтоб девочка поняла, что это шутка. Сказал: — А мама — богиня. Ленка упорно не соглашалась, злилась: — Нет! Ты — бог! А мама — моя мама. Саша стояла у порога, осторожно снимая с себя мокрую клеенку, которой прикрывалась от дождя, и смеялась: — Ну что, Аполлон, приготовил амброзию? — Ага. О, если б ты, великая Гера, мудрейшая из богинь… — Ты — бог! — закричала сердито Ленка. — Мама — докталка. — …догадалась принести каплю нектара, жизнь была бы лучше, чем на Олимпе. — У тебя есть шанс отведать этого нектара. — Она подошла ближе, заправляя под косынку мокрые пряди волос, и, глядя в упор добрыми ласковыми глазами, сказала: — Петя! Там, в сельсовете, устраивается на ночлег Владимир Иванович… Лялькевич. Неловко, знаешь, чтоб наш партизанский товарищ спал на столах. Иди пригласи… На какой-то миг, впервые с того августовского утра сорок второго года, в нем шевельнулась ревность. Саша в одном была молодец: как бы они не поссорились, никогда долго не дулась, не то что некоторые жены — по две недели не разговаривают. Злости и обиды у нее хватало не больше чем на полсуток. Эта ее черта приучила Петра тоже быстро забывать все обиды. Забыл он уже и о том, что она сказала тогда ночью. Ее фраза «А что ты думаешь? И жалею!» изрядно его ошарашила, но и тогда он понимал: сказано это назло ему. Но теперь мелькнуло в голове: «А может быть, в самом деле жалеет, что не стала женой Лялькевича, когда тот, раненный, полгода жил в их доме и для односельчан, для немецкой власти был ее мужем?» Однако именно эта мысль как-то сразу успокоила. «Не стала и не могла стать ничьей женой ни при каких обстоятельствах, потому что любила и любит меня. И в этом твое главное счастье, чудак», — подумал о себе. И стало ему так хорошо: спокойно, радостно. — Почему ж ты не пригласила? Думала, я буду против? — Он ласково стер с ее лица капли дождя. — Я приглашала. Отказывается. Петро засмеялся. — Интеллигент! Никак не усвоит повадок уполномоченных, которые сами ищут, кто б их накормил и спать уложил. Давай свою клеенку. Пойду. — Нет. Накинь шинель. Я сбегаю к Громыкам, займу что-нибудь для ужина. — Она тяжко вздохнула. — Пожалуйста, только не стыдись нашей бедности. — Я не стыжусь, но это тяжело — бесконечно занимать. Ленок, посиди немножко одна, детка. Посмотри в окошко. Папка приведет гостя. Ты же любишь гостей? — Люблю. — Вот и умница. — Саша поцеловала дочку. Петро натягивал шинель, с улыбкой думая, что он тоже любит гостей — тех, которые приятны и жене.Когда Саша вернулась с марлевым узелком в руках, Петро сидел у стола с дочкой на коленях, а гость ходил взад-вперед по комнате. Новый протез, резиновый, как-то жалобно попискивал. Сашу почему-то пронзил болью этот писк, словно она только сейчас узнала, что секретарь райкома тоже инвалид, которых так много и о которых болит ее сердце. Ей показалось, что Владимир Иванович чем-то взволнован. И она на миг настороженно застыла, испугавшись: не сморозил ли чего-нибудь Петя? — Если он еще у Булатова, попробуем что-нибудь сделать. Проверим, что ему инкриминируют… какие факты… — Это вы про Запечку? — догадалась Саша, кладя узелок на полку. Девчурка соскочила с отцовских колен, бросилась к матери: — Мама! Что ты принесла? Яйки? Я хочу яичко. Саша подхватила ее на руки, высоко подняла, посадила на печку. — Тише, Ленок, ты мешаешь дяде. — И заговорила с Лялькевичем: — Владимир Иванович, поверьте мне, я его знаю — лечила, не мог Андрей Запечка ничего худого сказать. Бывают болтуны вроде… — и осеклась. — Простите, не буду называть никаких имен. Есть такие, что в пьяном виде могут ляпнуть любую глупость. Запечка не такой. И не пил. И вообще не мог он… Жена его рассказывала: землю целовал, когда вернулся. — У Саши заблестели в глазах слезы. — Я верю вам, Александра Федоровна. Я, если хотите, убежден, что человек этот больше патриот, чем некоторые из тех, кто его сейчас обвиняют. Но боюсь, что ничего не удастся сделать, в особенности если он уже не у нас, а в области. — Простите, Владимир Иванович, но я этого не могу понять. Я, конечно, молодой коммунист, политически мало подкованный. Но все-таки я читал Ленина, Программу, Устав… И я понимаю так: мы — правящая партия. Центральный Комитет руководит всем, осуществляет контроль над всеми органами, в том числе и над… этими. А в районе кто должен следить? Вы, райком. Для меня вы — высший авторитет, я вас выбирал. Да и не только для меня, коммуниста, — для каждого человека, партийного и беспартийного. Я, Владимир Иванович, рассказал вам об этом не как гостю. Не просто так. Я вчера специально ходил к вам, но никого не застал — ни Анисимова, ни вас. Я обращаюсь к секретарю райкома. Вы, конечно, простите, что я… позвал в гости и начал с такого «угощения»… — Да что вы извиняетесь! Какие могут быть между нами церемонии! А тем более когда такое дело — судьба человека! — Вот именно — судьба человека! И меня удивили ваши слова: «Боюсь, что ничего не удастся сделать». Я — учитель, у меня в школе работы по горло, еще учеба… И вы, райком, спрашиваете с меня, с парторганизации, за все: за сев, за лесовывозку, за финансы, за молоко, за шерсть… за что хочешь. Так послушайте же и нас иногда. А то этот ваш Булатов сидит на собрании как сыч и только задает такие вопросы… ну прямо-таки, между нами, провокационные какие-то. А ведь он член бюро райкома. Не подумайте, что я жалуюсь. Но ведь мог же он спросить у нас про этого несчастного Запечку? А уж если поймал его на месте преступления, как говорится, так, я думаю, тоже можно по-человечески объяснить. Мы все-таки коммунисты. И все воевали, многие — офицеры. Не такие тайны нам доверялись! Саша сидела перед печкой и раздувала огонь, мокрый хворост не хотел разгораться, дымил, дым ел глаза, она по-детски, рукавом вытирала слезы. Лялькевич, который присел было у окна, слушая Петю, поднялся, подошел к Саше. — Дайте мне, партизану. Я был мастером разжигать костер. «Уходит от ответа!» — неодобрительно подумал Петро и, чтобы заставить его ответить по существу, шагнул к печке, быстро опустился на колени, легонько оттолкнул жену и сказал: — Это и мы умеем, — вложив в эти слова двойной смысл: умеем разжигать и уходить от прямого ответа. — Наконец-то догадался, — заметила Саша. Дул изо всей силы, со злостью, почему-то вдруг закипевшей в душе. Переводя дух, слышал, как за спиной попискивает протез, скрипят половицы — Лялькевич ходил. Его молчаливое хождение начало раздражать Петра. Горячие угли разгорелись, и сразу весело затрещали тонкие сосновые веточки, вспыхнуло пламя. Петро подкинул поленьев потолще. Поднялся. И очутился лицом к лицу с гостем. Его поразила странная грусть в глазах Лялькевича. — В этом наша беда, — сказал тот с болью. — В чем? — не понял Петро. — Что Булатов выходит из-под партийного контроля. — Вы как будто жалуетесь мне, — иронически хмыкнул Петро. — Может быть, мне установить над ним контроль? — Да нет, Шапетович, все это гораздо сложнее, чем вам кажется. Не в одном, разумеется, Булатове дело. В сложившихся отношениях райкома и начальника районного отдела… Не улыбайтесь, Шапетович, поймите… При такой разрухе, при таких недостатках нашему брату можно пришить что угодно. И пришивают… Саша, которая на подоконнике нарезала небольшой, с полфунта, кусочек сала тоненькими ломтиками, с тревогой прислушивалась к словам Лялькевича. Петру не понравились слова секретаря и еще больше Сашина тревога — за него несомненно. «Прикидывается сиротой, чтоб не брать на себя ответственности». Пренебрежительно передернул плечами. — Ни черта не понимаю. — А ты думаешь, я понимаю? — с чуть заметным раздражением спросил Лялькевич. — Думаешь, если я секретарь райкома, так мне открыты все тайны? Я должен, как видишь, по району колесить и чем только не заниматься! — И уже спокойнее: — Я сам не понимаю, неужто там, — кивнул вверх, на потолок, — не видят этого? Неужто Сталин с его прозорливостью не понимает? — Петя, прибери книги со стола, нарежь хлеба. Петро удивился: у Саши ничего еще не готово, со столом и хлебом можно бы не спешить. Не хочет, чтоб они продолжали этот разговор? Почему? Как раз последние слова Лялькевича понравились ему. Нет, это не жалобы человека, который боится или не хочет взвалить на себя лишние заботы. Это — серьезные и горькие раздумья. Разве мало сам он думал над всем этим? И другие, возможно, еще более мучительно размышляют, потому что тот же Лялькевич знает, безусловно, гораздо больше. Поговорить с ним по душам — разве это не важно? Однако, кажется, не только одна Саша считает, что тема, как говорится, исчерпана, но и Лялькевич тоже. Подошел к столу, стал рассматривать книги. В печке зашипело сало. А когда сковородка была поставлена на загнетку и Саша вбила туда яйца, пошел такой аромат, что у Петра закружилась голова. «Чего доброго еще в обморок хлопнешься, как Таня», — с грустным юмором подумал он. Но, увидев, как тайком проглотил слюну гость, повеселел: «Да ты такой же голодный, как и я, грешный». И уже быстро, нетерпеливо, пачками стал сваливать книги со стола на кровать. Лялькевич, просмотрев одну-две книжки, спросил: — Грызешь историю? — Вдруг открыл, что это интереснейшая наука. Саша, вытаскивая сковородку с яичницей из печки, засмеялась: — Он грезит богами! Особенно богинями. Каждую ночь видит во сне Афродиту. — Ну, выдумаешь! — Очевидно, интерес к истории приходит с годами, — заметил Лялькевич. — В школе, в институте я не любил истории. Математикой и физикой увлекался. А вот теперь и мне хочется почитать о богах и о героях. К сожалению, некогда. Все мечтаю: возьму отпуск, удеру куда-нибудь в лес… У меня ведь столько знакомых лесников с партизанских времен! Захвачу чемодан книг и — запо́ем, запо́ем… С утра до вечера. Сплю и вижу, как я читаю, с каким наслаждением. — Лялькевич вздохнул, грустно улыбнулся. — Обычно фантазия разгорается у меня вечером. А утром проснусь — трезвость полная. Понимаю: никуда мне не спрятаться. Придет отпуск — надо лечиться. Поеду на курорт… Ну, и почитаю там не больше других… И опять — собрания, заседания… Саша поставила на застланный свежими газетами стол пузатую бутылочку, такую полную и прозрачную, что Петру показалось — она пустая. Он не удержался, переставил ее с места на место — убедился, что она наполнена по самую притертую стеклянную пробку чистейшим нектаром. «Весь акушерский энзе выставила, — подумал весело. — Опять акушерка напишет в райздрав». В день Красной Армии они с Бобковым выпросили у Саши граммов двести спирта — помянуть тех, кто шел рядом с ними и не дошел. Не только физические, но и душевные раны еще свежи у каждого. Вздорная девчонка, в голове у которой только кавалеры да интриги (а кавалеров нет, и она злится), написала в райздрав, что заведующая фельдшерским пунктом использует медицинский спирт для личных нужд. Петра поразил не самый донос, а то, что девушка, побывавшая на фронте, ничему не научилась. Для него фронт — университет разума. Разведя спирт водой, Лялькевич поднял свой стакан. — Спасибо вам, друзья. Отказывался я от вашего приглашения потому, что знаю, как это хлопотно в наше время — принять гостя. Но откровенно признаюсь: радостно мне побывать в вашей семье. Сколько раз думал: заеду и скажу: «Давайте посидим попросту…» Так нет — то ложное чувство неловкости мешало, то бесконечные дела… Однако оставим речи. Позволь мне, Петро, выпить за Сашу. Спасибо вам, Александра Федоровна, за ваше… золотое… Нет, шаблонно! «Золотое», «великое»… Одним словом, за ваше доброе сердце, Саша! Саша, раскрасневшаяся у печки, слегка смущенная тостом, с дочкой на коленях, с маленькой рюмочкой в руке, была в этот миг необычайно хороша. Петро глаз не мог отвести от жены. Чокнулись. Выпили. Захрустели огурцами. — Берите яичницу, Владимир Иванович. Что вы одни огурцы? Давайте я вам положу. — Спасибо, спасибо. Больше не надо. Пускай малышка. Так, значит, ты не помнишь меня, Ленка? — Мм, — покачала головой девочка. — А я тебя нянчил, и мы с тобой славно дружили. Ты, я да еще кошка Катя. Помнишь кошку? — У тети Поли? — У тети Поли. Да, как Даник? — Учится в техникуме. — Это я знаю. Навещает? — Редко. — Приедет — попросите, пускай заглянет. Мой главный связной. Забыл своего командира, — Лялькевич вздохнул. — Хотя это естественно: новая жизнь — новые знакомства, симпатии. Все новое. — Как вам живется, Владимир Иванович? — неожиданно спросила Саша. — Худой вы. С вашим здоровьем нельзя так… запускать себя. Мы вас в какие времена смогли на ноги поставить. — О, Александра Федоровна, вы с Полей это умели! — Что ж это она, ваша Лида? Лялькевич покраснел. — Да нет, ничего. Вы не думайте. Мы живем дружно. — Он говорил так, словно обязан был дать Саше отчет о своей семейной жизни. — Лида — умный человек. Только работает как одержимая. Тридцать два часа в неделю, и что ни день — сотня тетрадок. Я каждый раз с ужасом гляжу на эту гору замусоленных тетрадей. Вот, наследника теперь ждем, — радостно-смущенно признался он. Саша улыбнулась в ответ, довольная, что в общем жизнь у него идет нормально. — Зачем вам эта работа? Жена — учительница, вы — учитель. Стали бы директором школы. Все-таки покойней. С вашей ногой, с вашим здоровьем… Сбежало с лица Лялькевича смущение, исчезла растроганность, размягченность от выпитого спирта и ужина. В одно мгновение оно стало таким же, каким было, когда говорили о Запечке, — аскетически-суровым, озабоченным, казалось, до душевной боли. Задумался на миг, чуть заметно усмехнулся. — Удивительно, что у всех женщин одна психология. Лида чуть не каждый день твердит мне о том же… И я одно время стал уже прикидывать: какую бы школу попросить? Однако потом рассудил: нет, нельзя мне уходить с партийной работы. Не подумайте, что я к власти рвусь или такого уж высокого мнения о себе как о руководителе. Нет. Наоборот. Руководитель я по нашим временам посредственный — мягкий, либеральный… Но именно потому, что многовато у нас черствости, командования, не хочется еще пока уходить из райкома. Поймите правильно. Как-то так у нас сложилось, что некоторые работники, будто и неплохие люди, работают… ну, как бы это сказать?.. для докладов, для отчетов, что ли, а не для людей. Все это даже трудно объяснить… Надо самому повариться в этом котле, чтобы понять… Ну, например, с инвалидом этим… Честное слово, боюсь я, что Анисимов может ответить: пусть Булатов разбирается, у нас хватает дел поважнее. А для кого же они, все эти наши дела? Анисимов — руководитель инициативный, напористый, энергичный. А вот душевности, чуткости, внимания к людям иногда не хватает… Пробовал говорить ему об этом. Кричит, что я либерал, народник, гнилой интеллигент, что меня надо гнать в шею из парторганов. Другой на моем месте давно плюнул бы. Но я считаю: амбиция и гонор здесь ни к чему. У Анисимова есть хорошее качество: он отходчив и незлопамятен. Его можно убедить, если умно… — Владимир Иванович улыбнулся. — Он как-то сказал: ты у меня что Фурманов при Чапаеве. Беда, что я, видимо, не умею, как Фурманов. — У Деда вы умели, — сказала Саша. — Дед был дитя. — Лялькевич вздохнул, вспомнив погибшего командира отряда. Помолчал, как бы почтил его память. Сказал, завершая мысль: — Да, многого мы не умеем. Говорим о сталинском стиле работы. А что это такое? Вам признаюсь: лично я не знаю… А вот читаю, как Ленин работал, и… больно мне, что Анисимов, Булатов, Лящук и сам я… не так мы работаем… Не умеем… А надо нам учиться, Петро. Ох как надо! Говорил Лялькевич тихо, медленно; если не смотреть на него, то могло бы показаться — нехотя. Но на лице отражалось то внутреннее напряжение и взволнованность, которые заставляли слушать его с особенным вниманием. Даже маленькая Ленка затихла и смотрела на чужого дядю как завороженная. Доверие, с которым секретарь райкома так откровенно высказывал свои мысли, радовало Петра. Но в то же время становилось почему-то тревожно, как в тот раз, когда с ним говорил Панас Громыка. Несмотря на все нехватки, на бюрократизм, Петру хотелось после такой войны и победы видеть только хорошее, красивое, чистое. Иногда ему казалось: если б люди нарочно не старались найти плохое, не вытаскивали его на свет божий, то вокруг было бы больше светлого и всем легче жилось бы. Знал, что это толстовская философия: непротивление злу. Сам часто смеялся над своими розовыми очками, потому что жизнь каждый день разбивала их и принуждала вести борьбу со злом, с несправедливостью. И он ведь любил эту борьбу.
VII
— Петро Андреевич, расскажите миф. Надя-почтарка — девушка рыжая, некрасивая, но очень романтическая, чувствительная. Как-то сидя в сельсовете без дела, Петро рассказал ей и Кате миф о Нарциссе и был поражен тем, как слушала Надя — словно ребенок сказку: дошел он до смерти Нарцисса — и на глазах у нее заблестели слезы. С тех пор Надя частенько бывала его слушательницей. Петру доставлял удовольствие ее детский восторг. А кроме того, когда рассказываешь другим, очень прочно запоминаешь сам. На всю жизнь. Никакой экзамен после этого не страшен. Но какой из мифов отвечает его настроению? А настроение у него сейчас приподнятое. Может, что-нибудь о проказнике Эроте? Катя по этой части опытна больше чем надо, ее никакой былью не смутишь, не то что сказкой. А Надя?.. Этой рыжей, верно, тоже каждую ночь снятся хлопцы. Петро подумал, что ей, такой некрасивой, трудно будет найти свое счастье, и пожалел девушку. И неизвестно почему ему вспомнился поэтический миф о Дафне. — Аполлон, бог поэзии и музыки, был парень веселый, жизнерадостный. Ну, к примеру, как я. — Вы иной раз темнее тучи, — возразила Надя. — Будешь критиковать — не стану рассказывать. — Нет, нет… — Но, как и простого смертного, однажды бога постигло горе. А виноват в этом был его коллега, юный бог любви Эрот, сын Афродиты. — Которую вы видите во сне, — засмеялась Катя. Петро отпарировал: — Тот самый Эрот, маленький шалопай, который довольно часто навещает Катю. Заведующая хатой-читальней поняла намек, покраснела. — Так вот… Однажды Аполлон увидел Эрота. Малыш натягивал свой золотой лук. Аполлон засмеялся и сказал: «Бедняжка, зачем ты таскаешь такое тяжелое оружие? Не под силу оно тебе. Не вздумал ли ты соперничать со мной? Уж не хочешь ли ты отнять мою славу?» — «Погоди, я тебе покажу, — подумал Эрот, — чьи стрелы более метки и глубже ранят». Взмахнул божок золотыми крылышками, взлетел на Парнас — на гору, где жили все прославленные боги и герои. Взял он там две стрелы. Одну — что зажигает любовь… Эту он пустил в сердце Аполлона. Другой стрелой, которая убивает, губит любовь, он пронзил сердце нимфы Дафны, дочери речного бога Пинея. Влюбился Аполлон в Дафну, как говорится, по самые уши. Красавец такой, что у любой голова бы закружилась. А Дафна, хотя и была обыкновенная девушка, увидела его и — бежать. Что косуля от волка. Аполлон — за ней. «Погоди, прекрасная нимфа! — просит и молит он. — Куда ты летишь, как голубка от орла? Ведь ты поранила себе ноги. Остановись! Я люблю тебя! Погляди, кто я. Не пастух какой-нибудь, не лапотник, а сам бог, сын Зевса!» Но что ей до того, когда в сердце у нее ни капли любви!.. — Это правда. Хоть ты бог, хоть ты принц, а коли нет любви… — вздохнула Надя. — Ой, Надечка, не говори… Перед таким мужчиной, как этот Аполлон, не устоишь, — сказала многоопытная Катя. В дверь просунулась плешивая голова Халимона Копыла. Старик ухмыльнулся щербатым ртом. — Сказочки рассказываем? — А вы, дядька Халимон, не подслушивайте, вам нельзя про любовь. Жену разлюбите, — засмеялась Надя. Петру стало неприятно оттого, что Копыл подслушивал. Пропала охота продолжать. Да от Нади не отвяжешься. — Ну и что же дальше, Петро Андреевич? Догнал ее Аполлон? — Догнал. — Эх! И все? — разочарованно вздохнула девушка. — Нет, не все. Чувствуя, что Аполлон вот-вот схватит ее, испуганная Дафна стала просить своего отца, бога Пинея: «Папочка, родной, помоги мне. Прогони от меня этого нахала. Я его боюсь. О земля! Лучше поглоти меня!» Сказала она это и тут же застыла на месте… превратилась в лавр, дерево такое, на котором лавровый листрастет… Долго опечаленный Аполлон стоял перед зеленым лавром. А что поделаешь? Ничего. Одно только было в его власти. Он сказал: «Будь же вечно зеленым, лавр. И пусть венок из твоих листьев украшает мою голову, мою кифару и колчан». Все. Вот что наделал проказник Эрот, лучший друг нашей Кати. — Не больно он мне друг, — серьезно и даже как будто печально ответила Катя. — Он друг тех, кто счастлив в любви, как вы. А у меня… какое там счастье! Одно несчастье. Из-за стены, где помещался медпункт, донесся насмешливый Сашин голос: — Аполлон Андреевич! Боюсь я, как бы кто-нибудь не поразил стрелой твое сердце. То, что его рассказ слышала жена, Петра нисколько не смутило, наоборот, развеселило еще больше. Он крикнул в ответ: — Богиня моя! Оно давно поражено. Тобой. Девушки засмеялись. Хлопнула дверь медпункта, и на пороге появился Панас Громыка. Сверкнул цыганскими глазами, сказал Петру: — Хватит тебе развлекать девчат. Им и так не скучно. Пошли на поле. Погуторим с людьми. Когда вышли в сад, Панас сказал: — Осторожней ты рассказывай такие сказки. Особенно Кате. Шура перевязывала мне палец, и я видел, что ей не очень приятно. Она шутила, но я-то видел, что это за шутки. Бабы, брат, они все на один салтык. Ревнивые. — Ну, ерунда!.. Что можно подумать, когда человек говорит в полный голос, так что за стеной слышит жена, за другой — Копыл? — Коли уж пришлось к слову, Андреевич, так я тебе советую: постарайся, чтоб и Копыл поменьше слышал… Много мы доверяем разным Копылам. — А что, разве мы говорим что-нибудь крамольное? — Нет. Но знаешь, как бывает… Иногда самые правильные твои мысли могут так перевернуть, что себя не узнаешь. — Удивляет меня, Панас, твоя подозрительность… Держим человека секретарем сельсовета и будем таиться от него? — Я, Андреевич, на шестнадцать годов больше прожил на белом свете, чем ты. Мне уже можно стать подозрительным. Тебе нельзя, тебе надо верить людям, это я понимаю. Но что до Копыла, то скажу тебе откровенно: дело не пострадало бы, если б на его месте сидел кто-нибудь другой. Слышал, что говорили инвалиды? На черта нам выслушивать такие попреки!После сильного похолодания, когда выпал снег и две ночи стоял мороз, снова повеяло теплом, правда неуверенно, робко. Земля от этого весеннего снега набухла водой больше, чем после зимнего. Дороги — ни пройти, ни проехать. Снова разлилась речка. Во время снегопада зазябли скворцы. И теперь они распелись очень уж громко, крикливо и, казалось, не слишком радостно, не по-весеннему, как в первые теплые дни, когда птицы только что вернулись с юга в родные края, разбились на пары, начали вить гнезда. Может быть, скворцы оплакивали сейчас своих близких, погибших от мороза? — Ты говоришь: кого нам бояться, если мы говорим по-партийному, правду? — после продолжительного молчания вздохнул Панас. — А я сам себя начал бояться, потому что ей-богу же перестал понимать, где правда, где неправда. За то, что я тебе скажу, Анисимов, наверное, вызвал бы меня «на ковер». У меня душа горит от злости на всех, кто заставил так рано сеять. Моя бы власть — призвал бы их всех, от Анисимова и ниже… и выше… и без долгих разговоров гаркнул бы по-армейски: партбилеты на стол, сукины сыны! За погубленные семена. За потраченный зря человеческий труд. Померзло все, что взошло. А у нас каждый килограмм зерна — на вес золота. Каждый вспаханный гектар чего стоит! Но вместе с тем когда подумаешь: а что им было делать? Тянуть с севом? С таким тяглом — по два десятка заморенных лошадей на колхоз, да один трактор-инвалид на три колхоза? С такой рабочей силой — бабы да дети? И так сев растягивается месяца на два. А если бы и дальше пекло и сушило, как в начале весны? Опять-таки погибло бы не меньше. Вот и думай — где правда?.. — Ты, Панас, прямо софист. Были в Греции такие философы. Все могли опровергнуть и все могли доказать. Они шли по улице, с трудом вытаскивая из топкой глинистой грязи кирзовые сапоги. Добрались до самого высокого места — до «горба», как тут его называли, где улица как бы переламывалась. Через чужой двор и огород по просохшей тропке направились в поле. — Тебе, Андреевич, легче: ты можешь от жизни укрыться за своей наукой. Хитрую ты науку себе выбрал. История увлекает, что твой роман: зачитаешься — не можешь оторваться. Петро подумал, что этот практичный крестьянин и солдат прав: действительно, увлечение мифологией приносит ему немало радостных минут. Вот как сейчас — после того, как он прочитал дома о Геракле и рассказал девчатам про Дафну. Председатель остановился в конце огорода, повернул к Петру хмуро-озабоченное лицо. — Вот тебе еще один пример. Анисимов на совещании — помнишь? — сказал: увижу где, что колхозники пашут на себе, — голову оторву председателю тому… Справа от них, через несколько дворов, шесть женщин, по три в постромках с одной и с другой стороны валька, тащили плуг, седьмая, высокая, сутулая, казалось, не просто пахала — вела плуг, а натужно толкала его — им в помощь. Петро помнил, что он первый горячо захлопал словам секретаря райкома и был удивлен, что председатели колхозов, сидевшие рядом, не очень дружно поддержали его. Он тогда разозлился: баи, сами морды понаели, а несчастные вдовы на себе пашут. — Правильно сказал Анисимов! Ты можешь так спокойно об этом говорить? Да позор нам! Мне кажется, не по земле они тащат плуг, а по сердцу моему. Громыка повернулся, и глаза его недобро блеснули. — Тебе кажется… Легко вам с Анисимовым говорить! — И неожиданно выругался. — А что мне делать? Лошадей я не могу всем дать. Не вытянут лошади и поле и приусадебные. Да если бы я хоть на день снял их с колхозного поля — назавтра был бы на бюро райкома. Я и сам понимаю: колхоз — основа. Но покуда укрепим основу эту, люди-то должны жить! Не дать им засеять усадьбы? Но ведь людям надо есть, чтоб работать. Рабинович посоветовал: пускай лопатами копают. Дурень! На это надо в пять раз больше времени и пота. Можешь меня вызывать в райком, но я разрешил по очереди не выходить на работу, пусть хоть так управятся со своими огородами. Сеять картошку — дам лошадей. Не всем, конечно. Петро молчал. Что тут скажешь? Не в первый раз этот хитрец припирает его к стенке, так, что не знаешь, в какую сторону податься, чтоб вывернуться, побить его более убедительными доводами. По дороге, отделявшей огороды от поля, Петро повернул в сторону пашущих. — Не надо туда ходить, — сказал председатель, — не будем растравлять баб. — Боишься? — спросил Петро. — Я боюсь? — Панас засмеялся… — Ох, братки интеллигенты! Крестьянские дети, а мужика не понимают! Женщины, увидев, что к ним идут, остановились, стали утирать лица косынками. Одна закричала: — Эй, мужчины, идите сюда! Хоть дух ваш почуем! Как ваш пот пахнет! — Ее Листик, видать, ничем не пахнет, — проворчал Громыка. Петро тоже узнал женщину в вылинявшей мужской майке, с голыми руками, без платка; это она кричала, вдова Лиза, по уличному — Сорочиха, полюбовница старого лесника. Очевидно, кто-то из женщин постарше хотел угомонить молодицу, потому что Лиза громко ответила: — А разве учитель не мужчина? Еще лучше: чистенький, свеженький… Не одной же докторке нюхать его. — Вот чертова баба, — хмыкнул Панас. — Сейчас ты от нее услышишь. — Надо написать Сталину, чтоб принял закон: вдовам выдавать мужчин по карточкам. — Ты и без карточки нашла, — сказала женщина, что стояла за плугом. — Да разве ж это мужчина? Листик. — Лиза громко захохотала. — Да и тот сухой. Приблизившись, Петро степенно поздоровался. Женщины вежливо ответили. Все. Кроме Лизы. Она, кажется, вовсе не поздоровалась. Вызывающе подтянула юбку с подоткнутым подолом, еще больше оголив ноги, по колени заляпанные землей и белые, удивительно красивые выше колен. И груди ее, полные, такие же белые, казалось, вот-вот при глубоком вздохе совсем откроются в низком вырезе майки. Петро всерьез испугался, что это может случиться — так бесстыдно выставила она их. Другие женщины сосредоточили все внимание на председателе, ведь у каждого своя забота. А Лиза не сводила глаз с Шапетовича. Петро не знал, куда деваться от ее взгляда. Смотреть на ее ноги, на грудь ему было стыдно перед женщинами. Скажут: «Во, парторг, как таращит бельмы на бабу». Чего доброго, еще Саше передадут. Но какая-то странная, прямо-таки магическая сила тянула смотреть на нее. Нет, это не было просто инстинктом. В душе смешались жалость, восхищение, обида, боль… Восхищение силой, красотой; боль оттого, что ей, женщине, приходится делать оскорбительную для человека работу — заменять лошадь. В этот миг он почему-то простил Лизе даже связь с лесником: какие еще у нее радости в жизни? Но почему она так смотрит? Будто хочет ударить или укусить. Будто он, Шапетович, виноват во всех бедах, что свалились на ее голову. Завидует, что он вернулся живой, здоровый, и его Саша счастлива?.. Ему вдруг захотелось обнять ее и сказать по-отечески: «Не надо злиться на весь мир. Будет еще и у тебя счастье. У тебя растут дети…» — Панаска, родненький, надо мне картошечку от сестры привезти. Это ж двенадцать верст. — Завтра я поеду в район и сам заберу твою картошку. — Председателька, когда ж моя очередь на лошадь? — Я ведь всем объявил. — А как бы мне, старухе, поскорее, у меня ж полоска на самой горе. — Тетка Кулина, первого мая посадим тебе картошку, не горюй. — Нельзя ли, Панаска, до пасхи? А то ведь этот май на радуницу как раз. А мне надо в лес сходить, к сыну на могилку. — Председатель! Мне давай коня в Христово воскресенье! Эти же богомолки работать не станут. А мне — все одно! — громко потребовала Лиза. — Грех тебе будет, Лиза, — покачала головой Кулина, высокая, костлявая старуха, что стояла за плугом. — Грех? А ему не грех, богу вашему? — она погрозила кулаком небу. — Не грех, что забрал столько мужчин? На что они ему? Землю пахать? Сено косить? Детей делать? — Побойся бога, молодица! Что ты плетешь? — Во дурная! — Ошалела баба. Женщины накинулись на нее, и Лиза как-то обмякла сразу, сдалась. — Грех… Ну, хватит вам плакаться перед председателем. Он один вас всех не приголубит. Не надейтесь. Запрягайтесь, кобылки, в плуг сами. Лиза вдруг опять повернулась к Шапетовичу, сказала саркастически и даже брезгливо, скривив полные запекшиеся губы: — А ну, интеллигенты, подмените старух, дайте им передых. Хоть борозды две пройдите, отведайте вдовьего хлеба… Слова ее обладали такой же притягательной силой, как и она сама. Нельзя было ответить отказом на такое приглашение. Да Петро и не думал отказываться. Он даже обрадовался, что разговор с этими женщинами можно завершить именно так — хоть немножко помочь им, а не просто вежливо распрощаться и пойти дальше, не утерев и капли пота со лба, в то время как они обливаются им с головы до ног. Он весело засмеялся, плюнул на ладони, повернулся к Громыке: — Что, Панас, взяли? Громыка взмахнул черными ресницами, покрутил головой. Петро понял его без слов: «Доведается Анисимов, что мы не только не запретили, а сами тянули плуг, — будет нам!» — Да черт с ним, с Аниськой! Взяли! Лиза тоже рассмеялась: — Правильно, Андреевич! И то, что назвала его по отчеству, еще подбодрило Петра. Плуг не просто тащили за постромки, женщины сделали приспособление: к постромке привязали три лямки, обшитые войлоком или старыми рушниками. Такой «хомут» надевался на плечи. Лиза грубовато вытолкнула из «упряжки» нестарую женщину, почти ровесницу свою, но какую-то изможденную, бледную, и передала ее лямку Петру. Громыка стал с другой стороны. Потащили. Говорят, поначалу любая работа, самая тяжелая, кажется легкой. Нет, Петро с первых шагов почувствовал, что работа эта очень тяжелая. Может быть, он слишком сильно напрягается? Лиза шла легче: ровней ступали по размякшей земле ее босые ноги, шея не краснела от натуги. Теперь он невольно смотрел на ее шею, на белые-белые — прямо слепят глаза! — плечи. Тяжелые растоптанные сапоги его скользили по земле, и он, солдат, сбивался с шага. Женщина, которая идет за ним, верно, видит все это. Петро старался идти ровней, но тогда становилось еще тяжелее. Лямка больно натирала шрам, и ему приходилось придерживать ее рукой, чтоб «хомут» не прижимался к груди. А Лиза шла, опустив руки, как в строю, казалось, совсем легко. Так же легко шел Панас, слева и чуть впереди него. На второй борозде пот стал заливать глаза. Петро утер его раз-другой рукавом гимнастерки. Решив, что во всем виновата зимняя шапка, на повороте швырнул ее под старую грушу. Лиза увидела это — засмеялась. — Парит, Андреевич? Как назло, солнце, которое уже несколько дней редко тешило своим теплом, выглянуло из-за тучи и стало припекать не по-весеннему — по-летнему. Вскоре Петру показалось, что с его суконной гимнастерки вот-вот потечет — такая она стала мокрая, тяжелая. И глаза еще сильнее заливало потом, так что Лизины плечи расплылись в нечто бесформенное, желтое, и он больше не думал об их красоте. Теперь весь мир потерял для него свое очарование, свои краски. В висках, казалось, стучали молотки, и боль отдавалась в ране. Еще вначале, на первой борозде, Петр расстегнул все пуговицы. А когда остановились, чтоб отдохнуть, он решил сбросить гимнастерку. Но вместе с гимнастеркой потянулась и нижняя сорочка, — видно, прилипла, мокрая. Петро смутился, увидев, как женщины смотрят на него, смотрят не в лицо, не в глаза — на грудь, на живот. Он не сразу понял значение этих взглядов и стыдливо прикрылся гимнастеркой. Особенно странно глядела Лиза — с добротой, лаской, и глаза ее постепенно затуманились слезами. — Ну, мужчинки, хватит. Спасибо, — сказала она. Они остановились посреди огорода, не доведя борозды до конца, и Петро спросил: — Почему? — Руки у нас отсохнут, коли мы на вас… пахать будем. Не знали мы. Простите… Петро понял. В глазах у него колыхнулось небо, будто упало на землю, и солнце разбилось на тысячу осколков.
VIII
Воскресенье, но в школе шли занятия: была пасха, а потому день объявили рабочим — вели борьбу с религией. Преподавателей радовало, что ученики довольно дружно явились на уроки, всего несколько девушек не пришли, в обычный будний день и то бывает больше прогульщиков. Классные воспитательницы хвастались друг перед другом, у кого меньше «пасхальников». Учительницы были в хорошем настроении, веселые, возбужденные. Но их веселость в этот день раздражала Шапетовича. Он знал: многие из них — местные и, конечно, утром как следует разговелись, а теперь перед ним и директором выдают себя за ярых атеисток. А может быть, он злился потому, что сам был голоден — пришел натощак? Накануне сажали картошку, посадили все до последней картофелины, а другие запасы, что были в доме, прикончили хлопец-пахарь и санитарка, которые им помогали: Саша щедро их угостила. Жена утром сказала со смехом: «Ничего, Петя, вокруг добрые люди, в особенности сегодня. Накормят». Оптимистка! Но мысль, что кто-то из крестьян предложит им, семье секретаря парторганизации, пасхальные яйца и кусочек сала, может быть, даже свяченого — нарочно, — эта мысль была нестерпимо обидной. В учительской он был угрюм и молчалив, в классе невнимателен и безразличен, дал задание — читайте сами. Видел: ученики делают вид, что читают, а на деле каждый занимается своим. Но учителю не хочется даже одернуть их, пробрать. Он занят своими мыслями. Стоит у окна и глядит в заречную даль, где на холме синеет лес. Попробуй догадайся, что он думает сейчас о мести Медеи. Трагедия Эврипида, даже в изложении автора учебника по мифологии, произвела на него необыкновенное впечатление. Прочитал ночью — долго не мог уснуть. Утром рассказал легенду Саше. Думал, что она отмахнется от его новой сказки: «Чепуха. Ни одна мать не убьет своих детей». Но она задумалась и неожиданно сказала: «Из ревности женщина все может сделать». Это очень удивило его. Собственно говоря, не самая трагедия, а Сашины слова возвращали к мысли о Медее, о тайнах женской души. И ему интересно было думать о событиях, которые, может быть, где-то с кем-то случились три тысячи лет назад. Три тысячи!.. Такая отдаленность хоть на миг уводит мысли от обыденщины: от ханжества учительниц, от сосущего голода, от собрания в Понизовье, которое надо завтра провести, — придут люди или нет?.. Но только на миг. А вообще ничто не помогало, время тянулось мучительно долго. И Петро обрадовался, когда уроки наконец окончились. Направился было домой. Но в окне сельсовета увидел одинокую фигуру Бобкова и повернул туда. Иван Демидович встретил словами: — Христос воскрес, черт бы его побрал, а у нас с тобой забота: чует мое сердце — не работают нигде. Видишь? — он показал в другое окно за реку. — У Громыки все кони на лугу гуляют. Хоть бы загнал куда в кусты. Наскочит Анисимов — не миновать нам бюро. Надо, Андреевич, взять лошадь у этого куркуля да проехать по колхозам. Петро разозлился неизвестно почему: — Да ну его к дьяволу! Что даст наша поездка? Если не вышли с утра, то кто пойдет сейчас, среди дня? Неужели ты думаешь, что можно одним махом покончить с религией? Бобков вздохнул. — Война и тут во всем виновата. До войны мы в любой поповский праздник воскресники устраивали. Все выходили — от мала до велика. Петро не очень-то ему поверил, потому что председатель сельсовета твердо убежден: до войны все было лучше — партработа, торговля, антирелигиозная пропаганда, даже люди были лучше, а теперь — все не так, все исковеркано войной, и люди в том числе. Саша как-то сказала: — До войны человек имел семью, был счастлив. А теперь что у него осталось? Одни воспоминания. И в самом деле Бобков жил воспоминаниями. Должно быть заметив, что Петро отнесся к его словам недоверчиво, председатель сельсовета начал с жаром рассказывать, как они работали до войны и как все хорошо шло — без сучка, без задоринки. Петра вдруг стали раздражать бобковские восторги по поводу всего довоенного, так же как утром — сытая икота некоторых учительниц, разглагольствовавших о вреде пасхи. Он нарочно, назло старику, стал возражать: все было совсем не так. Бобков рассердился, и они чуть не поссорились. Помешал Громыка. Пришел веселый, с хитрыми смешинками в глазах и пригласил их к себе обедать: — Пошли, хлопцы, потешим душу в бабий праздник. Наедимся до нового урожая. Теща бычка зарезала. Ну и все прочее, как положено на пасху. Даже бутылочку где-то достали, чертовы бабы, не разливной, чистой московской… Бобков сразу согласился. Петра это не удивило. Он хорошо знал: чарка для старика — единственное и самое сильное искушение. И однако: надо же иметь какие-то принципы! Только что рвался в колхозы, вспоминал об Анисимове — и вот сразу все побоку. У самого Петра от упоминания о мясе и яйцах тоже забурчало в животе. Но нельзя все-таки забывать, что ты не просто сам по себе, а партийный руководитель и педагог, воспитатель детей и взрослых. Что они подумают? — Ты, Панас, подведешь под монастырь и нас, и себя. Раззвонят: коммунисты пасху справляли. Дойдет до Анисимова… он с нас стружку снимет. Говорил, а на душе было скверно, потому что понимал: слова его не тверды, в конце концов и он не устоит перед искушением сытно и вкусно пообедать. Вот и выходит, что возражает он не совсем искренне — то ли желая показать перед товарищами, что он идейнее их, то ли страхуясь на всякий случай. Разве это не такое же ханжество, как у их учительниц? Не лучше ли согласиться сразу, как Бобков? Все равно ведь где-то поесть надо, не голодать же в знак протеста против пасхи. — Никто не будет звонить, Андреевич. Не бойся. Не думай, что люди не понимают. Да и для них-то бог — только повод. Разве что такие, как моя теща, на самом деле верят. А народ… Слыхал, что Лизавета говорила? Но ведь хочется людям, чтоб хоть один день был праздник… — Будет Первомай. — Мы с тобой и на Первомай не дадим погулять. Объявим рабочим днем… — Объявим, а выполнять будем как сегодня. Чего стоит постановление, за которое мы голосовали? Ни одного человека в поле… — Хоть бы коней загнал куда подальше от дороги, — неожиданно поддержал Бобков. — Поедет кто из района — сразу увидят, что в поле никого… Громыка покрутил головой. — Ох, умеем мы сами от себя прятаться! Коням тоже нужен хоть один день праздника, они из постромок не вылезают. Петро понял, что первая фраза Громыки была ответом не Бобкову, а ему — на его колебания. Хитрец этот видел, как говорится, насквозь и глубже, читал даже те мысли, которые и вправду иной раз сам от себя прячешь. Что же теперь лучше — категорически отказаться или решительно согласиться? И он согласился: — Пошли. Была не была. Бюро нам все равно не миновать. Не за это, так за другое. Петра смущало, что дома у Громыки семидесятилетняя теща, которая еще, чего доброго, вздумает «христосоваться», и дети-школьники, сын и дочка. Но Панас и жена его Гаша, проворная, по-деревенски практичная, все предусмотрели: ни старухи, ни детей в хате не было. Зато были уже там Саша с Ленкой и жена Бобкова с сыном от первого мужа, погибшего в партизанах, в отряде Ивана Демидовича. Женщины помогали хозяйке собирать на стол, хотя там стояло уже столько вкусной снеди, что у голодного Шапетовича засосало под ложечкой. Скорей бы уж! И вдруг на улице зарокотал мотор, фыркнул, чихнул и заглох. Возле хаты председателя остановился «виллис». — Анисимов! На мгновение все они — и мужчины и женщины — онемели, застыли в нелепых позах, вероятно еще более неестественных и смешных, чем городничий и прочие в финале «Ревизора». Никто не знал, что делать. Наконец Громыка скомандовал шепотом, как в ночной атаке: — За мной! — и, пригнувшись, шмыгнул в дверь. Бобков — за ним. Команда и последовавшие за нею действия были так решительны, что Петро тоже подчинился и выскочил следом за ними в недостроенные сенцы. За дверью была лестница на чердак. Громыка с кошачьей ловкостью, в два бесшумных прыжка оказался там, под стрехой своей новой хаты. Неловко карабкался по лестнице и Бобков, шепотом матюкаясь. И только тогда до Петра дошел смысл Панасовой команды. Он остановился. Так позорно, по-детски, прятаться от своего секретаря райкома? Стало и стыдно и обидно. Петро с отчаянной решимостью вышел во двор. На фронте это называлось: «Принимаю огонь на себя». Но там был враг. А тут… Увидел Анисимова — пропала решимость. Что сказать? Выдать их, Бобкова и Громыку? О, нет! Это было бы предательством. Секретарь райкома стоял у «ворот» — двух жердей, отгораживающих улицу от двора, внимательно разглядывая основу будущих настоящих ворот — свежеотесанную дубовую верею. Он не спешил заходить в хату, спокойно ожидал, пока кто-нибудь выйдет. Зачем непрошеным гостем врываться в чужой дом? Но когда увидел Шапетовича, с него сразу слетело спокойствие. Напыжился, сделал шаг вперед и застыл в такой позе, словно готовился к удару; сплетя пальцы, он выворачивал их так, что трещали суставы. Все в районе знали эту привычку Анисимова и шутили: «Ломает пальцы — жди бури». Низенький, щуплый, секретарь в этот миг показался Петру богатырем, кряжистым, угловатым и колючим. Колючим был пронзительный взгляд его кругленьких серых глаз, а коротко подстриженные под бокс седоватые волосы, — обычный мягкий ежик, почти мальчишеский, который иногда, в хорошую минуту, хотелось погладить, — теперь походил на иголки дикобраза. Вчерашний солдат, привыкший к послушанию и беспрекословному подчинению, Петро не то чтобы побаивался начальства, а подчас терялся перед ним. Он старался это побороть, напоминая себе, что Анисимов для него — всего лишь старший товарищ, какой бы ни был у него крутой нрав. И злился, видя, что другие боятся Анисимова и не скрывают этого. Но перед таким ощетинившимся Анисимовым и он струсил. Секретарь криво усмехнулся и спросил с сарказмом: — Что, Шапетович, яйца катаем? Надо было ответить шуткой, но до этого он додумался потом — шутка могла хоть немного умиротворить секретаря, смягчить. Он же начал «выкручиваться» на полном серьезе: — Нет. Я только что из школы. Ищу Громыку. — Ну, и нашел? — Анисимов шагнул ближе, лицом к лицу, глаза его, злые и насмешливые, казалось, все видели, все читали; Петру было трудно врать. — Не нашел. Нету. Дома его нету. — Может, помочь найти? А? У меня есть опыт в розыске председателей. Петро похолодел. Нет, на чердак секретарь не полезет, но если зайдет в хату, увидит их жен — Сашу и Соню, — ложь станет очевидной. Да еще накрытый стол… Догадались ли женщины хоть прибрать со стола? Все равно, даже если и прибрали, дурак и тот поймет, что председатели спрятались и что собрались они здесь с женами и детьми не для обсуждения вопроса, как поднять людей на работу, и не для политучебы. До чего это противно — врать! Но утопающий хватается за соломинку. Только бы все не раскрылось тут же! И вот одна ложь тянет за собой другую. — Жена говорит: в поле пошел… — В поле? Да неужто? Странно. — Анисимов потер ладонь о ладонь так, что они заскрипели. — Сколько же у него людей в поле? Сколько всего народу работает в колхозах? Где и что делают? Товарищ секретарь парторганизации!.. — У меня были уроки. Я хотел взять лошадь и… поехать… поглядеть… — Все-таки хотел? Гляди, какой активный! Горит человек. А на что вы хотели поглядеть? На пустое поле? — Анисимов отступил на два шага, назад к верее, из глаз исчез сарказм, но зато разгорелся гнев: лоб и губы побелели, шея налилась кровью. — Вы кому, Шапетович, морочите голову? Секретарю райкома? Вы отлично знаете, что ни в одном колхозе не вышел в поле ни один плуг, ни один человек. Вы забыли о решении райкома! Я напомню вам его! — Он достал из кармана гимнастерки часы-луковицу без цепочки, посмотрел. — К шести на бюро! Все председатели колхозов! Вы! Бобков! Петро не успел ничего ответить, как Анисимов уже оказался в машине, и облезлый, облепленный грязью «виллис» сорвался с места. Теперь было не до обеда. До шести оставалось каких-нибудь четыре часа, а надо объехать пять колхозов в трех, четырех и даже шести километрах отсюда, а потом еще добраться до райцентра. Кажется, никогда еще Шапетович не чувствовал себя так мерзко: словно сам себе в душу наплевал, унизил себя, оскорбил вынужденной ложью, школьническим испугом. А кто виноват? Они, эти старые зайцы! Впервые он повысил на них голос. Председатели виновато молчали — сознавали, что ему пришлось тяжелее всех. Но не смолчала Саша: — Чего ты разошелся? Струсил? Ты сам хуже зайца. Погляди на себя в зеркало — прямо побелел. Хочешь выслужиться? Слова жены еще больше распалили. — Я в твои акушерские дела не лезу! Не вмешивайся и ты в мои! Более аполитичного человека, чем ты, я не знаю! Удивляюсь, как это ты в партизанах оказалась. — Ах, какой политик! Какой борец! — Петра поразило, что Саша также прищурилась, как Анисимов, и тот же беспощадный сарказм появился в ее глазах. — Выходит, один ты сознательный, а мы слепые котята, бездумно идем за тобой, сознательным! Ты там баб щупал, когда другие шли на смерть! Герой юбочный! Такого оскорбления она ему еще не наносила. Чтоб при людях… Петро захлебнулся от обиды. Неизвестно, что бы они еще наговорили друг другу, если б не Гаша. Женщина ловко и умело развела их. Гришка, сын Громыки, с товарищами пригнали с луга лучших лошадей. Одну оседлали, седло было хоть и старое, рваное, но настоящее, кавалерийское; на другую кинули мешок с сеном. Коня под седлом Громыка, в сознании своей вины, радушно предложил Петру, и он, неловко потанцевав на одной ноге, взобрался на него под насмешливые улыбки школьников. Заметил эти улыбки — и точно соли насыпали на свежую рану. Разделив колхозы, поехали искать председателей. Нашли только одного — Федора Болотного, председателя «Ударника». Между прочим, только у него группа молодежи работала в поле — сажала картошку, и сам он был с ними, развозил и разбрасывал навоз. В райцентр ехали на подводе. Погонял Панас. Причмокивал, нонокал, но вожжи подергивал как-то так, что трофейная кобыла — его гордость и любовь — после такого понукания не рвалась вперед, а, напротив, замедляла бег, довольно фыркая, переходила на развалистый шажок. Эта очередная Панасова хитрость сердила Петра. Но от мрачных мыслей отвлек тот же Громыка: он рассказывал Болотному о своем бегстве весело, нарочно выставляя себя в нелепо смешном виде. Будто он на лестнице зацепился за гвоздь, а Иван Демидович пихнул его в мягкое место головой и выругался так, что не только, видно, Анисимов услышал, но и до другого конца деревни донеслось. — И я, брат, что снаряд от мортиры, взлетел на чердак, чуть лбом трубу не разбил. Болотный хохотал. Этот старик, лет шестидесяти, беспартийный, не боялся ни Анисимова, ни бюро. Вообще он, очевидно, никого не боялся: уполномоченных спокойно выслушивал, а делал по-своему. Колхоз его был если не лучшим, то, во всяком случае, не хуже других. Однако ругали Болотного на каждом пленуме, на каждом совещании. Так повелось, что любой районный работник считал своим долгом не только покритиковать председателя «Ударника», но и высмеять. Он молча слушал, тайком покуривая в рукав (курил он без конца), потом выступал, признавал критику, не щадил себя: стар он, глуп, малограмотен, — и просил, чтоб его освободили. Анисимов тут же «разносил» его за «демобилизационные настроения». Однако когда как-то один из членов бюро предложил удовлетворить просьбу Болотного, секретарь райкома обрезал умника: «Ты пойдешь на его место?» Петро уважал Болотного так же, как и Громыку, и всегда ему было неприятно, что каждый сморчок, который по годам не только в сыновья — во внуки ему годится, позволял себе подсмеиваться над стариком, казалось, беспомощным, затурканным. Однако нет, выходит — не так-то он прост, этот Федька Болотный, как зовет его Бобков. Ишь хохочет, словно юнец какой! — Значит, так и не разговелись? — Мы с Иваном Демидовичем потом с горя да со страха пропустили по чарке и облупили по яичку. Даже в битки сыграли. Я его разбил. Стар. Ха-ха… — А, что б вас холера! — заливался Болотный. — Вот Петро Андреевич — натощак. — Так оно ж по справедливости: секретарю не положено… А мы — несознательные. — Как вы после бюро будете ржать, я погляжу, — хмуро бросил Бобков. — А что мне бюро, Иван Демидович? Картошку у меня сажают, в битки я не играл. — Старый балабол! — Что старый, то старый, это ты верно сказал. Однако и ты уже давно за девками не бегаешь. Правда, у тебя жена молодая… Бобков в ответ выругался. Он нервничал — боялся, что на бюро «запишут», а у него уже и так два выговора. Петра мало тревожило, что могут «записать». Пускай записывают что хотят. Хотя за что? «За ложь твою позорную, за безволие. Мог же не соблазниться, не пойти… Надо до конца быть принципиальным и твердым, как надлежит настоящему большевику! Поддался отсталым настроениям. Тебя вел желудок, а не голова, не разум — вот и расплачивайся…» Но эти размышления постепенно отходили куда-то на задний план, лишь изредка снова всплывая. А в сердце, в голове неустанно кипело, волновало, жгло, мучило другое: ссора с Сашей. Что произошло? Даже не мог как следует припомнить, что он такое обидное сказал, что Саша взорвалась. Что она аполитична? Но разве можно за такое, кажется, безобидное слово так оскорблять, поминать при посторонних про его давний грех? Обида эта была тем острее, что слишком оказалась неожиданной, слишком вразрез со всеми переживаниями последних дней: очень уж хорошо им было всю эту неделю, так хорошо, что Петро чувствовал себя на седьмом небе. Оба они точно родились вновь после одного вечера, одного разговора, и любовь их разгорелась с новой силой. Как обычно, он поздно засиделся за книгой. Саша легла рано. Он думал, что она давно спит. Но вдруг горячие руки обвили его шею. Петро даже не слышал, как жена встала с постели, подошла к нему. Он поцеловал ее руку. — Что это тебе не спится? — Я думала. — О чем? — О нас. Я хочу тебе что-то сказать. — Приятное или неприятное? — Не знаю. Как кому. — Не мучай загадками. Однако она долго молчала, и у Петра тревожно сжалось сердце. — У нас будет ребенок. Ничего, казалось, особенного. Они не раз говорили о том, что один ребенок — не семья. И все-таки Сашино сообщение ошарашило его — встревожило и обрадовало. Сердце точно оборвалось. Слушая его бурные удары, Петро не сразу нашелся что сказать. — Ты не рад? Он понял, что ведет себя нелепо. Вскочил, обнял жену, поцеловал. — Что ты! Я очень рад. Она отвела руками его голову, пристально посмотрела в глаза. — Только не обманывай. Я хочу знать… — Сашенька, милая! Как ты можешь? Опять ты думаешь обо мне бог знает что! — Не боишься, что ребенок помешает тебе учиться? — Не боюсь. Мне теперь ничто не помешает! — О, ты не знаешь, что такое маленький ребенок! В одной комнате… И расходы… — Саша вздохнула. — О чем ты беспокоишься! Овчаровы построят себе хату — займем их комнату. И не всегда же нам будет так трудно! Она прильнула к нему, помолчала, потом сказала ласково: — Не бойся. Я все возьму на себя, только бы ты учился. С того вечера это и началось. Проводил урок, а думал о Саше. Шла она в другую деревню — он выходил встречать. Ему было мучительно не видеть ее даже два-три часа. Сидя в кабинете председателя сельсовета, он с наслаждением прислушивался к ее голосу за стеной, в медпункте. Предупреждал каждое ее желание. Саша подсмеивалась над его столь неумеренной заботливостью. И вот — опять. Когда ж она искренна? Не принуждает ли она себя быть доброй, любящей? Нет, так притворяться нельзя! Саша во всем естественна — в любви и ненависти, в нежности и в злости. А сегодня он сам виноват, первый, при людях, грубо накинулся на нее: не учи, мол, меня, и вообще не твоего женского ума это дело. Понятно, что женщина, да еще в таком положении, не могла стерпеть. Домостроевец! Феодал! Так бывало уже не однажды: после вспышки гнева и клятвы, что теперь он ни за что не сделает первого шага к примирению, Петро, подумав и проанализировав причину ссоры, в конце концов приходил к выводу: он сам виноват. Отчего это происходило? От слабости, безволия или, наоборот, от силы его любви? Во всяком случае, когда и сейчас, лежа рядом с Бобковым на возу, на пахучем сене, Петро решил, что винить надо не Сашу, а себя, ему сразу стало легче. Перестала раздражать медленная езда и болтовня Громыки и Болотного. Прислушался — и сам подключился к Панасу, который подшучивал над понурым Иваном Демидовичем. В райкоме, кроме сторожа, безногого инвалида, не было ни души. — Все в колхозах. Анисим Петрович разослал. Из всех учреждений. Это удивило: в их колхозы, в каких-нибудь десяти — пятнадцати километрах от райцентра, почему-то до сих пор не добрался ни один уполномоченный. Петро сообразил, что никакого бюро не будет, самое большое — вернется Анисимов и учинит им разнос. Он сказал об этом товарищам по несчастью. Бобков повеселел: если так, один Анисимов ничего не запишет, а на словах пускай разносит сколько хочет — не привыкать. Шесть часов… Семь… Стрелки ходиков в приемной поползли дальше. Зашло солнце. Стало смеркаться. Приумолк Болотный и с каждым разом сворачивал все более толстые цигарки из такого едкого самосада, что у Петра, который не курил, от дыма разрывались легкие. Громыка и Бобков как бы постепенно менялись ролями: теперь уже Иван Демидович посмеивался над Панасом, вспоминая яства, что остались на столе в его хате. — Бабы наши угощаются там, чертовы балаболки. — Ты думаешь, одни? С молодыми хлопцами. Надо ж твоей Соне разговеться. Напостилась с таким старым мешком, — грубо отшутился Громыка. — Тьфу… твою мать! Ты и пошутить по-людски не можешь, — рассердился Бобков: не любил, когда напоминали о разнице в годах между ним и женой. — Значит, попал на слабое место, раз злишься, — попытался подхватить шутку Болотный, но Панас не поддержал его. Петра прямо-таки оскорбило такое невнимание к ним секретаря райкома, и он, голодный, усталый, расстроенный всеми сегодняшними злоключениями, переживал это чрезвычайно болезненно. Ведь их могло приехать восемь человек — половина партийной организации. Что ж это за метод воспитания людей? Предложил вернуться обратно домой. Согласился один Громыка, Бобков и Болотный стали возражать: — Подождем. Анисим любит проводить бюро посреди ночи. Бобков явно испытывал судьбу. Пронесет или не пронесет грозу над его седой головой? А если «вызовут на бюро» завтра? На кой ему, чтоб потом бросили еще один камень — сбежал от бюро. Шапетович принялся звонить на квартиры руководителей района. Позвонил Анисимову — нет. Лялькевич ответил. Заикаясь от волнения, — так он был взвинчен и раздражен, — Петро сразу высказал их общее возмущение: — Нас вызвали на бюро. И мы, как дураки, битых три часа сидим в приемной. — Какое бюро? — удивился Лялькевич. — Это я у вас хочу спросить. — Кто вас вызвал? — Анисимов. Лялькевич умолк. Петру показалось — положил трубку, и он закричал: — Алло! Вы слышите? Секретарь сказал мягко, спокойно: — Погоди, Петро Андреевич, сейчас сам приду. Он появился минут через пять. Худой, в пыльных разных ботинках, на здоровой ноге поновее, на протезе — старый, видно — только что вернулся из поездки по району. Петро, взглянув на него, вспомнил недавний разговор с ним и не сказал того, что намеревался сказать. Начал сразу с признания: — Да, не скрываю: шел к Панасу пообедать. Так что, распять меня надо на кресте, как Иисуса? А мне наплевать, что теща его верит в бога. Лишь бы, не скупясь, угостила салом и яйцами!.. Громыка, опасаясь, должно быть, что молодой и наивный секретарь их в запале выболтает, как они прятались от Анисимова, перебил: — Владимир Иванович, скажу правду: я сознательно дал отдых людям и лошадям, потому что знал — больше потратишь энергии зря, чем наработаешь в такой день. Разве так надо бороться с религией? Лялькевич не сразу понял, в чем дело. Но, зная первого секретаря, начал догадываться, почему тот вызвал их сюда. — Анисимов захватил вас за столом? Громыка засмеялся, заговорщицки подмигнул Петру. — Нет, не захватил. Но вам признаемся: было у нас такое намерение — попользоваться набожностью моей тещи. Лялькевич тоже рассмеялся. — Черти. И было это «черти» такое доброе и дружеское, что сразу у всех от души отлегло. — Ну, вот что… Гоните назад к теще. Я с Анисимом Петровичем договорюсь. Но постарайтесь, чтоб завтра люди были в поле. Хотел я пригласить вас на чай, да передумал: приедет Анисимов, увидит и припомнит вам «Христово воскресенье». Да у тещи, верно, есть что-нибудь посущественней, чем чай. — Что есть, то есть, — засмеялся в ответ Громыка. По дороге домой Петро думал о том, что вот ведь можно говорить с людьми, как Лялькевич, — без «накачки», и они не станут от этого хуже.IX
В самую большую деревню — Понизовье — Шапетович и Бобков пошли сами. Деревня тяжелая, бедная. Однако есть в ней такие «элементы», как называл их Иван Демидович, на которые можно нажать и «вытянуть подписку», «дать процент», а главное — взять наличными, на что райком и райисполком делали особый упор. Задание непосильное, но ничего не скажешь — надо выполнять. Двадцать человек, собранные на инструктаж, вздохнули будто одной грудью, услышав сумму. Но только в поле Бобков дал волю возмущению и со смаком помянул все районное начальство за такую контрольную цифру. Один из «элементов» — поп. К нему первому и направились. Зашли с тыла, от речки, через огород; Иван Демидович знал все стежки. И захватили святого отца врасплох — в тот момент, когда он выяснял свои, очевидно довольно сложные, отношения с попадьей. Из дома, сильно подгнившего, запущенного, сразу видно, что для жильцов он — чужой, долетала приглушенная, но достаточно громкая, чтоб было слышно во дворе, брань. Да какая!.. — Пошла ты со своей сестрой… — и мужской бас так далеко послал обеих женщин, что Шапетович ахнул. — А поцелуй ты нас… Бобков схватился за живот, скорчился от смеха. — Вот это дают, святые люди! Ну, теперь я из них вытяну пару кругленьких. Должно быть, их заметили, потому что брань стихла. Что-то грохнуло, хлопнула дверь, послышались шаги в сенях. Не успели они подняться на крыльцо — дверь широко открылась, и полная, пригожая женщина, одетая просто, однако не бедно, встретила их приветливой улыбкой. — Иван Демидович!.. Пожалуйста… Заходите. Только не прибрано у нас. Отец Никанор из города приехал под утро, так почивал еще. И в самом деле, поп сидел на незастланной постели и, покраснев от натуги, натягивал тесный сапог. Натянул — распрямился, расчесал пятерней черную всклокоченную гриву. В сапогах, в широких штанах, в длинной неподпоясанной белой рубахе он был похож на старого русского купца. И не только одеждой, а еще больше лицом: опухшее, измятое, глаза заплыли. Сразу видно, что слуга божий никак не проспится, не придет в себя с пасхального похмелья. Бобков, потирая контуженную руку, подмигнул Петру: видишь, каков праведник? В свою очередь, поп с попадьей тоже стали между собой перемигиваться. Председатель перехватил эти сигналы и мигом расшифровал их: — Ничего не выйдет, отец Никанор! Мы люди грешные, и со святыми за стол садиться нам нельзя. — Иван Демидович, мы такие же грешные люди, да простит нас господь, — и поп размашисто перекрестился на угол, завешанный образами, перед которыми горели две лампадки. — А может, примем по маленькой? Веселей дело пойдет. Петру почему-то неудержимо хотелось смеяться, но, понимая, что это неприлично, он изо всех сил сдерживался. А тут еще этот черт Бобков! Сколько Петро с ним вместе работает, а не знал, что старик такой юморист. — У нас и так весело идет. Вашими молитвами. А молитвы ваши, между прочим, далеко слыхать. Мы на огороде услышали… Поп метнул на жену взгляд, и если б взглядом можно было испепелить, то от попадьи, верно, осталось бы одно воспоминание. Она вспыхнула, отступила за ширмочку, которая отгораживала часть комнаты, отведенную под кухню. Чтоб не прыснуть, Петро отвернулся и стал разглядывать образа и красиво вышитые рушники на них. А Бобков тем временем вел наступление на попа. — Агитировать вас не надо, отец Никанор. Человек вы сознательный. Газеты читаете. Радио слушаете. — Иван Демидович кивнул на немецкий приемник, стоявший на столе под образами. — Нету батарей. Онемело радио. Попросите Атрощенко, чтоб привез. — Это мы сделаем. — Бобков достал из кирзовой сумки подписной лист, развернул его настоле, потом вытащил бутылочку с чернилами, ручку. — Итак… отец Никанор. На богоугодное дело. На восстановление того, что разрушили проклятые фашисты. Одолжим государству. Председатель сельсовета обмакнул перо и нацелился писать. Поп почесал затылок, поскреб в бороде. Из-за ширмы красивые глаза попадьи снова посылали какие-то сигналы, но расшифровать их Петро не мог, а Бобков уставился в чистый лист и терпеливо ждал, может быть даже с некоторым суеверием: какое будет начало — с легкой руки или нет? — Конечно, на такое дело… оно следует… Не скупясь, конечно… И потому я так думаю… — Петро увидел, что попадья вытянула из-за ширмы левую руку с пятью растопыренными пальцами и правую — с двумя. — Нашей прославленной в подвигах ратных державе и правительству, богом благословенному… — это он произнес торжественно, протяжно, слегка нараспев и, очевидно поняв сигнал попадьи, закончил скороговоркой: — Рубликов семьсот, Иван Демидович… — Э-э, святой отче! — Рассердившись, что почин не удался, Бобков бросил на стол ученическую ручку, посадив на белой скатерти кляксу. («Это он напрасно», — подумал Петро.) — Так мы с вами по-хорошему не договоримся. В оккупации вы были большим патриотом. Когда партизаны собирали на танковую колонну, сколько отвалили? — Одиннадцать тысяч, Иван Демидович, — с гордостью сказал отец Никанор. — Вот это было по-нашему. — Не те теперь сборы, Иван Демидович. — Не прибедняйтесь, дураков еще хватает. — Нехорошо так о верующих… — с укором покачал головой поп. В самом деле, Бобков пересаливает, грубостями своими он не достигнет цели. Наоборот, может принести вред. И Петро попробовал смягчить: — Чувства верующих мы уважаем. Но и верующие не должны стоять в стороне от того, чем живут все советские люди. Поп, как бы раскусив, что секретарь по молодости своей не так настойчив и поделикатнее, податливее, мигом переключил все внимание на него. — Мы, церковнослужители, и паства наша не отделяем себя от всего народа, — почти официально провозгласил он и сразу же перевел разговор на другое: — Слыхал я, молодой человек, что вы серьезно историю народов и правителей изучаете. Похвально. Лелею надежду, что из истории культуры вы узнали, какую роль играла религия в прогрессе человечества. «Ого, образованный поп!» — усмехнулся Петро. И ответил: — Не всегда. Инквизиция, когда жгли на кострах… — Православная церковь никогда не имела такого изуверского органа. По-видимому, и попадья почуяла, где слабое место, потому что вынырнула из-за ширмы с приветливой улыбкой, «зашла» с другой стороны: — Нам очень приятно познакомиться с вами поближе. Жену вашу, Александру Федоровну, мы хорошо знаем. Ах, что за женщина! Золото! Такую жену на руках надо носить. Петру стало неприятно, что Сашу здесь хвалят. Не хотелось, чтоб жена для всех была одинаково хороша. А тут еще Бобков, старый черт, обычно добрый, мягкотелый, уязвил: — Так что, Петро Андреевич, будем вести диспут о религии или проводить подписку? В Понизовье сто восемьдесят дворов. И Петро был вынужден действовать столь же решительно: — Ну вот что, граждане Приваловы, нам и правда некогда антимонии разводить. Мы работаем по плану. У нас план… не так, как у вас — сколько бог на душу положит… И по нашему плану… короче говоря: пять тысяч! — Что вы, что вы, — испуганно замахал руками отец Никанор. — Боже милостивый! Да у нас таких денег никогда и не бывало, — заскулила попадья. Удивился даже Бобков: шли сюда, договаривались — с попа не меньше двух, а для этого начать с трех. О пяти и речи не было. — Не думайте, что нам не известны ваши доходы. Плохие мы были бы руководители, если б не знали… — А мы ничего не скрываем, все учитывает церковный совет и любой прихожанин… — Отец Никанор! Не рассказывайте сказок! — игриво погрозил пальцем Бобков. — Четыре! Половина наличными! — и сделал вид, что заносит цифру в подписной лист. Поп бросился к столу, чтоб остановить председателя, ибо что записано пером… Попадья не успела вмешаться, и он, добрый с похмелья, застигнутый врасплох, крикнул: — Три! Бобков только этого и ждал. Он тут же, сильно нажимая на перо, чтоб цифры вышли толстые, жирные, чтоб каждому бросались в глаза — вот с какой суммы начинается лист! — записал три поповские тысячи и сказал, тяжело вздыхая: — Эх, что с вами поделаешь! Но — наличными, отец Никанор. — Не могу сразу все. Поверьте. Половину разве только. Попадья, конечно, догадалась, что Бобков и Шапетович довольны, посмотрела на своего благоверного с ненавистью и, покраснев от злости, скрылась за ширмой, хлопнула дверью. Но черт с ней, с попадьей! Вышли они от попа победителями. Шли, припоминали, как «обрабатывали» его, смеялись. Но вдруг Иван Демидович словно язык прикусил: на полуслове умолк. Его морщинистое и обычно доброе лицо стало вдруг как из гранита — серым, холодным. Нервно задергались веки. — Зайдем-кось вот сюда, — показал он на большую, в три окна, под гонтовой крышей хату. Хотя и новее, крепче других, что уцелели от пожара, она стояла какая-то заброшенная, одинокая, словно нежилая, соседние хаты по обе стороны отодвинулись от нее, и на широких участках между нею и ими никто не строился. И еще одно: стояла хата голая: ни двора, ни хлева, ни сарая рядом — ничего, что обрамляет усадьбу, придает уютный, обжитой вид. Петро знал: хата принадлежит семье полицая Антоненко. Из Понизовья несколько человек служили в полиции, из других деревень не было ни одного. Может быть, поэтому Бобков не любил Понизовья. Петро не раз слышал от него: «Полицейское гнездо! Бандиты!» Двух полицаев убили партизаны, трое были осуждены. А этот, Антоненко, удрал. Но, видимо, не только за то, что он где-то еще живет ненаказанный, люди так его ненавидели. К семьям других относились по-разному, однако ни одна не оказалась в такой изоляции, как семья Антоненко, ни одной так не чурались — словно от прокаженных, отшатнулись, отгораживались. Дети и те не играли с детьми полицая, в школе за одной партой с его сыном отказывались сидеть. Саша как-то рассказала: — Сегодня у Антоненковых была. Соседи сказали — мальчик с больным горлом лежит. Испугалась — как бы не дифтерия. Нет, ангина. Дала стрептоцид. Понимаю, что ребенок не виноват, не отвечает за отца. А все равно: побывала у них и весь день хожу с таким ощущением, будто коснулась чего-то грязного. Откуда в нем взялось столько злобы к людям? Никто ж его не обижал, не раскулачивал, ничего… Еще больше, чем с улицы, поражала хата внутри. Большая и пустая, как сарай. Даже кровати нет. Грубый стол из нетесаных досок на козлах да скамья, длинная, старая, отполированная до блеска; пустая полка на глухой стене, маленькая, почерневшая от сырости скамейка, на ней — деревянное ведро. И все. Хата не штукатуренная, между почерневших, потрескавшихся бревен торчал мох, и это придавало ей еще более дикий, первобытный вид. О наличии людей, жизни свидетельствовала разве что печь, свежепобеленная, очевидно перед пасхой. Должно быть, вокруг нее и на ней и шла вся жизнь. Потому что и сейчас, хотя на дворе шумела весна, цвел май, двое мальчишек, лет десяти и семи, лежали на печи и, точно зверьки, любопытные и испуганные, внимательно следили за каждым движением Бобкова и Шапетовича. А ниже, на лежанке, сидела, как нахохленная сова, старуха, седая, с красными воспаленными глазами, в лохмотьях, с обмотанной какой-то грязной тряпкой головой. Войдя в хату, Бобков не поздоровался. Петро тоже молчал. И им никто не сказал ни слова. Только младшая хозяйка, жена полицая, женщина высокая, крупная, но худая — одни мослы торчат, — смахнула со скамьи передником пыль. Жестом этим она как бы пригласила их сесть. Но они не сели. Остались стоять. И она стояла у печи, скрестив на груди руки. Ждала, что скажут. — Подпишитесь на заем! — не просто сказал, не предложил, а приказал Бобков. — Надо восстанавливать то, что сжег ваш бандюга. Сова настороженно вздрогнула, подняла голову. Губы полицаевой жены искривились в издевательской ухмылке: — А вы его найдите, и пусть подпишется. Бобкова даже передернуло от такой наглости. Он затрясся, замахал руками, закричал: — Найдем! И подпишем! Приговор! Только ногами задрыгает в петле! Здесь же на улице и повесим собаку! Перед всем народом… На печи заплакал малыш. Петру жаль стало детей. Им, представителям власти, не гоже так говорить при детях. Жестко сказал Бобкову: — Иван Демидович! Придержите нервы! И тот опомнился. Сказал мальчику: — Не бойся, детка, никто тебя не тронет. Мы не такие!.. Это твой отец детей стрелял! — Не стрелял он детей, не стрелял! — простуженным хриплым голосом крикнула старуха. Было это так неожиданно, что Шапетович вздрогнул. — Стрелял! — снова сорвался старый партизан. — Весь их отряд был в ту ночь. Детей Рыгора Сиволоба он… ваш… застрелил… Все на суде подтвердили! — Нет! Нет! Нет! — упрямо повторяла мать убийцы. Она, видно, долго убеждала себя в этом. Должно быть, кровь детей не давала ей ни сна, ни покоя. Старуха эта, на вид сумасшедшая, и вообще вся сцена произвели на Шапетовича тяжелое впечатление. От разговора об убитых детях почувствовал себя на миг совсем дурно — закружилась голова. — Иван Демидович, пошли. — Ну нет, они подпишутся! — твердо заявил Бобков и сел на скамью, стал расстегивать свою полевую сумку. — У них, гадов, золото закопано. Он все еврейские дома ограбил, когда несчастных на смерть погнали. И дом этот из местечка перетащил. Давно конфисковать надо было! Сколько раз говорил прокурору. Люди в землянках живут… Не меньше тысячи — и все наличными! Душа из них вон! Ясно? — обернулся он к молодице. Она опять скривила губы, лицо перекосилось как бы в нервном спазме, но Петру опять почудилось в нем издевательство. — У меня копейки нет за душой. — Неделю назад лавку в Прилуках ограбили. Я думаю, что половина этого добра у тебя закопана. — Ищите! — Поищем! И найдем! Это их работа… твоего!.. Он далеко не ушел, тут, висельник, фашист, шатается. Ну, дошатается! Веревка давно по нем плачет. — Мамка! — Цыц! Так поймайте его! — Поймаем! — Не стрелял он детей! Нет! Нет! — Суд разберется. — Ну, так я жду! Слышишь? — Бобков угрожающе стукнул кулаком по столу. — Иван Демидович! Бобков грубо отмахнулся: — Не вмешивайся, секретарь! Твой ребенок остался жив. Старуха вдруг сползла с лежанки, зашаркала к двери, подтягивая за босой, с узловатыми подагрическими пальцами, правой ногой левую, обмотанную грязными тряпками. Они с удивлением, непонимающе посмотрели ей вслед. Что с ней? Живот схватило? Или это выражение протеста? В углу у печи захватила кочергу. Зачем? Невестка пожала плечами, сказала: — Не в своем уме она. Мне вот надо смотреть за ней, кормить. А на что? Я, может, сама сто раз прокляла его, хоть он и отец моих детей. — Когда ходила при немцах барыней, тогда не проклинала? — Когда это я ходила барыней? Он разъезжал, самогонку глушил, с девками путался, а я с землей билась, как очумелая. Богатство копила. Разбогатела! — она усмехнулась уже совсем иначе. Не кривясь, с горькой насмешкой над своей судьбой. — На крови людской богатела! — Я не знала. В своем селе он никого не трогал. — Не знала! Теперь вы все не знаете. Бобков как будто немного успокоился и, должно быть убедившись, что наличными здесь не возьмешь, записал в листок тысячу рублей, сказал: — Распишись. Она покачала головой. — Не буду я расписываться. — Почему это ты не будешь расписываться? — опять рассердился председатель. — Не буду. Чем я выплачу? Чтоб мне потом и это прилепили: расписалась, а платить не хочет. — Вертишься, как змея. И тут вошла старуха… У невестки вырвалось испуганное, злобное: — Мама! — Но она тут же опомнилась, спросила удивленно: — Откуда это вы?.. Старуха несла в руке пачку тридцаток. Она положила их на стол, коротко сказала: — Вот. Деньги были новенькие, неизмятые, но уже покрылись цвелью от долгого лежания в сырости. Бобков некоторое время оторопело смотрел на красные бумажки с портретом Ильича в овале. Казалось, он, как и Петро, не знал, что делать: сосчитать их, взять не считая или вообще не брать? Нетрудно догадаться, откуда эти деньги. Но в самом деле, какие же мысли возникли в больном мозгу матери предателя и убийцы? Односельчане знали: она несет вину за преступления сына, потому что всю жизнь была жадная, бессмысленно скупая, приучала детей красть у соседей яблоки, огурцы, картошку. И вот результат: сын от мелких краж дошел до убийства детей. О чем она думала сейчас, отдавая деньги? Может быть, ей показалось, что она смягчит этим Ивана Демидовича, его гнев и ненависть? Может быть, надеялась, что пожертвование на общественно полезное дело поможет ей замолить собственные грехи? Взобралась на лежанку, сгорбилась и опять повторила: — Не убивал Федя детей. Нет! Нет! — словно хотела убедить сама себя. Бобков смял деньги, сунул их в сумку и торопливо двинулся к дверям. На улице стал плеваться: — Видел осиное гнездо? Я давно говорил: надо обыск сделать! У них и у других таких. Видел — деньги зацвели! Я уверен: там тысячи в земле закопаны. И не одни только деньги, имей в виду. Так нет же! Где не надо, там у нас на закон кивают. Теперь я эти деньги ткну в морду и Булатову и прокурору. Но нервный взрыв, разговор об убитых детях в доме убийцы, напомнивший о погибшей семье, обессилили старого больного человека. Прошло несколько минут, и Бобков, который только что весь кипел, стал молчалив, тих, бледен и равнодушен ко всему, в том числе и к выполнению плана по подписке. За заем он агитировал вяло, формально. И Петру пришлось взять инициативу на себя, хотя он и видел, что получается у него это хуже, чем у Бобкова: не умеет он, особенно с женщинами, поговорить так же просто, с шутками, с прибаутками. Разъяснял значение займа обстоятельно, но слишком серьезно, официально. Чувствовал, что это не то, но иначе не выходило. Что скажешь человеку, когда в ответ на предложение дать в долг государству, он тут же сам просит одолжить ему, чтоб достроить хату, вывести детей из земляной норы на свет? А просьбами такими их засыпали: леса, кредита, хлеба, одежды для детей. И это еще больше угнетало, выматывало силы Бобкова, сбивало Шапетовича, сводило на нет его пропаганду. Однако подписывались. Надо — значит, надо. Люди понимали это, и некоторые даже как будто жалели их, представителей власти. Другое дело, что наличными почти никто не вносил. Вдова одна, Марина Старостина (Шапетович ее хорошо знал, потому что она была депутатом Совета и раза два являлась на сессии), сразу, играя глазами, спросила: — А на сколько надо? — Сколько можете. — Я могу на сколько хотите. Двести, пятьсот, тысячу… — Где ты их возьмешь, тысячи эти? — хмуро спросил Бобков. — Иван Демидович! — всплеснула руками женщина. — Да неужто вы думаете, что я всегда такая бедная буду? Я разбогатеть собираюсь! Когда они вышли, Петро одобрительно сказал: — Вот кабы все такие были. Бобков улыбнулся ему, как ребенку. — А пользы-то что? Старый Прокоп Низовец, который так отбивался, свои пятьдесят рублей сам принесет, потому что знает: подписался — плати. А у этой балаболки что ты возьмешь? Да у нее копейки за душой нет… И ничего нет — ни коровы, ни поросенка. Петро подумал, что работа их, такая мучительная, делается наполовину впустую. А чтоб были хоть какие-нибудь результаты, придется если не ему, так Бобкову, активу не раз еще совершить подворный обход и разговаривать, может быть, не так деликатно, а гораздо решительнее: подписался — плати. После нескольких часов хождения Петро почувствовал себя таким опустошенным, измученным, что с ужасом думал о том, как они опять зайдут к кому-нибудь в хату, а еще хуже — спустятся в землянку, увидят голодные глаза детей, будут выслушивать жалобы женщин и станут уговаривать подписаться на заем. — Хватит, Иван Демидович. Не могу. Старик понял. — А пожалуй, и хватит. Зайдем вот к последнему, к Прищепе. Крикун, чертов сын. Но живет ничего, пчел держит. Может послать… а может и подписаться. На него какой ветер подует. Зашли. Рыгор Прищепа встретил их неприветливо — в плохом настроении был человек. Мало ли что могло произойти перед их приходом: поссорился с женой, с соседом… А может, и посерьезнее причина: болела рука, та, которую санитар закопал где-то на польской земле возле Вислы и которой так не хватало ему теперь, в эту первую мирную весну, когда надо пахать и сеять. У них самих — у Шапетовича и Бобкова — настроение было не лучше, и потому умнее всего было бы последовать мудрому правилу: не трогай, не лезь в душу, оставь человека в покое, когда ему свет белый не мил. Так нет же — они «завелись». А Прищепа на первых же словах отрезал: — Копейки не дам! Понятно, их возмутил такой категорический отказ. Тебе же помогают! Бобков так прямо и сказал. Получилось грубо — вроде угрозы: как ты к нам, так и мы к тебе, не подпишешься на заем — не рассчитывай на помощь. — На вашей помощи давно бы ноги протянул! — рявкнул инвалид. Петро мягко заговорил: — Мы вас не принуждаем. Добрая воля каждого. Но скажу откровенно, Рыгор Макарович: вы нас удивляете — солдат, герой, жизни не жалел за Родину, кровь пролил и вдруг — как отсталый элемент какой-нибудь… В то время, когда весь народ… Вспомните, что сказал перед избирателями вождь… Может быть, не стоило напоминать ему о пролитой крови… А лучше бы всего — попрощаться и уйти, раз человек в таком возбужденном состоянии, такой нервный. Прищепа потерял над собой контроль. — А ну вас… с вашим вождем!.. Шапетович и Бобков остолбенели. Они не были догматиками, жили с народом и много чего слышали — неудовольствия, жалобы… Но это… Чтоб кто-нибудь замахнулся на него!.. Нет! Никто, никогда! — Цыц, сукин сын! Ты на кого, недобитый ты фашист? На кого? — закричал Бобков. И не успел Петро опомниться, как они сцепились в драке, два инвалида, партизан и фронтовик. — Это я фашист? Да я… за такие слова! Кем я не добитый? У тебя память отняло, кто меня бил? — И Прищепа основательно стукнул председателя сельсовета культей. Петро бросился их разнимать. В хате, окутанной сумраком, когда они вошли, казалось, никого не было, встретил их у порога сам хозяин. А тут закричала девочка: — Папа! Не надо! Папочка, родненький! Откуда-то с печи послышался простуженный больной голос: — Гришка! Горе ты мое! Деток пожалей. Вот дурак, вот дурак! Ах, боженька! Простите вы его, люди добрые. Шапетович схватил Бобкова за плечи, оторвал от Рыгора, которого в свою очередь оттаскивала дочка, ученица Петра. Но Бобков тоже разъярился. — Я тебе покажу! Ты это припомнишь!.. Я тебе схвачу за грудки! Петро вытолкнул его на двор, но старик не унимался, гремел на всю улицу: — Я ему покажу! Бандюга! Фашистский выродок! Мы еще выясним, как ты руку потерял. Может, самострел, сукин сын, устроил, а теперь носишься со своей культей?! — Да успокойтесь вы, Иван Демидович! Люди слышат. — Пускай слышат! А ты что? Хочешь скрыть от людей, что бандит хватает за грудки председателя сельсовета? Счастье его, что я забыл пистолет, а то стукнул бы подлюгу… — И что было бы? — Мне наплевать, что было бы! Но чтоб всякая сволочь хватала за грудки… Ну, нет! Лучше в тюрьму пойду. — Да неизвестно, кто из вас первый схватил. — Ну, ты это брось! Примиритель! Ты слышал, что он сказал? Петро старался говорить спокойно, вполголоса, чуть не шепотом, чтоб заставить и Бобкова умерить голос, но тот все кричал. Чтоб не идти по улице, где в этот весенний вечер было немало народу, Петро свернул в первый же неогороженный двор. Шли прямо через огороды, по свежей пашне, пока не вышли на луг. Бобков вдруг затих. У него пошла кровь носом — то ли от усталости, то ли от нервного возбуждения. — Ну вот видишь?.. — прохрипел он с обидой, как мальчишка, которому расквасили нос. — Примирители! — Как будто бы во всем был виноват Петро. Иван Демидович сердито обрывал с ольховых кустов молодой липкий лист, прикладывал к носу. Петро не сразу догадался, что у старика нет даже носового платка. Предложил свой. Тот взял. Подошли к речке. Бобков спустился к воде умыться. Петро присел на берегу, на бугорке. Потом лег. И ощутил такую усталость, что вдруг заколыхалась земля и закружилось небо. Не небо — звезды. Наконец они стали на свои места. Петро закрыл глаза. Квакали где-то лягушки, не очень еще слаженно, как будто после зимней спячки пробовали голоса. Еще дальше «драл дранку» дергач. Но все эти привычные ночные звуки не нарушали великой тишины мира. Петро задумался о неизмеримых мировых просторах, о том, что не только он, не только человечество, но и вся планета наша — пылинка в беспредельности космоса. Он приучил себя в тяжелые минуты думать об абстрактных вещах, и это хорошо успокаивало, настраивало на этакий высокофилософский, или наоборот — приземленно-юмористический лад. Но на этот раз не вышло: в центре мирового пространства продолжали нерушимо стоять люди, те, с которыми встретился за день, и прежде всего — человек, которого видел последним, Рыгор Прищепа. Нет, не Рыгор, — девочка, ее крик «Папа! Не надо! Папочка, родненький!» заслонял мир, всю вселенную. Петро раскрыл глаза. На небе можно было уже разглядеть тусклый шлейф Млечного Пути — звездный мост. Он вспомнил свой мост. Подумал: «Что меня держит здесь? Что притягивает? История? Но чтоб изучить ее, нет никакой необходимости ходить с Бобковым собирать налоги, подписывать на заем. Сейчас строится столько мостов. Я давно мог быть на одной из этих строек. Пускай он не мой, но все равно мост. Не звездный, не воображаемый. Настоящий, по которому люди пойдут с берега на берег. А что я здесь построю?» Бобков сел рядом, зажав мокрым платком нос. Может быть, от этого дышал тяжело — астматически, со свистом. Не поворачивая головы и снова закрывая глаза, Петро спросил: — Что ты намерен делать? — С контрой этой? Завтра же позвоню Булатову, он с ним поговорит… Петро промолчал… Опять увидел перед собой и его, инвалида, и дочку, ученицу пятого класса. «Сколько у него еще детей? Спросить завтра у Гали, и чем болеет мать?» Жены Прищепы он не знал, и на него глядели какие-то абстрактные женские глаза, печальные, страдальческие. От взгляда этих глаз стало страшно. Он рывком поднялся, громко сказал: — Не смогли выручить Запечку. Посадим Прищепу. Осиротим еще одну семью. Мало их, сирот?! Странно — Бобков не ответил. И громко дышать перестал. Будто замер. Долго молчал. — Иван Демидович! Старик хрипло выругался: — Пошел ты!.. Думаешь, у меня сердца нет? Оно в уголь перегорело, но живое еще! Не камень! Во… бьется и болит… Болит за все! И за сирот! — И неожиданно, без всякой логики, предложил: — Пойдем напьемся. — Куда? — К этому гаду Копылу. Петро пил и… не пьянел. Во всяком случае, не веселел, как обычно, а, наоборот, становился все более угрюмым. Он, как и многие, недолюбливал секретаря сельсовета. Идучи сюда, не удержался, сказал Бобкову о своей антипатии к этому человеку. Иван Демидович ответил: — Думаешь, я его люблю? — Так на какого же черта мы держим этого типа в сельсовете? — Я до тебя еще хотел турнуть, но в районе сказали — не трогать. Работу он знает. И людей. Довоенный кадр. Пока не сели за стол, Петро просто скептически посмеивался над угодливой и явно фальшивой радостью Халимона по поводу прихода «таких дорогих гостей», над его суетливой беготней по хате, шипеньем на жену, на дочь: скорей на стол! А выпили по первому, по второму, — не чаркой пили, стаканом, и не самогонку, а разбавленный спирт, — вот и нашло на него это мрачное настроение. Неприятны были назойливые уговоры хозяина «отведать сала, медку»; яства, которых Петро давно не видел, — колбаса, яйца, сало, творог, пахучий чистый хлеб — в эту-то голодную весну, когда у большинства нет и картофелины! Фикусы по обе стороны стола, разросшиеся до потолка, — как лес, как джунгли; гора вышитых подушек на никелированной кровати; новые обои, которыми, видно, совсем недавно оклеили стены этой чистой половины хаты, фотографии на стенах, множество фотографий. Петро съел ломоть хлеба, кусочек колбасы и больше есть не мог — не лезло в горло. Раздражение его стало перерастать во что-то новое, чего он сам испугался: захотелось вдруг перевернуть стол, изломать фикусы. Халимон Копыл как будто почуял его настроение и старался улестить: то и дело предлагал съесть, выпить. — Петро Андреевич, что это вы брезгуете нашим крестьянским угощением? — А я что — барин? — Ну, вы антилигентный человек. — А дочь ваша? — И то верно. Выросла наша селянская антилигенция благодаря родной нашей власти. Маруся! Поухаживай за своим товарищем по работе. Маруся — Мария Халимоновна, преподавательница их школы, химию и ботанику ведет. Перезрелая девица, года на два старше Петра. Трудолюбивая и строгая, ученики ее боятся, на ее уроках образцовая дисциплина. Строгая и во всех остальных отношениях: самые заядлые сплетницы не могли сказать о ней, как о других, что она «крутила» с партизанами во время оккупации или с нашими офицерами, когда близко стоял фронт. И теперь никого у нее нет. Демобилизованные сержанты приударяют за учительницами, и не только за молодыми — за вдовами. За ней же почему-то никто не ухаживает. Некрасивая? Нет, нельзя сказать. Правда, очень похожа на отца; может быть, поэтому тем, кто знает прихрамывающего, плюгавого, всегда небритого Копыла, это мешает увидеть женственность его дочери. Бывает такое. Их неожиданное и позднее появление Мария Халимоновна встретила иронической гримасой. Петро понял — подумала о нем: уж не каждый ли день ты, наш идейный секретарь, так завершаешь свою общественную работу? Ему было все равно: «Черт с тобой, думай что хочешь». Приказание отца поскорее собрать на стол «для дорогих гостей» выполняла нехотя, делала все нарочито медленно. Но за стол села хозяйкой, потому что старуха скрылась, залезла на печь, будто и дома ее нет. — Правда, Петро Андреевич, что это вы… какой-то сегодня… не в настроении. Давайте выпьем за нашу учительскую профессию. Кто не знает, думает, что она легкая. Мария Халимоновна, снисходительно улыбаясь, взяла темную длинную бутылку, чтоб налить ему. Но отец остановил ее: — Погоди, Маруся, до этой очередь еще дойдет. А сейчас вот эту. Как слеза! Чистенький… ратификат… — Копыл хочет, чтоб мы скорее с копыльев сбились, — серьезно, без улыбки пошутил Петро; эта мысль пришла ему еще раньше. Копыл и Бобков захохотали. Иван Демидович, выпив, забыл обо всех неприятностях трудного дня. — Пей, Петя! Не жалей. У Халимона этой отравы хватит! Помнишь, о чем договорились? — О чем? — Накопылиться в стельку! Ха-ха… — Ну, что ж… Давай! В стельку так в стельку. Хозяин закудахтал льстивым смешком, а дочке его все это явно не понравилось — она презрительно молчала. — За химию, Мария Халимоновна. Без химии было бы скучно жить. Она посмотрела на него подозрительно — нет ли тут какого-нибудь подвоха? Не поняла, что он имеет в виду. Петро, держа поднятый стакан, объяснил: — Чем бы мы повеселили душу, если б не химия? — Вот правдочка ваша, — кудахтал старый Копыл. Мария Халимоновна понимающе улыбнулась. Чокнулись. Петро залпом проглотил полстакана спирта, неразбавленного. Обжег гортань. Как слепой стал нащупывать на столе кружку с водой. Она сунула кружку ему в руку. Он жадно выпил воду. — Капустой закусывайте, капустой. — Мария Халимоновна щедро наложила ему из глиняной миски в пожелтевшую от времени тарелку капусты. Капуста приправлена луком, кольца лука были сочные, на диво сладкие. Он медленно выбирал их вилкой. — Да берите же вы сало, колбасу, Петро Андреевич, — Мария Халимоновна сама, своей вилкой положила ему гору всякой снеди. И тогда им снова овладело странное желание разрушить здесь все. Он боялся поднять голову, чтоб не выдать своего состояния. Начал нехотя есть, но больше налегал на капусту. А тут, как на беду, хозяин стал жаловаться, что Федька Болотный, председатель колхоза, цепляется к нему: усадьбу перемерил, лишние сотки нашел, грозится отрезать. «Какой он вам Федька? Он — Федор Иванович Болотный, старый, уважаемый и принципиальный человек!» — хотелось крикнуть Петру. Но сдержался. Хрупал, как конь, капусту. — Я спины не разгибаю, она вот тоже. За три километра что ни день ходим. Одной обувки сколько истопчешь по грязи да по песку. Это ее учительские сотки. Что же, выходит, будем урезать нашу антилигенцию? — Разберемся, разберемся, скажем этому Болотному, черту, — примирительно бубнил Бобков: знает, старый хитрец, цену копыловским жалобам, но, как добрый гость, гладит хозяина по шерсти. А Мария Халимоновна подхватила: — И правда «болотный черт»! Петро посмотрел на нее: «Что? Не удалось купить его?» Она раскраснелась, глаза заблестели. И впервые Петро заметил, что под малопривлекательным копыловским лицом у нее красивая шея и грудь — полная, распирает кофточку. Все больше наглел старый Копыл — не просил, уже почти требовал, чтоб стали на защиту «обиженного»: — Мы с тобой, Иван Демидович, власть советская… А эти… болотные, им только уступи, так они и тебе на голову сядут. Не давай в обиду своей правой руки!.. Слышишь? И будешь ты за мной… У меня тоже рука есть… — Как же — не дадут в обиду, — снова отозвалась учительница. — Ячмень делили — всему активу есть, а Копылам нет, ни секретарю, ни педагогу. Они, видишь ли, богатые! «Ты тоже обиженная?» — хотелось спросить Петру, но сам себе ответил: «Да, обиженная!» — и у него вдруг появилось дикое, пьяное желание: не фикусы ломать, а смять ее полные, тугие груди, впиться в них зубами… Он все больше разжигал себя, и Мария Халимоновна, поймав на себе его взгляд, покраснела, занервничала. Предложила выпить раз, другой. Что-то убрала со стола, что-то принесла. Наконец схватила, опустевшую миску. — Принесу еще капусты. — Я посвечу. У меня есть фонарик. Старики, занятые беседой, и не взглянули в их сторону. Петро вышел за ней и сразу же за дверью, на крыльце, обнял. Добродетельная недотрога, она уронила миску, обхватила его шею руками, отвечая на поцелуи, и шептала, задыхаясь: — П-пе-етя! П-пе-течка!.. Не сей-час… Потом. Заночуйте у нас. Заночуйте… Он расстегнул кофточку, полез под нее рукой, но услышал эти слова — и вдруг почему-то сразу отрезвел. Почудилось, что он целует мерзкую усатую морду старого Копыла. Противно стало. Он выпустил ее из объятий, отстранился: — Иди за капустой. — Посвети. — Нечем у меня светить! Она нагнулась, нашла в темноте миску, засмеялась и побежала под поветь, к погребу. Петро вернулся в хату. И с порога услышал: крепко захмелевший Бобков рассказывает Копылу: — …так он, гад, меня за грудки… Ах ты бандит! Мало что… Петро остолбенел. Шли сюда — договорились: про случай с Прищепой никому ни слова. «Что же ты, старый дурень, делаешь?» — Кто это тебя хватил за грудки? — жестко спросил Петро. — Как кто? Он… этот бандюга… однорукий… — Ну, допился ты, Иван Демидович. Поп хотел тебя схватить. Поп! Да его ты схватил… — Поп? — недоверчиво спросил Копыл. — Пьяный, гад, был… до положенья риз. На ногах не держался. — Поп? — удивился Бобков, вылупив глаза. Но, видно, какой-то луч мелькнул в его затуманенной голове, что-то вспомнил, о чем-то догадался, покачал головой, залился смехом: — Поп! Вот змей долгогривый! Однако деньги — во! — он похлопал по сумке, лежавшей рядом. — Пошли домой! Хватит! — Пошли, — неожиданно сразу согласился председатель и встал. Копыл засуетился. — Еще по одной, Иван Демидович!.. Ай-ай, все ведь не тронуто. Колбаска, сальце… Маруся! — Завтра с утра сведения в район надо отсылать. — Так ведь я же и отошлю. Чуть свет уже буду на работе. Не впервой. Коли надо, так надо. Поспим и вместе пойдем. Бобков заколебался, ему хотелось еще выпить, но Петро испытывал отвращение к себе за свою пьяную вспышку, брезгливость к бесстыдной податливости этой… ханжи, и ему не терпелось скорей выбраться из хаты Копыла. Теперь он боялся другого: как бы не прорвалась его антипатия к хозяину, к его дочери… Ни к чему это. Вместе ведь работать… Спирт такого может натворить, что сам себе потом не рад будешь. — А что скажут наши женки? Соня тебе последние вихры выдерет. — Упомянув о женах, как бы стряхнул с себя и отбросил все, что было. Подействовало! Бобков боялся своей молодой жены: на людях — тихая, молчаливая, но, видно, баба с характером. Недаром Саша говорила о ней: «О, эта Соня-тихоня, она еще себя покажет». Иван Демидович вылез из-за стола, разыскал на подоконнике свою шапку. Копыл пенял Шапетовичу: — Эх, Петро Андреевич! В кои-то веки заглянули и — часа не посидеть! А я думал: ну, дадим дрозда, ведь все свои, спирт есть… Вернулась с капустой Мария Халимоновна. Растерялась, увидев, что гости стоят посреди хаты в шапках. Поставила миску, прислонилась к печи, удивленная, как-то сразу осунувшаяся. Обида, должно быть, пришла поздней. А тогда, когда она, боясь глянуть Петру в глаза, протягивала на прощание руку, было одно отчаяние оттого, что уходит, бежит от нее ее короткая женская радость, надежда на которую так внезапно возникла.Ночью болела голова. Проснувшись на рассвете, Петро проглотил полдесятка порошков, которые нашел в Сашином чемоданчике, и запил прямо из ведра. Было гадко во рту, гнусно на душе. Второй раз его разбудил школьный звонок. Где-то совсем близко звонок настойчиво сзывал в классы. Не удивительно, что дежурный бегает по всему парку. Майское солнце, проникнув через все стеклышки полузабитых окон, заливало комнату светом и теплом, бодрящим и радостным. Петро сразу ощутил в себе эту бодрость. Голова не болела. Ночная боль казалась далеким воспоминанием, как боль от военных ран. Встревожился было, что пропустил занятия. Но посмотрел на часы и понял, что Саша нарочно не разбудила его, — наверно, договорилась с директором, чтоб его заменили, передвинули уроки. Умница! Ночью, когда открыла дверь и увидела его пьяного, слова не сказала. Петро припомнил события вчерашнего дня, правда почему-то в обратном порядке — от вечера у Копыла до совещания в сельсовете. И — странное дело! — все словно осветилось иным светом — вот этим майским, веселым, что льется с улицы. Даже случай с Прищепой представился не таким серьезным, как вчера. Теперь он выглядел почти смешной, бытовой, хотя и с некоторыми драматическими деталями, историей. Многие эпизоды из их «подписной кампании», если их рассказать, прозвучат забавным анекдотом. С попом, к примеру… с Мариной Старостиной… Вошла Саша. В халате, в марлевой косынке. Петру всегда особенно нравилась жена в этом наряде, очень он был ей к лицу. — А-а, проснулся мой славный муженек! Пьянчужка! — присела на кровать, как к больному. — Мало что какой-то вонючей гадости насосался, так еще сразу по четыре порошка глотаешь… Когда-нибудь отравишься, дурень этакий. — А голова прошла… светлая, что этот день. — Хорошо, что аспирин. — И потребовала (он не понял, всерьез или в шутку): — Ну, а теперь рассказывай обо всех своих похождениях. У Петра екнуло сердце: «Не разболтала ли Копылиха со злости, что я, пьяный, приставал, лез целоваться?» Рассказал подробно обо всем, кроме, разумеется, этого. Со страхом ждал, что Саша спросит: «А еще что делал у Копыла?» Нет. Ее встревожило другое: что пьяный Бобков все-таки проговорился о случае с Прищепой. — Ох, дураки вы! Один старый, другой… — Какой дурак он, Петро, Саша не уточнила, приказала неласково: — Подымайся, лежебока. Я едва уговорила директора вместо твоих уроков назначить беседу по гигиене. Пока он брился, умывался, Саша собрала на стол. Поставила пузырек со спиртом. Следом за ней пришел Бобков, довольный приглашением. Не успев войти, сообщил Петру, что подписка выполнена уже на 83,2 процента, что сельсовет на четвертом месте по району. За столом сразу предложил выпить за Сашу, которую он любит, как дочь, и уважает… Даже прослезился от умиления, а может быть, вспомнил о своей дочке. Саша перебила его, сказала с сердитым блеском в глазах: — Я вас, Иван Демидович, тоже уважаю… Но я… я вас возненавижу… — Петро и Бобков застыли с поднятыми стаканами. — И не одна я!.. если вы дадите в обиду этого глупого болтуна Прищепу. Вы не его накажете — детей. Мало еще сирот? Те же самые слова, что и он, Петро, сказал вчера у речки! Бобков поставил стакан. На морщинистом сухом лице его выступили лиловые пятна. — Да что же я, по-вашему, Александра Федоровна, зверь, а не человек? Не знаю, что такое горе? Да мне теперь пускай язык вырвут… — Ну, все! — снова перебила его Саша. — Выпьем.
X
Панас Громыка вызвал Шапетовича с урока. Черный, закоптелый, бывший танкист и тракторист, кажется, еще больше почернел в это ясное майское утро. Во всяком случае, Петро ни разу не видел рассудительного оптимиста председателя таким мрачным. Но спрашивать ни о чем не стал. Раз пришел, значит, скажет сам. Панас попросил пройтись с ним и направился в глубь парка, где густо зеленели кусты черемухи и шиповника, еще обрызганные росой. Петро зашагал рядом. — Чепе, Андреевич. И серьезное. — В чем дело? — Кража. — Серьезное, но не такое уж редкое… У тебя тихо было, а в других колхозах… Что украли? — Гречиху семенную. — Всю? — Нет. Пуда два. — А встревожен ты на все двести? — Встревожишься, если вор — сам сторож, Степан Бондаренко. — Доказано? — Что там доказывать! Чуть рассвело — пришел старик Кваша Тимох, тот, у которого землянка на огороде, за амбарами. Что-то, говорит, председатель, петухи кур под амбар скликают. Только с насеста — и сразу под амбар. Целая ярмарка куриная. Мы с ним туда. Сверлом пол просверлен как раз в том месте, где гречиха лежит. Знал, где сверлить. Забить дырку забил, но гречка рассыпана, и куры не успели подобрать. Мы со стариком — к сторожу. А он, дурак безмозглый, в хлеву, чтоб дети не видели, толчет ее в ступе на муку. Дети не видят, а соседи слышат. От людей не скроешь… — Так что ж ты раздумываешь? Вызывай участкового. Ведь договорились твердо: ворам — никакой пощады. Панас остановился под столетними липами, где вечерами обычно сидят влюбленные: почему-то всех тянет сюда для задушевных разговоров. Посмотрел на своего молодого партийного руководителя, тяжко вздохнул. — Ты что, не знаешь? — Чего? — Дурак этот — брат моей жены. — Ну, друг! Сам говорил, что у тебя все село — то брат, то сват, то кум… А ты — коммунист, председатель!.. — Легко сказать, Андреевич: коммунист, председатель. Все это так. Но ты поставь себя на мое место. Я, кроме того, еще и человек. Мне людьми руководить, но мне и с женой собственной жить… Аксюше, Степановой жене, каждый день в глаза глядеть. А у нее пятеро детей. Ну, Ольга, Иван себе на хлеб заработают, скорее всего уедут от стыда. А трое меньших? Вот натворил, сукин сын! — Громыка обхватил руками голову, опустился на скамью. И Петро наконец понял, как действительно нелегко этому сильному человеку, который редко колебался, когда надо было принять решение. До сих пор казалось, что Панас Остапович обладает завидной способностью предвидеть самые мудреные повороты на своем пути. Что бы ни случилось, какое бы ни возникло положение, какие бы самые нелепые, неосуществимые инструкции ни получил колхоз, сельсовет, парторганизация — Громыка первым находил выход, то по-крестьянски простой и мудрый, то столь хитрый, что и сам Булатов, их уполномоченный, не однажды ломал голову, и Анисимов задумывался: можно так или нет? А вот что такое случится — это ему, конечно, и на ум не приходило. Впрочем, нет, Петро вспомнил, как перед посевной председатель на собрании сказал колхозникам: «Никому не спущу, сытому, голодному… сыну родному, если кто хоть одну картошку возьмет семенную. Зарубите на носу!» Но одно дело — сказать, а совсем другое — в тюрьму человека посадить, да еще шурина. Да и не то, верно, сердце жжет, что шурин, а вот что дети останутся голодные. Да. Потому и пришел по душам поговорить, посоветоваться: что делать? Нет, он не просит совета, не категорический ответ ему нужен; этого требуют те, кто хочет застраховать себя на всякий случай. Громыка не из таких, у него хватит решимости и мужества, чтоб все взять на себя. Но ему действительно очень тяжело. Это тот случай, тот момент, когда человеку как воздух нужно душевное, прямое слово друга, единомышленника. И Петро, может быть, впервые осознал так остро свою ответственность за то, что он посоветует другому. А что он может посоветовать? В случае с Прищепой он ни на миг не ощутил раздвоения партийной и человеческой совести. А здесь? Здесь оно есть, это раздвоение. Как он может стать на защиту вора? Но разве Степан — злостный вор, разве не ясно, что его толкнуло на кражу? Сел рядом, тоже вздохнул: — Да, ситуация, черт возьми… — Ты бы послушал, какой вой стоит у меня в хате. Я сказал, что будут судить. И моя, и Аксюта ревут как коровы. Можно, конечно, замять. Этот старый лис, Кваша, заглянул в хлев и сразу — задний ход… «Я, Остапович, ничего не видел, ничего не слыхал…» У следователя будет молчать. Ясно. Но село… в селе уже сейчас, верно, половина знает… И как я буду смотреть людям в глаза? Завтра непременно украдет Иван, если сухим из воды выйдет Степан… И должен буду кого-то отдать под суд… А шурина выгородил… Что мне скажут? — Ясно — аплодировать не будут, — заметил Петро. — Пойти по этой дорожке — сам скоро окажешься в тюрьме. И никто не пожалеет. — А кто тебя станет жалеть, если общественное добро растаскают? Панас повернулся, свирепо блеснул цыганскими глазами. — Что ты мне подпеваешь? Сам я не понимаю, что ли? Ты посоветуй, что мне сегодня делать. Вот в эту минуту… Петро ответил так же горячо: — А что я, по-твоему, святой пророк? Что, у меня на все случаи готовые советы? Но я так думаю: вор должен понести наказание! Другой разговор, что надо поразмыслить — какое. — Если б от нас зависело! Я бы придумал ему кару. Он внукам своим и правнукам заказал бы лазить под колхозный амбар. И сама Ксюта подписалась бы под таким приговором. И Гаша моя… Но тут так сложилось, что либо сюда, либо туда. И коли уж туда, то никакой соломки не подостлать, никто нас и слушать не станет. Дадут ему не меньше пяти… По указу. Панас Громыка знал жизнь и знал законы. Утешить его так же нелегко, как и огорчить. Шапетович думал о своем: зачем Панас пришелза советом именно к нему? Чтоб еще раз убедиться, что ничего путного он, секретарь, посоветовать не может? Или чтоб еще раз ткнуть его носом: гляди, мол, вот она какая жизнь, какие задачки задает, тут четырех арифметических правил мало и «Краткий курс» не очень-то тебе поможет! Помолчали. Петро наклонился, поднял прутик, стал чертить им по влажной утоптанной земле. Увидел, что машинально рисует фермы моста. И еще раз пожалел, что он не строит мосты, а занимается вот чем. — Посажу я этого дурака. Но жизни мне дома не будет. На кой мне каждый день выслушивать попреки да слезы! Уеду! — сказал, как отрубил, Панас. Петро повернулся, чтоб спросить, куда ж это он уедет, и сказать, что райком его все равно не отпустит. Но не успел — Панас заговорил снова: — Но заскучал я, Андреевич, за войну… По детям. По ней, по дуре, по Гаше. И землю люблю, — он повел руками вокруг, — вот такую… зеленую… Как конский пот пахнет, люблю… пашня… солидол возле трактора… Сказал он это так, что у Петра защемило сердце. Да, любит, крепко любит. Потому и тяжело ему. И нельзя ответить в такую минуту казенными пустыми словами. А Петро не мог найти нужных слов. Мысли почему-то все вертелись вокруг моста. Дался ему этот мост! Посидели. И так, ни о чем не договорившись, разошлись. Панас ушел отчужденный, замкнувшийся в себе. Петру было горько: очень он дорожил дружбой и доверием этого человека. А с третьего урока его вызвали опять, на этот раз рыжая Надя, почтарка, — в сельсовет. Бобков встретил в приемной. Был возбужден — даже уши горели — и, казалось, растерян. Потому, видно, и позвал Петра. Бобков, не в пример Громыке, мог принять самое нелепое решение, самовластно совершить глупость, но если уж растеряется — готов советоваться с каждым, кто попадется на глаза. — Вот, Петро Андреевич, погляди только, что валится на наши с тобой головы! Моя, седая, уже отказывается решать: что делать? Давай вместе думать. Пожалуйста, полюбуйся… Диво дивное! — Председатель широко распахнул дверь своего кабинета и отступил в сторону, будто там, за дверью, таилась какая-то опасность. А в комнате, на скамье у стены, тихо и скромно сидела женщина — жена Степана Бондаренко, Аксинья. Петро еще не со всеми односельчанами был знаком, но эту женщину знал давно, с первого месяца своей штатской жизни. Узнал через дочку ее Ольгу, что вернулась из Германии. Да и сама Аксинья как-то выделялась среди ровесниц — женщин в годах, которые поначалу, пока не познакомился поближе, выглядели для Петра все на одно лицо. Аксинья в сорок пять лет была моложава и привлекательна; полная, несмотря на тяжелую жизнь, медлительная в движениях и на редкость спокойная и степенная: никогда не суетилась, ни перед кем не заискивала — хоть пожар случись, хоть сам бог явись. И сейчас она сидела так же спокойно — ни растерянности, ни страха, ни желания разжалобить. Только раза два тревожно прислушалась — то ли к голосу за стеной, в амбулатории, то ли к чему-то отдаленному. Петро увидел у ее ног мешок пуда в полтора и догадался, почему и как эта женщина оказалась тут. Подумал: «Гаша? Или Панас подсказал? Неужели он мог пойти на это?» Было обидно думать, что такой человек, как Громыка, возложил тяжкий крест на плечи женщины, только бы спасти брата своей жены. — Расскажи еще раз, Аксинья. Будем вместе думать, что с тобой делать. Она утерла уголком платка губы и стала рассказывать медленно, как бы нехотя, и совсем безразлично, как о деле чужом и давнем, свидетелем которого она была: — Да вот… попутал черт глупую бабу. Воровкой сделал. Мой это Степан… занедужилось ему… живот схватило… у него ж это издавна, до войны еще… Ну, я с полуночи пошла посторожить за него. Мне и не хотелось. Что там, говорю, сторожить? Пустой амбар? Да нет, говорит мой, гречка лежит семенная. Правда… Гречку эту я сама перебирала… Сижу я… Ночь. Спят все. Нечистая сила летает. Шепчет мне: «А что ты, Аксюта, завтра детям сваришь?» Правда, в хате хоть шаром покати. Ни крупинки. Ну и нашептала… Пошла к себе во двор, взяла сверло под поветью… Амбар же этот стоит как на сваях… Ну и вот. — Она наклонилась, тронула рукой мешок и тут же подняла глаза, впервые взглянула на Петра, будто проверяя: поверил он? — А Степан да Ольга утром как доведались, откуда эта гречка, — из хаты меня выгнали… Никто в роду у нас вором не был! Петро слушал и постепенно приходил к убеждению: нет, не Панас подсказал ей это, разве жена его, Гаша. А скорей всего Аксинья сама надумала. Типичная для крестьянки женская самоотверженность и наивная хитрость: спасти мужа, даром что кормит детей не он — она, но ведь он — отец. Взять всю вину на себя, в надежде на снисхождение судей — если и засудят, то не так строго: мать пятерых детей, да и маленькие еще совсем, сама призналась, сама принесла краденое в сельсовет, покаялась. «Не так уж это глупо, — подумал Петро. — Какой-то выход для всех — и для них самих, и для Панаса, и для парторганизации…» И однако было жаль эту женщину, которая, без сомнения, прожила честную и нелегкую жизнь. Петро подошел, наклонился, пощупал гречиху в мешке и тихо сказал: — Не верю я вам, Аксинья. Она вздрогнула, и в глазах ее мелькнул испуг. Но сказала все так же спокойно: — А как хотите… Суд поверит. Тут вошла Саша и позвала Петра. — Погодите, Александра Федоровна, у нас дела поважнее, — сказал Бобков. — У меня не менее важные. — Куда звонить? Сразу в милицию? Или, может быть, с райкомом посоветоваться? — Иван Демидович явно спешил покончить с этой неприятной историей. — Погоди. В амбулатории сидела Ольга. Заплаканная. Взглянула покрасневшими глазами на Петра, всхлипывая, задыхаясь, взмолилась: — Петро Андреевич, не отдавайте под суд маму. Она не крала. Это все отец. Бестолковый! Всю жизнь мать мучается с ним. А теперь и мы… Что мы будем делать без мамы? Мы же по миру пойдем… «Чем дальше, тем горше, — с досадой подумал Петро. — Какой-то клубок запутанный. В самом деле, нужно быть мудрецом, чтоб распутать». — Что мне делать? Все беды на мою голову. Одно клеймо на всю жизнь. Теперь второе. А мы договорились с Петей, что завтра запишемся. Сыграла, называется, свадьбу! — Ольга закрыла лицо руками, истерично зарыдала. Саша накапала в стакан лекарства, ласково обняла ее, уговаривала: — На, выпей. И успокойся, Оля! Нельзя так. А Петя… если любит… Ну, поздней запишетесь… — Я… я са-а-ма, если маму… — зубы ее стучали о стакан, — не пойду. Я… я… ему дорогу закрывать. — Петя! Скажите вы с Панасом ее отцу: сам напакостил — сам пускай и ответит, а не подставляет жену. Привыкли на женах ездить! Петро крикнул через стену: — Иван Демидович! Никуда не звони покуда. Подождем. Громыку разыскал на огороде, где колхозницы сажали помидоры. Тот выслушал и, гневно выругавшись, зашагал напрямик в деревню. — Я ему сказал: принесешь гречку в правление, покаешься, попросишь людей, простят — будем защищать, если и до следователя дойдет… А он, гад, жену подставляет. Глупая овечка Аксюта эта. Степан Бондаренко под поветью рубил хворост: когда у человека тревожно на душе, ему хочется хоть чем-нибудь заняться. Увидел их — застыл с поднятым топором. В нем не было и крохи того спокойного достоинства, которым веяло от его жены. Он был как загнанный заяц: худой, желтый, редкие рыжеватые волосы слиплись на лбу, борода, щеки небритые, а потому кажутся грязными, сорочка рваная… — Ты что ж, это, Залупей проклятый, — Громыка назвал его уличной кличкой, матюкнулся, — на Аксюту решил свалить? Уже сколько раз валил на нее свои грехи. — Не я!.. Сама… Она крала! Я не крал! Пускай сама… У меня живот болел!.. — Степан кричал почти в истерике. — Час назад ты молчал, как воды в рот набравши! А теперь выяснил, кто крал? Я тебе твой живот вылечу! Глаза у Панаса стали красными, налились кровью, и он, как слепой, сжав кулаки, двинулся на Степана. Тот отступил на шаг и выше поднял топор, защищаясь и угрожая. Петро не на шутку испугался и готов уже был броситься, чтоб удержать председателя. Но Степан отшвырнул топор, театральным жестом разорвал на животе сорочку, завопил: — На, бей! Бей! Убивай! Вам, партейцам, все можно! Убивай! Громыка, сунув руки в карманы — подальше от греха, отступил в сторону, шагнул из-под повети. Глухо сказал: — Запомни, Степан: посадят Аксюту — я из тебя требуху выпущу. Не погляжу, что ты шурин мой. Сейчас же иди и сделай так, как я сказал. Пока не поздно.И все-таки Аксинья взяла вину на себя.
XI
Время, когда все уже посеяно, но еще ничего не выросло, кроме щавеля на лугу, — самое тяжелое для деревни даже в мирные годы. А что говорить про ту первую послевоенную весну! И все же — грело солнце, зеленела земля, и смеялись дети, что ни вечер звенели кругом песни. Шапетович, хотя и был оптимист, иной раз изумлялся трудолюбию и бодрости полуголодных людей. Только школьники расстраивали: каждые три — пять минут поднималась рука и то смущенно-застенчивый девичий голос, то нарочито грубоватый мальчишеский просил: «Петро Андреевич, разрешите выйти». «От щавеля», — сказала ему Саша и поговорила с учителями, чтоб знали и не принимали это за детские проказы. Нелегко им жилось, Петру и Саше, но… счастливо: это были дни полного согласия, любви. А разве это не самое большое счастье? Жить, работать, любить и не думать ни о какой беде, опасности. Никому из них в голову не приходило, что и в мирное время может случиться несчастье. Ленка, играя на лугу с детьми, наелась каких-то сладких корешков, и ей там же стало дурно: отравилась. Саша была на обходе больных, в соседней деревне. Панас Громыка привез ее чуть живую от страха за девочку. Саша три ночи не сомкнула глаз, у нее дрожали руки, начался нервный тик. Когда же малышка поднялась, мать боялась и на минуту оставить ее без присмотра. Пришлось перенести обход больных на вечер, когда с дочкой мог оставаться отец. Но главное, для того чтоб ребенок оправился после болезни, надо было кормить получше, тогда он не будет совать в рот всякие корешки. А чем? Даже за деньги негде было купить, не у кого занять. Кланяться таким, как Копыл или Листик? О, как это тяжело! — Пойду домой, к Поле. Даже если своего нет, займет у соседей, — сказала Саша, когда они снова прожились до того, что в доме не осталось ни картофелинки, ни крупинки. До отцовской деревни километров сорок, по глухой дороге, через болота и леса. И Петру стало страшно отпускать ее в такую даль. Удивительное дело! Ведь было же — вокруг стояли враги, и она, партизанка, шла на связь в Гомель, в далекие разведки, а он, раненный, оставался в госпитале и, кажется, меньше боялся за нее. Тогда обоих их — и его и малышку — опекала Мария Сергеевна, и Ленка называла папой ее, а не его; впрочем, никто не мог установить, произносила она «папа» или «баба», и среди партизан возникали целые дискуссии на этот счет. Нет, тогда он боялся за Сашу не меньше, но по-иному, другой это был страх. Это вообще трудно объяснить: тогда и сам он ходил по местам, где стояли немецкие полицейские гарнизоны, и не испытывал особенного страха, а теперь возвращается иногда поздно с собрания из Понизовья и озирается на кусты у речки. Стыдно сознаться. — Не надо тебе ходить, Сашок. Лучше я… — Какой толк, что ты пойдешь? Что ты им скажешь? Я же знаю: ни о чем ты не сумеешь рассказать, как мы тут… Ну, попотчуют тебя, дадут какого-нибудь гостинца… Да если б не Ленка, разве я пошла бы! Мне даже у Поли нелегко просить… Да и нет у них там лишнего. Вышла она в субботу, когда у Петра кончились уроки, с тем чтобы вернуться назавтра, в воскресенье. Не так-то легко было оставить дом. Пока раздобыла им еды на два дня, сготовила. И ничего не хотела брать с собой в дорогу, чтоб Петру с Ленкой больше осталось. Пришлось с ней ссориться. А потом по сто раз повторила наказы и Ленке и ему: — Леночка, к речке — ни-ни. Ни с кем. Ни с Галькой, ни с Танькой. Не пойдешь? — Нет. — Будешь все время с папой. Вместе ходите, вместе играйте… — В жмурки? — Во что хотите. Только вместе. Будешь слушать папу. Будешь все есть, что он скажет. И никуда-никуда без него… ни в парк, ни на луг, ни в школу. — К тете Гаше хочу. — О боже! Невозможно перечислить всего, что тебе нельзя. И к тете Гаше можно только с папой. А лучше не ходите. Неловко. — Это уже Петру. — Петя! Ни на минуту не спускай с нее глаз. А то она обещает и тут же забывает… — Забываю не! — О, «не» мое милое! Дай-ка я поцелую тебя еще разок. Будь умненькой, хорошей, и я принесу тебе от тети Поли всего-всего вкусного-превкусного. — И сыру? — И сыру, и яиц, и меду. Пойду к дяде Пимену и попрошу хоть чашечку меда. — Знаю. Это что пчелки приносят. — Все ты знаешь из книжек да сказок. Петя! В сельсовете не засиживайся. А то станешь девчатам мифы свои рассказывать и забудешь о ребенке. — Не так уж часто я рассказываю! — Вообще ты любишь покрасоваться перед бабами. Есть за тобой грех. — Придумаешь бог знает что. К чему мне красоваться перед ними? Нужны они мне! — Ты — славный. Я верю тебе. Ведите себя хорошенько. Не бойтесь за меня. Не впервой! Я завтра постараюсь пораньше выйти, чтоб прийти не поздно. У меня все-таки узел будет, думаю, нелегкий. — Не слишком нагружайся. Не близкий свет. Мы будем тебя встречать. В Понизовье. Ладно? — Далеко не заходите. А то потом придется ее нести. Устанет наша маленькая. — Я маленькая не. Я большая! — Большая, большая. Ох, эта мама. Не понимает, кто маленький, кто большой. — Для меня вы оба маленькие. Иду, а душа не на месте. — А как же в партизанах? Скоро мы привыкли к мирной жизни. К спокойной. И чтоб всегда вместе… — Наверное, потому, что это нормальное состояние человека, его счастье. Не хочу я больше в партизаны! Нет! Пусть будут любые трудности, только бы жить вот так, вместе. Однако пора. Пойду. Путь и правда не близкий. Впервые за полгода, с тех пор как вернулся из армии, Петро весь день провел с дочкой. И ему очень понравилось играть с ребенком! Отключаешься от всех серьезных дел и забот. Как будто сам возвращаешься к детству и тебя начинает радовать то, чего обычно не замечаешь — божья коровка, желтая бабочка, зеленый жук, цветок одуванчика, смелый дятел, который залетел в парк и долбит старую липу, поглядывая вниз и шаловливо бросая чуть не на голову им щепу. Ленка начинает рассказывать про какую-то «дымную птичку», которую она с Ганькой и Мишкой видела не то вчера, не то невесть когда, и птичка эта, по первому описанию, пока не разгорелась детская фантазия, — желна, в дальнейшем превращается не то в сказочную жар-птицу, не то в орла, который хотел украсть Мишку и унести далеко-далеко. И он слушает эти беспомощные еще фантазии с умилением. Ему хочется, чтоб дочкин голосок, этот колокольчик, не умолкал ни на миг. Когда он оставался с Ленкой раньше, в сумрачной комнате, занятый работой, историей, тетрадками, конспектами, — бесконечные вопросы дочки иной раз надоедали. А вот отдался ей целиком — и все стало радовать, даже непослушание, проказы. За ужином разбили кувшин с простоквашей, которую Саша для них купила, — главный их пищевой запас. Где тонко, там и рвется. И печально и смешно. Но особенно тронуло его, что беда эта оказалась понятной девочке — Ленка загрустила, даже всплакнула. — Где мамка? — Ничего, кувшин разбился на счастье, и мама завтра прилетит, как пчелка, с богатым взятком. А утром вновь — тревога за Сашу, неожиданная, непонятная. Почему? Что случилось? Пошла в гости, в родное село. Но так говорил разум, а сердце… с сердцем не было сладу. Если б хоть Ленка была такая же веселая, звонкая, как вчера, но и она притихла, заскучала, без конца спрашивала, когда придет мамка. Пропала радость, поблекли краски весны. Петро едва дождался времени, когда, по его расчетам, можно было уже идти встречать Сашу. Шли долго, медленно. Сидели на дороге, поджидали. Солнце давно перевалило за полдень, приближался вечер. А Саши все нет. Его беспокойство, очевидно, передалось и малышке — она заплакала. Ох, что за мука, когда на душе так тревожно, а тут еще начинает плакать истомившийся на солнцепеке ребенок! Дойдя до Понизовья, Петро с невероятным трудом уговорил Ленку остаться у преподавательницы их школы, а сам, уже почти бегом, бросился дальше по дороге, по которой должна была вернуться жена. Пробежав сосновый лесок, увидел в поле на пустынном проселке одинокую фигуру. Издалека узнал — она. Сразу отлегло от сердца. Наконец-то! Остановился, утер пот. Но почему Саша идет так медленно и как будто даже шатается? Так устала, бедняжка. Скорее помочь, забрать узел! Побежал к ней и остановился испуганный: Саша была без узла и бледная-бледная. — Что с тобой?! На тебе лица нет! Саша улыбнулась, и эта, хотя и грустная, улыбка почему-то успокоила его. Ему показалось, что она хочет присесть на траву. Он подбежал, чтоб помочь. Она припала лицом к его плечу, горячее дыхание обжигало шею. — Что с тобой? — Захворала. — По пути? Что у тебя болит? — Ничего. — Всегда у тебя загадки. Она долго не отвечала, потом сказала тихо-тихо, шепотом, словно боялась, что кто-нибудь другой подслушает здесь, в чистом поле: — Не будет у нас ребенка… — Ты-ы… Лицо ее залилось краской. — Глупый! Ты что подумал? Так случилось… От недоедания, должно быть. От усталости. Тяжелый узел. Это теперь часто у женщин… Я знаю. Мне не надо было идти. Сама виновата. Сядем. Я полежу немного. — Тебе худо? — Голова кружится. Петро помог ей удобнее улечься на траве. Растерянный, он не знал, чем еще можно помочь. — Что же нам делать? — Пойди попроси у Болотного лошадь. Я спрятала узел в лесу. Надо забрать. Теперь нам еще нужнее все то, что собрала Поля. Пока я поправлюсь… С кем Ленка?XII
Вчера он посмеялся над Сашиными страхами, над ее испугом, когда пришла эта повестка. — Ну и трусиха ты стала, а еще партизанка. Мало ли зачем может вызывать постоянный уполномоченный по сельсовету! — Уполномоченные так не вызывают. Я не за тебя боюсь. За других. Это, наверное, по поводу Прищепы. Напомнила случай с инвалидом — и у Петра тревожно сжалось сердце. Но он ничем не выдал себя. Смеялся, шутил. Только вечером, как бы между прочим, спросил у Бобкова: не вызывают ли его в район? Нет. Это его почти успокоило. Однако, когда сегодня утром, провожая его, Саша тихонько сказала: «Я об одном прошу тебя: не теряй благоразумия и… будь начеку…» — и в больших глазах ее, резко выделявшихся на бледном лице, снова промелькнула тень того же страха, Петро вновь ощутил тревогу и даже подосадовал и на жену и на себя. — Ты готова мне сухари сушить. Прямо смешно. Чего нам с тобой бояться? Мы и воевали на совесть, и работаем дай бог каждому. Вероятно, Саша поняла, что ему передалось ее волнение, потому что тут же стала успокаивать: — Не обращай на меня внимания. Видно, болезнь сделала меня такой мнительной. А может, и потому, что я недолюбливаю этого человека. — Человек как человек. У каждого свои обязанности. Ты бы лучше поменьше двигалась. Зачем встала? Полежи еще. — Я полежу. …Петро шел мимо веселых перелесков, мимо полей, зеленевших всходами яровых. Сияло солнце. Ласково, уже совсем по-летнему, веял теплый ветерок. Звенели в небе жаворонки. В кустах кричали дрозды… Он любил эту дорогу — от деревни к райцентру. Неделю назад его вызывали на бюро райкома, и он, хоть и знал, что могут крепко «пропесочить» за отставание «Светоча» с севом, шел эти десять километров и распевал: так хорошо, так радостно было ощущать тишину, мир, глядеть на зеленые поля, сулящие людям хлеб и счастье. А теперь шел и нес, как тяжелую ношу, как еще недавно мешок картошки, Сашины страхи. Только ли Сашины? Он не хотел себе признаться, что и он чего-то боится. Чего? Смешно. Булатов, конечно, человек не простой, не всегда понятный, что называется, со странностями. Он может вызвать по совершенно непредвиденной — голову сломаешь — причине. Есть у него такая черта. Иногда он говорит с тобой, как взрослый с ребенком, — это смешно; а бывает, что и как судья с подсудимым — тут уже не до смеха. Но, в общем, человек как человек, член партии, так же как и он, Петро. Вместе работают. С Петром он говорил и серьезно, по-дружески, раза два вместе обедали, даже выпили. Однажды, кажется, у Болотного, другой раз — у отпускника-офицера, который приезжал повидать мать. Там, в малознакомой компании, Булатов показался ему симпатичным и веселым человеком. Три дня назад виделись. Почему же он ничего не сказал об этом вызове? Опять хотел огорошить? «Шапетович, у вас приемник есть?», «Громыка, сдайте пистолет!» Какой же сюрприз приготовил он ему сегодня? Неужто и вправду ему стал известен этот глупый, в запальчивости сорвавшийся выкрик болтуна Прищепы? Петро пожалел, что не сходил вчера вечером в Понизовье и не поговорил с этим неугомонным, вечно поднимающим бузу инвалидом. Но ведь, по сути дела, ничего и не произошло. Два одноруких схватили друг друга за грудки. А теперь они по-прежнему мирно встречаются, шутят. Кому же может прийти на ум создавать из этого дело? «Но почему же все это не идет у меня из головы? Только потому, что Саша напомнила? Ты, моя дорогая женушка, и впрямь стала слишком подозрительна. У нас с Булатовым может быть и тысяча других дел». Он мог бы себя успокоить, если б не вспомнилось другое: Андрей Запечка и… разговор с Лялькевичем, озабоченность секретаря райкома тем, что Булатов становится над райкомом. Еще на полпути у него мелькнула мысль: «Не заглянуть ли сперва в райком, к Владимиру Ивановичу? Рассказать ему». Однако, пораздумав, Петро отказался от этого намерения. «Неудобно. Какое это произведет впечатление? Боюсь зайти к своему уполномоченному, к члену бюро райкома. Сразу к секретарю — перестраховаться, будто я согрешил, будто у меня совесть нечиста. Я перед партией, перед людьми чист, как это ясное небо, — ни облачка!» Он и не пошел бы в райком, если б на станции не встретил Прищепу. Рыгор стоял возле баб, торгующих снедью, рассевшихся, как наседки, под старыми липами, и закусывал картофельным пирогом с фасолью. Видно, уже пропустил стаканчик. Петра встретил насмешливо-уничтожающим взглядом: — Как живем, секретарь? — Ничего. — Вы не из-за меня тут, часом? — Нет. — Петро не мог сказать о повестке. — А-а… так у вас свои дела. Ну что ж, действуйте, разворачивайтесь. Надо было отозвать его в сторону, спросить: а сам-то ты почему здесь? Но не решился. Теперь им не на шутку овладел страх. Не за себя. За него — за этого задиру, крикуна, матерщинника, но в недалеком прошлом — боевого армейского разведчика. Нет, неправда: он боялся и за себя. И тут же твердо решил: сначала он пойдет в райком, к Лялькевичу. Тот все поймет. Только б застать Владимира Ивановича в райкоме. И потому, когда секретарь сказала, что Лялькевич у себя, Петро с облегчением вздохнул и вытер рукавом гимнастерки потный лоб: казалось, вся тяжесть, которую он нес, свалилась с плеч, ушла из сердца. Полчаса спустя Владимир Иванович Лялькевич стремительно вошел в кабинет первого секретаря Анисимова. Едва переступив порог, заговорил возмущенно: — Анисим Петрович! Что у нас творится? Кто у нас хозяин в районе — райком, мы с тобой, выбранные коммунистами, утвержденные Центральным Комитетом, или Булатов? — А что случилось? — Новое дело фабрикуется. На инвалида из Понизовья, который, когда проводилась подписка, сболтнул лишнее… и — похоже — на Шапетовича, который при этом был… Тот же метод, уже известный нам. Два дня тому назад Булатов приезжал в сельсовет, виделся с Шапетовичем, но не сказал ни слова. А на сегодня вызывает посмотри какой повесткой. Черт знает что такое! Вызывает коммуниста, секретаря парторганизации, а райкому ничего не известно. Ты представляешь, как он с ним будет говорить? Это ж оскорбление райкома, нашего строя, если хочешь, такое недоверие к людям, которые воевали на фронте, партизанили, ранены. Ну, нет! Шапетовича я ему на съедение не отдам! Плохо он знает нашего брата-партизана, Булатов этот! Лялькевич, прихрамывая, тяжело шагал по большому кабинету. От волнения и гнева его прямо-таки трясло. Анисимов сидел в своем рабочем кресле, он казался спокойным, даже безразличным. Но суровые его глаза, от колючего взгляда которых многие в районе поеживались, пристально следили за каждым движением Лялькевича. Нередко случалось им спорить так, что, как говорил Лялькевич, «искры летели». Но в хорошую минуту Анисимов не раз признавался: «Люблю я тебя, черта, больно уж ты смел и образован». Теперь он тоже залюбовался своим «вторым», тем, как он яростно защищает этих бесспорно — тут и говорить не приходится — честных людей. Но было не до лирических излияний — невеселые мысли одолели его. — Посадит он нас с тобой, этот тип. Лялькевич, пораженный, остановился посреди кабинета. Постоял в оцепенении, потом подтвердил: — Посадит! — и, подойдя к первому секретарю, сказал, наклонившись совсем близко: — Посадит, если мы будем молчать… если не поставим его на место. Если ему все будет сходить с рук… Сошло с инвалидом Запечкой, хоть мы и понимали, что это липа. Члены бюро, когда он докладывал, глаз не могли поднять — стыдно было. Теперь добирается до секретаря парторганизации! Почему ж ему не добраться и до секретаря райкома? Ошибки и у нас с тобой найти можно, если подходить по-булатовски. И истолковать их можно как вздумается. Анисимов молча достал из ящика пачку папирос, закурил, сделал две-три глубокие затяжки и, тут же смяв папиросу, ткнул ее в стеклянную пепельницу. — Боишься, Анисим Петрович? Полк поднимал в атаку — не боялся? Я с двумя разведчиками эшелон с живой силой взорвал — не боялся. Десять раз в Гомель на связь с подпольщиками ездил. А тут, выходит, Булатова испугался? Да я себя после этого уважать не буду! И тебя! Рука Анисимова потянулась к телефонному аппарату, висевшему на стене, за креслом, и, не дотянувшись до трубки, застыла. Лялькевич в ожидании отступил. Анисимов отнял руку от телефона, сцепил пальцы, так что хрустнули суставы, не расцепляя, потер ладонью о ладонь. И тут же поднялся, резко крутанул ручку аппарата. — Булатова! Булатов? Захватите дело Шапетовича и — ко мне! Какое? То, которое у вас есть! Ясно? Выполняйте! — и бросил трубку на рычаг. — Что? Отказывается? — спросил Лялькевич. — Юлит, как… — Не зуди ты у меня над ухом ради бога. Помолчи. Лялькевич хорошо знал его нрав и, тайком усмехнувшись, отошел к окну, стал смотреть на улицу. Анисимов снова достал папиросу и закурил, жадно затягиваясь. Минут через пять Лялькевич увидел, как из калитки дома напротив (дом стоял в глубине двора, за забором, окна его были скрыты высокими кустами сирени и шиповника) вышел Булатов. Владимир Иванович не без злорадства подумал: «Бежишь? С такими, как ты, только так и надо: „Ясно? Выполняйте!“ Старый вояка Анисимов это знает». Он вернулся к столу, стал возле кресла. Анисимов взглянул на него вопросительно, но, услышав шаги в приемной, понял, кто идет, и лицо его побагровело, ежик на голове встопорщился. Булатов вошел не постучавшись, не спросив разрешения, размашисто распахнул дверь, как бы показывая, что он здесь равный. Но вид первого секретаря — тот вид, который они, члены бюро, шутя называли между собой «перед бурей», — заставил его подтянуться. Булатов был трус. Звонок первого секретаря, тон, которым с ним, Булатовым, говорили, встревожили его, выбили из колеи. К тому же был обеспокоен: сообщить в райком мог только кто-то из его подчиненных, значит, за ним следят и докладывают, вероятно, не только в райком; и неизвестно, что там, наверху, о нем думают. Он овладел собой, спросил как будто обиженно: — Что такая поспешность, Анисим Петрович? — Вы, Булатов, Устав партии знаете? — тихо спросил Анисимов и, не получив ответа, повысил голос: — Партия для тебя существует? — Не понимаю… — Оно и видно, что не понимаешь. Заводишь дело на секретаря парторганизации, а райком… — Дело ведь не закончено… Анисимов протянул руку. Булатов раскрыл светло-желтую мягкую папку, на которой выделялось крупно напечатанное «Дело №…», и положил перед секретарем. Номера еще не было, но бумажек набралось порядком, и все они были аккуратно подшиты. Лялькевич подошел, стал за креслом секретаря, начал читать из-за его плеча. И едва просмотрел первую бумажку, взорвался: — Донос? Копыла? Того? Анисим Петрович! Обрати внимание. Доносы. Копыла. Того самого — помнишь? — на которого было коллективное письмо колхозников о том, что этот тип выдал немцам партизана. Помню, Булатов, я передал вам это письмо, чтоб вы расследовали. И вы «расследовали»! Вы сделали его своим агентом. Шпионить за коммунистами, возводить поклепы на людей, которые проливали кровь за советскую власть, в то время как он фашистам лизал… Какая провокация! Булатов побледнел, поняв, что с Копылом сработал грубо. Лялькевич, словно в припадке астмы, задыхался от ярости: стараясь не кричать, он точно выталкивал слова свистящим шепотом: — Какую политическую оценку можно этому дать, Анисим Петрович? Анисимов не отвечал, читал молча, и только ежик на его голове становился все более жестким и колючим. — Ну, а вот здесь? Анисим Петрович! Посмотрите, о чем пишет этот холуй. «Вместо того, чтоб рассказывать людям о тех, кто ковал нашу великую победу — формулировочка! — Шапетович рассказывает… про богов». Это же смеху подобно. Шапетович преподает историю, увлекается мифологией. И рассказывает античные легенды. Булатов! Вы Сталина читаете? — Не понимаю. — Оно и видно, — повторил Лялькевич слова Анисимова. — Об Антее вы читали? Постыдились бы подшивать такие доносы! Боже мой! Анисимов молча, не произнеся ни слова, дочитал до конца заключение, написанное не ахти как грамотно. Потом откинулся на спинку кресла, сцепил пальцы, потер ладони. Глаза его сузились. Сказал шепотом, но так, что Лялькевич испугался: однажды после такого вот шепота у Анисима Петровича был сердечный припадок: — Булатов… за что вас… понизили в звании и записали выговор? Я вам напомню: за превышение власти и… за трусость. Так знайте, Булатов: покуда я здесь, вы не сделаете карьеры на подобных провокациях… Нет, Булатов, не сделаете… Знайте… Не сделаете, капитан Булатов… Подумайте… И не превышайте власть. Так-то, Булатов. Так-то. Я вас не задерживаю… можете идти. Булатов потянулся за «делом». Анисимов резко качнулся вперед и, разжав ладони, положил руки на папку. — Нет, это пускай останется у меня. В моем сейфе. Этак будет надежней, знаете ли. Меньше соблазна, Булатов. Меньше… Идите, — показал глазами на дверь. Капитан на минуту заколебался, как будто желая что-то сказать, но не нашел нужных слов, по-военному повернулся, щелкнул каблуками и зашагал, высоко вскидывая ноги, однако дверь за собой закрыл осторожно, без стука. Анисимов все тем же шепотом, как бы боясь, что громко сказанное слово может разбить что-то внутри у него или где-то рядом, попросил Лялькевича: — Накапай-ка ты мне валерьяночки. Владимир Иванович знал, что аптечка стоит на подоконнике, за шторой. Налил в стакан воды, пипеткой отсчитал двадцать капель янтарной настойки. Анисимов выпил, глубоко вздохнул, крякнул и только тогда сказал в полный голос: — Сукин сын! Попался бы он мне на фронте! — и несколько смущенно, но с чувством удовлетворения покрутил головой. — Чуть не сорвался. Видел, как нервы свои удерживал? Во, — стиснул кулаки. — Спасибо, Анисим Петрович. Этот разговор давно назрел. Но надо дело довести до конца. Надо написать в обком и в ЦК. — Не люблю я таких писем, но в данном случае придется, а то от этого типа всего можно ожидать. Сегодня же напиши. Анисимов встал, потянулся и бодро крикнул: — Где он, твой Шапетович? Здесь? Зови его сюда. Поговорим. Петро, измученный долгим сидением в пустом кабинете наедине со своими невеселыми мыслями, вошел смущенный и расстроенный. Остановился у дверей. Анисимов пробасил: — Ты что это — как мокрая курица? А я думал — ты герой. Проходи, садись. Расскажи нам с Лялькевичем про богов. Петро совсем смутился. — Про каких богов? — А как же! Тут один написал, что ты вместо пропаганды и агитации про богов толкуешь. И то правда. Сев в колхозах безбожно затянулся, а секретарь парторганизации бабам мифы рассказывает. Есть о чем подумать. А что это ты публично расхныкался над судьбой детей Низовца? Мало у тебя вдов и сирот войны? — Дети есть дети, Анисим Петрович. И они не отвечают за отцов. — За внешней суровостью секретаря Петро уловил скрытое одобрение, он осмелел и отвечал уверенно, без той сковывавшей его робости, которую ощутил в первый момент и которую и раньше не раз испытывал в присутствии Анисимова. — Ты мне прописных истин не втолковывай. — Дочь Низовца на уроке от голода потеряла сознание. А я сам — отец и педагог. Секретарь подошел поближе, пристально посмотрел на Петра, покачал головой. — Учили тебя, Шапетович, и на фронте, и в партизанах. И не научили… — Чему? — Идеалист ты. А в твоем положении надо быть реалистом. Что там у вас было с инвалидом этим?.. — С Прищепой, — подсказал Лялькевич. — Ничего особенного. Человеку было не по себе, а мы с Бобковым с подпиской пристали. Он отказался, Бобков горячиться стал, матюкнул Прищепу… Тот — его. И все. — И все? — Ну, схватились друг с дружкой. Я разнял. — И все? А кто ж из вас болтун — ты или Бобков? Петро пожал плечами. — Сегодня же гоните в шею из сельсовета этого немецкого курощупа — Копыла. Чтоб духу его не было. Ясно? Петро был озадачен таким переходом. Анисимов, заметив его удивление, сказал: — Владимир Иванович растолкует тебе, что к чему, — и посмотрел на часы. — Чтоб в три дня «Светоч» сев закончил. В пятницу сам проверю. Ясно? Работать надо, а не мифы рассказывать! Ясно? — но при этом с улыбкой крепко стиснул Петру руку, горячую и потную от волнения. — Ну, будь здоров, карась-идеалист. У меня дел до черта. Когда они перешли в кабинет Лялькевича, тот сказал Петру: — Наш старик сделал то, что делали на фронте, своим телом закрывая амбразуру, — выстрел был направлен в тебя. Слабое место Булатова — это Копыл. На этом он и может погореть. — И он коротко рассказал, что было написано в «информациях» Копыла и какое заключение сделал из них тот, кому они посылались. — Булатов умеет обеспечить свой тыл. Он, как правило, обо всем докладывает на бюро райкома. Но никогда не показывает никаких документов, да их никто у него и не спрашивает. Верят на слово. Никто не вдается в существо его обвинений. Он на это рассчитывает, когда заводит вот такие «дела». Демонстрирует, как бдительно он стоит на страже интересов партии и народа. Вот почва той бесконтрольности, о которой мы с тобой говорили. Помнишь — у тебя дома? — Он Прищепу не задержит? — Сейчас, когда дело у Анисимова? Нет. А впрочем, я проверю. И вот во время этого разговора в дверь постучали, и в кабинет вошла… Саша. — Саша?! Как ты сюда попала?.. Ты же должна лежать! — А мне не лежалось, — произнесла она и смолкла, смущенная присутствием Лялькевича. Тот, видимо, все понял и поспешил закончить разговор: — Хорошо, Петро Андреевич, договорим потом. Я приеду к вам. …Они сошли с крыльца райкома, как дети держась за руки, никого не видя и не слыша. Только на улице Петро спохватился: — Ты пешком? — Мне так страшно стало, когда ты ушел. Я собралась и — следом. — Что это тебе вздумалось! Вот глупышка! Ведь ты совсем еще больна. Вернусь-ка я, попрошу у Лялькевича машину. — Нет, не надо. Я уже здорова. Теперь нам нечего спешить. Пойдем потихоньку.И вот они отдыхают. Недалеко от райцентра. Слышно, как на станции пыхтит паровоз. Там, на пристанционном базарчике, они купили у бабы творогу и картофельных лепешек. Пообедали. И так им хорошо! Петро лежит под обитой ветром шершавой сосной, Саша сидит рядом. Он держит ее руку. Он не выпускал ее руки, пока они шли из райцентра. И теперь не хочет выпускать. Ему, как никогда раньше, необходимо ощущать ее близость, тепло. Это тепло, вершина сосны, качающаяся от ветра, и небо — то бездонная синева, то облака, темные, светлые, — как все это чудесно успокаивает и по-новому поднимает, возвращая ту полноту, ту светлую радость жизни, которая родилась год назад, в День Победы, не оставляла его никогда и так омрачена была сегодня. Старая сосна на опушке хвойного леса не раз поранена топором, ножами мальчишек. На свежей ране-лысине — крупные прозрачные капли смолы. Она крепко пахнет, но это запах жизни, весны. — Кто б мог подумать — Копыл! Такой вежливый тихоня… — Вежливый! Подлец — до самой смерти подлец. Я теперь не сомневаюсь, что он-таки выдал партизана. — Анисимов сказал: «Гоните сегодня же из сельсовета. Чтоб духу его не было!» Да и Лялькевич нас попрекнул: «А вы тоже — лопухи». — Лопухи и есть. Добренькие. Бобков и ты. Пригрели гадину. — Черт с ним! Не будем о нем думать. Смотри, какое небо. Теплый ветер приносит аромат хвои и трав. Петро вдыхает его полной грудью. Закрывает глаза. Саше кажется, что он уснул. Она молчит. — Ты знаешь, Сашок, я все-таки построю свой мост! Она отвечает не сразу. — Я сидела и думала: а может, и в самом деле нам уехать куда-нибудь на стройку? Он поворачивается к ней. Когда он раньше говорил о совершенно реальном мосте, она возражала: «Поступил в институт — учись. Где еще у тебя будет такая возможность?» А теперь, когда мост превратился в красивую мечту, Саша вдруг так прозаически возвращает его к действительности. — Нет, теперь я никуда не уеду! От таких людей! — Этот гад, если он останется, не даст тебе жизни. — Ну знаешь… Есть райком! Есть партия! Не останется он! Она вздыхает, чуть крепче сжимая его пальцы. — Не будь идеалистом. — Ты не веришь Лялькевичу? А я верю. Теперь я во всем ему верю. И Анисимов — пусть крутой, но настоящий человек! — Я тоже полежу, — говорит Саша и кладет голову на толстый корень сосны. Снова вздыхает. — Напрасно оставили Прищепу. Напьется он там, на станции. И опять накуролесит. Начнет языком молоть… — Силой же не потащишь. Звали. Напьется, конечно. Не поймешь его. Я так и не разобрал — похвалил он меня или пригрозил, когда сказал: «Я с тобой, парторг, еще поговорю». — Ну что ты! Когда покупали лепешки, он шептал мне: «Во, Шура, какой хлопец ваш Шапетович!» — и большой палец выставил. Они снова молчат — все сказано. И должно быть, Петро на этот раз вправду засыпает ненадолго, потому что вместо кружева сосновых ветвей на фоне лазури перед ним встает радугой сказочно прекрасная арка необыкновенного моста, такого длинного, что тот, другой, берег — как в тумане.

Последние комментарии
6 часов 27 минут назад
6 часов 35 минут назад
12 часов 47 минут назад
12 часов 51 минут назад
13 часов 1 минута назад
13 часов 8 минут назад