Снегири горят на снегу [Василий Михайлович Коньяков] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Снегири горят на снегу
СНЕГИРИ ГОРЯТ НА СНЕГУ
I
В комнате свежо. На полу рулон грунтованного холста, раскладной мольберт. Этот багаж я с колхозным трактористом еле поднял на сани с флягами. Восемь километров от станции трактор давил гусеницами снег, а я, привалившись спиной к фляге, ставил ноги на полоз, чтобы они не бороздили по снегу. Временами бежал по графленому следу — грелся. На стеклах настыл мороз, матовый, без перламутровых блесток. Тронешь ногтем стекло, и на подоконник посыплется сухая пыльца. А за окном, в стронциановом сиянии месяца, падает медленный снег и не слышно шороха опускающихся снежинок. В другой комнате горит свет. Голая лампочка над столом, запорошенная мукой клеенка. Я не зажигаю свет, смотрю, как мама сеет муку. На лавке у окна долбленая сейница с выщербленным краем. Качается темное сито в руках, да слышны равномерные шлепки ладоней. Задребезжала дощатая дверь в сенцах. — Кто-то так грохает? — Мама высыпала отруби в чугун, вышла в сенцы. Дверь в избу оставила открытой, чтобы в полоске света видеть откидной крючок. Я ждал у стола. В избу, заснеженной шапкой вперед, ввалился Пронёк Кузеванов, за ним — высокий, без шапки, парень. Пронек потопал пимами об пол, оббивая снег, надвинулся, стянул с руки спаренную варежку. — Не спишь? Достал из кармана заиндевевшую бутылку водки, поставил на стол. — Тетк Наталь, ты на нас не обижайся. Мы поговорить. Он уже выпил, обветренное лицо багрово потемнело. — Ну, ладно, — сказал я. — Вы раздевайтесь. Парень молча пошел к вешалке. На нем меховая куртка с замками, шерстяные тренировочные брюки с простроченными рубцами спереди. Брюки натянуты резинками поверх лыжных ботинок. Он красив, чуть горбонос, со смуглым несибирским загаром. Я поставил скамейку к столу. Мама вдруг засобиралась, накинула шаль, застегиваясь, прихватила ее концы полами телогрейки и ушла с алюминиевой чашкой на улицу. — Мама, подожди. Я знаю, как зимой спускаться в погреб. — Ладно, парни, я сейчас. На улице морозно сиял месяц. Чашка стояла на снегу. Мама сбрасывала с крышки погреба снег и, поддев лопатой, старалась ее оторвать. Я взял у нее лопату. Потом вилами выбрал смерзшиеся квадраты сена из сруба. Раздвинув вставные доски, мама спустилась вниз. — Ты не лезь, Андрюш. Расшибешься. Лестница скользкая. — Я посвечу. Я стоял рядом с кадками и зажигал спички одну от другой. Мама сдвинула в сторону стебли укропа. В обнажившемся рассоле всплыли красные помидоры. В чашке их мокрая кожица схватывалась тоненьким налетом льда. Когда я принимал помидоры из погреба и коснулся маминых рук, они у нее были холоднее алюминия. Вылезая, она опиралась ладонями о снег. — Беги домой. Заколеешь. Теперь я сама. Удивительная убежденность: будто она крепче других. Я подал ей чашку с налипшим на дно снегом и отправил в избу. — Хватается? — оживленно обрадовался Пронек. — Чуть не доглядишь — уши распухнут, как пышки. На столе уже стояли помидоры в тарелке, нарезан хлеб, сало. Мама протирала рюмки. — Тетк Наталь, что наперстки готовишь? Ты стаканы ставь. Пронек сбил сургуч, обхватил ладонью горлышко бутылки и вилкой откинул на стол жестяной колпачок. — Силен, — сказал парень. Он смотрел на Пронька, как смотрит старший на меньшего — снисходительно и как бы все понимая, хотя был явно моложе его. — Опыт, — отметил я. Пронек будто не слышал. Только сказал: — Это наш агроном. Юра Холшевников. — Приобщается к колхозной жизни?.. — Да. В институте теория, здесь практика. Пронек разлил водку по стаканам. — Ну… За приезд. Поставил локоть на стол, будто трудно держать полный стакан. Он все такой же. Не изменился. С большим тяжелым лицом грубой лепки, как первый скульптурный нашлепок. Даже лицо цвета глины. Выпили. Пронек наколол вилкой помидор — он, осев, растекся. Пронек взял другой за крючковатый корешок, высосал одним вдохом, крякнул: — Х-х-о… Аш затылку холодно. Пронек неуклюж и здоров. Когда-то, будучи моложе, он казался бесформенным, как мешок с тестом, а сейчас стал тверже, определенней. «Бузотер»… — так недобро и осуждающе зовут его в деревне. Что общего нашел с ним этот городской парень? Изморозь на его волосах растаяла. Мокрые пряди прилипли ко лбу. Он наклонился над столом близко к электролампочке. От волос шел пар. Стряхивая пепел папиросы на спичечный коробок, он молчал, будто его что сдерживало. Мягко подступал хмель. Я смотрел на оттаявшие помидоры, вспучившиеся, налитые влажной краснотой, на синенький самолет под пеплом, — он медленно разворачивался на столе. Спина уже не чувствовала холода от окна. — Это здорово, что вы пришли, — сказал я, чувствуя радостную близость к этим людям. Я был благодарен Проньку за то, что он сидит за этим столом с каким-то незнакомым парнем. Значит, я дома. Значит, кому-то вот так вдруг захотелось прийти и увидеть меня. — Это вы здорово придумали… Агроном порывисто поднялся с лавки, качнувшись спиной на стенку. Прошел к вешалке и достал из внутреннего кармана куртки еще бутылку. — Приобщим… — А это не чересчур? Здоровые же они! Лоси. Ну Пронек — это понятно. А Юрий? Спортивный малый… — Вам же завтра работать. — До завтра еще… Пронек долил стаканы. — Тетк Наталь, надо допить… — Я тогда квашню не поставлю. А ты бы, Пронь, сам больше не пил. Как домой пойдешь? Много же… — Сегодня мы намерзлись. Сегодня положено, — сказал Пронек. — Только что с лугов. — Он посмотрел на меня. — Всю дорогу трос рвался. Раньше к стогу десять подвод подгоняли, а сейчас… — Пронек довольно хорохорился. — «Челябинец» вокруг трос заведет, сдернет с места, так по снегу весь стог и тянет. Эх… Ты не знаешь, Юра. А мы с ним вместе в школе учились. — У Пронька добреет лицо. — Я к нему всегда прихожу. Как он в деревню приезжает, я прихожу. Ты нам покажи что-нибудь. Покажи. Он посмотрит, как ты… Проньку хотелось похвалиться мной, похвалиться и тихо торжествовать. Я представил его перед расставленной панорамой своих этюдов. Пронек заметил, что я долго молчу, поискал глазами, что я рассматриваю на клеенке. — А на этот раз надолго в деревню? — На этот раз… Мама почувствовала, что я сейчас что-то скажу, перестала размешивать опару. В темноте стекла отражались заслонка печки и ведро с водой. За ними синий ситчик маминого фартука. Я минуту молчу. С неотвязной привычкой воспринимаю все зрительно. Вижу только цветовые нюансы, рефлексы и решаю, чем это можно было бы взять, какими красками. Киевская художница Ада Рыбачук поехала на остров Колгуев искать свою тему и свою любовь. Мой друг Гена Сорокин после Суриковского института поточным способом красит десятиметровые кинорекламы в городе. Рисовать уже разучился. Обводит кистью физиономии актеров через проекционный аппарат. А я… Я жил в дощатой времянке у частников. Затыкал носками прогнивший пол по углам, писал свои «городские окраины» и выставлял в художественном салоне на продажу. Но чаще складывал под кровать. А рядом с моей времянкой вырастали панельные жилые массивы и новые дома культуры. Светлые. Со сквозными пролетами стен из стекла и алюминия. Элегантные дома культуры. Они бережно входили в глухую чащу лесов, распахивали стеклянные свои стены перед живой белизной березок с опадающими листьями. Я видел, как на глухом простенке зала ложился небольшой эстамп в строгой белой окантовке и не «вписывалась» живопись из художественного салона. Новоселы городских квартир обставляли свои комнаты современной мебелью и не заходили в магазин художников. Они покупали в культтоварах репродукции ИЗОГИЗа. Дешевле. Ребята из Союза художников повздорили из-за какого-то заказа — кажется, панно по пятилетнему плану при въезде в город. Когда приехали в горисполком заключить договор — заказ уже перехватили другие. Мне не хотелось гоняться за заказами. На первых порах достаточно было вести изостудию при Доме культуры. Рублей за пятьдесят. Я предлагал свои услуги. Директора культурных очагов радовались моему приходу. — А что? Вот кстати!.. Мы давно мечтаем о студии… Знаете, сколько желающих из цехов приходят! Комнату подберем. Нам десять кружков нужно организовать… на общественных началах. На общественных началах… А чем мне жить? Я стойко мучился над какой-то композицией, что-то искал… И однажды понял: все, что я делаю, все это для того, чтобы продать, чтобы прожить. Что в сущности никто во мне не нуждается. Я не нужен… Это было неожиданно… Моя живопись, к которой меня так долго готовили, не нужна. Я не верил… А начинать новую работу уже не было стимула. Не было зачем. Для чего? Исчез толчок. Я понял… Это пришло как облегчение. Пришло сразу. Мне даже стало смешно. Не буду. И я срезал все грунтованные холсты с подрамников. — Опять что-нибудь изобразишь, — сказал Пронек. — Нас с Юркой на тракторе. Или на стогу… — Нет… Теперь я с тобой сено буду возить. Или удобрение на поля. Вилами орудовать, навоз на сани накладывать. На морозе. Я давно на морозе не работал. Пронек рассмеялся: — Тебя в деревню калачом не заманишь. Столько учился… Он поднялся и с сожалением смотрел в темную комнату. Я пошел их провожать. За воротцами Пронек потолкался с нами и направился к дороге, пробивая в снегу след, хотя светил месяц и была видна глубоко протоптанная дорожка. — Пойдем ко мне, — попросил агроном. — С женой познакомишься. А то она одна дома. Со мной скоро разговаривать перестанет. Когда ни придешь — нахохлится. — Что так? — А-а… — жестко ответил Юрий. — Сама она не знает, что ей надо. Хватило только на три месяца. Их дом без сеней кажется раздетым. Мы обходим высокий чурбак, задеваем рыхлый бугорок снега — под ногами раскатываются колотые березовые дрова. Дверь не заперта. В первой комнате полумрак, холодно. В другой… В другой на длинном проводе электролампочка, перекинутая через гвоздь на стене. В углу полочка из досок, застеленная газетой. На ней раскрытая общая тетрадь и листы бумаги. Рядом, завернувшись в желтый тулуп, сидит молоденькая женщина. На кровать наброшено ватное одеяло. Юрий бодро остановился перед ней. — Вот моя Катя, — сказал он. Катя не ответила. Она смотрела в стенку. Юрий покачался перед ней и решительно сел на кровать. Долго сопел, расшнуровывая ботинки. Скинул куртку на чемодан и лег, тяжело закинув ноги. Я нелепо стоял посреди комнаты, ждал, не откликнется ли Юрий. Его жена продолжала сидеть неподвижно, сжимая изнутри полы огромного тулупа. — Я где-то это уже видел, — сказал я. — Да, вспомнил. У Сурикова. «Меншиков в Березове». Старшая дочь. Вместо собольей шубки — тулуп, но скорбь та же… Она опустила руки, и высокий воротник тулупа свалился назад. — У вас явная потребность поупражняться в пошлости. На меня еще никогда не смотрели с такой неумолимой неприязнью. Черные зрачки ее сошлись до булавочных точек. — Вы бы шли домой… Или куда там… Видите, ваш друг уже спит. Я опешил. В комнате ничего не было. Некрашеный пол, сгущающийся полумрак. Лампочка пронзительно освещала только угол, и почему-то казалось, что атлас стеганого одеяла холоден. Легкий же парень этот спортсмен! Свободен от меня, которого бог весть зачем вел, свободен от этой девочки, своей жены. Мне она казалась именно девочкой. Лампочка горела за спиной, и маленькая головка девочки была темной и неподвижной, как у остановившегося японского божка. Жена! Неискушенная городская девчонка останется наедине с безжизненно пьяным парнем в нетопленой комнате с голыми стенами. Мне ничего не оставалось делать, и я смотрел на кровать, приготовленную на двоих. — Вы бы шли домой. Правда… Юрий спал, положив согнутую руку на глаза. Я хмыкнул, неуклюже повернулся и пошел, а спиной помнил исписанные листы бумаги под лампочкой и жену агронома в тулупе с пустыми, свесившимися по бокам рукавами. На улице, трезвея от мороза, подумал, что не хочу никуда спешить. Кругом — белым-бело. Легкий снежок на укатанной дороге. Тронешь ботинком, он не чувствуется, только наст скользкий под ногой. Месяц над дорогой. Словно нарочно для меня. Смотри. Деревня все такая же. Не изменилась, как двадцать лет назад. Парнишка на самодельных лыжах ходил вон по тому сугробу, скатывался у тына, а потом что-то чертил лыжной палкой на стенках сугробов. А резкая тень от талинового кружка растягивалась по снегу. Что же ты хотел тогда, о чем думал в свои десять лет? Сейчас идешь точно такой же ночью, по той же улице, банально пьян, и у тебя ни уверенности, ни семьи. Вот здесь росла черемуха. Колхозники проезжали под ней и стучали по веткам дугами. А сейчас на месте черемухи новый дом под шифером, замерзшие стекла веранды. Над крышами домов штрихи антенн телевизоров. Доверчиво подставила деревня темные окна напряженному месяцу. Укладывается спать жена агронома. Я иду по улице и почему-то хочу, чтобы она нравилась, эта улица, жене агронома, и хочу, чтобы все люди знали, как бывает зимой легко на ее ночных дорогах. И не такие уж стылые по ночам тридцатиградусные морозы. Дома у двери, дожидаясь, когда откроет мне мама, я уже без радужного восторга думал: глухо спит деревня. В больших снегах, как в берлоге.15 августа. Вечером Юрка привез дрова. Я стояла у телеги, а Юрка скидывал березовые лесинки. Они белые в черных пупырышках и ровненькие. Я сказала: — Березки загубил. Юрка ответил, что это сушняк. Валежины. Говорит-то как! Валежины… О том, что это валежины, я узнала, когда Юрка стал их рубить. Кора на березах лопалась и слезала. Под ней обнажался шоколадный ствол, изрытый дорожками с желтой пыльцой. И пахло от дров грибами. Я попросила: «Дай мне». — Ха! — выдохнула я, неловко ударяя топором. — Х-х-а… Березки были твердые, как кость. — Катя! Прелесть. Ты где научилась? — Чему? — Х-х-а. — У деда Подзорова. Юрка засмеялся. Я отпустила топор, выпрямилась. Был вечер. Густое небо падало за плетни, за согру. Уже раскрыты в огороды ворота, вырублена капуста, сбились листья к плетням. Воздух прозрачный и стылый, как вода в здешних колодцах. Я запрокинула голову, хотелось чувствовать его лицом и губами. — Ну-ка неси… неси дрова за избу. Когда мы зашли за стенку, Юрка наклонился ко мне и поцеловал осторожно-осторожно. Я взбежала на крыльцо. Юрка остановился внизу, удивленно рассматривая меня. А я боялась, чтобы кто-нибудь не вспугнул эту неясную радость. — Юрка! Знаешь, мы молодцы. Ведь у нас по-большому все начинается. Взяли и приехали. В далекую, далекую Сибирь. И вольны делать все, что нам захочется. Никого у меня нет. Я сама. Это, наверное, детское — я сама. Сама… Как думаю, как понимаю, как настаиваю. Это для меня главное. Других забот нет. Я — Диоген. Мне ничего не надо. Только делать то, что хочу. Я уехала от посторонних забот к своим желаниям. Хочу работать. А в избе у нас будет только стол, стулья, посуда. — И кровать. — Юрка посмотрел на меня так, чтобы я поняла, почему именно кровать. Мне улыбка эта не понравилась. — Мне иногда хочется быть серьезной. — А ужин-то варить будем? — Я принесла с фермы молоко.
20 августа. Утром Юрка выбежал на улицу в трусах и кедах — прыгал во дворе со скакалкой. Какая-то пожилая женщина увидела его, далеко остановилась и ждала, когда он закончит физзарядку. Застыдилась. Должно быть, подумала: «Мужик нагишом прядает». Смешная целомудренность. Потом Юрка убежал на конный двор запрягать свою лошадь в ходок. Я уже знаю, что это такое — ходок: плетеный коробок из прутьев, изогнутый этаким славянским ковшиком. Коробок на легкой телеге, а в нем восседает Юрка в кепке и кирзовых сапогах. Юрка вживается в кирзовые сапоги. Прежде чем уехать, Юрка соскакивает, снимает вожжи с кола и долго возится у кроткой головы коня. Конь оживляется, задирает морду, а Юрка зачем-то засовывает ему в рот стальную, как две сцепленные авторучки, цепку. Металл глухо колгочит по костяшкам зубов. Юрка уехал. Опять на целый день, а я… Нужно сходить за хлебом в кладовую. Нам выдают его готовый. Поспешу к семи. Не хочу, чтобы там было много народу. Когда бы я ни пришла, женщины уже ждут тетку Надежу с тележкой. Кладовая открыта. Вместо ступеньки в амбар толстое бревно в мазуте. Мне всегда мешает мое узкое платье. Я поднимаюсь, а женщины рассматривают мои коленки. В кладовую они не заходят — ждут хлеб на солнце. В кладовой полутемно, пахнет медом и гвоздями. Для мужчин мой приход становится темой. С неловкой усмешечкой они зубоскалят: — Вы, Екатерина Михайловна, здесь уже восьмой раз. Мы сосчитали. Как пройдете, так следы. Посмотрите — луночки. — Я увидела отпечатки каблуков на полу. — Вот на собрании поставим: ремонт кладовой за ваш счет. Пусть Юра раскошелится. Тетка Надежа привезла хлеб. Булки большие. Кладовщица разрезает одну пополам, она сдавливается вся, и огромнейший нож нехотя пробивает корку. Булки поднялись на поду, и в местах разрыва они горячи и цепки. Я с трудом запихиваю половинку в сетку. Когда иду к выходу, действительно слышу, как хрустят волокна досок под моими шпильками. Мне становится смешно. Мне легко с здешними людьми. Если бы я была у дел, а не только носила из кладовой хлеб в авоське! Но я уже знаю, что в нашей деревне учителя не нужны. А эти туфли надо давно бросить, никак не могу доносить. Куплю в раймаге босоножки. Но ужас, как на здешних дорогах ноги пылятся. В нашей деревне учителя не нужны… Об этом я узнала вчера в районо. Заврайоно — женщина беленькая и круглая, как торт. В теплой шерстяной кофте с отделкой — толстые жгуты спиралью по груди. Она придирчиво рассматривала меня и недоумевала: — Странная вы… Что же, всю жизнь теперь за мужем? А ваш университет? У вас такие возможности, столько вариантов. Муж перейдет в райцентр в управление. — Муж хочет быть агрономом, а я жить с ним рядом и учить ребят. — Вы же филолог. А в начальной… Такой оклад… Разве это не безразлично? — Неужели в современной деревне мне с университетским образованием не найдется места? — Но… ведь… — Я считала свой приезд в деревню вполне естественным. Мне двадцать два года. Только и начинать. И… Ведь газеты и журналы только о том и говорят, что не хватает интеллигенции в деревне. — Не пойму… Что вы делать там будете? А у нас в райцентре в железнодорожной школе не хватает словесника, и в районной десятилетке ведет литературу учительница из педучилища. А в Речкуновке муж и жена учительствуют восемь лет, выпускают хорошие классы. Не можем же мы их раньше времени отправить на пенсию. Я поднялась. Заврайоно участливо остановила меня: — Екатерина Михайловна! Вы только не исчезайте совсем. Подождите. Мы вам что-нибудь предложим. Горько. И все просто. Вот так, жизнь. Это твоя первая консультация. С университетским образованием — в начальную школу. Это же надо приветствовать! Особенно в Сибири. Приехала. Наивная же я. Дура.
12 ноября. Я позорно трушу. На ночь жарко натопила печь — утром все в избе выстыло. Мороз лезет в дверь и нарастает снежным грибом на щелях. Я не закрыла трубу русской печки, и от нее, как из ледяной пещеры, холод осторожно и глубоко пробрал до костей. Печь придется иногда протапливать. Выпал снег, и березовый лес стал серым, нахмуренным. Черными пятнами на нем сорочьи гнезда. Принесла охапку дров, бросила на жестянку перед печкой. Эту печку я люблю. На плите у нее пять кругов. В центре крышечка, потом кружки побольше, побольше, побольше и на последнем можно крутить «хула-хуп». С полена зубами надрала бересты, растопила печку. В огне береста свернулась в тугие трубочки. Я не включила свет. Печка гудит — «прям выходит из себя», как здесь говорят. Но гудит ласково. Юрки нет, он в клубе. А мне можно подумать. Сейчас надену тулуп. Меня, пожалуй, сложно понять другим потому, что я еще сама не понимаю себя. Зачем мне нужен был университет, да еще филологический факультет? Я знаю преподавателей литературы, выжатых вечными домашними заботами. Издерганные детьми, они еле успевают погладить себе блузку, затюканы программой и чумеют над многоэтажными стопами тетрадей с сочинениями, а в них из года в год (о, я знаю эти конспекты и планы уроков в общих тетрадях) один и тот же «положительный образ». В развернутые планы сочинений никакими усилиями не втиснется ни одна живая искорка своей заметы. И не придумает ничего нового филолог, потому что и думать ему некогда, и думать отвык, и не улавливает он, чего хочет современная литература, что ищет за пределами установившихся условностей, оттого что сам ничего давно не читал — некогда. А я… Я вижу перед собой ребят, их глаза. Они смотрят на меня и ждут. Ждут первого моего слова. Что я, кто я? Что я им сейчас дам? Первое мое слово — это… Я подношу палец к губам и говорю: «Т-с-с… Тихо… Одевайтесь. Мы пойдем в лес. Я буду учить вас не знать, а слышать Пришвина. Зимой он говорит тихо — пристальный мудрый философ. И вместе с ним вы услышите себя. А потом… когда-нибудь сами захотите мне рассказать о том, чего я не знаю, и не знает никто». Но для этого я должна уехать далеко, где некому меня будет одергивать, где не нужно растрачиваться на докторальную всезнающую опеку… Приблизительно так я придумала свой первый урок. Для себя. Придумала с детства. Девица, воспитанная городом, я никуда не выезжала, но до меня доходили обрывки какой-то большой дерзкой жизни, и я не равнодушна к ней. Я не помню этих источников. Может быть, это было кино, может, книги, может, музыка. Я не могу довольствоваться потребностями подруг моего студенческого круга, потому что знаю: есть люди, которые мыслят иначе, живут лучше. Они другой категории чувств. И во мне живет потребность понять их, этих людей. Что им надо? Зачем? Разобраться в их жизни и активно взять ее, потому что мне это надо. Лично для себя. Я тщеславна и хочу взять на себя много. Меня пугал примитивизм заведенных будней. А здесь для меня важен каждый мой день. Как я проживу его, как увижу себя в нем — я зафиксирую. Тулуп греет. Дыхнешь в воротник — он отдаст тепло щекам, и оно держится у лица. Я заметила одну особенность. Когда пишу в тулупе — слова мои становятся мужественнее. Об этом я узнала случайно, когда перечитывала написанное. Ошибаюсь я или нет в этом ощущении? Кто проверит? Вообще для чего я пишу? Дневники мне не нужны. Но мне кажется, что так я сохраняю способность думать и не теряю возможности следить за своими днями. И еще… Я никому в этом не признавалась, даже себе. Это далеко и неясно во мне. Кажется… я умею видеть слово. Будто беру и прикасаюсь к его новизне, его непонятной зрелищной сути. Вот оно, легкое, обыденное такое, вдруг набухает содержанием, как ветка в мороси, и, влажное, ложится на бумагу и приобретает вяжущий вкус. Я сама не знаю, отчего радуюсь этому. Может быть, к ним, к этим словам, я и приехала в эту глухую даль, где замело все снегом, и я нахожу следы зайцев за стеной на огородах.
21 ноября. Юрка сел на стул и начал стягивать сапоги. По всему полу рассыпалась пшеница. — Холодная, как свинец. Ноги замерзли. Семена сейчас подрабатываем. Залез на ворох — начерпал. Разуваться на морозе боялся. Юрка ходит босиком по полу. И там, где ступает, пшеница исчезает, как смакивается. — Ты гусь. И у тебя не лапы, а губка. Юрка не отвечает, надевает вязаную шапку и толстый шерстяной свитер. Садится, примеряет ботинки с коньками. На меня ни разу даже не глянет. Спина у него прямая и широкая, а из-под свитера выступают лопатки. Я подхожу к нему сзади и устраиваюсь локтями между лопатками, давлю изо всей силы. Юрка железобетон. Не оставляет своих привычек нигде, никакой поблажки себе. Характер. Хвалю. И я поглаживаю ладошкой его волосы на лбу. — Гончаренко и Гришин для тебя скоро будут только подметать дорожки. — Ты бы одевалась быстрей. Озеро посмотришь. Я больше тебе не буду напоминать. Юрка говорит, а под локтями у меня спина его гудит. День сегодня потеплел. Воздух мягкий, притих неподвижно у мокрых березок. Мы с Юркой идем за деревню к озеру. — Я никогда себя так не чувствовал, как сейчас, как здесь. Понимаешь… В городе придешь после занятий на стадион — то дорожку уже избили, то залита она с наплывами. К вечеру сгустится над катком дым с сажей какой-то. Побегаешь два часа, а потом сплевываешь на снег углем. Тренер еще пытался из меня что-то выжать… А у меня легких хватало только на полкруга. А здесь… ноги устают, а легкие не знают предела. Даже самому становится жутко. Такой идеальной дорожки не знает ни один город. Если мне ничто не помешает… Юрка ловит мой взгляд и возбужденно прыгает боком чуть впереди. — Чувствуешь, какой воздух? Жить здесь и потерять форму, потерять, что с таким трудом набирал, — это… Мне бы только укрепить ноги, а потом… Я уеду на соревнования, а ты будешь здесь жить, ловить по радио спортивные вести и ждать «Комсомолку». И… Я не хвастаюсь. Мне еще никогда так легко не дышалось. Да, да! — отвечает Юрка на мою улыбку. Дорога в снегу стала узкой и ребристой. Идем, как по шпалам. — Кто это накопал так? — Коров поить водят. Пробили. Мы останавливаемся у обрыва. Глубоко под нами в тени за нетронутым снегом грифельная гладь льда, а за ним темные сплошные кусты. Кусты уходят к далеким горам. Согра. Лохматая и низкорослая. Мы спустились по тропинке. Юрка сел на снег, надел ботинки с коньками. Неуклюже переступая, подошел ко льду, чуть качнулся, и на черном нетронутом стекле пробежали белые штришки следов. Озеро узкое, длинное. Я выбежала на лед, и оказалось, что стою под ветками дерева. Скользя валенками, я подбежала к нему, покачала ветки, и от руки вязко запахло черемухой. Я пошла по льду вдоль серой стены ветвей. Озеро в тени крутого косогора, только на повороте резкой чертой упало солнце на снег и раскололось на льду. Я забиралась в островки камыша и слушала его сухой ломкий звон. А за перепутанными метлами ракитника в снегу красными бусами горел шиповник. Он мягок и чуть-чуть студит зубы. Юрка убежал далеко, широко раскачивая рукой, а за ним бойко скоблили коньками мальчишки. Это надо видеть! Мальчишки наклонялись вперед, подражая Юрке, складывали руки на спине, и подпоясанные их телогрейки топорщились над штанами, как хвосты глухарей. Пробегал Юрка. За ним сухую пыльцу со льда сдувал ветерок. В лучах косого солнца Юрка казался дельфином с черными извивающимися щупальцами. Мальчишки смотрели ему вслед, долго не решаясь трогаться с места. Не космонавты в круглых глазастых скафандрах, а длинный и красивый Юрка, улыбающийся и недосягаемый, на отшлифованном ветрами льду, навсегда останется их кумиром. Так вот почему они делают на тропинках улицы крюк, чтобы встретить меня и поздороваться! Юрка об этом и не знает. Но я понимала, что где бы он ни появлялся, он не растворяется, а приносит себя. Своим он никогда не поступится.
24 ноября. Я не вижу в деревне людей. Днем пройдут с фермы свинарки, долго маячат в морозной седине улицы. А вечером… Мне скажут, я преувеличиваю. Не разобравшись — обобщаю. Нет, я свидетель. Юрка сказал, что в нашей деревне колхоз «самый лучший». Поэтому Юрка его и выбрал. (Я сама читала в сводках районной газеты показатели по государственным поставкам.) А вон тот колхоз, что в ясный день виден за согрой, — хуже. Определение по тому, что отдают люди. А мне бы хотелось знать, чем они живут, чем сыты. Природу их желаний. Из своего университетского неведения я словно приблизила глаза к телескопу, сквозь протертую призму зимнего воздуха вижу мельчайшие детали деревенского быта. Несет холод по полу клуба. Женщины в пальто и пуховых платках грудятся на скамейках поближе к экрану. Парни с девчатами жмутся у холодной стены с пробитыми окошечками. Еще при свете заведующий клубом обойдет всех, обрывая билеты. Вот уж течет сноп света над головами. Бесприютно мечутся на экране «похитители велосипедов». А кто-то поднимется со скамьи, пройдет к двери, напьется из бачка. Кто-то щелкает семечки себе под ноги, уйдет потом, и останется на полу шелуха с темными пятнами от валенок. Только что-то мало в кино мужчин. И вовсе не оттого, что их нет в деревне. Бревенчатый магазин рядом с гаражом в центре деревни. С пяти до восьми вечера откинута с двери металлическая закладка. Мужчины сходят с крыльца с оттянутыми карманами. Это вечера будней. А в субботу… Женщины прямо с работы исчезают на минуту за дверями магазина, и потом из кирзовых сумок выглядывают скромные колпачки бутылок. Они спешат — к детям, к мужьям. Собираются по-соседски или по-родственному — работа свела вместе. Собираются без необходимости плясать. Собираются, просто чтобы собраться вместе. (Пляшут по праздникам.) К этому не готовятся — к столу всегда есть хлеб, сало, огурцы. Иногда, не раздеваясь, садятся за стол. Начинают пить. Пьют как-то всегда одинаково. Разливают водку в стаканы. Берутся за них молча, ждут с минуту хозяйку. — Давай… — значительно поощрит кто-то. Опрокидывают стаканы одновременно, будто цветок разворачивается в разные стороны. Компаниями в клуб не ходят. Нет потребности привносить в него свою интимную радость, свою невыговоренную обиду. Он чужой им, клуб. Заботы и радости уносятся домой. Юрка тоже несколько раз приходил домой поздно. Виновато возбужденный, поворачивался ко мне и старался вдыхать в себя. Меня разозлило не то, что он пьян, а маскировка. Сказал, что был у механика. Я очень медленно выговаривала ему в лицо, чтобы видеть, как долго он может сдерживать дыхание. — У тебя так много общего с твоими друзьями! В потребности. — Жаль, что у тебя ничего нет общего ни с кем. Ладно. Это еще не самое страшное, Юрка. Мне зябко. Мне многое неясно. Неужели нет большей радости, чем быть пьяным?
27 ноября. Юрка принес из мастерской стулья — колхозный плотник сделал. Толстое строганое сиденье и тонкие в коре березовые ножки. Подобран изгиб спинки и бережно, чтобы не тронуть бересту, вдолблены выгнутые перекладинки. Юрка сказал, что сиденье покрасит. — Что ты! Это же нежно так. Смолистые доски и черные штришки по стволикам. Естественно и нежно. Старик же это понял. Смотри, он нигде кору на ножках не тронул, даже белая пыльца на спинке. Я бросила «Огонек» на круглое сиденье, и его синяя обложка рядом с берестой стала холодной и густой. — Правда, стиль выдержан? Юрка! А почему он такие сделал? — Я сначала сам строгал. Он все смотрел, сидел в сторонке, курил. — Ты фуганком-то сучки не сбивай. Шуршепком сначала. У него там в углу стояли березовые заготовки для граблей. Я из них напилил ножки, хотел тебе сюрприз сделать. Когда начал вколачивать ножки, он ко мне ближе подвинулся. — Ты что, ножки прям так, что ли? — Да. — А ты не ленись. Построгай. А то шелованишь что-то. — Нет, батя. Жена это у меня… Колхозники из раймага круглые столы везут, а ей они не нравятся. Она мне вот такую табуретку заказала. Я же ему не врал? — Юрка сидел на чемодане, прижавшись щекой к дужке кровати. — Не врал же? — Сдавленная кулаком складка почти закрыла глаз, отчего улыбка его была насмешливой. — Она у меня, дед, хочет быть сибирячкой. Только вот… Не хочет покупать мебель в магазинах. Тут я перестарался. Ножкой доску расколол. Бросил и хотел уйти. — Может, ты, дед, сделаешь, а? Я заплачу. — Жена-то у тебя откуда? Городская? — Ну да. — Ишь ты! — Ну и вот… Упивайся. Угодил? Юрка стал заворачивать шерстяные носки на ботинки. Колхозники называют его лыжные бахилы ЧТЗ. «Добро. Никогда не сотрутся. Только протекторы меняй, чтобы не буксовали». — А три рубля Самоша не взял. Говорит — неси так, это я не за деньги делал. Юрка поднялся и пошел в другую комнату, начал долбить в ведрах лед. Я представила, как Юрка пьет. Дном кружки продавит тяжелую воду, зачерпнет — вода уйдет в ледяное окошечко, а лед посветлеет. Кружку боязно подносить к зубам. Я содрогнулась. Юрка пьет такую воду каждое утро перед завтраком. Говорит — для профилактики от ангины. Я села на стул. Юрка вернулся, но не вошел, а, опершись расставленными руками о косяки и наклоняя голову, рассматривал меня. — Так… На моей жене модные брючки. Неотесанность березовых жердей подчеркивает… И этот стул не опрощает, — наоборот… Типичный снимок рижского журнала мод… — Что бы ты понимал… — Ну, а какова целесообразность именно таких стульев в этой избе? Объясни… — Юрка. Красиво же! — Катя. Ну что ты… Просто модно. Кафе необработанными камнями оформлять, витрины необрубленными корнями. И вот… Видишь? Стихия… Ты как-то говорила о независимости своего вкуса. — Знаешь, Юрка, это ужасно. Ведь ты сам радовался этим стульям. Я видела, какой ты был, когда их принес. Зачем же сейчас все испортил? Юрка заулыбался беспечно: — Завтра я еду в район с председателем. Там лыжи куплю, две пары. Мы с тобой тогда все леса облазим. Вечером Юрка ушел в клуб — деревенских парней тренировать. Оказывается, он удивительно самоуверен. Не думает, понравится или не понравится мне то, что он делает. Ему надо. И что странно — я делаю то же. Но меня это уже не приводит в восторг. Мало мы с ним живем… Как это все будет?.. Вечерами я жду его и почти уверена, что проговорим с ним опять о пустяках, о чем-то преходящем. А вот то, чем озабочена я, не становится побуждением к разговору. Его как бы не существует, и я, чувствуя Юркино неведение, бесхитростную непричастность, не заговариваю об этом сама. Будто я — не женщина я, а человек — совершенно ему не интересна. Он меня всю познал. Почему я об этом стала задумываться? Так рано. Давно ли была свадьба? О своем Юрка рассказывает азартно. И всегда у него получается, будто это все так необходимо, так важно, а послушаешь — окажется пустяком. Он даже недоумевал и сообщил наставительно: «А ты?.. Что-то ждать, хотеть… Это должно в тебе оформиться в реальное. Все складывается из обыденного. Я стою на земле. В смысле переносном и буквальном. Я же агроном. Поэтому все хочу пробовать руками». Мы тогда лежали. Он говорил это и улыбался. — Ты интуиция. А я хочу, чтобы ты была вещной, — повернулся ко мне и откинул одеяло к ногам. Когда Юрка пришел пьяным, утром я лежала и долго рассматривала его. У него на губах засохшая белесая каемка, будто остаток пены. Он открыл глаза, пришел в себя и с силой полез целоваться. — Не смей!.. Он поймал мои руки, растянул, как распял. Придавленная так, я в состоянии была только вертеть головой. — Ну смилуйся. Не карай. Я промолчала. Потом сказала в потолок: — Ты сейчас просто противен. Он смеялся. Ему казалось — я шучу. Холодно. Пусть придет. И будет теперь готовить дрова и топить печку каждый вечер сам. А я тоже уйду. За ним следом. В углу клуба перед сценой круглая печка, обитая жестью. Жесть крашена, и черная краска сально лоснится. Где-то внизу за чугунной дверцей теплится огонь. Из поддувала на пол сыплется зола. Печка кажется холодной, а прижмешься к ней — она бережно согреет варежки, будто трогаешь голенький живот теплого щенка. На полу медленно остывают ноги. Я листаю на столе номера «Огонька». Они без цветных вкладок — кто-то коллекционирует. Зато остались нетронутыми иллюстрации Пинкисевича. Пришел Саня Равдугин, поставил баян на скатерть, сшитую из старых полотнищ: на вылинявшем сатине скатерти следы пропитавшихся белых букв. С мороза лакированный корпус баяна отпотел, и Саня протирал его платком. Он без шапки, в расстегнутом пальто с рыжим воротником. Искусственный воротник уже не рыжий, а бурый. Ходит Саня боком, с опущенным левым плечом — ранен, или баян плечо оттянул? Саня завклубом и киномеханик. Саня универсален. Он еще ведает радиоузлом. Вон открыл дверь в маленькую комнатку, и по его пальто забегал низовой свет из желтых глазков. Там его кабинет. Там он рисует на кинопленках световую газету и готовит самодеятельность. Клуб Саня закрывает только на обед. Он всегда в клубе — дома только спит. Вальсы его однообразны и безлики. Может быть, своего сочинения. Саня поднял баян и издал мехом мощные холостые выдохи. — Как сыграю с мороза, он начинает хрипеть. Голоса срываются, — сказал он, сосредоточился и стал слушать простуженные басы. Девчата поднялись на сцену. Свинарка Лида склонилась над журналом, нашла страницы юмора. Пуховый платок шалашом остался у нее на шее. Она рассмеялась, подняла голову, и лицо ее снова ушло в затененную глубину платка. А глаза какие! Знает она или не знает, что красива? Грузно заскрипели мерзлые доски на крыльце. Лида встрепенулась. Кто-то распахнул дверь и не закрыл. За дверью мелькали заиндевелые тени — Юркины будущие боксеры. Лида выскочила на улицу. Тренирует Юрка в пристройке клуба. Он отобрал в секцию восемь человек. Ребята в майках, горячие. Пальто свалены на столе. В комнате разливается сладковатый запах пота. Когда на руках у ребят появляются круглые подушки, Юрка начинает кричать: — Не открывайся! Слышатся кожаные шлепки. Молодые парни с красными от мороза лицами какие-то нерастраченные, как молочные телки, кружатся легко, одновременно двумя ногами подпрыгивают вбок и ужасно важничают. — Не открывайся! — кричит Юрка. — Сережа! Сережа расслабляется весь сразу. Руки падают к бедрам. Юрка сгибает его левую руку в локте, а подбородок придавливает к плечу. — Ну-ка отработай, — и вдруг бьет его в прижатый черный шар. Сережа откидывает голову то в одну, то в другую сторону. И когда сильно отклоняется вправо, прячась за свою зашнурованную перчатку, Юрка подставляет длинную ручищу и щелкает в открытый подбородок. У Сережи пугаются глаза и обидно багровеет лицо. Юрка сворачивает кусочек газеты, подсовывает его между плечом и подбородком. — Держи. Понял? А Сережа еще долго улыбается неловкой улыбкой и изредка встряхивает головой. О, с какой гордой самоотверженностью переносит Сережа шум в затылке. Сережа прошел важнейшую для себя пробу. Пробу на признание физических достоинств. Юрка отобрал его в секцию. Секция — это звучит. Это настоящее, не то что гонять металлические ролики на истертой бильярдной доске или танцевать под Сашины вальсы. Хоть бы в клубе тепло было! А то пригласишь девчонку, а она в пальто толстая, как закром. Тренер-разрядник. В институте по второму работал. Весной в город поедем. Обещал. Парни ходят по деревне с деланной независимостью. Юрка отобрал их у девчат. Девчата никуда не денутся, тем более теперь. Парни влюблены в Юрку. И девчонки молчаливыми глазами провожают его, когда появляется он в шерстяном тренировочном костюме. Это новость. Любопытно. Свинарочка незаметно, но со знанием дела оглядела меня, оценивая. Юрка, смотри. Юрка и секция — это событие. Возвращаемся домой. Дорожка в снегу глубокая. Чуть качнешься — и обдерешь коленки. Юрка идет сзади и старается успеть пнуть меня под подошву. Один раз это ему удалось, и я чуть не упала. Он поймал меня, запрокинул голову, наклонился, обдал холодным паром. Сам Юрка теплый, а металлический замок куртки обжег щеку. Нужно было что-то поесть. Я положила в кастрюльку кружок мерзлого молока с желтым наплывом сверху, поставила на плиту. Сняла с кирпичей березовое полено, начала щепать ножом. Полено не высохло, распарилось, и щепку можно было завязать в узел, но отодрать от полена не хватало сил. Юрка взял полено у меня из рук. — Если бы ты знала… Ребята эти — как сырая резина. Работают только на растяжку. Зато материал… Отдача будет через полгода. И такой силы… Канаты не выдержат. Я появлюсь с ними… — Юрка, я представляю твою жизнь здесь. Работу. Ребят этих. Но как ты представляешь здесь жизнь мою? — Мы же, — Юрка перестал отдирать щепку, сел на дрова, — мы же говорили об этом. Давно. Ты решалась на все. Утверждала, что в любой деревне есть начальная школа, и тебя это устраивает. Твой диплом всегда даст тебе право на место… А сейчас снова… — Но… Есть исключения. Значит, с ними нужно считаться. — И что же? — В районе мне предлагают литературу в десятом классе. — А я поеду за женой в «места не столь отдаленные». В сельхозотдел, подшивать папки. — Здесь, конечно, у тебя серьезно. Тренировки. — А у тебя… Ты-то… Чем занимаешься серьезным?.. — Да? Например, приготовлением завтраков для мужа из продуктов, которые он никогда не заготавливал. — Знаешь… — Юрка не краснел даже когда сердился. — Мне кажется, ты в кого-то играешь. В кого-то или во что-то. Одни иллюзии. А я уже давно не знаю запаха горячей картошки. — Все? — Пока… — Ты считаешь, что я пребываю в состоянии восторженной экзальтации? Хочу тебя разубедить. Завтра ты пойдешь к председателю выписывать для себя мясо. — Ты уже ходила? — Да. — Что он тебе сказал? — Сказал, что мясо, может быть, будет, если забьют лошадь. Там одна молодая ногу сломала. Гнедко. — Ну вот! С такого мяса будем сами красивыми. Но откуда подробности? — Мы с председателем мило разговаривали. — О чем? — Представь себе, он изволил пошутить: «Я бы на последнем курсе сельскохозяйственного института ввел новый курс: «Почему агроном должен выбирать себе жену зоотехника». Так что напрасно ты не прослушал полный курс лекций. И… выпущен из института с явным браком. — Ладно… — Юрка будто отошел. Засмеялся. — Яйца купим. Колхоз продает по семьдесят копеек десяток. Можно сотню выписать. — Вот и выпиши. Юрке хотелось меня растормошить, а мне было как-то не по себе. — Надо полагать, — ответила я, — через месяц претензии будут возрастать с прогрессией?
28 ноября. Я пошла выписать себе газеты. В конторе сказали, что подпиской ведает парторг колхоза — учитель. В школе до звонка я изучала стенную газету и календарь природы. Сегодня погода в клеточке еще не обозначена, а вчера — густые синие крестики — сплошная метель. Потрогала на тумбочке колокольчик. Думала, что легкий, а он как килограммовая гирька. Колокольчик из черной меди с объемными буквами по фартучку: «Литейный заводъ…» Я вертела его в руках,придерживая язычок. Хотелось поднять его за ушко и разок качнуть. Подошла уборщица. — Рано еще. Я вам скажу когда. А когда было можно, я чуть брякнула, и что-то испугалось во мне. Звон был молоденький. Вдруг он забился по крашеным панелям мелодично и кругло. Затопил все. Был он не зимний, а теплый, как летняя утренняя россыпь. Женщина замерла удивленно: — Батюшки! Да что же ты так обрадовалась? Ребятишки хлынули в дверь. Александр Данилыч вышел с развернутыми таблицами. — В гости? — сказал он. На нем новые нерастоптанные валенки. Когда шагает, валенки не гнутся и чуть приподнимают его на носки. В учительской Александр Данилыч сказал, что документы по подписке у него дома. Если я подожду его один урок, то пойдем к нему домой. Я не возражала, потому что надеялась взять у него что-нибудь из литературных новинок. Я попросилась на урок. Александр Данилыч замешался, но возражать не стал. Мне все нравилось в этой маленькой школе: как вбегали с улицы ребятишки с красными мокрыми руками, хлопали дверьми, и в коридор врывался свет зимнего дня, и у порога калошки с малиновой сырой подкладкой, и затянутые в чулочки коленки девчонок, и просвеченные зимним окном уши ребят. Всему этому хотелось улыбаться. В класс я вошла со звонком. Попыталась сесть на заднюю парту и… смогла пристроиться только бочком — коленки в сторону. Выросла девочка. Большенькая стала. А давно ли белели у меня на плечах легкие крылышки фартука? Не хотелось ни о чем думать, ничего ни замечать, ни анализировать. Только смотреть, как напряжены и любопытны у ребят затылочки, как хочется им повернуться назад и глянуть на незнакомую неулыбающуюся тетю. Я даже не слышала, что спрашивал Александр Данилыч. — А правильно?.. Кузеванов… Кузеванов поднялся — глаза в парту, губы у него надуваются и шевелятся беззвучно. — Опять? Вот так мы с ним всегда и молчим. Так в каком году была Куликовская битва? — как спасательный круг, подбросил учитель Кузеванову. Подбросил без особой надежды. Подождал. Кузеванов вертел ручку с облупившейся краской. Девочка, что сидела с ним рядом, отодвинулась на край, как бы оставила его одного, чтобы лучше был виден. Кузеванов, оставаясь неподвижным и не поворачиваясь, пнул девочку под партой в ногу. Я чуть не рассмеялась. Господи, какой гордый двоечник! Мгновенно рука девочки прыгнула кверху, как минутная стрелочка — локоток на парту. — Что? — спросил учитель. Девочка глянула на меня и вдруг задержалась глазами. Сказать она ничего не сказала. Александр Данилыч был не в духе. Он считал, что урок у него не удался. Это я поняла, когда шла с ним домой. — Вот и бьюсь… А что с него возьмешь? Ведь говорят — яблоко от яблони недалеко катится. Его отец еле до четвертого класса дотянул. И с ним никак не справлюсь. Мать вызову — опять плакать начнет: «Сами что хотите с ним, то и делайте. Ухожу на работу, а он на улицу. Только за порог — и как пропадет. Что мне его, убить?» По истории хронологическую таблицу составил — на каждом уроке стараюсь закрепить. Так этот Кузеванов ни одной даты не может запомнить. Другие на партах запишут, то на ладошке, а он… И что удивительно — полное безразличие к двойкам. Попадаются же такие дети… Вот и добейся стопроцентной успеваемости. Хромовая шапка Александра Данилыча на морозе затвердела. Уши, жестко коробясь, завернулись кверху, и когда Александр Данилыч поворачивал голову, они, как лопасти, вертелись над каракулевым воротником. У дощатых ворот учитель перехватил портфель и, глубоко просовывая руку в отверстие, откинул засов. Прежде чем зайти в избу, он открыл глухие воротца в хлев. — Чушки, чушки, — успокаивал он, сторонясь. Из темноты выбежали две свиньи, тяжелые и белые, как холодильники «Ока», и, утопая маленькими ножками в соломенном настиле, бросились к корыту. Александр Данилыч похлопал одну варежкой по голой спине. Она присмирела, хрюкнула и начала поддевать носом корыто. Я подготовлена принимать дом учителя так, как интуитивно вижу свою комнату. На столе газеты, журналы толстые. Стол — культ сомнений, культ поисков. К нему хочется спешить, хочется ему довериться. Я не знала, куда сесть в комнате Александра Данилыча. То есть не то чтобы не знала, куда сесть, а видела, как хозяйка этого дома не отвела места для меня, непредвиденной. Слишком нетронута скатерть на столе. Жена Александра Данилыча к нам не вышла. Она доставала из русской печки чугун с картошкой и, накрыв его тряпкой, сливала воду. Пар заполнил комнату, и, когда поднимался к потолку, потолок сырел. Лоб хозяйки покрывался крупным потом. — Вам это все в новинку, — засмеялся Александр Данилыч. — Наверно, не одобряете. Моя Антонина Андреевна тоже сначала возроптала. А потом сама… Года три по-вегетариански жили. Как праздники, все мясо едят, а мы… И купить негде. В колхозе-то оно не всегда бывает, да учителям его и не продают. Мы подумали, подумали… Я включился помогать Антонине Андреевне: привезти сено, корове кинуть — это уж моя обязанность. Как-то жить надо, если хочешь жить. Правда, с сеном проблема. Не дают косить. Я нынешним летом по истокам полазил, по кочкарнику, насшибал копенок пять, так председатель узнал и направил звено сметать. На конях не могли туда попасть, так одну копну в исток под ноги скидали, а четыре в одну кучу свернули. Хоть бы сухую — на пользу колхозу, а то ведь зеленую, сырую совсем. И все сгорело. Поругался, да что сделаешь… Говорит, колхозники возмущаются. Поддержки здесь никакой… Александр Данилыч сочувственно пошутил: — Надо думать, вы уже сами знаете, что булки растут не на кустах, а сало не в ящиках. У знатока шпига журналов не было, поэтому я выписала себе на год сразу три и свою обязательную «Комсомолку».
29 ноября. Здесь рано наступают сумерки. На стеклах снег — как замша. К пяти часам низкое солнце падает на окна, и на стекле проявляется четкий силуэт тоненького березового побега с наконечниками почек. Строга и неподвижна матовая голубизна рисунка. Только в углу звена, в незастывший ромбик, бьет холодный лучик и равнодушно сияет на стене. А на улицу носа не высунешь. Юрка, ты часто стал оставлять меня одну.
30 ноября. На главной улице качаются от ветра жестяные тарелочки. Горит свет в каждой избе. На стенах коробки репродукторов с задрапированными кружками. Маячат молочной выпуклостью экраны телевизоров. Цивилизация в каждом углу деревенской избы. Жители к ней привыкли, не замечают. …Выросла культура села… Откуда-то я знаю об этом. Еще звенит во мне веселым звоном музыка радиопередач «Воскресенье в сельском клубе»: «Поднявшись материально, люди выносят свое радостное ощущение жизни на мир». Отчего же вдруг знания мои кажутся мне бутафорными, а телевизоры, эти видимые атрибуты культуры, — только выросшим показателем достатка? «Чушки, чушки…» В клубе перед собранием мужчины собираются вокруг бильярда с металлическими шариками от подшипников. — Ты не туда бьешь, — кричат мужчины парням, когда они «высаживают» стариков. Те уступчиво пережидают своей очереди, толкутся сзади. Кричат под руку: — Люська не там живет. Заблудился? — У него рука твердая. Не промахнется. — Твердая, а дрожит. Папироской огонь поймать не может. Замерз. Иди погрейся. — А где? Люська-то убежала. — Во щелкнул! А ты замерз… Кружится этот разговор с вариациями вокруг бильярда. Я чувствую, что ни о чем не могу думать, словно опустилась до бильярдных вариаций. Пытаюсь разбудить себя и понимаю, что сейчас ничего во мне нет, я ровная и темная, без единого огонька, как улица. Мне никто не задает вопросов, я ни на что не отвечаю. Будто людям все давно известно. Как жить? Наступает эмоциональная адаптация. Тупею. Так меня надолго не хватит. Стало холодно. Сяду, подожду Юрку. Уже одиннадцать часов, а его нет. В колхозе тракторами с лугов сено возят, а он поехал проверять, сколько его теряется на снегу и остается в оденках. Хорошо, что Юрка принес тулуп. «Разъездной, — сказал Юрка. — На морозы выписывают». Я греюсь, а он на весь день уехал в своей курточке. Милый Юрка. Как он бывает рад, когда мне весело! Сейчас допишу и растоплю печку — пусть он войдет в тепло, а то пар губы студит. … Я подняла воротник тулупа. Шерсть пахнет теплом незнакомо и уютно. За дверью что-то громыхнуло. Кажется, дрова развалили. Разговаривая, долго искали скобу. Юрка вошел первым. Он необычно пьян. Бодрился. Таким я его еще никогда не видела. — Знакомься. Во мне вдруг разлилась такая апатия, такая расслабляющая лень, что даже не хотелось поворачивать голову. Юрка хмыкнул или произнес многозначительное «мда». Не раздеваясь, лег на кровать. Второй продолжал стоять. В лохматой шапке, телогрейке, застегнутой на нижнюю пуговицу. Красный шарф, закрученный на шею, болтался сверху. Он молча разглядывал меня. Долго, с провинциальной неотесанностью. Дальше, кажется, не знал, что делать. Потом покровительственно, будто утешая вздорного ребенка, сказал: — Это я уже видел. У Сурикова… «Меншиков в Березове». Та же скорбь… Меня взбесило. Ответила я что-то обидное. Оказывается, он был расположен к улыбке. Я заметила, буквально, как вздрогнул в его глазах смех, медленно начал сходить и исчез. Лицо стало жестко. О! Да у тебя характер… Хотел блеснуть эрудицией и… обидели. Значит, ты просто с удовольствием глазел на меня? По пьянке. — Ваш друг уже спит. Он смотрел сумрачно. Я поняла, что он сейчас уйдет. Видно, легко обижаться себе не позволял, умел до конца все выслушивать. Откуда бы это? Такая тяжелая элегантность… Я поежилась. — Идите домой… Правда… Он посмотрел на Юрку, улыбнулся и ушел. Еще один друг, с которым Юрка имеет дело. Мне впервые захотелось расплакаться.
1 декабря. — Юрка, что это был за тип? — Где? — Ну, который тебя притащил. За руку придерживал. — А… В деревню приехал… К матери. Тетку Наталью Уфимцеву знаешь? Ее сын. — Юрка оживился. — Как-нибудь к нему сходим. Любопытный мужик. — Пойдешь один. — Обиделась? Во-первых, я не был таким уж пьяным. И тащить меня не нужно было. А вчера я действительно перемерз. Выпил… Катя, не надо мелочиться. Вчера ты мне не понравилась. И не будем больше об этом. А мужик этот, между прочим, художник. Нехорошо как-то получилось… Как он ушел?.. — Не на коленках… Юрка искренне огорчился. Досадовал на себя. — Кто же он? Местный Ван-Гог?.. В районном кинотеатре рекламы писал? Надо полагать, мы его увидим на улицах с этюдником…
II
Я сижу перед новым загрунтованным холстом. Я боюсь его, боюсь смотреть на свои старые работы, потому что не сказал на них ничего точного. Я все придумывал. Сколько же лет я не жил в деревне? Армия. Учеба. Работа… Иногда летом наезжал сюда с этюдником, увозил чемодан картонов. В институте ребята завидовали: «У тебя неиссякаемая тема. Ты знаешь деревню». Я тоже так считал… А знал деревню памятью семнадцатилетнего… На морозе долбил ломом землю на силосных ямах. Лом отскакивал от мерзлоты, как от резины, а я бил и бил в одно место. Дребезжал лом, дребезжали и мерзли руки. Я согревал их, продувая шерстяные варежки теплым дыханием. А кажется мне, что над теми годами моими стоит зимнее яркое солнце. В летнюю жару на лугах я метал сухое сено. Оно сыпалось на распаренное лицо, на мокрую спину, кололо и разъедало. От солнца болела голова. А помню я только, как прыгал в неподвижную воду и долго не появлялся, расслабившись, отдыхал и наблюдал за своей тенью на просвеченном сквозь толщу воды песчаном дне. Течение тихо несло меня, неподвижного, распластанного. После обеда с ребятами отнимал черемуху у девчонок. Они кричали, вырывались. — Ой уж! Вечно… Смирели, когда оставались без черемухи, обижались притворно. Но мы знали, что им все равно приятно. А потом в тени кустов, лежа животами на вянущем пырее, объедали с веточек ягоды. Язык делался вязок, неповоротлив, и чернели губы. У тех девчонок теперь по трое детей. За окном по укатанной дороге медленно громыхали два трактора. Передний бойко выкидывал в трубу упругие, долго не исчезавшие колечки, — они падали за плетень в снег. Другой, прицепленный сзади, катился на безжизненных гусеницах. Тракторист подавал на себя рычаги, и трактор заносил массивный перед то в одну, то в другую сторону. Я накинул телогрейку и пошел к стайке бросить корове сено. Ночью мела пурга. Сдуло снег с огородов. Черным шариком торчала из сугроба перевернутая кринка, когда-то повешенная на тын. Ворота в стайку не открывались. Я прошел еле видной дорожкой, перелез через прясла. Овцы шарахнулись в угол. Кругом снег, только здесь, под нависшей крышей, остался уголок жилого. Отепленная стена стайки поветшала, и глина осыпалась. В образовавшиеся отверстия ночью мело, и на темных отбросах сена протянулась облизанная ветром снежная полоса. Овцы испуганно смотрели из своего угла мне в глаза. В неподвижной дремотности стояла корова. На ее заострившуюся спину намело снег. Она его не чувствовала; наверное, так стояла с ночи, прислушиваясь к тугим сквознякам с огорода. На ее лбу заиндевела шерсть, и за белесыми ресницами чуть видны глаза — водянистые кроткие льдяшечки. Серый зимний день. Я опираюсь на черенок вил и не шевелюсь. Не понимаю, откуда взялась какая-то неясная тоска во мне. В отверстия метет снег, струится по ветреному гребешку на черных будыльях объеденного сена, стоит корова в мерзлом затишье. Так отчего же я остановился? Мне бы подняться по лестнице на крышу, скинуть навильник сена, а я смотрю, как свисает с крыши картофельная ботва. Я когда-то это уже видел… Стылую притихшую тоску. Это уже было. Было у меня, в моем детстве. Было в искусстве — у Коровина, у Серова. Серый снег. Серые лошади… Искусство уже переболело этой русской тоской. Оно к нему больше не вернется, не заглянет в деревенские дворы, где неуютно гудят на ветру скворечники по углам изб. Искусство ушло дальше… А жизнь… Наша живопись давно ли видела эту жизнь, а играла в снежки, в белых халатах доила колхозных коров, перебирала клавиши в сельских клубах и не задумывалась, почему на зимней проселочной дороге оброненный клок сена вдруг заставит деревенского жителя замедлить шаги и перевернет все думы его. Что он будит в нем, какой является вехой? И я не знаю этого чувства и сейчас стараюсь спугнуть его, как чужеродное и несвойственное мне, будто научился бояться его. А человек, наверное, всегда полон грустью — неясной вестницей дум. Я стою перед забытым миром и не знаю, чувствует ли то же мама, возвратившись с работы, увидев, как кружится над темным двором метель, или это для нее рядовая обыденность? Начали замерзать руки. Я перехватил вилы, и отполированный черенок в сухом инее чуть не выскользнул из ладони. Залез на крышу, надергал сена из прикладка, сбросил вниз. Корова оживилась, набежала на сено, отмахиваясь головой, старалась поддеть овец рогом. Я раскидал сено по углам. Ветер уже стих. Из молочного неба пробивалось солнце, затеплилось на строганых стенах домов. Ново и непривычно видеть высокие шиферные пирамиды крыш в своей деревне. Деревня отстроилась. Новые дома с верандами выдвинулись к оградкам из штакетника, а за ними остались старые пятистенные избы. Стены их выцвели, поседели, а сами они будто ссохлись — так стали малы. Их не ломают — продавать некому. Так и стоят они, тараща слепые окошечки. Вот и наша изба сразу как-то отодвинулась от дороги. У нее пересохли пласты на крыше, ветер выдувает землю, и на углу обнажаются концы осиновых жердей. Изба — моя ровесница, так говорила мама. Только сенцы набраны позже из старых построек. Когда-то здесь в углу стояли мои самодельные лыжи из осины. Я проделывал стамеской узенькие канавки, чтобы они оставляли за собой след, как от настоящих, фабричных. Такие лыжи я видел у одного красноармейца, прибывшего домой в отпуск. А крепления к самоделкам отец вырезал из своего ремня. Нет тех лыж. Нет отца. Я захожу в избу, раздеваюсь, сажусь на табуретку перед холстом. Так к чему же я готов? Что я знаю? Моя деревня за окнами. Возит сено тракторами. Все школьники после четырех классов живут в районном городке в общежитии, и каждую субботу выезжает за ними колхозная машина. А я, единственный в те давние годы окончивший десять классов, ходил в школу каждый день пешком… Учился… Неужели, чтобы скидывать корове сено?! Так что же я думал об искусстве? От ручек кистей пахнет краской. Тощие тюбики подняли хвостики кверху. Мне нечего наносить на нетронутый холст. Проникнувшись тоскливым шелестом соломы, написать человека с вилами у заиндевевшей коровы, его одинокую обособленность? И остаться анахроничным. Для него заснеженный этот двор давно уже имеет другую значимость. Мир, заряженный напряжением мысли, уже давно коснулся самых глубоких закутков его души, раздвинул границы его потребностей. Выписать человека, забытый двор, изобразить внешние атрибуты жизни, — о, это было бы так просто! А время требует от живописи ответить, что я думаю по поводу этого двора, что думаю по поводу этого человека. Что думаю по поводу… Вернулась мама с работы — перебирала картошку в овощехранилище, достала из печки щи и, прежде чем налить себе, долго грела о чугунок руки. — Что ты сидишь над своими рамками? И не рисуешь ничего. Смотришь, смотришь… Может, ты заболел?.. — Завтра пойду на работу. В колхоз. Меня примут в колхоз? Ведь я как бы и не исключен… Не огорчайся, мама… — Я подошел к ней. — Не горюй. Мне бы только на краски заработать.5 декабря. Саня принес нам с Юркой пригласительные билеты в клуб. В заклеенном конверте сложенный листок из тетради.
«Дорогие товарищи! Приглашаем Вас в клуб на торжественное чествование скотника Подзорова Матвея Ивановича. Начало вечера в семь часов. После чествования концерт».— Любопытно… Ты видела здесь самодеятельность?.. Нет, ты не видела здесь самодеятельности. Я тоже. Помнишь, как подала это районная газета? «Новые формы работы сельского клуба». Саня с баяном — портрет большим планом.
«…никогда не потухает яркий огонек клубной жизни в Речкуновке. Далеко виден он и зовет к себе людей потому, что работа в клубе проходит с выдумкой, с молодым задором. Есть чему поучиться у заведующего клубом Александра Равдугина».— Сходим? Только валенки надевай, а то там опять, наверно, волков морозить. Ночь темная, с оттепелью. У раскрытой двери клуба толпа мальчишек. Свет выхватывает их головы в нахлобученных шапках. Пританцовывают девчонки в скользких выбоинах луночек. Клуб полон. На лицах веселое нетерпение, расположенность к торжеству. Меня смущает мгновенное всеобщее любопытство — глаза все на дверь. Мы пробираемся между рядами. Юрка оживляется: — Смотри, — продвигается он к стенке и, оставляя мне свободный стул, садится. — Андрей… В глазах Андрея насмешливая снисходительность. Я смотрю в зал. Первый ряд стульев завешан красной материей. На нем бодро выделяется старик в шубе. Один на весь ряд. На сцене стол с бархатной зеленой скатертью. И начался маленький шарж на все большие собрания, какие я знаю. — Товарищи колхозники!.. — учитель Александр Данилыч встал и, чтобы придать значительность своему сообщению, отпятился к барьеру сцены. — Товарищи колхозники! Мы собрались сегодня чествовать старейшего нашего колхозника Подзорова Матвея Ивановича. — Александр Данилыч помешкал минуту и не сказал, а провозгласил поставленным голосом: — Для ведения торжественного вечера нужно избрать президиум. У кого какие будут кандидатуры? Саня подался от двери и выкрикнул с отработанной готовностью: — Я предлагаю Подзорова Матвея Ивановича — лучшего нашего скотника. Старик поднялся на сцену, сел за стол. Один. Почему-то неловко всем: и старику и людям в зале. Саня спешно шепчется с учителем. — Сейчас… — Саня сообщает это скороговоркой. — С характеристикой товарища Подзорова выступит секретарь партийной организации колхоза. — Ты смотри! Не знают, что делать. — Кто-то озадачился многозначительно. Подзоров моргает часто, на шапку руки сложил, спохватился и снял ее со стола. — …Тридцать два года проработал в колхозе на одном месте товарищ Подзоров. Ухаживал за коровами, пас колхозное стадо, а сейчас добросовестно работает в кошаре, хотя ему уже семьдесят… Учитель не смотрит в зал, читает с листа. Заканчивая фразу, поднимает голову, бросает последнее слово и окунается в текст, чтобы не потерять новой строчки. Машинально оставленный хвостик означает как бы контакт с аудиторией. — …хотя ему уже семьдесят, — тут Александр Данилыч снова поднимает голову, и свет ловит его лоб и кончик носа, — пять лет. Товарищ Подзоров… Александр Данилыч уже чувствует, что затянулась его речь, что ожидание спало и никто не слушает его, он вдруг обрадовался сам и вышел из-за кафедры. — Поблагодарим товарища Подзорова за хорошую работу на благо нашего колхоза и нашей Родины. — Вот отработано! Будь здоров, — шепчет Юрка. — А теперь попросим Матвея Ивановича сказать что-нибудь о своей работе, труде своем. Старик, побуждаемый ответственностью, значимостью минуты, понимает, что не волен отказываться, вылезает из-за стола. Колеблется и за кафедру не заходит. — А давно работаю, правда… Я ня так чтоб кидался. Как уцаплюсь, так на одном месте и есть. Мои товарищи уже дурака валяють, а я… сяду дома и ня знаю, что делать… Ну и… что рассказывать? Нечего… — Ну дед! Отчубучил: Теперь тебя товарищи встретят в проулке… Не могу себя убедить, что мне нравятся эти люди, к которым я приехала. Если признаюсь в этом, какое презрение я вызову!.. Негодуя, издеваясь, меня будут уничтожать. Уничтожать очень искренне, очень правильно. Но я не могу найти, за что любить их, этих людей. Перед собой я хочу быть честной. Я должна благодарить деда Подзорова за то, что он добр, наточил мне топор. А я смотрю на него, на его черную шубу и желтую табачную бороду. Шуба уже не черная, и облезлая овчина на груди блестит каким-то сырым лоском. Я даже чувствую ее липкую слизь, и это вызывает во мне брезгливость. Я поворачиваюсь к Юрке. Он улыбается, хочет что-то сказать Андрею. Тот отклонился на спинку стула, сбычился. Лицо неподвижное, страдальчески напряженное, словно у него болит зуб и ему трудно сдерживать боль. И не слышит он, что шепчет Юрка. Странное у него лицо — неподвижное, а живет. Хочется его разглядывать и боязно, будто за чем запретным наблюдаешь. Он, кажется, всерьез принимает эту примитивную инсценировку…
III
…Что рассказывать? Нечего? Старик… Что же ты? Тебя чествуют. А тебе рассказать нечего. А ты расскажи, вспомни, старик… Новые пимы на тебе, новые стеженые брюки. Они толсты, и узкие голяшки пимов собрали их в тугие складки над коленками, как на скафандре космонавта. Забыл?.. Весеннюю оттаявшую слякоть и стылые колеи по утрам. Ты выгнал колхозное стадо на согретые косогоры. Выгнал рано — не хватило в ту зиму сена в колхозе. Коровы тыкались носами в твердую прель, дичая, взбрыкивали и бежали. А потом… Помнишь, старик, как все было? — Куда? Стой, стой! Идритт… твою… Пыльный кисет выпал из рук. Коровы, теснясь и сбивая друг друга, входили в лог. Они помнили свою прошлогоднюю дорогу. Помнили голодом и инстинктом. Снеговая вода медленная, неумолимого весеннего разлива, подхватывала их на глубине. — Да что вы, дуры… да милые… — Ты бил их палкой по глазам, шеям, отталкивал руками мягкие нахлынувшие бока, они теснили и обтекали тебя. Ты хватался за выпиравшие мослы, за хвосты — ссохшиеся упругие метелки. И вдруг перестал всхлипывать и отрезвел, когда увидел, что коровы, обманувшиеся, прибитые течением, бились в кустах и тонули… Ледяная вода захлестнула ноги и… ах… шуба еще секунду держала тепло, ах… ах… — ты почему-то только захватывал ртом воздух. Верхушки ракитника дрожали, качался в воде клок черного сена. Рукава шубы легко держались на воде, намокали, и поднять руки уже не хватало сил. Морда коровы наваливала куст, а затонувший ее зад двигался, отдавливал тебя в сторону. — Ах… а-а… ях… — хрипло выдыхал ты, спешил и падал подбородком на воду. Подминая путаные кусты, схватился за теплые ноздри, сдавливая сопящую слизь, задрал морду, завернул на себя. Корова била по ногам, наваливалась шеей, а ты оттягивал и оттягивал ее за собой. И корова уже понимала, что можно не биться, а плыть, и она, вырывая морду, плыла. Когда коснулась ногами дна, отвердела и вырвалась. Ты уже не мог двигаться. Чем больше выходил из воды, тем тяжелее становилась шуба. Она давила на плечи, словно к полам ее все навешивали и навешивали груз. На берег уже выполз, и когда понял, что остальные коровы, растягиваясь по берегу, выбредают из воды, упал. Так мы тебя и нашли… — Дед Подзоров коров утопил!.. Коров утопил… В логу-у… — кричали мы с отчаянной радостью в деревне. Поднялся ты сам. Вода хлынула через галоши, сквозь пришитые брезентовые мешки. Женщины вытаскивали тебя из шубы. А там, где утонули коровы, был придавлен ракитник и вода кружила мокрую шапку. — Сколько их там?.. Сколько?.. — кричали женщины. — А я… Нишь… знаю… Солнце уже грело, а с тебя текло, как с невыжатой дерюги, и лиловая, облепленная воротником шея дрожала. Потом месяц болел и год расплачивался за двух коров. После отчетного года еще остался должен колхозу. «…Самое страшное видели, — лицо мое, когда я абсолютно спокоен?..» Шарф у него в порядке… Модерновый. Поэтому он тогда в расстегнутой телогрейке приходил. Юрка интеллигентней… А он?.. Вот видно, что родился здесь, зимой, в березах. Весь здешний какой-то… И откуда эта претензия? Я их сравниваю?Не помнишь? Ничего не помнишь, старик… Ты зашел в контору, а из набрякших чуней выжималась вода, в дырявые задники торчала трава щетиной. Тогда привезли и давали трактористам кирзовые сапоги. — Дед… Это только пахарям… Ты что, пахарь? Не получил ты кирзовых сапог. Я помню… Я видел, как ты уходил на ферму, а на мокрой земле отцеживались следы. Помню… и не понимаю твою непритязательность. Торжественная часть закончена. Закончена? Слышишь, хлопают тебе, дед… Ты молчишь бесхитростно. Сейчас пойдешь домой. И не понял ты, что произошло. И учитель не понял — никто, что домой радости ты не уносишь. — Нет! Смотри… — Сегодняшний концерт мы посвящаем скотнику нашего колхоза Матвею Ивановичу. — Давно бы так… — Тупо, скупо… Это кричат из зала. — Сейчас наши девки опять забазлают… — Нюська плясать начнет. — Своей задницей пол толочь… Парни руками раздвигают сомкнутые плечи женщин, перешагивают через скамейки и вываливаются из клуба. За занавесом передвигают столы, дребезжат ножки. — Вытерпим? — спросил Юрка, наклонился, подул на отбившийся локон. — Андрей предлагает музыку послушать у Сани в радиоузле. После концерта. — Конечно. Саня крутил эбонитовый кружок. Из железного корпуса рвался треск, затихал, и где-то далеко-далеко в эфире клевали стеклянные петушки. В приемнике ни шкалы, ни мигающего глазка, но в глухом ящике клокотала магма. В отштампованный ряд дырочек бил свет, Лучи дробились на стенке, на большом барабане в углу. Катя спрятала руки в карманах синтетической шубы под дымчатый каракуль. На голове у нее шерстяной платок кульком, стянут небрежно на подбородке. Лицо матовое, юной морозной свежести, в редких веснушках. Она их не прячет, а носит… Носит, словно хочет сказать: — Да? Ты считаешь это некрасивым? Напрасно. Рассеянный луч растекся у нее на подбородке и на губах, а глаза в тени. Они большие и ленивые. Она смотрела на белобрысую Санину челку. Под ресницами жили влажные огоньки. — Ничего нет, — сказал Саня. — Бывает, на одном миллиметре десять станций друг дружку перебивают, а сейчас… — Ладно. Слушай, Саня, — спросил я, — что это за труба на шкафу? Твоя? — Да нет… Тут до меня заведующий клубом был… Уехал… Так эта труба после него целый год самогоном воняла. Он играл… — А ты давно здесь? — Ну да… — Головастый ты парень. И когда успел все освоить? И баянист и киномеханик. Учился? — На киномеханика. А остальное сам, саморучкой. Я посмотрел, завклубом только сорок рублей платят, ну и… Мне вообще-то это дело нравится. Вот только бы ноты понять. А то все на слух подбираю. Я говорил председателю — пошли учиться, а он смеется: «Вас образование портит. Я, — говорит, — посылал одного. Кузнеца. Был человек как человек. Работал хорошо. Что ни заставишь, то сделает. Поехал, поучился. Теперь работать стал хуже и дополнительные какие-то требует». А вообще-то он не возражает. Только учиться негде. — С юмором председатель. Откуда, он? — Директором завода работал. Когда приехал, вот юмор был… Сейчас привыкли. Сядет на своего «козлика», выедет чуть свет за огороды, а там гуси на пшенице пасутся. Гоняется, гоняется за ними, а разве поймаешь? Чьи? Приедет в деревню дознаваться, увидит какую-нибудь женщину у ворот: — Чьи гуси? — Не знаем. — Как не знаешь? Не знаешь, кто гусей держит? — А если не знаешь, почем знаешь… Ну, злился. Белел. Вот юмор — на всю деревню. Он тогда с шофером поехал. Пораньше. Взял прут и гонит гусей по улице. Машина за ним следом. Не торопит. Гонит до самых ворот. Гуси свой двор покажут… Первым погорел гусак Пронька Кузеванова. Подошел к плетню, продел шею в лаз и боками туда-сюда, туда-сюда, протолкнулся в ограду. Ну и остальные к себе домой привели. Председатель тогда вечером на заседании: — Давайте вместе убытки подсчитаем. Я измерил — двадцать гектаров всходов уже стравили. Черно. Каждый гусь за день тысячу головок ущипнет, и тысячи колосков нет. В каждом табуне их двадцать. Каждый колосок весит… В переводе на зерно получается… Получилось — совсем юмор. — Вот так гусь. За день сколько умял! Больше слона. — …Переведем хлеб на деньги… И эту сумму… Я предлагаю удержать с хозяев. — Да нам за это год работать. Соображать надо… — А вы за чей счет своих гусей кормили? Теперь эту кормушку досыпайте. — Мы жен на работу не пустим. Пусть гусей караулят. — Я ваших жен на работу посылать не собираюсь. — А ты сильно не тяни — заузга разорвешь… — Пронек тогда кричал. — Ничего, они у меня крепкие. — Ну и удержал? — Удержал… У него не заржавеет. Катя улыбается, покусывает губы, молчит. Сидит она близко у приемника, и тугой свет из отверстий падает на ее ноги. Они проявляются в полумраке. Катя их не прячет, и они в серых чулках пепельно-розовы. В деревне о Кате с Юрием говорят: «Агроном у нас бойкий, а жена его форсистая и строгая. Идет, поздоровается ласково, но идет, будто она на свете одна такая. И на это не обидишься». Юрия я почти знаю. Представляю его в институте. Высокий, красивый, независимый с преподавателями и необходимый на студенческих вечеринках. Перед праздником ребята заняты проблемой: каких пригласить девчонок из другой группы. Пригласить и… пойдут ли? А Юрия девчонки находят сами. — Да? — Юрий смотрит сверху, улыбается. — Вы считаете, что я должен там быть? Он умеет заставить себя подождать, хотя для этого ничего не делает. — Ну, боже мой… Это мы сейчас, — и его уверенность успокаивает. Катя смотрит пристально перед собой, и ее ресницы вздрагивают. Чтобы не рассмеяться, она наклоняется. Когда-то натурщица вот так же вытянула перед собой длинные ноги. Я смотрел на них и думал: «Почему они кажутся красивыми?» Потом наметил первые штрихи. На холсте появились линии, а передо мной были объемные ноги. Я хотел почувствовать их форму линией. Я ее искал углем, а линия была жирна и скучна — не было объема, не было пространства за ней. Я начинал злиться. Я мысленно брался за ноги, переставлял, разворачивал. Они не давались, грубели. А потом… Вылепленные тенями, пойманные, прочувствованные, они лежали на холсте, и я мог держать их в ладонях. Они уже были объемны и черны, и исчезло перед ними неясное первоначальное благоговение. А сейчас в полутемной комнате греет от радиоприемника ноги женщина — доверчиво и наивно. И не догадывается о мыслях моих. А они неожиданные и грустные. Я уже знаю, что никогда не отметят меня, не засияют беспечно мне своими глазами девушки вот с такими детскими губами. Они теперь будут вечно чужими. Я смотрю на Катю, на ее глаза, ноги. Мне не хочется быть художником, думать, чтобы не потерять осторожные и бережные чувства. — Саня, — говорит Юрий и смотрит на меня. — Где вы такие картины достали? Сколько ни смотрю — все не пойму, что там происходит. Какой-то кретин без шеи стоит у трактора, женщина с хищной челюстью на коленках меряет что-то палкой. Перед ней меня берет оторопь. Саня, ты скажи, кто такую вещь выдал? Где ты ее достал? — Городские приезжали хлеб убирать. С шахт. Один художником объявился. Все на поле работали, а он в клубе рисовал. До обеда рисует, а после на речке рыбачит. За полтора месяца только три картины успел. Я их сначала тоже испугался, а потом повесил. У нас совсем ничего до этого не было. — Платили ему? — Он на трудодни согласился. Как все. — Только три картины успел… По-моему, он был тихоход. Андрей, как находишь? — Он не ленился. Хлеб свой заработал. Картины же большие. — Саня, — говорит Юрий. — У тебя тоже перед ними оторопь? Знаешь что? Ты их выброси, пока ночь. А мы с Андреем поможем. Мы сильные. — Это можно… Только пусть еще повисят… А вот вы мне объясните… почему художники всех людей за дурачков считают. Я в городе зашел в один магазин — там картины продавались. Дай, думаю, приценюсь. Висит вот такая — с нашу… Три тысячи пятьсот рублей. Я чуть не сел… Пячусь, запнулся обо что-то. Глянул — голова скульптурная. А на ней бирка — две тысячи пятьсот рублей… Ну, думаю… вот бы разбил… Нет, надо сматываться… Художники себя ценят дорого, а других нет… потому, что заелись. У заведующих клубов оклад сорок рублей, а они что, меньше художников есть хотят? Да если бы я не получал за радиоузел, да за кино, я тоже давно бы ноги откинул. Моргнул свет. Раз, два… — Предупреждают, — всполошился Саня, — сейчас выключат. Уже двенадцать. Мы вышли на улицу. Мотор электростанции сбился, и свет в окнах затухал толчками и исчез. Глаза привыкали к темноте. На краю деревни лаяла собака одиноко и гулко, как в пустом доме. Небо сдавило влажную оттепель, отсосало белизну снега, и снег сиял лиловыми сумерками. Коненковские избы нависли над дорогой. Темные окна не впускали, гасили воображение. — Саня неподражаем. Кладезь житейской мудрости, — сказал Юрий. — Свои возможности знает. А Катя мне доказывала как-то… Знаешь, что она отстаивает? Деревне нужен врач-психолог, как в бразильской футбольной команде. Некоторая духовная единица, которую колхоз должен оплачивать. Чувствуешь, до чего договорилась? Хочет секретаря партийной организации колхоза подменить или надстроить третий этаж. — А… Ты не понимаешь, — с досадой возразила Катя. — Он же отсюда. Тоже ничего не мыслит… Взяли и оскорбили сегодня старика. А побуждения, наверно, были добрые… у секретаря. Но ведь и ему кто-то должен сказать, что в основе этих побуждений должен быть смысл, а не издевка, не фальшь неумной инсценировки. Ведь убито что-то настоящее… Ну разве можно людей ставить причиной насмешек. Симпатичные девчонки долбили ботинками в пол, как марионетки — кто кого перестучит. Выбили всю пыль из досок. Но ведь людям этого уже мало. Они допущены к телевизорам, кино, радио. Они научились отбирать, оценивать, сравнивать. А кто-то должен приобщить их самих к высшим проявлениям культуры. А они не дали, не выделили места этому кому-то. Его нет… этого места в деревне, оно не оплачивается. Я говорю не о смене завклубом, а о серьезной переоценке всего устоявшегося. Я знаю, что мои домыслы уязвимы. В других деревнях, наверное, есть учителя, неравнодушные, заинтересованные, и всю общественную работу берут на себя. Но учительская инициатива сезонна. Нахлынула, отхлынула. А учитель — если он не случаен, не ленив, должен честно делать свою работу. У него слишком много дел в школе. Только равнодушный человек к ребятам находит для себя побочные занятия. Да и учителя… — Давно собрались бежать, — сказал Юрий. Катя отстранилась от него, отстала. Казалось, была она недовольна своей горячностью, словно проговорилась, допустила стороннего к своему интимному спору. И, будто вспомнив что-то, с вызовом вздернула голову, и я почувствовал: если она ответит сейчас что-то, то слова ее будут полны насмешливого скепсиса. — Ну и что же сельский психолог заметил в современной деревне? — Пьют много, а… праздников нет… Это за нее ответил Юрка. Катя сокрушенно вздохнула. — Вывод у нее оригинален, как у всех женщин: водка и меня погубит. — Юрке очень легко жить. Вдруг она повернулась ко мне. — Хорошо, что его однажды притащили. А вы его как, на руках? Катя свернула домой. — Заходи к нам… — сказал Юрка. — Что дома сидишь?..
6 декабря. Плохая я хозяйка. Ничего Юрке вкусного не приготовила. Ни разу. Пойду сейчас к тете Шуре Королевой и принесу капусты на ужин. Картошки нажарю, со сметаной. Я видела, как здесь готовят: сковорода шипит, а края чашки прыгают над густой жижей. И запах в комнате… Хорошо, что еще не стемнело. Я взяла бидон и вышла. Тети Шуры в избе не было. Никого не было. Я не знала — уходить мне или подождать. Остановилась у двери. Вскоре послышались шаги в сенцах. Вошла хозяйка, поставила ведро с морковью на скамейку. — Ой, здравствуйте. Я ведь и не пойму, кто это, сослепу. Присмотрелась ко мне: — Доченька… Что в темноте сидишь? Огонь зажги. А я в погребе там копаюсь. Остановилась передо мной, сцепив пальцы, разогревала настывшие руки и из темноты морозной шали смотрела участливо. — Тетя Шура… Какая морковка у вас… Уже декабрь, а она как свежая. Я никогда такую не видела. Красивая… Можно, я одну попробую? — Что ж это я стою! Мне раздеваться надо. И тебя никуда не посадила. — А я к вам за капустой… Вы мне не продадите? С чашку… — Что бы чуть пораньше… Я ведь погреб закрыла… Ну, посиди. — Я тогда следующий раз, — заспешила я. — Посиди… Я слажу. Мне самой надо достать. Она вынула из кармана рукавицы, обшитые холстиной, взяла кастрюльку. — Я недолго… А ты ешь морковку. Вон ножик-то на столе — чистить будешь. Да смотри не застудись, она холодная. У тети Шуры мы уже покупали с Юркой картошку. И я иногда прихожу к ней за молоком. Я начала скоблить морковку над ведром. Она влажнела, и брызги от ножа сыпались мне в глаза. Мерзли пальцы. Когда я тронула морковку зубами, она откололась свежей знобящей долькой. Я скоблила ее еще и еще, и густой холод поднимался в лицо. Тетя Шура вошла, я сказала: — А я… Смотрите, сколько съела. Полведра. — Господи!.. Это я так принесла. Ешь ты!.. Ее у меня почему-то свиньи плохо едят… Я прыснула: — А я съела! Она выпрямилась поспешно. — Да, Катя… Доченька… Вот уж… старая я совсем. Глупая. А сама улыбалась хорошо и смущенно. — Ты раздевайся. Посиди у меня, а то ведь скучно одной-то. Молоденькая ты очень. А у нас морозы. Как посмотрю на тебя… Не ходишь ты никуда. Одна все… А ты ко мне ходи. К людям поближе. Ведь одна-то без людей надсадишься. Раздевайся… Старик сейчас придет. Доченька… Мне не хотелось никуда уходить. От ласкового участия, от нежного щемящего слова. Тетя Шура взяла со стола пучки калины, разорвала тонкую связку и начала осыпать их на жестяной лист. Мерзлая калина подпрыгивала и стучала, как круглые стекляшки. Свет из окна падал на руки. Тетя Шура сдвинула калину на край листа, подняла его на грудь, и мерзлые шарики покатились по жести. Рука подхватывала уползающий сор, подбирала к себе наверх, отпускала, а загоревшаяся горка скапливалась внизу, росла отпотевшим рубиновым слитком. Рука ее казалась голубой в темных жилах, была маленькой, трогающей. Розовели перламутровые пуговички на кофте. Мне захотелось забраться на лавку с ногами, сидеть в теплом деревянном уюте и думать. Думать и понимать, что я не женщина, — тетя Шура женщина, а я только наблюдаю какой-то неизведанно красивый обряд, который она создала. Мне хотелось и хотелось смотреть на ее руки, не двигаться и вдруг узнать, что моя жизнь, мороз, книги на полке, Юрка — все это сон, только приснилось, и я почему-то знала, что такому сну была бы рада. — Интересно тебе на нашу жизнь смотреть. Скучно, поди? У людей сейчас телевизоры появились. Смотрят… Жить-то теперь легче. Народ съезжаться стал. Чужих много. Вот и вы приехали. А раньше… Раньше ты нашу жизнь не видела. Тетя Шура собрала упругие корешки в чашку. — Мужики все механизаторы. В этом году хлеба помногу получили и денег… Каждый месяц теперь платят. Мужики на машинах, а жены доярки. Вот и… Снарядные стали ходить. Дома себе новые поставили. А мы раньше как строились… Со стариком из тайги лес привезли, а поставить — магниту не хватило. Два года срубом стоял. Возили-то на подводах, мужики по коню из двора давали — помочь. А сейчас бригада дом в тайге построит, прямо на месте. Трактор привезет. Бери… — с растрочкой на десять лет. А они за три года все расплатились. Помногу стали получать. Раньше я в колхозе за полтора трудодня по семьсот снопов навязывала. Молодая была. Спину вечером не разогну. А сейчас… так себе… Женщины на уборке и не бывают. Мужики все. И не знаем, когда уберут. Что-то деда долго нет… К сумеркам он уже приходил… В конторе, наверно, опять. Я его ругаю: «Хватит нам, отец. Ну что ты опять идешь в эту кочегарку?» Мерзнет он там. Говорит — стыдно в контору ходить… А так… Отработает, уйдет к мужикам и сидит там… Как будто ровня со всеми. Никак не хочет остепениться. — Теть Шур… Вы что делаете-то в башне? — Воду качаю. Бак там большой наверху. Приду, печку растоплю, нажму кнопочку, и насос заработает. Скважину там пробурили. Из… искатели какие-то приезжали. Колхоз нанимал. Вот мотор воду и качает. Как бак наполнится, я другую кнопочку нажму… Вот и все… Интересно прямо. — И не перекачиваете? Как же вы? — Там же бокулочка деревянная плавает, а к ней веревочка привязана с гайкой. Я себе такую меточку на стенке сделала. Как грузик до меточки дойдет — так и все… Красота одна. Насос качает, а я сижу. И полтора трудоднязаписывают. Только один раз ночью задремала, вода сверху как польется, прям на голову. Я испугалась — ничего не пойму. Смех один. А опомнилась — вода на полу. Все пимы промочила. Потом песком засыпала — пол-то земляной. Всю ночь провозилась. Интересно… Да ты зайди когда-нибудь, посмотри. Вода-то теперь по трубам прямо к коровам подходит. Захотят напиться — подойдут, надавят носом на тарелочку, а вода сама льется. Отпустят, а ее нет. Коровы сейчас тоже как ученые. Разве это не кино?.. Новый председатель все выдумывает. О председателе она сказала с нескрываемым одобрением. — Любят у вас его, теть Шур? — А кто как… Кто не любит. Он не больно с мужиками знается. Сам вина никогда рюмки не возьмет, и никто из мужиков к нему не подпарится. Зайдет когда: «Ты что, бабка, в углу замешкалась? Не пива ли нам хочешь подавать? Смотри…» — Строго так скажет. Он председатель такой… Анохина свинью раз в силосной яме поймали. Он этому Анохину на собрании высказывал, высказывал — смех один. Да разве за собрание он Анохину не надоел? Ох, это такой гад, прям идиот… Тетя Шура засмеялась. На улице обметали снег с валенок. В избе с холодным паром появилось что-то морозное и седое. Чем ближе оно подходило к свету, тем больше становилось Дмитрием Алексеичем. — Драгоценный человек какой у нас, — он развязывал опояску на шубе и улыбался. Из обледенелых усов в беззубом прогале рта виделся один зуб — крупный и прокуренный, как янтарный наконечник мундштука. Дмитрий Алексеич разделся и, морщась, срывал сосульки с усов. Рубаха его старчески свисала, а подбородок был тверд, в белой жесткой щетине. Видно, раз в месяц бреется. Голова кудлата, с неяркой сединой. Он достал из кармана измызганную газету, оторвал прямоугольничек, прилепил к губам, стал возиться с кисетом. Покачал головой: — Опять ребята шалованили. Вот дал им кисет — ничего не оставили. Что им… Здоровые черти… Молодые. Бумагу на две самокрутки рвут. Достал с полатей пустой мешочек, пощупал… — Вот едят их мухи… — Кашлянул сухо. Потом стал шуршать в другой комнате на печке. В темноте уронил какую-то крышку. — Дед, что ты там? — Что, что… Табак не найду. Появился с охапкой корней, кряжистых, как женьшень. Сел на скамейку рубить. Машинка у него на толстой доске вся из металлических пилок. Они входят зубцами ряд в ряд. Верхние пузатые. Дмитрий Алексеич вставит корень, нажмет рычажком, табак хрустнет и просыплется вниз желтой крошкой. Воздух вокруг сгущается, давит сухой крепостью. — Дед, задушишь всех, — тетя Шура кашляет со слезами. — Кать, ты отойди от него. И думаешь, это хорошо, — укоряет она. — Сам весь пропитался… — Самосад глаза прочищает. А ты, бабка, уже не видишь ничего, потому что ругаешься. И действительно, глаза у него промытые, хитрые. Он улыбается беззубым ртом, мнет листья. — Дед, — говорит тетя Шура, — ты нам ничего не рассказываешь, связался со своим табаком. Что в конторе-то было? — Опять меня в ревизионную комиссию назначили. Птицеферму проверять будем. — Да не лезь ты, не лезь… Молодые, они лучше тебя разбираются. Им жить… А ты сидел бы со своим табаком. Включат его одного старого, для смеху только… А он там напроверяет… И ему, дураку, тогда и дрова самому последнему привозят, и огород не пашут. — Молчала бы… Ты никогда ничего не понимала. — Да еще лучше тебя все чую. Это я только неграмотная. А ты как был, так и остался нихтошка. Без меня бы пропал. Вот грамотой своей задаешься… Дмитрий Алексеич большими горстями, глубоко засовывая руку, ссыпал табак в мешочек, положил на полати под ситцевую занавеску. — Плохо дело у нас происходит, — сказал он строго. Я не ожидала мгновенной перемены, сжалась. На его лицо нашла тень. — С председателем разногласия… Он, Измаденов, что? Изворотлив, чертенок… Редкий… Умеет… В колхозе свиней завел. Пестрых… Они пошли. Из института комиссия приезжала. Так у них эти свиньи хуже наших получаются. А он им ячмень на машинах прудит. Девки жаловаться стали — тяжело, кормить не успеваем. Он запарник сделал, дорогу подвел. Свинарки теперь на тележках корм подвозят. Вот ведь головастик какой. Теперь дворы надо строить, машины покупать, а денег нехватка. Он тогда что придумал: картошку сажать. Скороспелку. У нас в огородах еще не цветет, а в колхозе уже по кулаку. Он старух снарядит, инвалидов, распределит всю на каждый дом, хочешь не хочешь — копай. Берет на железной дороге вагоны, картошку грузит, и в Ашхабад. Как вагон — так пятьдесят тонн. С каждым вагоном колхозника отряжает — продавать. Палатки в городе построил. Привезут ее туда и по сорок копеек всю пужнут, а то и по пятьдесят. Ето что? Двадцать тысяч рублей каждый вагон! В новых деньгах. А он в этом году отправил двадцать пять вагонов. Он теперь никого на работу не заставляет ходить — сами идут. Квартал пройдет, он по сорок копеек на трудодень рассчитает. А в отчетный год по шестьдесят копеек обошлось. В районе его спекулянтом обозначили. А ето не спекулянт. Он не себе… В обчее дело… Все время как было? Без согласия. Председатели старались, как больше из нас выколотить, а с председателя выжимали, чтобы он больше с нас выколачивал. Люди и измучились страхом перед недостатком, нищетой долгой. Вот и слаба их вера. А ето сомнение, как обруч, держит людей, осторожными сделало. А Измаденову поверили. Боятся за него, чтобы не испугался и не уехал, а с ним уйдет и возможность получать заработанное. Смотрят, что в других колхозах этого нет, и посмеиваются, одобряют… Изворотлив! Хотя и чувствуют, что не все тут чисто… Вразрез… Напролом лезет. И газеты его часто ругают, хотя он колхоз и поднял. А люди его неправоту не обвиняют, лепятся к нему. За него все… — Что плохого-то? Вот и хорошо… И правда, человек измучился весь. Почернел даже. Мы свои деревенские, а не видим, когда он спит, — сказала тетя Шура. — Четыре часа, а он уже на машине поехал. — Голова садовая… А если он не видит, что плохое дело происходит… Народ портится… Я ему говорю: «Нечестно ты делаешь…» — Ты, дед, беспартейный и выдумываешь, не понимаешь ничего. Людей баламутишь. — А может, у меня голова партейная. Мало что билета нету. А ты еще молодой и не прислушиваешься… Мы вместе все работаем в колхозе, все в одну кучу. А ети люди продали картошку и что сделали… Сумму в общую кассу положили, а долю себе… в карман. Еще раз поехали, еще положили. Безнаказно. Аппетит все растет. И покрывают друг дружку. А я не ездил и знаю, что ты от меня спрятал. Значит, я тебе уже не доверяю и буду выглядывать за тобой из-за столба. — И правда… — удивилась тетя Шура. — Что делается! Даже Захаров, старик. Привез старухе часы на руку, становинку шелковую. А мы с ней век в холщовых ходили. Страм один. — Шуметь стали… Давай теперь меня пошли. И… так и постановили на собрании — других послать. Все знают, зачем просятся. И председатель знает. Я ему сказал: «Ты Чекина посылаешь, а он двенадцать хромовых кож привез и шкурок каракулевых». — Он хорошо с колхозом рассчитывается, его килограмм картошки дороже всех обошелся. — Ну так что ж? Он оборотистее… Председатель не видит… Что назрело? Нездоровье… Разве надо молчать? Мы в колхоз зачем шли? Наесться досыта, и чтобы на работе вместе и на празднике вместе. И чтобы люди друг дружку видеть хотели… И чтобы я знал, что мы с тобой честные и ты от меня душу не спрятал. И колхоз с етим справлялся. Так у нас уже было. А сейчас нет… Ничего из етого не получается… Если мы, старые мужики, умрем, значит, никто не будет знать, что мы хотели. Разве мне можно мое понимание с собой унести? Люди не туда идут… Я сказал, а председатель ашширяется… Я в газету тогда написал. Про самое главное. В деревне внутри все, не напоказ. Да вот письмо лежит все, не отослал. Думаю, написал не так. — Можно мне это письмо взять? Дмитрий Алексеич посмотрел на меня вопросительно. — Ты, бабка, его никуда не забельшила? — Не встревай ты, Кать. Он сам всегда в чужой хомут лезет. Дед… — одернула тетя Шура с укором, — не лезь со своим письмом. Изорви. Не хватает у самого склепки — других не пристегивай. Дмитрий Алексеевич встает, снимает с полочки у иконы ученическую тетрадку, кладет на стол. — Вот… Про это в деревне все знают. Старые и молодые. А вот почему об этом не напишут молодые? Почему? Молчишь? А-а-а… Желтый зуб его обнажился, глаза расширились за путаными седыми бровями, а в них металась маленькая и испуганная я. Домой я шла поздно и не чувствовала мороза. Только к алюминиевой дужке бидона липли варежки.
Юрка спит, а я стараюсь разобрать на школьных листах тетрадки угловатый почерк, понять косноязычную суть письма. Перечитываю и перечитываю. А за строчками слышу саркастическую издевку деда, неодобрительное и хриплое: «А-а-а-а…» Словно знает он, уверен, что не дано мне понять его. Слишком молода я, чужа. Он все смотрит и ищет в моих глазах что-то. Если бы я не слышала его сегодня, как однобок и неясен казался бы он этим письмом, и исчезло бы то неопределенное предчувствие; что тревожит его. Так что же еще ему нужно сейчас, когда стар, когда уступил главные дела свои другим людям, а успокаиваться все не хочет? Вот оно, это письмо. Длинное… Без исправлений. Я хочу его запомнить таким для себя.
«Много уважаемый редактор. Просим поместить нашу заметку.— Юрка, Юрка… Послушай!.. Юрка со сна тупо сидит на кровати. Подтягивает к подбородку коленки, протирает о них глаза. — На этой картошке давно копья ломают. Бездоказательно все… Она же бьется при разгрузке, сыреет. Бывает, ее и по двадцать пять копеек пускают. И вообще… Отключайся, старуха… Давай спать.
Два щастя в один год. В крестьянстве сибири бываить так. Потрудились хорошо вырастили хороший урожай убрали вовремя, заготовили корма для скота, ето большое счастья. Будит на трудодни хлеб и деньги. И государству хорошо когда мы выполним все обязательство перед государством по всем видам заготовок. Но у нас в колхози по Ленинскому пути имеица привычка торговать картофелем возить далеко в другую республику в город Ашхабат. В 1961 году было отправлено двадцать три вагона. Из етай тарговли колхоз получил убытку расхитили денег в сумме сто шестьдесят тысяч в старых деньгах. Ревизионная комиссия установила. Несмотря на ето председатель артели Измаденов Петр Сергеевич в 1962 году в апреле месяце посылаить в Ашхабат один вагон картошки с членом колхоза Чекиным который недно кратно ездил в Ашхабат, и в колхознай вагон председатель дал разрешение нагрузить его личную картошку в количестве семнадцать центнеров. Но ета картофель была ем закуплена у колхозников по дешевай цене по пять копеек килограмм. А Вошхабати продавал по сорок копеек килограмм. За ету поездку он получил чистыми деньгами шестьсот восемьдесят рублей в новых деньгах. Ето потому, что за вагон проезд картошки оплатил колхоз и кроме того ему оплатили суточной как команднровшный по три рубля в сутки и начисляли трудодни два трудодня в день. На вопрос к председателю зачем даете нажится часному лицу, ето же обман колхозников, колхозники оплатили все расходы за проезд, председатель ответил. Раз колхозного картофеля нехватило догрузить вагон, так пусть он поторгует своей. Еще лучше в сентябре месяце в 1962 году снова посылаить два вагона картофеля в Ашхабат из нового урожая. Тоже Чекина и дает ему продать из етих вагонов две тонны для своих сопственных нужд. Со слов его он продавал картофель по тридцать копеек килограмм. Спрашивается сколько он мог нажить дармовых денег за две тонны. Да кроме того на ети деньги в Ашхабате покупает товар. Както хром и продает колхозникам по выгодным ему ценам. Все ето делаица на глазах колхозников. И знаить председатель колхоза как хорошо грамотной что законом в совецком Союзи строга пресекают всякие дармовые наживы. Ети люди как тунояцы хотять прожить за счет чужова труда. Чекин за две поездки нажил неменее тысяча двести восемьдесят рублей вновых деньгах. Вот какие счастья бывают два раза в году. Ето только один пример. Таких примеров много и они обижают всех чесных колхозников. Повидему здесь нужно увязаца газете. Заставить все нажитые дармовые деньги внести в кассу колхоза. А им хватить начисленных трудодней на общих основаниях. А председателю подсказать, так как он новый человек в нашем деле.Настоящую заметку подтверждаетчлен ревизионной комиссииколхозник К о р о л е в».
Утром я отнесла тете Шуре чашку. — Что ты так рано-то? — Вам, наверно, она нужна. — Что ли, она у меня одна? Ну, поставила калину-то? — А я не знаю, как ее готовить. — Я научу… Как печь протопишь, ставь на под сразу. В горшке. В русской печке она хорошо напаривается. Сок у нее как вино густое… А то можно туда немного муки подмешивать — но если это нравится только. Постой-ка, — остановила меня тетя Шура, взяла чашку, вышла в сенцы. — Вот… Добавишь туда, пока она не остыла. В полированной чашке крупчатыми грудками лежал мед. В теплоте он отекал обожженной керамикой. — Бери, бери… Это самая лекарственная еда. Самая чистая. А калина вкусней холодная. Уже у двери я спросила: — Теть Шур. Чекин-то где работает? — А нигде. На пенсии. Сядет у ворот на бревне и сидит. У нас как-то свеклу дождями заливало. Уже заморозки начинались. Председатель машины на улицу дал, бегает по домам, всех собирает, просит: помогите, одно поле пропадает. Я смотрела, смотрела, завязала хлеб в узелок и полезла. А он у своего дома стоял. Кто-то сказал: «Бабка-то Королева куда?» А он: «Да она ведь все на фарсы». Любит подковырнуть.
IV
— Тебе свет не мешает? Я двери нарочно открыла. Здесь теплей. Морозы-то — треск стоит… В избе уже настыло с вечера. Вдыхаешь воздух, он глубоко растекается, знобит глаза и лоб. Мама накинула на меня тулуп, подоткнула под пятки. Стеганое одеяло затяжелело, придавило теплом к кровати. — Как завтра поедешь-то? У тебя и пимов нет. Постояла в темноте, ушла. Крутится колесо прялки, мама мягкими движениями выдергивает из кудели пряди, а глазок барабана собирает их, скручивает, тянет из-под пальцев. Как по выплеснутому на пол керосиновому пятну, бегает язычок пламени, загасая и нарастая, обегают куделю черные стропики, собираются в пучок, и шерсть истекает с гребня тоненькой ниткой. Качается локоть, а ладонь то придавливает нитку в воздухе, то приспускает, и эти движения не отнимают сосредоточенности. Ветреный рокот прялки издавна знаком мне. Только я его забыл. Мне приятно возвратиться к нему и видеть под печкой черенки рогачей разных калибров, обожженный каток на загнетке, старый мешочек на доске шкафа и в нем клубочки ниток с иголками, порошки сухой краски. «Это бордовая, это жаркая, — бережно и благоговейно называет ее мама. — Смотри не просыпь. Это старинная. Видишь? Сейчас такой нету. Сейчас почему-то много такого нету, что тогда было. Как шерсть покрашу, так навек. Шерсть износится, а краска все яркая, глаза радует. И почему так стало?» Я любил этот мешок. Жесткий, как обветренное дерево старых срубов. Опустишь в него руку, пошевелишь, и пальцы заблестят радужной начищенной пыльцой. — Андрюш… Ты спишь? Я тебе варежки свяжу, только сказать не успею. Один раз так наденешь. Морозы стоять еще будут. Видишь, месяц-то как очистился. Мама всматривается в темноту моей комнаты, говорит, не теряя заученности движений, только изредка поднимет правую руку, растянет тугой шабол шерсти. Лоснятся листья фикуса у окна. Ничто меня не тревожит. Я закрываю глаза, и передо мной встают утренние ленты асфальтированных дорог, осевшая синева неба над городом, и в немыслимой высоте распускается белая нитка дыма. На самом острие ее тает серебряная стрелочка самолета, растягивает невидимую струечку, и в синеве набухает стойкий неподвижный хвост. — А может, отпустит. Как месяц сломается. Это я уже слышу в полусне. Утром иду в контору. Еще не рассвело. У крыльца маячит гусеничный трактор с санями. Я поднимаюсь по ступеням. На перилах уже ждут меня. Кто-то движется у трактора, трогает гнутые трубки мотора. Смочил пучок пакли в бензине, бросил на снег, зажег. Запрыгало пламя на траках, на засвинцовевших брюках. Я узнаю Прокудина. Он надавливает коленом, распрямляет гнутое ведро. Он сутул, с большим тонким носом и тяжелыми руками. — А… Карагуш, — зовут его старики. Он не обижается. Кличка перешла к нему от отца, не вернувшегося с фронта. Сын повторил отцовскую походку, до щемящего удивления сутулость и незлобивый характер. Перешла к нему и любовь к тракторам — отец был трактористом от первых машин до повестки. В шестнадцать лет младший Карагуш сел на «колесник». Потом освоил комбайн и надолго остановился на нем. Я приезжал в деревню. Прокудин встречал меня с восторженным благоговением. — Ну и жадные вы, Уфимцевы, до учебы! У него было четыре класса образования. Я заканчивал институт, я не видел новых самоходных комбайнов. Мне хотелось знать, как они подбирают уложенные валки на стерне. За кисеей осотового пуха, запыленный до черноты, свесился с кабины Прокудин, подал залоснившуюся от металла ладонь. Комбайн подкидывал проволочными зубьями валок, а Прокудин поворачивал голову, кричал мне: — Глаза… Я говорю — глаза забьет. Если хочешь, очки достань. У меня в кармане. На повороте спрашивал: — Все учишься?.. Ну и жадные вы, Уфимцевы, до учебы. И вот сейчас я вижу его уже у гусеничной махины, побелевшей в багровых отблесках. Прокудин принес воду и горячую, с паром, залил в радиатор. Через минуту трактор затарахтел, вздрогнул гусеницами и начал разворачиваться с тяжелым пронзительным визгом. Подергался взад-вперед и снова смолк. Пакля погасла, и к крыльцу подступила темнота. Прокудин не подавал из кабины признаков жизни. Павля Новоселова крикнула: — Замерз, что ли? — Помолчала недоуменно. — Притих… — и расхохоталась, наклоняясь лицом на воротник. — Лешк, — позвал Пронек, — застыл? Иди руки погрей. У Павли… Сразу трактор заведешь. — Вот обрадовал… У него есть кому… — Жена что… Вот ты… Горишь вся. — Кто бы знал… — Я… Рядом же сижу. Через тулуп чую. — Бессовестный… Андрея бы постеснялся. Буробит всегда. — Да он… поди, больше нашего знает. Художники всегда голых баб рисуют. — Не болтай уж. — Что — не болтай? А ты спроси. — Рисуют, поди, из головы. Что, смотрят, что ли? — В том-то и дело… — с торжественным превосходством заключил Пронек. — У Андрея сколько их… Вот на таких листах. И все… натурщицы. Проньку самому что-то неясно. А понять это, уточнить — кажется опуститься ниже его уже привычного цинизма. Любопытство его раздето, и поэтому он мнется с минуту. — Она что? Заходит сначала, при вас снимает все и стоит? А вы на нее смотрите? — Мы на нее смотрим, — говорю я. — И она стоит. Вся как есть. Стоит и не боится. Голая баба… Стоит и все… Беззащитно обнажена. И видеть это не стыдно. Я не знаю, как объяснить это, как не знаю, почему вскинутого на руках годовалого ребенка со вздернутой рубашкой, со всеми его внешними признаками мужчины видеть не стыдно. Проклюнувшиеся сосочки девчонки под ситчиком платьица, губы женщины, ждущие, подставленные солнцу, видеть не стыдно. — Нет. Правда, что ли, безо всего? — недоверчиво спрашивает Павля. Парок слетает с ее губ. — Ну есть же люди… И как они потом на улицу выходят? — Дай закурить, — сказал я Проньку, хотя никогда не курил. — Дай попробую свернуть сам. Покрепче. Беру щепотку жесткого самосада, сдавливаю его в тугой самокрутке, слюня, прокусываю настывающий краешек бумаги. Я вспоминаю, как на пятом курсе натурщица Алла долго не появлялась из-за ширмы, потом зашла на помост и остановилась спиной, медля минуту, и вдруг решительно повернулась к нам, скинула цветной халатик. Мы начали рисовать, а она сидела недвижно и напряженно. И вдруг на глаза у нее натекли слезы. Она уставилась в одну точку в окне и их не смаргивала. Только губы становились жестче и жестче. Мы рисовали, и слезы у нее так и исчезли, не скатываясь. Мы их не видели. Она почувствовала это, расслабилась и не боялась наших глаз. Это был ее первый сеанс. Алла. Обнаженная. Я вижу ее спокойную доверчивость. На крыльце резко скрипят промерзшие доски, холодно касается лица воротник. Я не хочу говорить об этом. Не могу. Мне кажется, неуместен этот разговор сейчас. Пустячен. Это как бросить на снег окурок и затоптать. Им еще долго не знать, почему обнаженная натурщица целомудреннее их ежедневных сексуальных шуток. Я тяжело затягиваюсь папиросой. Самосад трещит. — Андрей, — спрашивает Павля, — а ты не женат? — Нет. — А что? — Было некогда… А сейчас уж и прозевал. Промухал, в общем. Павля отваливается головой на стенку. Потом мы едем. Трактор спускается по унавоженной дороге под гору. Сани накатываются, лязгают куцым болтом прицепа. Рассвет посерел. Неподвижным снопом сидит Павля — заиндевевшая сибирская мадонна. Голова ее, закутанная шалью, круглая, как сорочье гнездо с темным лазом, а в нем лохматой изморозью белеют ресницы. — Павлин, — Пронек смотрит в глубину лаза, — ты что с нами-то едешь? Теперь не свинарка, что ли? — А… Придумали… На ферму самим дрова возить. А я на подсмене. За рекой трактор сворачивает с конной дороги, поднимается по целине к далекому березняку. Снег в ровных сумерках без теней, а на горе сквозь гребень стволов процеживается лимонный рассвет. Я отаптывал вокруг березы снег и подрубал топором. Кора брызгала серыми крошками, осыпалась. Обнажался мерзлый кремовый ствол. Топор отскакивал чуть не ко лбу, тоненько звенел в руках. Подпиленная береза рвала окостеневшие нити, подпрыгивала над пеньком и падала поперек саней. Мы обрубали сучья, за вершинку разворачивали, и лесина ложилась на воз. Было жарко. Я скидывал рукавицы. На отуманенном топорище отпечатывались влажные следы пальцев. Мне нравилось видеть, как падали березы, слышать, как пахли сладкой оттепелью свежие пеньки, потом сидеть на возу и чувствовать приятную слабость в руках, когда почти невозможно поднять их, но чувствовать их тяжелую невесомость — блаженство. Я теперь знал, как бывает приятен мороз, как недоставало мне усталости, чтобы полнее почувствовать в себе человека. Как радостную встречу, я ждал теперь свою работу. Колол дрова — ставил отпиленные чурбаки на снег, бил колуном по круглому срезу, и поленья катились на плоских животах, звенели. Я возил с пашни солому. Перекидывал веревку через бастрик, закручивал петлю, садился и, приседая, затягивал воз. Трактор трогался. Я залезал в деревянную будку, прицепленную сзади. В жестяной печке горели дрова, малиново накалялись трубы. Плотная теплота начинала давить на лица. Мужчины открывали дверь, и нестерпимая белизна снега слепила глаза. Будку бросало, и вилы гремели в углу на раскатах. Мужчины молчали. Белы незагорелые следы под шапками, и поэтому особенно заметно, как обожжены морозом их лица. Усталость сдерживала, они наклонялись к печке, и казалось, что налиты и тяжелы их думы. — Руки гудят без привычки? — спрашивали, не поднимая головы. Это относилось ко мне. — Трудно тебе еще… Животом поднимаешь. Без сноровки. Отец твой ловок был. Ответа не ждали. Будто отметили это между прочим. — Вот ты сказал — в книжках рисовал. Я все думаю, писатели из других людей выходят, а из наших нет. Поэтому книжки про далекое пишут. Нашему бы туда попасть, небоязливому… А вот ты смог бы про Сибирь и про все как есть рассказать? Правду. Чтобы мы себя узнали. Смог бы? Сейчас книжку какую ни возьмешь — интересная, а все мимо нас. Дорога убегает за дверью. Внизу истаивает мгновенной лентой. Поймаешь ее, она останавливается и замирает среди березовых колков. — Смог бы?.. Что-то подступает ко мне напоминанием забытой беды. Мне противны были мои последние работы. Все опробовано, заучено, ни одной живой искорки. Куда все исчезло? Я требовал от себя нового хода, необычного всплеска — воображение было неподвижно, а голова глуха. Неотступно давила мысль: «Бездарен, бездарен»… Только вспугну ее, силой, напряжением заставлю себя думать над работой, а мысль эта снова начинается тоненькой точечкой, нахлынет, растечется и придавит. …Бездарен… Бездарен… И не избавишься от этих наплывов. Наступает болезненное неприятие работы. Каждое утро боишься ее, ищешь отвлекающую зацепку не приступать к ней, не касаться, не думать. Уверяешь себя, что вот это побочное нужно сделать сначала — может, почитать, чтобы возбудить доброе состояние, а потом… А потом приближаешься к работе, и времени мало, чтобы успеть полно почувствовать ее, — она требует длительной отдачи, а в спешке получится скороспела и приблизительна. Это уже проверено. И вспоминаешь ее с зубной болью и стонешь. Сейчас… Я хочу уставать. Без конца строгать, сметать с верстака стружки и вбирать густой запах смолы, трогать пальцами круглые сучки на досках с просвеченной незамутненной глубиной, чувствовать ногами щепу, слышать руками звук рубанка, когда он вязко липнет к ребру доски. Ведешь его с легким усилием, и прохладная стружечка шуршит на руках. Я недавно здесь… А кажется, уже прожил годы. Накладывал сено и любил пружинистую тяжесть пласта, сбивал топором сучья — топорище тоненько звенело в руке, я всаживал его в дерево — он глох. Я слышал в себе этот изначальный звон. Казалось, он просыпался во мне, начатый давно-давно. Может, у меня никогда не было любви к живописи? Все только привнесено, чужо, наслоено — книгами, учебой, а я гениальный пахарь и слышу далекий зов настоящей работы? Теперь я это знаю, давно знал… только не находил в себе мужества вслух подумать об этом. Трактор застучал натужно. Дорога обозначилась соломой — мы въезжали в деревню. Солнце садилось за голый лес, растекалось по наледи у колонки. Колонка на ледяном бугре, как отекшая свеча. Телята тянулись к замерзшему корыту, скользили, сухо стучали копытами, поднимали головы к трубе над окошком. Вода из трубы падала крупными каплями и разбивалась на их носах. За дверью побежали изгороди из жердей и березового тына. — Ба-а-а-абы!.. Мы мерзнем, а они… Где же справедливость?.. Доярки, нет, — куча доярок — нашествие — хлынули в раскрытую дверь нашей будки. Будка отяжелела как яйцо. — Что вы по коленкам-то! Ах… вы, едрени фени… Телки… — Мамоньки… Производитель!.. Тащите их в снег. Лидк… Андрея, а то он отвык от деревни. — Да его… Вот медведь… Бабы, а ну все!.. Труба от печки сломалась, загремела над головами. Отталкиваясь плечом от стенки, я выпрыгнул в дверь, схватил в охапку кого-то, бросил в снег, разгибаясь, скатил со спины бойкую Чирскую, она плюхнулась рядом тяжелым кулем. Не давая им расползаться, я свалился сверху. Павля развернула меня навзничь. Я поймал ее за руку, хотел опрокинуть. Петли ее телогрейки лопнули, обнажая натянувшуюся кофточку. Павля упала мне на лицо грудью, раздавшейся и горячей, как подовый хлеб. Живой клубок барахтался в сугробе, перетасовывался. Было весело. Было здорово весело стряхивать с плеч доярок, настырных и неуклюжих, как пингвинки. Обдирая лицо и зачерпывая воротником снег, я вывернулся. На обочине стояла Катя Холшевникова — пережидала воз. Красной варежкой придерживала воротник шубки у подбородка, как бы поднимая его повыше. Уголок платка сломанным петушиным хвостом дернулся на затылке. Катя поспешно сошла на дорогу. Шуба ломалась на спине легкими касаниями, лепила стройную формочку ее тела. Я сбил снег с головы. Мне не хотелось догонять трактор, и я пошел за ним следом на ферму. Мужчины отпустили веревку. Бастрик прыгнул, уставился вверх. Я скидывал солому на утоптанный снег. Внизу уже сгустились сумерки. Черны деревянные отдушины дворов, провисшие прясла загонов, а мне с воза виделось угасающее пламя заката за согрой, и небо неестественного самоварного блеска. Мужчины соскребли натрушенную солому, подбили вилами под зарод. — Вот на сегодня и все. Давай, я вилы в сторожку занесу. — Андрей, ты что смурной такой? Зайдем ко мне. С устатку… — Нет, я домой. Мне не хотелось никуда спешить, и я пошел санной дорогой по косогору. Снег был матов и глух у ракитника, а у ног он озоровал, вспыхивал голубой россыпью блесток. Ни звука не доносилось из деревни. Все замерло. Только скрипел снег на дороге. Ночь казалась неправдашней и стеклянной. Я не чувствовал мороза и был полон непонятной ласковой грустью. Видел красную варежку у подбородка и пухлые голубичные губы. Мне хотелось воспроизвести их, почувствовать губами заносчивую неприкосновенность, а вспоминался Юрка, и о нем хорошо думалось. Я сломал веточку тальника, прикоснулся холодной кожицей к зубам. Огненное лезвие за лесом уже истончилось и остывало. Вставала ночь — неподвижная и красивая. Будут так же гореть снега, истаивать закаты, цепенеть небо. Равнодушно, холодно, вечно. Для других. А вот теплая человеческая красота Кати Холшевниковой не повторится. Никогда. Только художникам дано сохранить ее. Они оставили нам исчезнувшую прелесть женских лиц. И я знаю сейчас, что эти женщины были… Перед ними сидел с акварельными баночками Петр Соколов, и они «дразнили белыми зубами» Блока. В деревню я входил, когда зажглись лампочки на столбах. Они, без абажуров, кругло светили и сгущали небо. Я свернул к своему дому. Тень под ногами начала растягиваться на снегу, сломалась и остановилась головой на двери. — Андрюш, ты? Что-то долго сегодня. Мама не закрыла дверь в избу, ждала. — Мороз-то, — она поежилась зябко. На ней кофточка тоненькая. Рукам ее холодно, но она никогда не дула на них, не позволяла себе такого жеста. — Все не могу привыкнуть, что ты дома. Пока я наливал из кринки молоко в кружку и, разломив витой калач, ел, она стояла у печки. — Корову я недавно подоила. Надо тебе к молоку парному привыкнуть. Какой-то ты… весь черный стал. Израбатываешься… или так… Я ушел в другую комнату и смотрел в просвеченное перламутровое окно, а мама сидела на скамейке у печки. — Ты никуда не идешь? В клубе Саша на баяне играет. Хорошо… Девчата собираются… А то к агроному сходи. Они молодые и тоже дома сидят. Мама замолкает, думает долго. — Как про тебя всегда хорошо в деревне говорили! Ученикам в пример ставили. Я радовалась… Другие неграмотные в город бегут, а ты сюда… Солому ворочать. Перемешалось все. Меня все про тебя спрашивают: «Что, да что?» А я что скажу?.. И пимов у тебя нет, и семьи… Аль ты не хочешь? Я все жду, жду… Не по-правдашнему у тебя жизнь идет… Вот и учился много… Она замолкает сокрушенно. — Пронек заходил… Ждал тебя… Сказал, завтра зайдет. Выпивать, наверно, опять. Он что повадился-то?V
Пимы у Пронька подшиты серым войлоком, перетянуты тугим швом по кромке. Надбровные дуги у него выпуклы, глаза спокойны, без красноты, с молоденькими черными ресничками. Он всегда болел трахомой, и веки его были голые, как губы. Мы с ним учились вместе до четырех классов. Пронек сидел на задней парте в углу, а я на среднем ряду. Мы никогда не были с ним друзьями. Нас вместе приняли в пионеры. Я носил чистенький галстук, а Пронек его никогда не надевал. Я читал книги, любил рисовать, был редактором школьной стенной газеты «Ударник учебы», просиживал после уроков с редколлегией над очередным номером, а Пронек на другой день макал палец в непроливашку, отпрашивался с урока «на двор» и затирал чернилами головы карикатурам. Я был отличником, а Пронек получал оценки «плохо» и «пос». Наверно, поэтому он всегда хотел меня отлупить. Пронек был толстый и сильный. — Давай поборемся, — ловил он меня за пояс штанов, подтягивал под себя и упирался плечом в шею. Штаны поднимали меня, ноги легчали, и уходил из-под них пол. Пронек падал. Я летел через голову и больно ударялся ногами. Злой и красный, старался вылезти, вертелся на полу, хватался руками за его голову, а он придавливал животом к полу. — Вывертывается… Не вывернешься… А еще мясо ешь. Если бы я ел мясо, ты бы узнал… Он меня не любил. Жили мы в одной деревне, на одной улице, и просто удивительно, почему я не знал, как Пронек живет, отчего плохо учится. Ничего я тогда о нем не знал. Только позднее мне пришлось побывать в его землянке, уж не знаю зачем. И вот сейчас по разрозненным впечатлениям а многое стараюсь понять. Я вспоминаю его мать — молчаливую и какую-то неумелую, с выпуклыми бельмами на глазах, будто на зрачки капли желтой сметаны капнуты. Они пугали всегда. В их землянке было одно окно, и свет падал на дверь, а расшатанный столик стоял в углу, и с него никогда не убиралась посуда. В углу было так темно, что трудно было разобрать, какого цвета стоит на столе чашка. Я сейчас вспоминаю это и думаю: как он мог сидеть там, за этим столом, как выполнял домашние задания? А ведь он приходил в школу и сдавал вместе с нами свою грязную мятую тетрадку. На ней были пятна и раздавленные крошки хлеба. Но он сдавал и, значит, что-то писал? Учительница раздраженно сокрушалась, а Пронек молчал. Что от него она требовала, я не пойму. Учительница ругалась, а Пронек оставался спокойным и незлобивым. Удивительно, почему он не возненавидел весь белый свет. Пронек иногда не приходил в школу, тогда перемены были организованными. Ученики перемещались широким кругом по коридору и пели песни, или делились на два ряда, брались за руки и стеной надвигались поочередно ряд на ряд:11 декабря. — Теть Шур, а Дмитрия Алексеича нет? — В кочегарке он. Говорит, его Андрей Уфимцев на картину рисует. — А Андрей что, здешний? — Наш. Деревенский. — А вы видели? Хорошо он рисует? — По-всякому. Если близко — и не поймешь. Краски много наляпано. А отойдешь — соберется все, и будто лицо получается. Он ведь учился много. Далеко где-то. Тетя Шура оттянула нитку в сторону, и шерстяной клубок шевельнулся в ее подоле. Она опустила вязанье на колени. — Ты его разве не видела? Видный такой. Недавно приехал. Не женат еще, а ему уж, наверно, тридцать скоро. И что?.. — Она будто себе ответила. — Учился, учился. Приехал и с мужиками солому возит. А сейчас с дедом моим в кочегарке работает. Председатель ему посмеялся: «Мы тебя рациональней используем, на другой работе. А эта что, стариковская». — «Меня, — говорит, — устраивает». Ему время нужно. Он ночные смены берет. Ночь продежурит — два дня дома. Трое их там. В котле воду греют для машин. Да ты присядь. Деда не скоро дождешься. Он только ушел. — Я туда схожу. — А знаешь, где кочегарка-то? — Найду. Гараж за огородами. Сразу от ворот дорожка к нему протоптана по сугробу через плетень. Ступени в кочегарку обкатаны подошвами. В угольной пыли. Дверь глуха, придавливается прибитым куском автопокрышки. Я вошла — она подтолкнула в спину. Рыжий старик поднял на меня глаза и медленно пересел на истесанное бревно — освободил табуретку. Дмитрий Алексеич бросал в топку уголь. По раскаленному жару в печи, поверху, не гася, легким дуновением пробегала тень. Из-под черных грудок угля вырывался синенький дым и вспыхивал. На земле у дверцы алел шлак, и пахло тухлым жаром. Рыжий старик лохмат, с тоненькими руками. Острые его колени тянули брюки из валенок. Рыжая борода коротка и густа, а на голове волосы длинные, и цвет их уже не так рыж, как бы потерял силу. Глаза щурятся хитро — видно, еще живут разговором, что был до меня. Андрей вытирал тряпицей кисти. Воротник его рубашки расстегнут. Завернутый рукав спал с локтя. «Зачем-то в белой рубашке здесь, в черной кочегарке? Напускаешь на себя, местный Ван-Гог». Я еще не доходила до его сознания. Лицо у него было далекое, медленно возвращалось. — Садись, — сказал рыжий дед. — В ногах правды нет. Дед — плотник колхозный. Это он мне березовые стулья сделал. Дмитрий Алексеич откинул лопату в угол и сел на телогрейку, свисающую с ящика. — Все? Отмучил… — сказал он и поводил головой. — За четыре дня жилы вытянул — шеей не шевельну. Андрей засмеялся: — Я говорил — свободней сидите. — Наклонился, опустил кисти в этюдник и замолчал, раздумывая. Плотник смотрел на него, моргал. У него колечко стружки в бороде. Андрей выяснял для себя что-то, не соглашаясь. Он даже встал. — Значит, в колхозе мастеров не было? — спросил Андрей. — А я колхозные дуги помню. Одна тяжелая была — я ее поднять не мог. Из какого-то литого дерева, голубая с золотым тиснением. У нее один конец крошился, а краску ее время не тронуло. Другая — облезлая, по овальному полю цветы нарезаны. Глубокие, отшлифованные ветром. Сколько их разбитых в завозне лежало? Любую можно в музей предложить. Кто-то их делал? Значит, и мастера были и мастерские? — Помнить — помнишь, знать — не знаешь. Это все в колхоз снесли. Готовое… А в колхозе… Плотник посмотрел на Дмитрия Алексеича. — В колхозе Иван Липатыч дуги делал. Уйдет весной в лес, нарубит лесины березовые, облысит и начнет гнуть. На сгибе верхние жилки лопнут, он их топором зачистит. Вот тебе и красота вся. Дуги… Дуг тех нету, которые в музей нести надо было. Старик навалился локтями на расставленные колени, руки сложил палец к пальцу, опустил тяжело. Они у него сухие, как старый корень на ветру. Я подумала: «Мог же он ими березовые стулья сделать. Так бережно». Я села на перевернутый ящик. — Ты говоришь, деревню начали строить. Архитектура новая… Не новая, а никакая… Вот я тебе расскажу: когда деревню сломали… А она была. — Он нашел глазами Дмитрия Алексеича. — Войдешь в деревню с солнца. На пригорке за колодцем стоял дом Петра Лексеича. Это где сейчас баня Макосова. Нет… ты не помнишь… Тебя еще, поди, не было, — сказал он Андрею. — Дом крестовый под тесом. Лес крупный, черный весь, а как солнце на него падет, окна так и раскроются в ставнях. Наличники нарядные, будто конец рушника свешен: легкий, прореженный. А поверху кругом резьба деревянная. Дерево выцвело, ссохлось и над тенью как серебряная вышивка. И от этой резьбы сквозной на бревнах узоры солнечные. Идешь по дороге, и вечер не вечер, а праздник будто навстречу. Вошел. На углу за огородом дом Портнягина с забором низким. Тот деревянной резьбой в три яруса подбит был. Скворечники по углам. Веселый дом. А дом Новоселова уже на краю деревни… Слепой, за воротами тесовыми прятался. Дерево на воротах крепкое, а будто ржавое на пазах. За него солнце садилось, и на улицу тень падала, холодом встречала. Проходишь мимо, вот уж и чувствуешь, что к реке спускаешься. Да… Деревня душу имела… Глаза у Андрея сходят на нет, как угасающий волосок электролампочки. Он, наверно, ничего не слышит. — Потом дома пустыми стояли, без окон. А уж потом сообща при колхозе их разрушили и клуб построили, и контору… А вот наличники не поберегли, бросили. Они и осыпались все. Двенадцать домов крепких было — сломали. Школу сделали, амбары на колхозном дворе… Сделать сделали, а красоту растеряли. Как будто сразу не нужна стала. Вот тебе и зодчество твое. Старик говорил монотонно, с тихой апатией. — А сейчас… Не скажу… Хорошие дома строят. Богатые. В три комнаты. С верандой. И шифер белый — в березках далеко виден. А на одно лицо. И люди такие стали, на одно лицо… Что делают… Один поставил дом. Придумал… Ничего! И все следом — не отстают. И пошли по всей улице как один… Выдумывать люди разучились, — в нем проснулся накал неодобрения, и он сказал громче: — Все готовое берут. И дома… И в дом. Магазинное… А раньше люди сами старались строить… Дмитрий Алексеич шевельнулся на телогрейке, втянул воздух через желтый зуб, протестующе поморщился. — Это дома сибиряков были, — сказал он недовольно в землю, — кто из России приехал, их деревня на задах вон стоит — пластами крытая. Не до выдумок было. Мыкались. — Ну мыкались… Мы ж не про то, а что люди выдумку потеряли. Вон Андрей что говорит… «Деревня грамотнее стала. К другой культуре пришла». Ну что… — он охотно согласился, вздохнул с тихой издевкой. — Молодежь много учится… Десять годов. Учится, чтобы убежать. А кто остался, так в его учебе толку нету. Пустая она для жизни. Ничего не тянет. Раньше меньше учились, а делать умели. Теперь это умение старикам ни к чему, попрятали все свое. А молодежь… Много знает, да не умеет… А то не хочет… Ищет готовое. Одежу готовую. Кино готовую. Жизнь готовую. Где бы им ее сделали, а они ее взяли. Вот и ездят, ищут. Из деревни бегут. А радио их уговаривает: «Езжайте! Молодцы, что одних стариков в деревне побросали». У Андрея такая добродетельная сосредоточенность. Он что, согласен? — Любопытно, — удивилась я. — У людей что же? Талант исчез? — Не исчез… Только он живет, когда нужен. — Сейчас не нужен? Вы так красиво о своей деревне говорили. Почему же тогда людям красота была нужна, а сейчас эта потребность в красоте погасла? Люди грамотнее стали… Значит, они больше знают, им больше и надо? Как по-вашему? — Надо больше. Я же и говорю. Получить готовое. Сядут вечером у телевизоров — вот тебе и будни и праздники. «Ведь и я так думала». — Что же? Значит, в деревне праздников нет? — спросила я, вдруг осознавая, что спрашиваю о том же, что сама утверждала. Помнит или нет Андрей тот разговор, что был у нас, когда мы возвращались из клуба? — Праздников? В два раза больше. И советских… и старинных. — Праздники-то разные… — сказал Андрей и сдержанно заулыбался. — Одинаковые… Сравнялись. И на советский пьют, и на старинный. — Одинаково? — Я же говорю… Раньше каждый сам выдумывал. И праздники тоже. Кто как поинтересней. Масленица если… Ночью вся деревня на улицу выйдет. Бабы снаряду наденут — кто кого лучше придумал, чтоб показать, сани большие на гору притащат и… что тут делается… И стар и мал… А днем бега устроят. Чей конь возьмет. Опять вся деревня смотрит. А раз смотрит, значит, и дугу и коня снарядить надо. На паску яйцами крашеными бьются. Христосуются. И опять же разговору — у кого краска ярче, да чьи рушники лучше на божницах. Все выдумывали… Сейчас завклуб за всех один праздники выдумывает. Ему за это деньги платят. А он только для девок на баяне пилит. А все… Подошел май… В клубе посидят на торжественной части и домой — водку пить. В октябрьский обратно торжественное в клубе. На скамейках посидели, учителя про революцию послушали. А он уж про это в май рассказывал. Пошли домой и снова… Два дня пьяные. Самогон гнать сейчас есть из чего. Вот тебе — праздники. И советские, и старинные. Ото всех голова болит. Рассолом лечим. Андрей рассмеялся, любовно рассматривая старика. Глаза его радовались, как у ребенка. Дмитрий Алексеич наклонился к кисету, полуоткрыв беззубый рот — он, должно быть, так улыбался. Воздух сушил его крепкий зуб. — Куда вы свой инструмент сейчас дели, дядя Самош? — спросил Андрей, разглядывая деда. — Так его берегли? Меня чуть с вашим Петькой не излупили, когда мы фуганок иззубрили. — На гвоздях вы его. — Чем занимаетесь-то сейчас? — В колхозе. То грабли сколачиваю, то стоговые вилы выстрогаю. Столярничать бросил. Улья когда… — Тоже больше не выдумываете? — Ни к чему… — Про стариков-то вы хорошо поговорили. А в молодежи, выходит, ничего нет. Обидно это нам, дед… Андрей разговаривал с ним снисходительно, подшучивая. — Обижайтесь… Что сказал, то сказал… Хлипкая молодежь стала. Сырая. В руки можно брать. Как сомнешь, так и останется… — Что же это с людьми произошло? И живут лучше, а все неинтересней становятся… — Произошло?.. Самоша глядел на меня из-подо лба, изучал долго и сказал: — Смекалка исчезла… Она ведь нужна не только как лучше посеять да побольше хлеба собрать, а и что-нибудь сделать. А это сделать — сейчас нет. От деревни только хлеб ждут. «Хлеб наш насущный…» А надо, чтобы люди талант свой не потеряли. Для меня главное, что я что-то лучше других знаю, умею. И это люди должны увидеть. Да… Получается у меня что-нибудь, я еще и сам не знаю, а меня уже за руку и в газету. А мне это нехорошо. Стыдно. А они это делают для себя. Себя обогнать. Вывернуться. Вот и научили людей ждать, когда их по плечу начальство похлопает. А как на это другие посмотрят? Теперь не оценка людей важна… А ведь человек-то все для людей всегда делает. Чтобы его красоту увидели, да душу его за ней. Дмитрий Алексеич крякнул, бросил окурок в угол, долго и молча подкидывал уголь в печку. Жаркий свет упал на старика, и рыжая борода, как загоревшаяся солома, засияла вокруг лица. Андрей собирал на палитре эластичным ножом густо размешанную краску. Она скапливалась на лезвии шматками и блестела. Он вытирал нож о тряпку. Я почему-то вспомнила свою практику в семилетней школе. Деревня была большая. Особенно меня поразил там Дом культуры — белый, с четырьмя колоннами и рельефной лепниной на фронтоне — два скрещенных снопа. Меж битых кирпичей вокруг него прорастала трава. На шершавом цементе при входе маленькие девчонки в длинных пальто играли в «классики». Перед началом сеанса немногочисленные зрители сидели вдоль стен фойе в глубоких, сбитых вместе стульях. Потолок фойе был высок, и оттого люди казались маленькими. Молодежь, по праву участников самодеятельности, собиралась в обширной комнате у сцены. Там к ножке табуретки был пришлепан окурок. У пианино, где подразумевался глазок замка, зияло пустое дупло. Взрослый мальчишка откинул его обшарпанную крышку и с шалопайской развязностью заколотил по клавишам. Пианино расстроенно гудело. Фильмы в той деревне шли три раза в неделю, а огромный Дом культуры казался пустым, и тянуло от его стен цементным холодом. Палитру Андрей скоблил сначала медленно, как бы раздумывая, потом с резким усилием стал нажимать на нож, будто руки его наливались силой. В такт движению у него вздувались желваки на скулах. Он вытер краску, бросил в этюдник нож с круглой ручкой, встал и, будто только увидел, посмотрел на меня изучающе. «Странный какой здесь народ. И этот тоже… Словно что-то такое знают только они одни». И мне уж ничего не хотелось спрашивать у Дмитрия Алексеевича. Он пошевелился на ящике и сказал участливо: — Катюх, посмотри работу его. Ишь какую головешку вылепил, едят его мухи… — Он ему чужую силу дал, — сказал Самоша. — Неправдашнее лицо… А хорошо. Смотришь и зябнешь. — Спросил у Андрея: — А ты мог бы, чтоб и похоже и чисто как есть лицо? — Что в нем мешает? — спросил Андрей. — Не знаю. Людям он таким запомнится. Хмурый. Брови у Андрея тяжелеют. С растерянностью я гляжу на него. Он отчужденно далек. И ему никакого дела не было до меня, до моей оценки. Я не пошла к мольберту, повернутому к окну. — Что смирная стала? — удивился плотник. — Не посмотришь. Силу надо иметь, чтобы вот так. Да… Я руками все могу, а вот человека показать — нет. В кочегарке становилось темно. Андрей поднял лопату с угля. Крупинки сажи оседали на складках его рубашки. Он навалился грудью на черенок лопаты. На лицо его нашла тоскливая сосредоточенность. А мне захотелось остаться здесь, сесть против открытой дверцы на ящик — молчать. Молчать и думать. …Почему мне казалось, что у меня есть право судить о деревне, будто она подопытна и мои знания надо всем? Они сами гораздо глубже меня видят истоки своей радости и чувствуют узлы своей боли. Мне хотелось сидеть перед печкой, чтобы теплые сполохи прыгали на руках и грели колени и всю меня, как присмиревшего котенка, и чувствовать рядом Андрея, сидеть и знать, что думаем мы абсолютно об одном, молчим и перекликаемся, уходим далеко, — возвращаемся и вдруг понимаем снова, что молчим об одном. «А зачем в этой кочегарке ты?.. В этих огромных, явно не своих ботинках с металлическими заклепками, надетых на тоненькие модные носочки?» Но Андрей был вызывающе ироничен. И я сказала: — Дмитрий Алексеевич, я пришла к вам кое-что уточнить. — Вот едят тебя мухи… А молчишь. Дмитрий Алексеич надел телогрейку, растопырил руки в больших варежках. Варежки тяжелы ему, оттягивают руки, и оттого сам он неуклюже согбен, топчется на полу в головастых валенках с галошами. — Вот так воду и поддерживай. К утру побольше подбросишь, — говорит он Андрею. — Часам к пяти подходить будут. Заправлять. Когда я поднялась по ступенькам, вышла, над снегом уже стояли разреженные сумерки, а у двери в кочегарку была ночь. На вытоптанном снегу черные пучки пакли. Снег под ними подгорел. Дорога продавлена елочной резьбой шин, на которую почему-то было приятно становиться. Дома, постучав носками валенок о порог, я вошла в избу. Юрка даже не услышал. Он сидел, склонившись над стулом, и чертил испещренную надписями схему. Под свитером у него выпирали лопатки, будто кто ладошки ребром поставил. «План колхозных земель». «…Костяная гривка, — читаю я. — Поддувал. Новый исток. Паскотина». — Никак не запомню, — сказал Юрка. — Сегодня соображали, где что будем сеять… Мужики в этой топографии ориентируются запросто, понимают друг друга с полуслова, а я моргаю… Нет, этот язык до меня не доходит. Вообрази: — Где пшеница посеяна была… — За хутором, что ли? — Нет… По Окуневской дороге. — За переездом? — Ну, где Максимов покос… — У солонцов? — На солоткиных полянах. — Черт те что… Какую-нибудь бабку консультантом возьму. Я приседаю рядом. Юрка улыбается. Улыбкой хочет увлечь меня. Я молчу. Он начинает удивляться. — Что ты? Присмотрелся внимательно: — Ходит, мерзнет. Я наваливаюсь локтями на его бумагу, закрываю демонстративно. Чувствую тепло его плеча под свитером. — Весь мороз собрала. Я поднимаю лицо. Его спавшие волосы трогают лоб щекотным касанием. — Юрка… Юрка… Давай будем чаще говорить, что мы любим друг друга. — Так что с тобой?
12 декабря. «Много уважаемый редактор. В крестьянстве сибири бываить так… Я хотела отредактировать это письмо и послать, только выяснить у Дмитрия Алексеевича кой-какие подробности, детали. Мне было все ясно… А сейчас я не могу избавиться от вчерашнего разговора. «…В крестьянстве сибири бываить так…» Почему мне нечего было возразить Самоше и я отмолчалась? Он что, прав, этот старик, со своей утилитарной мудростью? Безграмотные крестьяне раскрывались полнее, а современники, приобщенные к высшим достижениям искусства, — пассивны… Просто люди проявляются сейчас в более высоком качестве, в другом измерении, и увидеть надо в них не внешние, а духовные сдвиги. Сейчас… Именно в нашем поколении проснулась национальная духовная бережливость, жажда отстаивать, желать, видеть, возрождать идеалы народного духа. Сделать его гордым, познать проявление новой национальной красоты в ее высших формах и утвердить. А образование — основа всякой культуры. И динамичности сегодняшней молодежи старику понять уже не дано — разные уровни, не на тех частотах ду́ши работают… Я записываю сейчас эти возражения, нахожу их, но почему они приходят ко мне всегда поздно?
13 декабря. Утром я сбежала с крыльца, бросила на снег лыжи. Ветер стих. Ночью он облизал сугробы, утрамбовал их, и валенки не проваливались, только оставались кругленькие пятачки ямок. Солнце вылезло из-за согры и, тяжелое на сером ворсе кустов, вдруг растеклось ярко на снегу. Эй, эй! Вот она я. Солнце ловило меня на сугробе и становилось теплым на свитере. Я не могла смотреть на него, закрывала глаза, а оно растягивалось тоненькими спицами и процеживалось через ресницы. Юрка наклонился, протиснул широкий ботинок между щечками креплений и прикнопил носок упругой дужкой. Поднимая лыжу, покрутил на весу свободной пяткой. — Кончай танцевать. Иди сюда. Крепления подгоню. Я терпеливо подставляла валенки и упиралась ладонью о его голову в красной шапочке. Лыжню Юрка прокладывал через огород. На обвеянном снегу лыжи раскатывались, оставляя слюдяные дорожки. Я шла следом, чувствуя легкое, чуть ощутимое скольжение. Наезжала на Юрку, прихватывая носками лыж Юркины задники. Спускалась с пологих горок. Шли по укатанной лыжне мимо тоненьких березок. Шелестела по ногам высокая трава у кустов, торчали над снегом сухие шарики репея. Юрка, отталкиваясь палками, далеко выставлял локти за спину, не оглядывался. Он чувствовал лыжи. На пологих спусках переносил тяжесть тела то на одну, то на другую ногу, свободно, с плавной легкостью сопрягая движение. Красивый Юрка, здоровый Юрка… мой муж. Нужно увидеть Юрку, чтобы понять привычки человека, его потребность физической разминки — растянуть мышцы, отдохнуть в движении, стать красивее, — понять здоровую необходимость этого солнечного мороза. У кустов Юрка остановился и закрутил палкой над головой. За ракитником, плечами и заячьей шапкой-ушанкой, двигался Андрей. Увидел нас, помахал рукой. В заиндевевшем костюме он напоминал седого медведя. Утопая по колено, Андрей выбрался к нам из снега. Лыжной палкой поднял шапку на лбу. Темные волосы его изломаны и мокры, и ото лба шла испарина. — Что-то по целику?.. — сказал Юрка. — Наоборот… По старым местам. Вон там, за камышами, когда-то бот прятали. Долбленую такую посудину. Думал, найду. Он уже тогда у дерева ряской зарастал. А вы на озеро? — Не дождавшись ответа, сказал: — Я там еще тоже не был. Если вчера в задымленной кочегарке Андрей был претенциозно неуместен в белой рубашке, то сегодня в нем не было той эффектности. И на лыжах-то он, кажется, не умеет ходить. Как отличается от него Юрка упругой спортивной элегантностью! Мы медленно идем по склону вверх, по теплому солнцу на снегу. От перекрученных узловатых березок рябит в глазах. «Танцующая роща», — думаю я и даже не догадываюсь, что когда-то видела березки на снимке с такой надписью. Модерновый танец изломал их, и они разбежались и замерли в немой сцене. И отчего вон поодаль в низине березки вытянуты белыми струнами, а эти такие? Ветер ли их измял так, или коровы? Я вспоминаю, что под снегом между ними лежат перепутанные глубокие тропки. Проходим мимо колка по снежным бугоркам кочек. Андрей замедляет шаги и в густой тени деревьев останавливается. Я тоже смотрю на колок. И вдруг этот нетронутый, засыпанный снегом лес кажется мне мрачновато-запущенным. Только что было жарко на лыжне, но вот откуда-то пришел тоскливый озноб. Уже не хочется углубляться в чащу. И я впервые думаю, что ничего не знаю о таком лесе, что не прочитала еще ни одной странички его и дремуче невежественна. И почему-то казалось, что, когда смотрит на этот лес Андрей, лес полнится значением и хочется познать его. А как бездарно вижу его я! Колок стоял засыпанный снегом, мелкий, неподвижный, и я робко принимала и уже любила его. Выходим на берег озера. И опять, как в первый раз, я смирею перед ним. Он глубоко под нами изогнут и уходит концами к далекому лесу, а необозримая чаща за ним в черном кустарнике — будто размытая тушь в белых берегах. И сизую черноту кустов штрихуют тоненькие стрелочки березок. — Странное какое, — говорю я. — Откуда оно здесь? — Старица. Бердь отошла, — говорит Андрей. — Давно? — Никто не помнит. — А почему оно «Черное озеро»? — Наверно, оттого, что всегда в тени. — Оно глубокое? — Мужики рассказывали, что на вожжах гирю в него спускали. С лодки. И дна не достали. Может, обманывали. Андрей улыбнулся: — Нам в детстве именно эта деталь нравилась. Необычностью. Сами его мы не мерили. Боялись. Слишком вода холодная, не прогревается. Мы идем к берегу, и озеро для меня уже одушевлено подробностью, навязчиво. Юрка с Андреем оторвались от меня, остановились на берегу, навалившись на палки, и смотрят вниз. Я подъезжаю к ним боком, боясь крутизны: — Что там? — спрашиваю я. — Заяц? — Спуск понравился, — смеется Юрка. Сознание с мгновенной готовностью падает вниз, сердце исчезает, и откуда-то берется тихая тоска. — А ведь когда-то я, — говорит Андрей, — отсюда спускался. И это звучит так нелепо, неожиданно своей невероятностью. Юрка поднимает брови, отворачивается, с издевательским недоверием смотрит на меня. Андрей это увидел и, глядя в снег, улыбался. Мне стало стыдно. Андрей навис носками лыж над обрывом и, постучав ими, сбил козырьки снега. Они скатились, разрушаясь, и за ними долго еще ползли язычки снежной пыли. И я не поняла, что оборвалось во мне, осталась только тошнотная легкость. Андрей рухнул вниз. Падал он под ноги черным обгорелым пеньком, падал далеко, будто убывал до самого дна. Вдруг выскользнул из-под наших ног, словно им выстрелили из снега. У противоположных кустов озера развернулся. Брызнул тугой веер, и Андрей плюхнулся в снег. Поднялся, долго выбивал варежку о лыжную палку, а шапка торчала из снега одним ухом. Не глядя на нас, махнул. — Давай. Юрка не двигался. — Не смей! Ты соображаешь? — А сердце опять тоскливо исчезало. Пологим склоном Андрей поднялся вверх. Шея у него мокрая, и по ней сползал за воротник снег. Он этого не замечал. — Не удержался, — отметил он. — Здорово, черт. Какое-то состояние невесомости. Полностью отключаешься. — Он сбивает плотнее лыжами снег и устойчиво останавливается у обрыва. — Не тот я стал, не тот… — насмешливо декламирует Андрей. Юрка старается не встречаться с ним взглядом, пружинисто переминается на лыжах и подходит к пробитому следу. Когда исчезает вниз, мне опять кажется, будто там из-под моих ног выбрасывает его гора, как натянутая тетива. Он влетает в кусты и оседает на пружинистых ветках. «Исхлестал лицо», — думаю я. Юрка поднимается к нам, вбивает в снег палки и вешает на них шапочку. — Вот скорость! Воздух, как подушка — не пробьешь. Надеть доспехи хоккейного вратаря, и можно зависнуть. Итак, — подбодрил Юрка, — я за тобой. — Ничего, я добрый, — ответил Андрей. — Уступаю. И пока Юрка скатывался вниз несколько раз, Андрей так и стоял без движения. А когда Юрка внизу долго искал лыжной палкой что-то в снегу, Андрей подкатился к обрыву. Меня охватила зябкая волна холода. — Дураки, — говорю я и тихо отъезжаю дальше от озера. Зачем нужно падать, вываливаться в снегу, ходить с мокрыми рукавицами, когда такое солнце и легко скользят лыжи. А они… Юрка обогнал меня, замедлил шаги и ударил палкой по березке. С нее осыпалось снежное облако и прозрачно висело в солнечном воздухе. — Я во-о-он туда сбегаю, — сказал он, показывая на далекий маяк. — Тебя там подожду. Потом домой пойдем, — и побежал вверх по косогору. — А где Андрей, — хотела я крикнуть и увидела его у редкой кромки ветел внизу. — Э-э, — испугалась я, когда лыжи потащили меня по склону. Я не знала, как остановиться, а лыжи все раскатывались и раскатывались. Подпрыгнув на выступившей кочке, я села и скатилась к накренившимся ветлам, глубоко разметая снег. — Теперь и нам не обидно, — сказал Андрей, — лыжи целы? — Не знаю. Безжалостно спрашивать сначала о лыжах. — По глазам видно, что ноги не сломаны. — А Юрка к маяку ушел. — Верхом? Мы его обожмем. Андрей повернул мимо ветел на поляну с высокими, сухо бренчащими дудками. Его лыжи ломали хрупкий валежник под снегом. Легко идти по следу. С небольшим усилием шагнешь, и лыжи накатываются сзади невесомым скольжением. Палочки чиркали по снегу. Он здесь неправдоподобной белизны. Только изредка пятнает его шелушащаяся кора засохших ветел да лопнувшие коробочки семян. Я смотрю на паутинную вязь ракитника, на широкие и почему-то не облетевшие листья на тонких веточках и не хочу спешить. Рядом на реденьком кусту висит сморщенная ягода. — Что это? — говорю я и трогаю симметричные вилочки с сухим отростком посредине. — Калина, — говорит Андрей. Я зачарованно вспоминаю, как она катилась по жирной жести. — Почему такая? А я видела… Мерзлая она, как рубиновые стекляшки. Я делаю несколько шагов и замираю. Навстречу серыми шариками летят птицы. Летят стайкой легко, будто качаются на волнах воздуха. Сели рядом на куст, и он вспыхнул на снегу. Снегири! Такие грязные в зоопарке, здесь, на кусту, они независимо царственны, в первобытно ярком оперении, красногрудые, голубовато-дымчатые, с белыми полосками на бархатно-черных крыльях, они прыгают, лениво копошатся, склевывают какую-то ягоду и бросают на снег, будто с их черного клюва скапывают капельки крови. — Доверчивые… Подойдем поближе. Птицы негромко перекликаются. Один затопорщился и начал кричать. — Это не снегирь, — говорю я приглушенно. — Видите, серый? Чужой… И дерется… — Вполне естественно, — говорит Андрей, насмешливо разглядывая меня. — Это самка. Она не так красива, зато отличается сварливостью. Я смотрю в его глаза и понимаю, что он не простил мне ту первую встречу. — Самца держит в подчинении и вымогает у него лучшие ягоды. Если самец не сразу уступает, она злобно раскрывает клюв и принимает угрожающий вид. — Похвальная наблюдательность. — Ничего подобного, популярная брошюра: «Снегирь. Уход и содержание». Птицы шумно вспархивают, серый куст сразу светлеет, и стайка, будто на невидимых струечках воздуха, взмывает кверху и исчезает в кустах. — Яркие какие, — говорю я. — А вот в кустах их не видно. Вон они, — я останавливаюсь, — смотри. Те же самые… Только… Они горят на снегу. Андрей молча сворачивает в сторону. Серым комочком в снегу лежал снегирь. Андрей зачерпнул его ладонью и подул на бок. Снегирь уже застыл, только от дуновения перышки его тяжело топорщились. — Ударился, наверно, — говорит Андрей. — Об ветку. — Вдавил рукой снег под деревом и опустил птицу в ямку. Постоял молча и пошел между кустами. Ни с того ни с сего повернулся и доверительно сказал: — Заметила? У мертвого оперение поблекло, потеряло напряженность. Да? А от живых исходит свечение. Странно… Или мне показалось? Будто цвет перьев потух… Я уставилась на него, соображая. А он, словно только увидел меня, растерялся, заспешил и больше уж не сказал ни слова. Колючее и теплое солнце ласково жгло щеки. Когда вышли из согры, на горе у маяка увидели Юрку. — Не успели. В обед мы расходимся. Андрей не захотел к нам зайти. — Нет, — сказал он сухо, чтоб уж и не пытались ему что-либо еще предложить. — Мне нужно побыть одному. Пошел через огород мимо бани, не оглядываясь. Он не нуждался в общении с нами. «Господи… Ну и пусть!..» Почему-то сразу чувствую, что устала, лыжи тяжелы и до неприятного отпотели варежки. Я снимаю их и стужу руки о палки. В избе еще тепло. Я кладу варежки на печку. Запахло талой черемухой. Юрка связал лыжи, протер их тряпочкой. Мне кажется, я знаю его за этим занятием давно — в прошедшем и будущем. В другом качестве видеть его мне не дано. Я сажусь на кровать и отваливаюсь на подушки. Расслабленность приятна — шевелиться не хочется. — Довольна? — смеется Юрка. Расстегивает воротничок рубашки, мягко ходит по комнате в кедах. — Это то, что ты хотела. Надо в сторону реки лыжню пробить или на луга, к стогам. Давай… Каждый день. Только вечером. Я не шевелюсь и думаю: «Что у меня после обеда будет? Читать не хочу. Писать?..» Я ищу, пробегаю памятью сегодняшний день, стараюсь уцепиться за неведомые вехи, чтобы найти что-то приятное для себя. Почему-то вспоминаются сумерки и широкий воз на санях. Я стою на обочине и пережидаю, когда пройдет трактор. Андрей в снегу барахтается с доярками. Как он замер, когда я проходила мимо, наверно, весь снег с головы под рубашку растаял. Доярки это заметили. Мне всю дорогу улыбаться хотелось. И все… Ведь ничего больше не было? Но почему я хочу вспоминать это и кажусь себе там счастливой и недоступно красивой. Хм… Зачем мне все это? Ведь у меня нет права на это? Я не открываю глаза, и, как неясная грусть, плывет сизое марево кустов, полыхают на снегу снегири, снимаются и исчезают далеко за согрой. — Хочешь посмотреть, как здесь именины справляют? Нас Кузеванов на субботу приглашал. «Нельзя жить в отрыве от народа». Юрка улыбался в предвкушении общей радости. Лыжные прогулки его не утомляли.
14 декабря. У самой двери я задержалась, сказала Юрке: — Ну как мы сейчас войдем? Слышишь? Пьяные уже все. Не представляю, что я там буду делать. Юрка, подталкивая меня, открыл дверь. Навстречу хлынул говор. Я вижу, как качаются головы, как стеклянно блестит стол от стаканов. — Штрафную им!.. Чтоб не опаздывали… Юрка наш… А Катю сюда. Побольше ей. А то она с нами не знается… Пока мы вешаем пальто на гвозди, за столом люди раздвигаются, и нас заталкивают в широкую брешь между плечами. Я не знаю, куда деть руки, так близко подступили ко мне тарелки. Все ждут нас. Ставят полные стаканы водки. Юрке большой граненый, а мне такой же граненый, только поменьше. Я чувствую, что начинаю гореть и становиться красной, как все за столом. — Давай всем, — распоряжается Пронек и поднимается со скамейки. — Подождем. Выпьют. Потом повторять будем… Мне накалывают кружочек такого плотного огурца, что я смелею и, не отрываясь от него глазами, поднимаю стакан. — Ну, что же вы. У нас так нельзя. — Кума! Ты смотри, кума… Неужели мы ее не заставим?.. Какое это ласковое и женское слово «кума». Улыбчивое, деревенское… В юбке и фартуке. И как оно не вяжется с женой Пронька Кузеванова — Надей. На маленькой ее голове волосы забраны на затылок. Забраны сильно, до тугого блеска и закручены шишкой. Эта прическа растянула к вискам ее и так большие глаза. — Ладно, — сказала она с неторопливым достоинством. — Я вам что-нибудь… Нашего. Самодельного. Молодая хозяйка была вне общего ажиотажа. Не знаю, какие знаки подала она Проньку, только тот нашел ее у печки и наклонился ухом к ее лицу. Из опыта своей деревенской жизни я уже предполагала, что оно такое, это «наше самодельное». Пронек открыл крышку и спустился в подполье. Вскоре из темноты появился лагун — я уже начинаю усваивать здешнюю терминологию, — лагун — деревянная бочка, приземистая, как усеченный конус. Пронек стал вытаскивать из отверстия затычку, обернутую в тряпицу. Расшатал ее из стороны в сторону пяткой. Выдернул. Резкая струя хмеля ударила из круглой дырочки. Пронек наклонил лагун, и запенилась в ведре, зашипела белой шапкой настоянная на сахаре брага. Сахар еще не разошелся, сползает по дну лагуна тяжелым золотистым слоем. В этом слитом отяжелевшем бочонке брага крепла, бродила. Появлялась в ней шибающая сила — ее омолаживали — всыпали сахар. В бочонке начиналось холодное кипение. Пронек поставил ведро на стол. Я без насилия справилась с полным стаканом, а потом сидела и с восторгом ужасалась, как затяжелели мои ноги. — Будя. С копыльев сбивает. — Поди, год выдерживал? — Он про нее не знал… Жена прятала. — Кума, кума… А я смотрю, как выглядывают с печки мальчишки. Еле различаю свесившиеся босые ноги. — Пронь, дай передохнуть… Из другой комнаты выносят аккордеон и подают рябоватому мужчине. Аккордеон огромен, как батарея отопления. От яркой отделки, перламутрового свечения стало светлее за столом. В аккордеоне много и зеркального блеска и регистров. Его много для одного человека. Мужчина запряг себя ремнями с двух сторон. — Аккордеон у вас мощный, — сказал Юрка. — Таких в магазине не продают. — Немецкий. Из самого Берлина. И он растопырил пальцы на клавишах. Мне казалось, что из этого чудища сейчас явятся такие же нарядные звуки. А они оказались серыми, как пальцы. Аккордеонист перекинул ноги через скамейку. Пальцы неуклюже шевелились, они походили на избитые деревянные городки, разложенные на клавишах, но как-то успевали сделать свое дело. Молодая потная женщина, прежде чем вырваться на круг, прочувствовала плечами и грудью всю мелодию и неожиданно пропела поверх голов:
15 декабря. С чем я проснулась? Юрка спал. В предрассветных сумерках Юркино лицо и моя рука были мертвенно-бледны. Я пошевелила пальцами, боясь их цвета. В городе я никогда не просыпалась одна и не лежала так. Голова у меня была свежей. Рядом спал Юрка, а я лежала и думала: «Я счастлива?» Вот уж второй раз задаю себе этот вопрос. Значит, когда-то у меня уже было такое состояние? Я вспомнила яркую комнату журналиста — Юркиного друга. Стены его комнаты были в беспорядке оклеены репродукциями Матисса. И даже ленточками свисали с потолка японские гравюры, прихваченные за кончик кнопкой. У двери стояла тахта, а в углу магнитофон и приемник с переносным выключателем. Мы с девчонками нашего курса осваивали эту «технику», пока мальчишки исчезали. Они появлялись с вином. Бутылки не заворачивали, а этак небрежно несли тяжелые тельца в руках. Потом были танцы и песенки… Песенки таких талантливых ребят. Было много смеха. Было очень много смеха. Возвращались домой поздно. Машины шмыгали, шмыгали перед глазами, месили раскисший снег на дорогах и слепили. Мы ловили такси стенкой. Рассаживали всех. Сами шли пешком. От моих дверей Юрка уходил. Я ложилась в постель, смотрела в подвижную темень потолка и спрашивала себя: — Ты счастлива? Ты же счастлива… Я вышла за Юрку замуж оттого, что он был всегда лучше всех. Был самым красивым. Так что же мне нужно еще сейчас? И снова я пытаюсь уяснить: я счастлива? С Василисой Сергановой я разговаривала вчера и, оказывается, говорила совсем не то, в чем убеждена сегодня. Значит, я не была естественна? Значит, притворялась? А с собой я не притворяюсь? С Юркой не притворяюсь? Я его люблю? Отчего же я все чаще и чаще, с таким отчаянным усилием напоминаю и напоминаю себе его достоинства. Вчера проходила мимо избы Андрея. За плетнем, в глубине — темные сенцы. Стенка избы близко у сугроба, и из окон падает свет. Обыкновенная изба, не лучшая в деревне. Изба, к которой я совершенно безразлична. А я думала: «Здесь он живет…» И испугалась. В радиоузле, когда я грела у приемника ноги, он задумчиво рассматривал меня, и когда понял, что я заметила это, больше ни разу не глянул, будто боялся дотронуться взглядом, будто нельзя. И я знаю, что себя он не выдаст даже улыбкой, чтобы я не заподозрила. Какая здесь весна? Наверное, когда поднимается вода, вся согра в воде. Почему мне хочется понять, о чем он думает, когда бывает отчужденно далек, понять мир его посягательств. И все мне кажется, что он, этот мир, еще не тронут. Хочется, чтобы он пустил меня к себе и позволил прикоснуться к свежести своего тяготения. А ведь я знаю что-то больше его. Но оно, это что-то, какое-то не мое, заемное. Вот и не будит ни в ком любопытства. И у него… Странно. В декабре в Сибири какое бывает теплое солнце на снегу, когда всходит. Ласковое, можно загорать. Это оттого, что его ничто не задерживает, не процеживает, оно играет, прозрачное. Может, и сегодня такое утро будет… Так отчего же это неясное, осторожное отчаяние? Будто что-то уже большое-большое у меня не сбудется. Красивый муж спит рядом. Я знаю, что девушки хотят счастья. Для себя. Счастья моего… А чего я хочу?.. Не выходите, девчонки, замуж. Замуж лишь бы… Боязно мне. И уже есть что-то, что нужно прятать от Юрки. Но если по-честному, если по-большому, ведь это порочно. Но отчего же так чисто желание мое думать об этом? Повторять это? Встречать это? Зачем? Это же все случайно. Случайная деревня. Случайно здесь я. Мне было весело. Мне было всегда здорово весело. А вот большого утра, единственного, весеннего — не было. Как банально я думаю! Неужели правда — есть еще какая-то любовь, кроме такой, которую я знаю к Юрке. Что же делать тогда? Как жить с этим, если теперь мне дано узнать об этом?
16 декабря. Вся клубная библиотека поместилась в одном книжном шкафу. Саня раскрыл замочек, и створчатые дверцы разошлись сами. — Пожалуйста, мне не жалко, — небрежно говорит Саня. — Свободный доступ. Оберегать нечего. «Огонек» без обложек, а рассказы без картинок. Кто захочет возвратить их на место, зайдите в любую избу — все стены залеплены. — Ну уж, — говорит Лида Бессонова. — Прошлогодние. Они и так истерлись. Таисия Марковна была, так хоть журналы выписывала. А сейчас… Лида недовольно выпячивает губку. Она у нее так и остается, хотя Лида и окунулась в журнал. Подходят девчонки, садятся за длинный стол рядом. Саня тоже задержался и расслабил бурый воротник пальто. — Кто это Таисия Марковна? — спрашиваю я. — А жена председателя. Библиотекарем работала. Потом попросилась заведующей свинофермой. Петр Сергеевич сначала не соглашался: «Какой из тебя заведующий?» — А что она библиотекарем не стала? — Скучала, скучала… одна. В клубе никого целыми днями нет — на работе все. Говорит: «Девочки, извелась. Возьмите к себе начальником». Девчата рассмеялись. Лида Бессонова оживилась. Видно, разговор этот был их, касался их жизни и всегда был важен. — Мы сначала думали: «Городская. Будет в туфельках вышагивать да морщиться. Там же воняет как…» Девчонки расхохотались понятным только им одним смехом. — А потом… Она у нас знаете какая… Один раз нам так было стыдно! Пришли утром убирать. Надо клети чистить, а к ним подступиться нельзя — сток забился. Лужа стоит — затопила все, и проход, и полы в клетях. Зелень — как кислота: ступишь, и сапоги разъест. Мы сидим, бастуем. Нужно-то!.. Пусть канализацию прочистят. А тут пришла Таисия Марковна: — Девочки, в чем дело? Ну, думаем, сейчас ругаться начнет. А она разделась, сапоги резиновые надела. Огромные. А на руки перчатки длинные, знаете, такие тоненькие, до локтей. В них врачи операции делают. Красивые. Желтенькие. И сама… Нашла сток и руками все вычистила. Стоит, смотрит, как воронка у ног кружится, и смеется. — Всего дел-то, — говорит. — Эх, вы… А ну, живо… Чтобы за пятнадцать минут у вас блестело все. — Знаете… Мы чуть со стыда не сгорели. — Она у нас хорошая… Мы в пять часов приходим, и она. «Девочки, а как же?.. Чем я лучше вас? Вы же не спите…» — У вас все свиньи в клетках? — Мне почему-то захотелось увидеть этих девчонок на ферме. И их Таисию Марковну. — Только свиноматки. А поросята отдельно. За ними уж другие ходят. — А маленькие? Вместе со свиньей? — Ой! Она же их подавит. Как опоросится, мы их отсаживаем. А кормить подпускаем. Месяц сами за ними ходим, а потом другой передаем, на откорм. Я смотрю на Лиду и вспоминаю киноактрису Ладынину в роли свинарки из старого кинофильма. — Лида, — говорю я, — Лида. А ты помнишь фильм «Свинарка и пастух»: «Дохленький! Опять дохленький». Ты тоже поросятам в рот дуешь. Отваживаешься? — Прям!.. — Лида смотрит на девчат не моргая и будто от их имени сообщает: — У нас отбор… — «Отбор» она сказала многозначительно и понятно только для себя. Девчата опять начинают смеяться, как сговариваются. Без причины. Лида серьезничает и говорит мне в глаза: — Как в Спарте. Лида замечает что-то в моих глазах, возбужденно торопится: — Знаете, их сколько! Как прибудет… Навалом. По пятнадцать штук. А у свиньи только двенадцать сосков. Всю затянут. А ей еще приносить — полноценных. Доходяги матку портят только. — Не болтай ты… Лида смеется и, озоруя, отбрасывается на спинку стула. — А я и не болтаю. Лида не боится брать разговор на себя. Бойко уверенна. За толстым пальто видно, что она тоненькая. Пимики на ногах кажутся маленькими, охватывают плотно сильные ноги в узорных гольфах. В ее глазах нет девчоночьего озорства. Смотрит она прямо, со спокойным достоинством. У Лиды десять классов образования. Она пододвигает раскрытый журнал подружке, что-то показывает: — Вот. Подружка смотрит секунду и падает лицом на рукав, сдерживает прыснувший хохот. Поднимается серьезно обиженная: — Вечно со своими… — За что покупаю, за то и продаю. А ты не будь такой пустосмешкой. У подружки длинная шея десятиклассницы. — Лида, а ты в институт поступала? — Нас еще там не видели… — Она выпячивает губку. — Да что ей там делать? — говорит Саня. — Сережка же туда не едет. — Саня, — тихо сказала Лида. Ее голос потаенно корректен. — Саня, ты хорошо играешь вальсы. Когда мы тебя уважаем, то предполагаем в тебе все мужские достоинства: не болтлив… — Опять начинает, — сказал Саня. — Ехидная же ты! Будет тебе попадать от кого-нибудь. Дай бог… Саня уходит в радиоузел. Оттуда слышится: — Раз… раз… раз… раз… Проверка исправности. Раз… раз… раз… раз, — кричит Саня в микрофон, как в глухую раковину. Я подхожу к книжному шкафу, разглядываю корешки книг. «Так что же мне выбрать?» Вспоминаю участливый вопрос библиотекаря в городской публичной библиотеке: — Так. Что вам? И я — лекциями, спорами, пестрой и шумной информацией была подготовлена к такой обыденной рядовой фразе. «Что вам?» А на полках многоэтажной библиотеки чуткие и добрые книги были готовы ответить мне на все, что только чуть-чуть затеплилось во мне, только наметилось. О музыке, о поэзии, о живописи. Я беру неизвестную мне книгу. Я еще ничего не знаю о ней, о ее авторе. Что это за человек? Что за художник? Как мыслил? Во мне только предрасположенность, а понятия мои зыбки, отрывочны, уходят, расползаются. Я окунаюсь в мир строчек, забываю шепот, шелест тетрадок. И вот уж шаткие сведения мои складываются в систему, а знания становятся моими. Ночью возвращаюсь из библиотеки, чуть давит виски и поламывает глаза. Но мне не хочется садиться в троллейбус, вглядываться в людей. Я машинально перебегаю перекрестки и не спешу домой. Я удивлена, а люди спешат, и никто не знает, как я переполнена. Сколько раздумий не легло на эти полки, и девчонки не встретились с ними. А у них ведь тоже предрасположенность. — Екатерина Михайловна, — говорит Лида неожиданно. — А вы умеете танцевать? — Что? — говорю я и смотрю на девчат. — Ну… Лида хотела показать что-то руками. Саня ее жесты не одобрил. Руки у нее маленькие, с широкими ногтями в заусенцах. — Это? — сказала я и сделала несколько движений кистями рук и поводя бедрами. Из двери радиоузла Саня уставился на мои ноги. Вид у Сани был такой, будто он видел на полу жабу. Он мог бы схватить в тот миг дрын и, как пеньки, сбивать мои ноги, так активно было его отвращение. — Плохо, Саня? — спрашиваю я. — Я стиляжек вообще видеть не могу. Не зря их вон в районном Доме культуры с танцев выбрасывают. — А может, ничего? Я не опасалась задать этот вопрос потому, что видела — к стиляжкам Саня меня не относит. Что-то во мне не отвечало его представлениям о них. — Что бы ты понимал, — говорит Лида. — Посмотришь в кино или по телевизору — танцуют. Красиво так… — Ну, будете брать книги? — спрашивает Саня. — Лидк? — А нечего… — Не хотишь — как хотишь… Саня закрыл шкаф. — Мы один раз собирались к вам зайти домой. Шли с работы, увидели — у вас огонь горит. Только не решились. Вы всегда что-то перед окном делаете. Вашу тень видно. — А вы что закончили? — Филологический. — Направление сюда получили? — Нет, сама. — Вы тоже уедете, — убежденно ответили они. — Здесь совсем нечего делать. Каждый вечер танцуем, танцуем… Хорошо, что у нас хоть завклубом хороший. Из клуба никогда не выходит. А в других деревнях и этого нет. Иногда радиостанция «Юность» передает: «Скучно в деревне оттого, что молодежь ленивая. Инициативу не проявляет». А мы и пьесы ставили. Распределим роли. Саня нам из-за печки суфлирует, а мы кто во что горазд — ходим по сцене. Подготовимся, афишу повесим. Вся деревня соберется. Раз покажем, а другой раз показывать некому. Да и люди — смеются только. Их теперь от телевизора не оторвешь. Там хоть все настоящее… Посмотришь, как в городе живут… — Вы счастливая… Видели столько… Расскажите нам что-нибудь. За стенкой слышится хлесткий треск шлепков. Раздвинутый голубой занавес вздрагивает на оттянувшемся шнурке. Покачивается единственная лампочка на сцене. Юрка проводит сегодня первые встречи. «Вы счастливая…» Почему-то считается, что в городе люди только и ходят в театр. Каждый день. Я закончила институт. Для девочек я идеальный случай. Сколько девочек стремится пройти по конкурсу! Институт — мечта, горизонт, о который бьется их мысль. А что за ним? Что потом? Моя подружка Галя закончила энергетический. Работает в большом проектном институте. У нее хороший оклад. Она красива. Чувствует самое последнее дуновение моды: кофточка свободная, кофточка с высоким стоячим воротником, как раструб у ботфорт. У Гали десяток модерновых шерстяных кольчуг грубой вязки — ее мать на пенсии и умеет хорошо вязать. Галя не пропускает ни одной театральной звезды. По воскресеньям выезжает на лыжах в «поезде здоровья». Галя по туристским путевкам была в Чехословакии и Англии. Это принято сейчас… «Только обыватели ограничиваются знаниями России. А вот Англия… …Да, я была в Англии». А зачем Галя была в Англии? Галя изысканна… Галя тщательна. В театр она готовится за день. После работы спешит в парикмахерскую. Пять часов ждет очереди. Два часа ей укладывают «халу». Ночь перед театром она спит за столом, положив лицо на руки или привалившись спиной к дивану — на подушки ложиться нельзя, «халу» испортишь. Она презирает сотрудников за то, что они не имеют абонементов на симфонические концерты. Галя ненавидит мещанство. Галя издевается над обывателями. А в институте… Каждый день… Ей скучно сидеть за «кульманом» и разрабатывать проект электрооборудования шахтных надстроек, который тянется месяцами. Галя видела больше моего… Девочкам еще подниматься до возможностей моей подруги. Ее обстоятельства притягательны. У нее уже институт. Ах, сколько девочек еще только мечтают быть Галей! Или хотели бы приобщиться к другой жизни — уехать в город. Они не знают, что укладывается в понятии: «Там есть куда сходить». А куда сходить? Зачем сходить? Где что их ждет? Их, с желанием большого, неведомого?.. И неясна перспектива желаний. Приезжают девочки в город. Девочки — потенциальные уборщицы, дворницы, домработницы, каменщицы. Не ругайте только меня за непочтение к этим специальностям. Но ведь многие, веря во что-то, занимаясь шпаклевкой стен, считают для себя эту работу переходным этапом и бегают в вечерние школы. Забивают девочки ячейки общежитий. А потом? Каков радиус активности этих девочек там? Научиться бы понимать, в каком проявлении человек по-настоящему красив… Как почувствовать «праздник, который всегда с тобой»? Ах, девочки, если бы я знала, что такое счастье! Я рассказываю им о своих подругах, энергичных и изуверившихся, со скептическим равнодушием принимающих работу и жизнь. Девчата с тихой доверчивостью внимают мне и не спешат домой. И кажется, не очень понимают меня. А я вижу, как стайкой они утром возвращаются с фермы, идут зимней дорогой мимо леска. И работа сделана, и нужна она. И утверждает хозяйская причастность к жизни. Ведь жизнь, наполненная значением, наверное, и есть счастье. А как чисты и не растрачены чувства ваши! Если бы только вы понимали это сами!.. — Девочки, — говорю я, — я ведь тоже ничего не умею делать. Приходите завтра ко мне. Сюда магнитофон принесем — послушать. Договорились?
VI
Несколько дней, что бы я ни делал в комнате — умывался ли, ходил ли за водой, — мне необходимо было вернуться и глянуть на портрет. Я его помнил весь до малейшего цветового оттенка, но мне хотелось остановиться перед ним и что-то выяснить для себя, уточнить. Я думал: за годы учебы, постоянной, до изнеможения, работы я что-то усвоил, что-то умею. Если ежедневно, ежеминутно, ежесекундно делать одно и то же с невероятным напряжением, уже независящим от тебя, всматриваться в лица и стараться перенести их на холст, то они преследуют, от них никак не избавишься. Я не понимал, зачем нужно сначала рисовать их? Зачем художники берут уголь, намечают черты лица, отдельные детали, что-то смахивают, сопоставляют. Потом это намеченное покрывают краской. Я смотрел на человека, и он входил в меня, преломляясь, отпечатывался, как негатив. Я чувствовал объем его, рельеф. Спешно, первой попавшейся кистью, мог начать его лицо с первого маслянистого блика на носу, тенью, фиолетово шелушащейся сухостью на губах. Оно начинает разрастаться красочным пятном, требует, беспокоит. Я не успеваю за ним. Лицо устает, шевельнется невзначай и вдруг поймает щекой неожиданный, непонятно откуда явившийся цвет. Он опять утонет, примерится там на негативе, долю секунды я помню его, до беспомощной злости ищу на палитре. Вдруг найду и положу рядом с тем скользящим блеском на ввалившейся площадке под скулой. Я не понимал, как можно передать это лицо непохожим. Передать лицо, его объем, было так просто, как вылепить из глины кирпич. Но оно меня не интересовало. Зачем? Я ходил к художникам в мастерские. Видел раз и навсегда найденное небо — разбеленный ультрамарин с охрой светлой, коричневые тени лиц — сиена натуральная с волконскоитом — и наблюдал, как они тщатся написать токаря у станка. «Ну, лицо, написанное не лучшим образом. Ну, человек! Что ты этим хочешь сказать? Тебе не претит вот этот коричневый тон, этот неизменный сизый мазок на бритом подбородке? Ведь уже все было лучше! Значит, нельзя хуже…» Уже выработалось в людях неприятие всего этого до тошноты. Нет. Им не претило. Они выставлялись от выставки к выставке. У меня начинали болеть зубы. Я жаждал краски, жаждал палитры. Бежал домой. Это же вот как, вот… Видишь? Мне хотелось эстетического хулиганства. Отрицать все. Убогую удовлетворенность художников своей живописью, шаблонные формы их фантазии. Я использовал невероятные возможности палитры. И выдавливал, и месил прямо на лицах и потом сам останавливался перед появившимся эффектом. Я любил краску. Мое умение видеть ее приходило от отрицания. Дома с неистовой злостью я утрировал цвет. Мне казалось, что все проштудированное за шесть лет в институте наивно, это только подступы к тому, что я делаю сейчас, на что открылось мое внутреннее зрение. И меня подстегивало мнение моих друзей, восхищавшихся моими экспериментами. И вот сейчас я стою перед портретом Дмитрия Алексеича и пытаюсь спокойно разобраться во всем. Что есть у меня за внешней оболочкой живописи, что для меня по-настоящему ценно? Что в людях вижу, что в них ценю? Как Самоша сказал о портрете: «Ты ему чужую силу дал. Он таким людям запомнится. Хмурый». На портрете моем Дмитрий Алексеевич просто хмурый. А я вспоминаю и вижу, как сидит он дома за столом и шепчет над газетой. Не шепчет, а тихо гудит из глубины. Угол развернутой газеты вздрагивает наверху. Сухие губы шевелятся. Он не дочитывает до конца статью, откладывает газету на стол, наклоняется низко, достает кисет и насыпает щепотку табаку в бумагу. Движения его тверды и машинальны. Он глядит в пол, подает в губы сдавленную по краям самокрутку и задумывается. Я сажусь рядом. Он отодвигается молча. И ему приятно, что я есть, что молчу вместе. Мне легко с ним и уютно, будто он хранит в себе что-то наше общее: яркий забытый мир детства, кусочек моей жизни: травы, по которым я бегал босиком, зерносушилку, резкий запах потной лошади, солнце на луговых черемуховых косогорах и чистое утро над речкой. Он полон этим, не растрачен и разрешает мне трогать наш общий мир, будто уверен, что буду я честен и бережен, и за это любит меня. Просто так. Бескорыстно. Ритму времени, ускоренности решений и событий он противостоял с молчаливым сознанием своего величия и волен о людях и о себе думать безжалостно. Весь он над суетой. Молчит, и молчание его значительно. Привод жизни проходит через его думы. И я знаю, что с ним нельзя фальшивить. Расположен он принимать разговор с ним только откровенно. «Такой он у меня или не такой?» — опять думаю я и возвращаюсь к портрету. А на портрете Дмитрий Алексеевич улыбается досадно, не принимает меня и не подает кисет. Опять фальшь. Почему я не умею и даже не пытаюсь сказать о нем все? Когда мы привыкли играть? Кто притормозил нашу смелость быть до конца честными? Я задумчиво гляжу в серые прищуренные глаза под косматыми бровями, на жесткую щетину с отливом пламени от печи. Ничто мне не удалось в нем. Самое главное. Мне даже захотелось застонать от бессилья. Сошло, как наводнение в Венеции, абстрактное искусство, оставив размытые потеки на стенах выставочных залов. С небрежением отрицают реализм художники поп-арт, доказывая, что сложное время не приемлет реального изображения форм, и, используя отбросы утиля, взывают к больным ассоциациям. Современный художник Италии Ренато Гуттузо, озабоченный несовершенством мира, ломает и утрирует лица, неестественно разворачивает глаза, сосредоточивая на них внимание, настаивает на домысле, на условности изображения, чтобы разбудить чувства и совесть зрителей. Поиски… Поиски… А гений Михаила Врубеля на точной основе рисунка своего Демона задумался о человеке, поднял его до такой высокой трагической напряженности, так поведал о его замкнутой силе, показал его такую боль, что двадцатый век испугался этой силы и долго не решался выставить в своих музеях. Кто-то из наших писателей сказал:«Новое искусство, если оно родится, будет, вероятно, состоять из знакомых нам форм. В художественной галерее двадцать второго века посетитель не попадет в другой климат; но он увидит, что новый художник — человек с более тонкой нервной организацией».Я вспоминал врубелевского Демона, а передо мной вставали знакомые мне люди, обыденные и огромные своей неясностью. Избитые войнами и жизнью, они не были поверженными. Я еще не знал, что буду десятки раз переписывать этот портрет, забывая время. А тогда на душе было тоскливо, хотелось немедленно куда-то идти. Я накинул телогрейку и остановился на крыльце. Был вечер, серый и неуютный. Блекли краски. Грязными пятнами сгущались избы под тяжелыми крышами. Чернели оттаявшие колья плетней. Какой то холщовый вечер. После оттепели, что ли? Было тихо. В сумерках глохли звуки. В редких избах зажигались неяркие и какие-то еще ненужные огни — проявлялись первые бабьи заботы. Я подумал, что в сущности не к кому мне идти, никто, ну никто меня сейчас не ждет, ни у кого, ни в чьем сердце не оставлено для меня места. Для чего я художник? Для кого я художник? Ведь никому не интересно, кто я, есть ли я. Из клуба вышли люди, и фигурки начали расползаться по дороге. — Задержалась я, — сказала у порога мама. — Шли из подвала, да зашли в клуб. А там Катя Холшевникова выступала. Мама разделась, телогрейку не повесила, а прижала к животу. Платок свалился с головы, обнажив сдавленные волосы и жиденькие косы с вплетенной тряпицей. Ей не терпелось поделиться чем-то. Она сдерживала улыбку и не знала, как подступиться с разговором. — Ящик на сцене поставила. Колесики крутятся, а из него музыка гудит. Ох, что она раздоказывала… В кофте черной. Обтянутая. Руками будто куделю теребит. Лицом приставится как мертвая, будто никого вокруг нее нет. Ногами выделывает, как глину месит или на горячую золу наступила — обожглась вроде. Очумеет совсем. Потом остановится и засмеется так, вздохнет. Это, говорит, танец такой заграничный — рог-рой. А вот эта музыка — ритм свежий. Новый танец про Сеньку. Его, говорит, вместе танцуют — дружка за дружкой. И туда-сюда, давай прыгать, вроде кобылки. И смеется сама, радуется, что красивая и легкая. Создаст же бог людей таких! Мама вздыхает, отворачивается и вешает телогрейку. — А потом стала и начала рассказывать складно. Говорит, как плачет. Ну, не плачет, а будто голос у нее перехватывает. Смотреть на нее жалко. Музыку нашла. Мы такую по радио выключаем: кричит больно, мешает. А она рассказывает о ней, и как задумаешься — правда, по ее выходит. «Вы, — говорит, — слушайте, слушайте, читайте. Здесь буквы знать не надо — сердце само читает». И правда, слушали — и понятно было. Может, мы и не понимали — наверно, она ее нам наговорила своим голосом, как хотела. У нас руки грязные после картошки. Сидим и думаем: «Есть же такие люди! А что мы?..» А потом говорит: «У меня записан звон колокольный из собора Ростова Великого. — Включила. «Запись, — говорит, — недавно сделана». Мама приостановилась, сказала раздумчиво: — И даже у нас так не били. Звон медный, протяжный, и маленькие колокола подыгрывают. А она замерла, как святая. Молоденькая какая — даже разговаривать неохота. Страшно. Я вспомнила, как наша церковь звонила в Лебедях — на двадцать верст слышно. Выйдешь утром весной… И я молодая еще… Вот ведь какая она… — Это мама сказала, наверное, о Холшевниковой. — Такие только в городе родятся, в деревне нет… — Она посмотрела с тайной горечью. — И муж у нее хороший. И заторопилась вдруг, будто неловко ей стало. Достала чугун картошки из печки, высыпала в лохань у двери, посыпала сверху отрубями. — Ты что опять такой? Раздетый выскакивал… Глаза у тебя будто куда уходят, теряются. Наверно, опять со своей краской возился? И радость, с которой она возвратилась с работы, погасла в ней.
VII
В избу вошел Петька Прокудин, промерзшую дверь плохо закрыл — силы не хватило. — Тетка Наталья, пусть к нам дядя Андрей идет, папка велел. Свинью колоть. Папка один не справится. — Ты что же, пришел за мной, а разрешение у тетки Натальи спрашиваешь? Петька поднял на меня глаза, но смотреть долго не смог, — стеснялся. — Только велел куфайку надевать. — Ну, раз велел, — сказал я, — приду. Прокудин встретил меня у ворот: — Только с работы пришел. Свинью завалить надо. До темноты управимся. На скамейке у двери лежал большой нож, остро отточенный, на дворе свален воз свежей соломы. — Приходилось колоть-то? — Раз как-то. — Подержишь. Резак хороший. — Он взял нож, попробовал пальцем лезвие. — Сейчас баба мешанку принесет. Свинья подбежала к корыту, окунула голову в картошку, страшно захлюпала. — Лови заднюю ногу, — посоветовал Прокудин, а сам жесткой пятерней заскреб у свиньи за ухом, потом все ниже и ниже. Свинья, хватая немятую картошку целиком, не слышала его почесываний. Мы мгновенно поймали ее за ноги, подсекли и навалились на тяжелую, колыхающуюся спину. Пока она, очумев, еще не кричала, Прокудин поднял ее левую ногу, чуть опрокидывая. В белую кожицу нож вошел легко, как в воду. И тогда ударила кровь, выбивая рукоятку. Свинья закричала разъяренно и запоздало. Крик забил уши и повис над деревней. Прокудин ворочал нож, стараясь найти сердце, а кровь била далеко в снег, делая его розовым и ноздреватым, била в рукав Прокудина, а он все крутил и крутил скользкую ручку. Я прижимал спину, а свинья сучила ногами так, что я ползал коленками на снегу. Крик ее уже ослабевал, был хрипл и стонущ. Тогда мы поднялись. Я помнил, что опаливать свинью совсем недавно считалось преступлением — нужно было сдавать государству шкуру. Ее долго снимали ножами, боясь порезать, осторожно оттягивали, и туша из-под нее появлялась лохматой, с исполосованными шматками сала. И я не понимал тогда смысла слов, что обронил с укоризной соседский старик: «Теперь уж и не попробуешь русской ветчины. Настоящей, со шкуркой». И вот сейчас вовсю открыто горела во дворе солома, а мы переворачивали тяжелую тушу на жерди, продетой меж стянутых ног. И когда касался огонь еще не тронутой щетины, она трещала, курчавилась, кожа обугливалась до костяной твердости. Прокудин скоблил ее ножом, сбивая сухую гарь. Я набирал пучки соломы, зажигал о костер и подносил огонь к тем местам, где не охватывало тушу пламя. — Только не перепали, — предостерегал Прокудин, — а то лопнет, шкурка расползется. Мы там паяльной лампой обработаем. Он сбегал в сенцы, накачал баллончик с ручкой, поднес спичку, и шумно забило тугое пламя из патрончика. Лампу Прокудин отдал мне, а сам окунал тряпку в ведро с горячей водой, промывал желтую окаменевшую тушу. Во дворе в сумеречном воздухе пахло душной и удивительно знакомой, родной гарью. — Хочешь попробовать? — сказал он. — Ребячье лакомство. Похрусти. — Отрезал конец хрящеватого, свернувшегося от огня уха, подал мне. — Деревню вспомнишь… Прокудин был умелым хозяином. Я подкладывал солому в огонь, светил, а он выгребал парные внутренности, что-то отдирал с силой, горячее и качающееся, складывал в таз. — Петька, иди мать зови! Жена вышла из избы, Прокудин отрезал от похудевшего живота шматок мяса, подал ей: — Иди, жарь. Мы скоро закончим. Приготовь там. Тяжелая сковорода на столе была горяча, еще шипела и пылила брызгами сала. Я сидел за столом и пробовал засол огурцов. Прокудин, вымывшийся, торжественный, вынес неполный большой графин чего-то и многозначительно поставил на стол. — Ты постой, пока не спеши с огурцами. По одной пропустим, потом посмотрим, какого моя баба поросенка выкормила. А то, может, ей не за что подносить… — Налил полные чайные стаканы, один пододвинул ко мне. — Видишь, сколько? Помаленьку, помаленьку — и накапало. — Много. Завтра голова разболится. — Ничего, это не водка. От водки болит, а от ней нет. Чистая, черт, своя, без примеси. Я выпил и не мог произнести слова. Что-то перехватило во мне, и я не мог выдохнуть. — Что-то… — тихо произнес я, боясь своих слов, — они больно проходили, царапая горло. — Как огонь… Пожалуй, крепче московской. Градусов пятьдесят. — Горит… — Ну? — усомнился я. — Может, и не горит… — Горит… Не веришь? Хочешь посмотреть? — Хочу. — Дай-ка посудинку. Он поднялся, достал из шкафа алюминиевую ложку, плеснул в нее из графина. Когда поднес к ложке зажженную спичку — я ничего не увидел. — Нет. Это же не спирт. Градусов маловато. — Горит. И я заметил голубенькую синеву. Она будто оторвалась от ложки, прозрачно колыхалась нежным, еле видимым пламенем. Я почувствовал, что моя голова полнится горячим хмелем, и спешно начал искать на столе вилку. — Сжег все. — Пройдет… Голова не болит от нее. Закусывай лучше и привыкай. — Он помолчал. — Ничего сейчас живем. Хлеб получили. — Есть из чего накапывать? — Хватит… Ерохина помнишь? Веню? Сорок пять центнеров получил… На комбайне в этом году косил. Хитрый мужик стал. Все молчит. На собрании никогда не поднимется, не выступит. Похихикивает только. А на машинах работает, как зверь. Мы свои комбайны, когда в деревню пригоняем — на колхозный двор ставим, а он у своих ворот. И лазит на нем, и копается — ночами под ним спит. Но уборочную гнал без поломки. Мотоцикл себе купил с люлькой. Сейчас ведь в деревне мотоцикл легче достать, по сельскохозяйственной разнарядке. У вас там, говорят, очереди на них большие? Я себе тоже «козлика» взял. Вон в кладовую поставил. Только три раза на нем за лето прокатился, а то некогда. Стоит — Петьку дожидается. — Он еще налил, поискал мои глаза, сказал: — Нескромный вопрос… Как в городе художники получают? Говорят, что писателям, артистам, ну и художникам туда же, помногу платят. Вот ты там сколько имел? Я смешался… Сказать, что у меня в городе не было квартиры, что летом мне не на что было купить порядочных ботинок — он не поверит. — Сложно это… ответить так сразу. — Ну, в среднем? Приблизительно?.. — Рублей триста, — сказал я, — вспомнив заработки ребят из художественного фонда. — Во… Петька, слышишь! — наставительно окликнул он сына. — А он, дурак, учиться не хочет. Только к тракторам липнет. Будет всю жизнь, как я, в мазуте возиться. Он помолчал… — А вообще-то я думал, что больше. У нас здесь художник жил — ковры рисовал. На клеенке. За день сядет и нарисует. И пятнадцать рублей сдерет. За день!.. Но чисто работал, мы у него покупали. Баба сейчас в магазине какой-то персидский взяла, теперь заменила, а то бы я тебе показал… Разговорились мы, а она выдыхается… Он тяжело взял мой стакан, стронул чуть с места просто так, наполнил. — Что-то ты притих?.. Ничего, сейчас еще Добавлю. Вышел с графином в другую комнату. «Здесь я родился», — почему-то думал я. Мысли тяжелели. Странная и непонятная метаморфоза происходит с человеческой психологией. Люди со всеядной, неутолимой потребностью покупают машины, телевизоры, мотоциклы. Покупают, пользуются и… это не становится для них подарком. А было… Я помню это точным детским ощущением, было до войны. Выдался урожайный год — колхозники получили на трудодень по восемь килограммов пшеницы. Я не понимал тогда, что это значит, я только знал, что все молодые мужчины деревни выехали однажды в город и привезли по «хлебзакупу» велосипеды и гармони. Почему-то «хлебзакуп» ассоциируется сейчас у меня с яркой осенью. Мужчины в легких рубашках по всем улицам деревни учились кататься. Гоняли велосипеды без руля, становились ногами на сиденье. На травянистой поляне у конторы демонстрировали свое уменье. Это был пункт сбора негласных деревенских арбитров. Я помню недоступное сверканье сплошных велосипедных спиц. В каждой избе русская гармонь, и впечатление, что все тогда умели играть. Это было возрождение, начало детской игры душ. Потом война, с черной поземкой метель по деревням. Игра ушла. А сейчас… Вот уж в деревне и мужчин много, а игра не возвращается. Будто сдавлена пружина человеческих характеров и никак расслабиться не может… — Ты как сюда? На время? Прокудин возвратился, сел на скамейку. — Мне больше не наливай, — сказал я. — Это допью и пойду. — Спешишь? Девок наших, наверну, уже всех перещупал? Когда на свадьбу пригласишь? — Ни то… — отозвалась его жена из другой комнаты. — Он их не замечает. Девки бегают, бегают ночами вокруг его избы, песни горланят, в мороз-то — может, услышит, а он… Жена смотрела в другой комнате телевизор, за дверью мерцал голубоватый полумрак. — Может, телевизор останешься посмотреть? — спросил Прокудин, когда я поднялся. — Пойду. Вышел на улицу и поразился. С вечера стояла оттепель, а сейчас на земле был мороз, над скворечником на крыше висел месяц. Казалось, свет его звенел. Он был торжествен. Я раскрыл воротца, и от рук на закуржавевшей перекладине остались следы. Далеко у клуба кто-то смеялся. Наступая на свою тень, я медленно шел по дороге и горестно отмечал: «Почему-то о Прокудине издалека лучше думалось. Эта деревня уже не моя. Все меньше знакомых. Ровесники давно сидят по домам, обремененные своими заботами. Я задержался где-то вне времени, и там, вдали, казался себе молодым. А здешние девушки? Сколько же им, восемнадцать? Значит… Я уже был двадцатилетним, когда им было… восемь? Восемь…» Мне хотелось узнать, кто может так беспечно смеяться на морозе. И вспомнились слова жены Прокудина. В клубе я играл в шахматы с ребятами, о которых не мог догадаться — чьи же они? Танцевал с девчатами и не знал, как их звать. Потом шел с Павлей домой — мы с ней живем на одной улице. — Завтра знаете как рано вставать… В пять, — говорила она. — Темно. Идешь дорогой и спишь. Только к ферме разойдешься, да мороз будит. Вам хорошо! Сидите себе в тепле, рисуете. Хоть бы раз домой пригласили, посмотреть. — Пойдем, — говорю я, обнимаю за плечи и притягиваю к себе. — Прям… Потом глаза некуда будет спрятать… Поползет по деревне… Мы останавливаемся у ее калитки в тени. — Постоим, ладно, — говорю я. Мне нравилось видеть, как иней белил ворс на ее платке и смутно пряталось лицо в тени. — Мне совсем не хочется идти домой. Во дворе заскоблило кольцо по проволоке, зарычала собака. — Дозор, ты что, своих не узнал? — Павля засмеялась. — Хочешь, зайдем, а то здесь как на выставке. Ну-ка, пошел, — прогнала она пса, и тот нехотя убежал в темноту под крышу. Мы подошли к сваленному сену. Павля прижалась к возу спиной и откинула голову, чтобы заглянуть мне в лицо (месяц мешал ей раскрывать глаза, здесь, на сене, он неистовствовал), и только тогда я увидел, как тяжела изморозь ее ресниц, а глаза под нею темны, мерцают в теплой глубине. Настороженна и неподвижна мертвенная бледность лица. «Какая красивая на морозе», — думаю я и наклоняюсь к ней. Павля ждет и вдруг резко отворачивается, коснувшись шелковым холодом щеки. Помедлив, доверчиво отдает губы, холодные, тугие, и они ласково слабеют. «…Женюсь, — думал я, — на этой красивой девушке. Сейчас возьму и скажу: «Хочешь быть моей женой?» И она согласится. Мне почему-то кажется, что она согласится. Испугается и согласится. Они будут вместе с моей матерью что-то стряпать на столе. Павля в ситцевом платьице, руки по локти в муке. Разговорятся о чем-то своем, женском, а Павля будет ждать, когда можно вбежать в мою комнату, в темноту, найтименя, прижаться и счастливо шептать что-то, и мы вместе с затаенной радостью будем ждать своего ребенка. — Губы у тебя, — говорю я, — как ментол пососал… — Зима же… — она нагнула голову и приткнулась лбом к моей телогрейке. Она будет очень ласковой и верной женой, Павля… — У меня руки совсем замерзли, — говорю я. — Я знаю. Она чуть приподнимает локти, и я прячу ладони у нее под мышками. И тогда отчетливо вспоминаю безжалостное право деревенского парня в морозы греть руки у девушки за пазухой. До пронзительного ощущения почувствовал, как у парня накалены руки, он раздвигает теплый воротник пальто, расстегивает пуговицы кофты, почти обжигаясь, накрывает под лифчиком окоченевшей ладонью грудь, а она огненно накалена. Меня передернуло. Павля, став строгой, сказала: — Ну и… хватит. Побаловались. Пора домой. Хмель у тебя уже прошел… Она проводила меня до калитки, защелкнула закладку и долго стояла во дворе, не шевелясь. — Иди, — приказала мне и засмеялась. Мама открыла сразу. Была она в телогрейке, глубоких галошах — наверное, дремала одетая. — Ты что, ждала? — Нет… Так, устала просто. Села и сижу. Я поискал на стенке выключатель, зажег свет. Лампочка была великовата для маленькой комнаты. — Есть будешь? — Нет… Ложись, ма. — Агрономша с мужем хотели прийти. Встретились. Я им сказала, тебя нет — вернулись. «Ну не пришли — и не пришли…» Я стоял среди комнаты и видел Холшевникову. Коротенькие кончики ее шерстяного платка, слабо затянутые на подбородке, шею, туго окольцованную каракулевым воротничком, и ее улыбку. Я думал о чужой женщине, как о вечной беспокоящей тревоге. О женщине, как о высоком вознаграждении… «Не пришли и не пришли…» Мне хотелось ни о чем не думать. Сидеть и молчать. Если бы я умел плакать… Прости меня, Павля. Я разделся, бросил телогрейку на пол, повернул к себе портрет. От него пахло устоявшейся теплой краской. Из холодного мерцания смотрел на меня Дмитрий Алексеевич. Я равнодушно разглядывал голубое пламя на подбородке и его глаза со слабым отражением печи. И вдруг я понял, что ничего мне не надо, только вот эту способность видеть, какими бывают люди в минуты озарения, работу, за которой могу приблизиться к их высокой значимости. Только это может оправдать жизнь. А ведь я могу… Это мое… Ведь это лицо, такое лицо я написал сам. Только вчера… Ничего мне не надо, кроме того, что я могу… Могу! Я еще долго сидел не шевелясь — сна не было.25 февраля. Можно ли так сказать: «бархатный мороз». Или «теплый холод»? Все неточно. Нет новизны ощущения, какое испытывала я. А какое бы определение этому нашли писатели? Я вышла на крыльцо в легком платье без рукавов и тогда почувствовала это. Наступала весна. Снег еще не трогался — здесь он удивительно белый, — только по дорогам начал схватываться слюдяными кружевцами на соломинках да спекшейся корочкой на скосах сугробов. Солнце поймало меня, окатило голые руки и не давало шевелиться. Еще от снега снизу поднимался мороз, а сверху держала колючая весенняя теплота. И боишься ее, она пугает неясностью последствий, и уже не можешь уйти, потерять эту ласковую свежесть. Будто весна купает. Надеть бы на ноги пимы, чтобы не чувствовали прохладного дыхания снега коленки, и можно блаженно отдаться этой весне. Я думала: как весна знает, что мне надо! Она вся во мне… Или я — ее порождение, как воздух, который есть, но никак его не потрогаешь, — как мокрая веточка. Как написать об этом и остаться такой же внезапной, как солнечный воздух, чтобы люди, прикоснувшись к словам, почувствовали знобящую причастность к миру, ощущение его радости, как чувствую это я. А радость не исчезла во мне до самого вечера. Я снимала с ограды белье. Смерзшееся и теплое, оно стояло коробом и сразу никло ка ладонях. От него пахло согрой. Я собрала его в охапку, хотела идти домой, и тут увидела мальчишку. — Санька! Санек, — ужаснулась я и не заметила, что назвала его так, как называют деревенские мальчишки. — Ты откуда? Замерз же. Господи! Плачешь, что ли? Ну-ка зайди. Санек медлит. Я бросила на снег белье и ввела его за рукав. — Зайди. — Не, — говорит Санек. — Я пойду. — Ладно, отогрейся чуть. Я же у вас была. В избе варежки он держал под мышкой, а руки сжимал, как леденцы нес. Я забрала у него варежки. Они тяжелы, будто в них налита вода, а сверху накатанно настыли льдинки. Я посадила его на стул. Он скинул пимы. Пимы стучали колодками. Шерстяные носки хоть выжми. Санек прошелся по полу к печке, оставляя неправильными восьмерками следы. Штаны его обледенели, стояли раструбами, а на сгибах ледяной панцирь разрушен, сломан мокрыми складками. Я сняла с него носки, и ноги у него оказались белыми, в грязных узорах шерстяной вязки. Санек крепился от боли. — Откуда ты такой? — На льду лежал. — Почему? Где? — За камышами на озере. Там рыба дохнет. Все сейчас туда идут. На санках ломы привозят. Проруби продолбили — ждут, когда рыба подойдет. — Зачем она подойдет? — А дышать… Подо льдом же воздуха нет. Знаете, сколько там сейчас… Все с ломами пришли, а я так. — Что делал? — Смотрел в прорубь… Санек поднимает большие глаза и доверительно сообщает: — Вода зеленая-зеленая… Даже черная. Только все равно видно насквозь. Нет… Только сверху насквозь. Рыба помаленечку из глубины плывет головой кверху, к проруби тянется. Тоже зеле-е-еная. А ее строгой ка-а-к ударят! Зубьями. Выбросят на лед — она застынет, и глаза у нее остановятся. — Они же?.. Они же у нее и так никогда не моргают! — Нет… Они у нее живые… А на льду останавливаются. У Санька от пронзительного видения тоже круглеют глаза. — А маленьких рыбок сколько!.. Как звездочки — брызнут, и нет их. Потом опять собираются. Это они уже надышались. — А что это — строга? Санек смотрит на меня с открытым ртом и долго соображает. — Зубья такие длинные с бородками на палке. Есть восемь зубов, а то и двенадцать. Санек растопыривает пальцы. Они не слушаются. — Весь день в прорубь смотрел? — С утра. — Почему тебя никто не прогнал? — А прогоняли… — Ты же простыл… Замерз как. — Все тоже замерзли. Я хоть в варежках был, а рыбаки так. Руки у них… опухли даже от воды. — Ты в школе был? У Санька чуть вздрагивают глаза, но не моргают и смотрят открыто. Он только отводит в сторону лицо. — Я пойду. — А сумка твоя где? — Под крыльцом в школе. — Спрятал? — Я пойду. — Давай штаны посушим? Я не буду больше про школу спрашивать. Ты мне так расскажи что-нибудь. Про рыбу. Санек поспешно надевает пимы. — Какие штаны мокрые! Они влажно шумели, липли к коленкам. — Уже теплые. — Ладно. Только теперь бегом. И двоечник ушел. Я собрала со снега белье, и мне показалось, что теперь оно пахло озером. Положила белье на кровать. Мне отчетливо виделись круглые проруби, полные водой, и выброшенная рыба на льду, с застывшими кверху хвостиками. «…Глаза у рыбы в воде живые, а на льду останавливаются…» Как передать словами внезапность ощущения? Если бы обладать маленькой долей видения этого мальчишки! Ведь любознательный двоечник даже не знает, что его слова свежи талантливостью. А я призвана учить его литературе. Я, потому что пятнадцать лет штудировала толстые учебники. И это, должно быть, считается справедливым, что его учитель с неколебимой убежденностью ставит ему двойки. Я забываю про белье, сажусь к столу и начинаю записывать: «За воротцами, чуть пройти за огород — начинается согра. Сизым дыханием исходит над ней утро. Согра подступает к кузне изувеченной черемухой. Деревце в куче навоза однобоко свешивается с горы. Под ним вытаяли и почернели брошенные колеса. Над шиферными крышами изб плавится весенний воздух. Я смотрю на согру вниз и только сейчас начинаю различать тончайшие оттенки от оттаявшего цвета. Согра кажется серой. Серая согра… как люди, если с ними не соприкасаешься, если…» Я останавливаюсь и не знаю, как продолжить. Серая согра, пока в нее не войдешь… Нет… Какая-то деланность. Вот и застопорилось. Я пытаюсь сосредоточиться и вспомнить: что же со мной было утром, когда я выходила на снег? Вот уж и исчезла неуловимая настроенность — легкая и неопределенная. Все заглохло. И я уже знаю, что не смогу даже вспомнить и воспроизвести непосредственность рассказа мальчишки. У меня нет его слов. Я прожила в деревне полгода и… будто не прожила, а прошла мимо. Я вдруг соображаю, что сижу, ничего не записываю, не прикасаюсь к белью, а жду с нетерпеливой радостью девчат — они обещали зайти за мной сегодня, и мы пойдем вместе на ферму. Шли по крутой тропинке. Когда поднялись наверх, сквозь рябую белизну деревьев увидели дворы. — А мы их у себя в дежурке оставим, — говорит Лида Бессонова. Девчата запыхались. Им тяжело и неудобно нести в руках толстые стопки журналов. Пока я дома надевала валенки, девчата на столе листали «Неву». — Вы только журналы читаете? А мы… — Лида помедлила и поправилась: — Я современные книги не очень люблю… Начнешь читать… В старых книгах все необыкновенное, и говорят как-то не так и красивые все… Мне хотелось улыбнуться. — Знаете что? Забирайте все это… Мы еще о них поговорим. Я собрала с пола свалившийся штабель журналов и отдала девчатам. В дежурке замороженное окно, в углу мерцает приемник «Рекорд». Пробиваются в этот затерявшийся уголок в березах мелодичные позывные радиостанции «Юность». Приемник у них, видно, остается включенным всегда, в нем потрескивало, и тусклый глазок вздрагивал в сумраке. Мы вышли на улицу. В раскрытые ворота въехала подвода, и женщина, стоя на возу, раскидывала вилами силос. Следом за нею, как серая краска по бумаге, текли овцы. — Потолькя, ты еще соломы привези, — из глубины двора кричал дед Подзоров, — подстилку сделаем. Здоровы были, — ответил он мне и обрадовался. Почему-то он показался маленьким. Его большие валенки уголками голяшек торчали над коленками и, когда он шагал, зачерпывали воздух, как плицы. — Вот… Руки отказываются работать… Болел я. Заместо меня двух женщин поставили. Я ня знал… Он стоял с вилами перед ступенькой невыброшенного навоза, будто весь длинный двор был двух уровней. — За полтора месяца загадили. Убирались, лишь ба день прошел… А я ня мог… Что-то изменилось в нем, усохло. Он говорил, и не было в нем сосредоточенности. Долго искал соломинку на лице, а рука его исходила мелкой дрожью. Он с участием смотрел на меня, а во мне почему-то появлялась к нему жалость. — Вам уж отдыхать надо. Пенсию получать будете. Вы здесь в почете таком… — Нишь я один живу, нишь для себя? Вдруг он расслаб, склонил голову. Это было так неожиданно! — Забяди́ли нас люди… С дочерью забяди́ли… Кому жаловаться? Потолькя-то опять с четвертым… Принесет и бросит, а я… Я с самой с ей вожусь. Я вспомнила, сообразила, что Потолька — его дочь. Вспомнила ее белое, нестарящееся лицо, с менингитной неподвижностью губ, ее налитые груди без лифчика, как вымя, качающиеся под кофточкой. Ее сына, десятилетнего кретина, бегающего осенью по улице с большим колесом от конных граблей; девочку, не принятую в школу, — дефективна. Третий, пятилетний сын, еще не встает на ноги, и дед кормит его из соски. И теперь… — Она вить не при уме… Убогая. А люди без жалости. Находются… Ей что?.. Голова больная, а… Усе остальное работает. Я ходил, жаловался людям… А они изгаляются, смеются только: «Может, ты сам». Теперь четвертого… Зачем мне?.. Если бы они были в уме! То ли он плакал и не чувствовал слез? Они ползли у него по щекам, заставляли морщиться — будто были из одной горечи. — Ведь это… — Я не знала, что говорить, ошеломленная его исповедью. — Это ведь все можно… надо приостановить… — Забяди́ли меня… Забяди́ли… Люди жа!. — взывал он. — Что мне опять делать?.. Старик стал надевать большую варежку, обшитую залощенным брезентом. Я не возвратилась в дежурку. Не могла там ни о чем говорить и девчат ждать не стала. Я вышла на дорогу домой. «Как же это? Как можно людям так жить? Знать об этом и жить? Какая-то стадная безответственность… Кто это может потешаться? Столько лет! Ненормальная же она!»
VIII
Я оббиваю о колено шапку — сено сыплется на пол. Сбрасываю телогрейку и вхожу в другую комнату. У меня горит лицо, нахлестанное ветром. Вечернее солнце уже не попадает в окна. Я стою средь комнаты и не хочу трогаться с места. «Как же это вышло?» Приседаю перед этюдником. «Кисти не вымыл». Забираю их в руку. Мне же срочно нужно быть в городе — взять краски в союзе, купить холста. «Что же теперь?..» — я останавливаюсь в нерешительности. «Не надо бы нам. Ведь это пройдет… Я же все понимаю… Как она сейчас? Давай отдохни, — говорю я себе. — В ночь на смену. Тебе теперь хватит времени у своего котла подумать целую ночь о радости твоей или беде. Может, выяснишь». Не раздеваясь, я ложусь на кровать. «Как это вышло?» В обед я пошел на ферму запрячь лошадь, чтобы привезти домой сено. Уже становилось тепло — как бы не ослаб лед. Сено за рекой. Положил на сани вилы, лопату — откапывать оденок. Взял тулуп. Он мог не понадобиться — пригревало солнце, но если сидеть на возу и в поле начнется ветер, то поднимешь высокий его воротник, ляжешь в ложбинку воза и слушаешь, как бьется, шуршит по овчине метель. Радуясь, что помню все деревенские атрибуты приготовления, ощутив беспокойное нетерпение вожжей в руке, я прыгнул на сани, нашел ногами устойчивые точки на вязах, и лошадь торопливой рысью взяла с места, сани легко раскатились на повороте, ударяясь о бровку дороги. Чувствуя требовательную радость бега застоявшегося коня, я отпустил вожжи. Сейчас сверну мимо деревни в луга, спущусь с горы, и поведет дорога мимо кустов черемушника, к дальним болотам, к тоненькому осиннику. Будут медленно надвигаться заросли тальника, высохшие плетни старых заездков. Я вспомню знакомые места… А дорога узенькой лентой будет разматываться за спиной. Конь недоуменно осел назад, затормозил, останавливаясь. Сани накатились, застучали головками о его ноги. Кто-то метнулся из-под головы коня в сторону и увяз в снегу. — Катя? Вы что задумались? — Так… — Садитесь, подвезу до первых домов. Катя неловко примостилась на санях, сложив согнутые коленки на бастрик и натягивая на них полы шубы. У нее были какие-то детские скорбные губы и размытые синячки под глазами. — Ну и экипировка у вас… Добротная… — Все предусмотрено, — говорю я, — веревка сзади, вилы закреплены. Даже Тур Хейердал был менее тщателен. — Куда же вы? — За сеном. Вот воз утаптывать некому… — Возьмите меня. — Это за рекой. — Ну и что? — Через луга. Километров пятнадцать. — Ну и что? — Вернемся только ночью. — Возьмите меня… — Сейчас мне сворачивать… А морозы начинаются к вечеру. — Пусть я поеду. Ладно?.. За деревней конь пошел широкой рысью. Копыта кидали снег в головки саней — твердые крупинки летели в лицо. Катя жмурилась от снега. Летящая снежная дробь забивала глаза, таяла и делала лицо влажным. Катя запрокидывала голову, старалась поймать мой взгляд, отворачивалась, а в глазах ее плыли сизые купы кустов. Я придерживаю коня, он переходит на отяжелевший шаг. Дрожат у него под мокрой кожей жилки. Я сажусь на солому. — Вон тулуп, зря же лежит. Еще далеко ехать… — Ах, ах… Обо мне заботятся, — дурашливо выговаривает Катя, прямо глядит на меня и замолкает. Мне не нравится этот взгляд. Я вспоминаю, как недавно утром ехала на санях Павля в нахлобученной шали. Ехала работать. Она не старалась понравиться — мужчины рядом на санях были для нее привычны и естественны. А это… Просто блажь… Каприз… Красивая женщина может себе позволить… Маленькую шалость мужчина, конечно, простит ей. Самоуверенность всегда возмущала меня, злила. Особенно самоуверенность женщин, которые знают, что они красивы. — Вы так управляете лошадью, — говорит Катя. — Вы здесь и родились? Она не ждет ответа, спрашивает, будто утверждает. — У нас в университете некоторые парни скрывали, что они из деревни. Все были с претензией… Губы ее, кажется, замерзли, хотя солнце было мягкое, только от снега чуть исходила прохлада. — Я не увидела тогда вашего портрета… Он получился? Мы с Юркой приходили к вам, да неудачно, не застали. Вы где-то учились? Я тронул коня вожжой, он испугался, будто его разбудили. — Закончил Суриковский. Три года назад. А что? Она растерянно помолчала. — А эта кочегарка?.. Что же? Что-то вроде самоистязания? Или… «поэтессы бегут в лотошницы?..» Она наклонилась, прижалась губами к воротнику и стала медленно в него дышать, чтобы согреть лицо. — Значит, таким способом, — сказала Катя в воротник, — вы зарабатываете себе на жизнь? Или?.. Вы помните, что говорил старик в кочегарке? Тот плотник… Вы что же, с ним согласны? Он прав? Тогда скажите мне, что же произошло? Я знала… Нет… Я хочу спросить, объясните мне… Сейчас весь мир аплодирует нашему искусству и недоумевает, почему произошел такой небывалый всплеск народного духа и каковы причины моральной высоты нашего народа. И ведь не старики, а именно молодежь требует, поднимает цену национального искусства. Едут в творческих бригадах в самые дальние углы России, чтобы отыскать его неумершие ростки. За ним охотятся, с благоговейной тщательностью спасают то, что сохранилось еще… Как золотоискатели, отмывают золотые крупицы и радуются встрече с ним, как самородкам. Это же стало знаменем времени. И… все меньше находок, будто иссякла жила творчества, будто исхудали души, потеряли потребность в красоте… Старик говорил: «Мы сами свои праздники выдумывали. Как соберемся весной!..» Парадокс. Безграмотные крестьяне проявлялись полнее, а современники, приобщенные к высшим достижениям искусства, — пассивны. Что же сейчас соберет их вместе, попросит отдачи? Перед чем бы людям захотелось сейчас вдруг открыться? К чему может родиться паломничество? Раньше ходили в церковь. Старухи завязывали в уголке платка свои сбережения, несли, жертвовали свое последнее. Неясному духу — богу. На доходы эти церковь могла позволить себе обставить отдачу красотой. Люди сами создавали ее. Ведь церкви и соборы оформляли лучшие художники всех времен. Так почему же сейчас так скопидомски бедны клубы, эти храмы людского единения? Эти дома? Большие дома? Общие дома? Почему поклоняются только одному богу: соберутся после работы, похлопают друг друга по плечу: «На полбанки сообразим?» Катя сказала это, и губы ее сделали гримаску, будто прикоснулись к чему-то неприятному. — Если бы сосчитать все пол-литры или хотя бы пустую бутылочную тару и отчислить доход от нее на содержание своего храма искусств, чтобы можно было войти в него и посидеть молча перед настоящими картинами! Ведь и к искусству можно ходить на исповедь. Сейчас в клубе бывают только девушки и ребята. А что делают те, которым перевалило за двадцать? Что ждут? На таком коротком перевале заканчивается их грань молодости, наступает пора забот. Они уже отключены от общения. Каков вес их радости? Катя прерывается и молчит. — Ну скажите… Почему старухи не жалели свои пятаки, а сейчас приношение красоте так неодобрительно встречается? Материально здесь живут сейчас лучше, чем раньше, и не хуже, чем в городе. При благополучии будут обогащаться еще. Значит, возможность пить станет неограниченна… Значит, не просыпаться? А как же праздник? Каким они его сейчас хотят видеть? Каково поле их воображения, духовная фантазия? Или… Как они думают фантазировать свою жизнь? И знаете?.. — Катя молчит и говорит раздумчиво: — Кажется, мне места здесь не отведено. Все, что когда-то делал в деревне учитель, за него делают, только лучше, телевидение, кино, книги. Они дают информацию, которую даже мы, учителя, не успеваем получать, А вот вы в некотором роде личный художник своей деревни. Вы… Нестеров расписывал храмы… Расписывал, оставался Нестеровым и жил. Каждая фреска его оберегается от разрушения… А вам ваша деревня даст заказы?.. Вам она отвела место?.. Вас прокормит? Как кочегара она вас прокормит, а как художника?.. Она смотрит на вас глазами своего завклуба… Вы отсюда, живете здесь, пишете, и никто этого не видит. А как же насчет отдачи? — В глазах Кати появилась шуточная издевка. — Я читала, что художники дарят свои работы в музеи родного села. Один подарил тридцать картин. — А я слишком уважаю людей, среди которых вырос, чтобы делать такие подарки. Они стоят лучшего… …«Залежится у художника отсев, который он давно сам ни за что не считает, избавится от надоевшего багажа, и вот уж этот жест умиляет щедростью… И газеты подают восторженно: «Выставка деревне». Так и звучит за этим: «Подарена деревне, а не людям». А расценивать это надо как наглость» — так я думал, а сказал только: — Людям, среди которых родился, аморально давать не самое лучшее. Катя вопросительно посмотрела на меня: — Я злая сегодня… К стожку трудно подъезжать. Снег осел. Лошадь грудью пробивала улежавшуюся корку, и сани сваливались набок, опрокидывая нас в снег. Стожок оттаял, только на одном его боку лежала целлофановая наледь. Я оббил ее вилами. — Веревку распутывай. И стяни бастрик. — Я не заметил, как легко перешел на «ты». Меня забавляла серьезность, с какой Катя выполняла любую работу, ее безропотная готовность. Она долго растягивала затянувшийся узел на санях, а когда справилась с ним, то не смахнула наснованную восьмерку с колков, а прошмыгивала каждую петлю веревки. — Бастрик — вон то бревно? — Да. Она уже ворочала его за конец и не могла вытащить из-под настланной соломы. Я знал его тяжесть. Отшлифованную сеном до костяного лоска сырую березу трудно держать в руках, она будто налита чем. — Сзади его положи, точно посередине саней. Для ориентировки. По нему воз будем накладывать. Я свалил верхушку стога, она шапкой упала на снег. Бросил сено лошади, отпустил чересседельник, чтобы, наклоняясь, она не натягивала его спиной. Лошадь опустила голову, и у нее заходили глубокие ямки над глазами. Я хотел потрогать их, лошадь, упруго пошевелив ухом, стряхнула руку. Улежавшееся сено тоненькими пластами бралось со стога. Я начал накладывать воз. Катя стала на снегу в стороне. Делянка, на которой стожок сметан, в кустах высоких. Поэтому воздух недвижен здесь, прогрет, и запах сена растекся кругом. Я скинул телогрейку. — Теперь залезай, — бросаю я Кате, и вижу, как не хочется ей трогаться с места. Но она пробежала по снегу к саням, даже не оставляя вмятин, и попыталась залезть на воз. Чуть поднималась и сползала вместе с сеном вниз. — Недотепа. Надо сзади. От бастрика. Я воткнул вилы и придержал за черенок — получилась устойчивая ступенька. — Наступай. Учи вас… Катя поднялась и утонула в сене по пояс. — Походи. Только посреднике. Видишь бастрик? — А я не свалюсь? Он дышит… Когда Катя поднялась уже высоко и воз отвердел, оформился, я подумал: «Как бы ее не свалить?» — Сейчас слезать будешь. Только я бастрик подам, а ты его чуть на себя потянешь. — Ой. За что ты его там зацепил? За плетеную дужку? — За дужку… Теперь я вижу — ты филолог. — А твои бастрики — архаизм. Бастрик… Думаешь, красиво звучит? Не русское что-то. В современном языке идет рациональный отбор. — Давай слезай, знаешь. Я затягиваю. Вдруг веревка порвется и этот самый архаичный бастрик спружинит… Катапультируешь с воза. — Пожалуйста… — Катя спустилась. — Не больно-то и хотелось. Залезла на стог — он был уже низкий. Я одергал воз снизу, чтобы не собирал снег, подобрал сено и бросил на стог. — Я никуда не поеду, — говорит Катя, — езжай один. Я еще здесь побуду, а дорогу сама найду, Пойду по снегу напрямик. Снег не проваливается. Как асфальт. Только по нему боязно ходить. Ступаешь, а вдруг, а вдруг. Мне чего-то такого не хватает. Солнца, что ли? Или… Смотри, как здесь тепло. Она сдергивает шерстяной платок с головы и расстегивает шубу. Освобождаясь, шевелит головой, сминая воротником прическу. И было видно, как радостен ей снег, черные оттаявшие кусты, подступающие кругом. Они бросали густую чистую тень на снег, а рядом с нею лежала невыносимо горячая белизна снега на солнце. — Здесь еще и весны нет. Почему же тепло-то так? Отчего же такое бывает с человеком? Не надышишься. Люди, как на море бывает, — знают, как в горах бывает — знают, а как в Сибири на снегу — нет. Ты смог бы написать это? Нет… Живописью это не передашь. И музыкой тоже. Ведь это сначала нужно всем знать. Ой, ей… Сколько человек еще не знает! Даже жалко всех. Предполагаю, что скоро ученые выяснят: такой воздух целебнее морского купания. Без него просто жить нельзя. Начнется паломничество к нему, и он будет так же моден, как кибернетика. Я смотрю на нее. Я купался в кадках под тыном, а ее еще не было. Бегал босиком по горячей пыли, дрался с пацанами, а ее еще не было. Я уже ходил в школу, уже читал книжки, а ее не было. Совсем не было. Как поздно я знаю, что она есть! Есть. Для Юрки — хорошего, красивого парня. Я медленно вхожу на стог и чувствую, что на нем теплее. У меня остывает воротник рубашки, солнце припекает спину, а полотно рубашки уже прохладно. Недвижным пятачком — нежный поток тепла от стога. — Слышишь, тишина. В ней как будто что-то есть, — тихо говорит Катя. Ноздри у нее напрягаются. — Я, наверное, опускаюсь. Мне здесь совсем не скучно. И не читаю ничего. Только хожу где попало и ночами музыку слушаю. Я теперь часто думаю, что музыку я раньше воспринимала не так. Нужно ее сначала сильно ждать. И потом слушать ее рядом с кем-то, тогда она звучит по-особенному. Но только слушать и знать, что другой ее чувствует так же, и если убежден, что другой значительный. Музыка всегда будила что-то во мне. И я думала: это не зря. Это для чего-то. Не так просто. Я приходила домой, ложилась, смотрела в потолок и чувствовала, что переполнена чем-то совсем новым, непонятным, что в состоянии быть во мне. Чувствовала и любила это в себе. Я думала — вот мое самое главное, и оно лучше того, что вы видите во мне. Я знала, что усну и все это потеряю. Оно погаснет за ночь, к утру не проявившись. Я часто его теряла и не несла, не давала никому увидеть это. А оно приходит все реже и реже. «На нее, наверное, всем приятно смотреть. Когда она говорит — радуется и плачет будто». — Реже и реже. Неужели совсем умрет, погаснет? Вот когда оно погаснет совсем, тогда… — Губы у нее какие-то молодые и скорбные. — Андрей, а вы когда-нибудь были вот такой весной на снегу? Ну… знали до этого такие дни? — Я здесь жил, — говорю я. Она молчит задумчиво. — Знаешь, как о тебе деревенские женщины говорят: «Приставленная. Создаст же бог таких! Говорит и плачет будто, а засмеется — радуется, что красивая». — А это плохо — «приставленная»? — Для кого как… Для одних — укор. Для других, ну, которых — создаст же бог!.. Катя настороженно глядит мне в глаза. Ждет. А я молчу и хочу, чтобы нравились этой молоденькой учительнице и эти края, и моя деревня, и люди, чтобы она говорила о них и понимала, а я по малейшим признакам догадывался о ее истинном изумлении… и мне хотелось увериться, что это у нее никогда не исчезнет. Будто опять, как тогда в первый вечер, я медленно иду по зимней дороге, не чувствую невесомый снег, полный неопределенной радостью, иду, с грустной благодарностью к ней. — Поедем… — прерываю я молчание. — Я никуда не поеду, — говорит Катя, а сама смотрит на солнце и улыбается, как во сне. Потом опускается на сено, опираясь на платок, зажатый в руке. Падая, по-ребячьи раскидывает руки и закрывает глаза. — Никуда… Я бросаю рядом телогрейку. Ресницы ее спокойно отданы солнцу. Веснушки бледные на носу. Суховатой матовости губы ловят тепло. Я вижу узенькие ногти ее пальцев на сене, тонкую руку и понимаю, как она далека сейчас и как уверена в счастье своем, и великодушно позволяет видеть себя. И я думаю. Почему она кажется мне девочкой? Недозволенно юной. Катя открывает глаза. Они ждут и замирают в страхе. — Андрей… И я не знаю, что со мной происходит. Ее волосы упали на глаза, она сняла их рукой и улыбнулась осторожно. А во мне не уходило, не исчезало какое-то светлое отчаяние. «Ведь это же все, все равно… безнадежно…» Она встрепенулась, соскочила на ноги, сбежала с сена, повернулась бойко на снегу. — Пусть лошадь сама идет, а мы пешком, — сказала Катя. — Пойдем. Если не будем проваливаться. Слабо покачивался воз в укатанной ложбинке дороги. — Давай догоним. Иди, я подсажу. Катя отрешенно уставилась на привязанные к бастрику вожжи и всю дорогу молчала. Опускался вечер. Солнце ушло, и на дорогу, на воз сена, медленно ползущий в сумерках, легла грусть. Далеко впереди, на горе, уже горел электрический свет. Домов не было видно, только стояло морозное зарево над снегом — в деревне включили электрический свет. Туманно светилось небо. На потемневшую согру падала бубнящая музыка. Алюминиевый колокол на столбе у клуба направлен на луга, и металлический звук слышался далеко внизу. Катя лежала рядом, поставив локти на воротник тулупа. Она знала, что я думаю о том, что люблю ее, и понимала, что в такие вечера не лгут и ничего не надо говорить, потому что ничего нельзя исправить. — Однажды я поехал на завод, — сказал я. — За два месяца написал там четыре портрета. Писал их в цехе. Ребята позировали мне после работы. Синий свет из окон, свинцовый лоск рук, какое-то сизое сияние лиц делало ребят жестковатыми, неулыбчивыми. Дома на свету я рассматривал эти работы, и в носу даже холодно щемило от запаха металла. Колорит портретов не принимал никакого цвета рамок, его нужно было как-то нейтрализовать, и я поставил рамки некрашеными. Я не был на выставкоме, но знал, что мнения о моих работах разделились. Мои портреты прошли на выставку. Их повесили в маленькой комнатке на проходе. Вечером, на открытии выставки, я ходил незамеченный и слушал, как спорили собравшиеся перед ними люди. Спорили и писали в книгу отзывов:«Где видел Уфимцев людей такого цвета?.. Это клевета на наших рабочих. Художник все видит в мрачном цвете. Гнать таких очернителей с выставок». …«Ура! Искусство всегда шло с Запада на Восток. Теперь настоящее искусство двинется с Востока на Запад». …«Расцениваю как неуважение к нам зрителям то, что художник не покрасил даже рамки. Безобразие»…Через день я пошел посмотреть на портреты при дневном освещении. Их на выставке уже не было, только в книге отзывов стояла лаконичная запись:
«Куда исчезли портреты Уфимцева?»Я тоже спросил об этом. Мне ответили, что их распорядились снять. — Почему? Ответили, что я сам должен знать об этом. Мне стало скучно. Я обиделся. И мои друзья за меня обиделись, и это еще больше подстегнуло меня. Потом… Понимаешь… Обида и мода — как обвал… Может быть, те работы мои были неплохи, наверное, не хуже других, выставленных там, но я не умел, мне некогда было спрашивать себя: а чем они хороши? Эти эксперименты пройдут, симпатии почитателей пройдут, жизнь пройдет, а чем отчитаешься перед собой, перед чем подпишешься? Я увидел, что многим не перед чем подписываться, хотя им и устраивали шумные персональные выставки. Я бросил все и уехал. Уехал не в деревню, не искать «корни национального искусства», а уехал домой, жить рядом с людьми, чтобы понять, за что они меня не простят. Всем нам нужно учиться у них мужеству быть откровенными и жестокому неприятию фальши. — Не знаю… Может, мы от них разное ждем, — сказала Катя и снова замолчала, полная взрывной сосредоточенности. Перед деревней, поднимаясь на гору, лошадь заскоблила на укатанной дороге. Воз скатился вбок, подбил оглоблями задние ноги лошади, и она развернулась. Я соскочил, взялся за узду и помог лошади подняться в гору. У первого дома отпустил и залез на воз. Катя скатилась на бастрик, а я дотянулся до вожжей и сел с ней рядом. Так мы и проехали через всю деревню. У ворот я придержал лошадь, подал Кате руку — она спустилась с воза и остановилась. Я посмотрел ей в глаза. — Нет… — Она не сказала это, а медленно покачала головой. Не мне, а себе. Своим мыслям, будто отрицала раздумчиво. — Нет, нет, нет… — и взбежала быстро на крыльцо, не оглядываясь. А я ведь ничего не спрашивал. …Как это вышло? Я лежу на кровати, и тяжелая память не дает заснуть и не приносит облегчения. «Какой же я подонок»… С ней что-то неладное происходит. Она мечется в поисках поддержки. А я…
4 февраля. Александр Данилыч сидел в учительской — проверял тетради. Двое мальчишек стояли в коридоре, навалившись плечами на крашеную стенку. Они шептались, почти прижимаясь к стенке губами. Увидев меня, учитель встал навстречу и наставительно сказал мальчишкам: — Так поняли? Теперь марш домой… Мальчишки кинулись к вешалке. В мрачноватой, в одно окно, учительской прохладно. — Опять подморозило. В сапожках без ног останетесь. В деревне надо к другой обуви приспосабливаться. — Я к вам, — сказала я. — Понимаете… Вчера встретила старика Подзорова… Александр Данилыч что-то заметил в тетрадке, уже проверенной, исправил красным карандашом и уставился на меня, как бы выразил внимание. Я почувствовала себя неуместной. Негодование мое вдруг показалось нелогичным, а слова, что я утром подготовила и перебрала, потускнели. Я сказала: — Он уже старый, а… Девочка у них не учится, самого младшего не принимают в ясли. — Ему что, материальная помощь нужна? Так это к председателю надо… Он решает. Александр Данилыч доверительно добавил, уверенный в моей неосведомленности: — Недавно его юбилей отметили всем колхозом. Правление подарок выделило — телогрейку и брюки ватные. Он на морозе всегда — вот и учли. Старику за семьдесят, а не поддается… Хороший старик. — Он ничего не просит. Вы знаете его дочь? У нее трое детей, а кормит их он… Она не должна иметь детей, таких детей… А скоро у нее будет четвертый. Ведь это нельзя так оставлять… У старика беда. Ее нужно понять, найти отцов, обязать их делить ответственность… И беда старика на совести всей деревни. К кому он с ней пойдет? Вы же парторг. И это должно стать причиной большого разговора. — Разговора и так хватает, больше чем надо. Это не те заботы. Старик живет не хуже нас. И дочь его зарабатывает не меньше доярок. Знаете что? — он стушевался и торопливо сложил тетради в портфель. — Я учу одновременно два класса, третий и четвертый. В четвертом двенадцать человек — так называемый недобор, а в третьем — двадцать. Мы их вынужденно совмещаем. На полставки никто не идет. Не скрою, материально это выгодно. Но… Вы не согласитесь на старший? А мне одного класса и заведования хватит. Не согласитесь? Я сегодня же приказ отдам, и районо утвердит. А? — он деликатно улыбался. Я согласилась.
15 февраля. Пачка свернутых газет воткнута в плетень — почтальонша только что отъехала от Королевых. Падал снег. Чтобы не отсырели, я вынула газеты и вошла в избу. Тетя Шура в другой комнате раскладывала на полу белье. Красный сундук открыт, и крышка откинута на косяк окна. — Разложилась я. — Много газет вы выписываете. — Дед все. Вон сколько их на божницу сложил! А мне даже махотки закрывать не дает. Не допрошусь. Когда разрешит из-под низу брать. А я хоть где беру — он все равно не замечает. Говорю: «Дед, что ты деньги-то переводишь. Выписал столько». А он: «Другие больше пропивают». Я положила газеты на стол, разделась. — Перебрать надумала. Залежалось все — сколько лет не заглядывала. Из сундука пахло ягодными конфетами. Тетя Шура доставала рушники, разглаживала их на коленях. — Давнишние. Развешивать не развешиваем, и руки вытирать жалко. Это солдатики, — говорит тетя Шура, трогая ровный рядок угловатых человечков с острыми штыками. Лицо ее мягчеет. Разглаживаются широкие рябинки на лице. И я почему-то отчетливо представляю, какие у нее были глаза, когда она была девчонкой. Показывая вышивку, тетя Шура как бы предчувствует, что не приму я старую красоту их, и с доброй насмешливостью осуждает ее со стороны. — Это я в девках была — вышивала. К ним кисти не идут. Тоненькую дорожку прореживали. А этот праздничный — с кистями. Весенний. Не нужно стало… Холст-то сейчас свободно в любом магазине. А трудов за ним было… Лен выстелишь, мнешь. Напрясть надо. Потом ткешь. В избу стан поставишь — на два месяца. Повернуться негде. Холст в щелоке мочишь. Потом на солнце отбеливаешь. — Это что-то у вас красивое? Черное. — А накидка на стол. На белую скатерть. Тетя Шура разворачивает вязаную сетку и накладывает угол на рушники. Сетка, как невод, с широкими ячейками. Ячейки затканы шерстяными нитками выборочно, как модерновый пластмассовый паркет в современных зданиях. Если цвет паркета линяло глух, то эта рельефная шерсть звонкой раскраски, как бархатистая расцветка бабочки. Уютно в избе тети Шуры, и она сосредоточенно мягка у своих нарядов. Вдоль стен цветы в кадках. Фикус со свеженькими листиками, трубочкой развернувшимися у потолка, зеленый дым путаной «кудели» на деревянном диване против окон. Диван зовут здесь «конопель». Он весь заставлен горшками и старыми ведрами, в них длинные языки зеленых перьев, из центра которых поднялся высокий столбик с тремя рубиновыми колоколами в стороны. — А это мы поневы так ткали. — Шерстяные? — По черному тканью — широкая клетка нежной голубой ниточки. — Это же самое модное сейчас в городе. Знаете, девчонки щеголяют. Юбку сошьют колоколом. — Это я себе на смерть приготовила. — Как на смерть? До меня доходит жутковатый смысл ее слов. С оторопью я смотрю на сложенную отдельно стопку одежды — поневу, рубашку длинную, узкое покрывало. — Чтобы в этом положили, — спокойно, как о давно решенном, без мистических ассоциаций сообщает тетя Шура. «Как можно это готовить? «Себе» — Меня возмущает осознанное решение. — Готовить и не кричать в отчаянии. Самой». — А кто для меня что потом искать будет? Это я уже примерила. — Как вы можете, тетя Шура? — И… и… Тебе это страшно. Ты еще вон какая… Она улыбается, отводит разговор в сторону. — А это сыновья деду прислали. Костюм. И брюки вот. А дед никак не хочет надевать, не любит. Говорит: «Наденешь — и ни на пенек не сядешь, ни на ограду. Испачкать сразу не хочется». Любит старые — в заплатах все. «Вот это по мне. В них я как субчик. Что хочу делаю. Свободный». Правда, на праздник когда просит. Тетя Шура берет с пола мятый мешочек, кладет на колени. — Что я еще тебе покажу? Это сыновы. Достает завернутые в тряпицу погоны и ордена. Они гремят, как гвозди в мешочке. Крупинки сахара на них от конфет. — Не взяли с собой. Пусть, говорят, дома остаются. Сколько уже в городе живут, а деревню все своим домом считают. И что так людей по свету носить стало? Учатся, учатся… Выучатся, и больше их для матери нету. Теперь легко семьи зорятся. Вот и ты приехала. Интересно тебе сидеть около чужой старухи, молоденькой такой? Вдруг она оживилась. — А ты газету-то читала? Вчера старик принес. Говорит, ты написала. Про нашу деревню. — Где? — Поищи там. Он ее за столом в руках трес. Я залезла на скамейку, сняла с полки верхний слой газет. В последнем номере, на весь подвал статья Е. Холшевниковой. Я поймала глазами первые строчки столбца.
IX
Пыльный термометр на котле тускл. В нем не заметны даже деления. Верх кочегарки пылен, и на темные углы потолка не хочется смотреть. Я люблю ночи наедине с собой. С замшевой мягкостью светится пыльная лампочка. Мне хочется, чтобы все уходили быстрее из кочегарки, чтобы можно было думать о работе, что осталась на мольберте. Я ее должен выходить по земляному полу из угла в угол, насладиться ею до усталости. А если оставлял дома замученный кусок, то не мог спокойно оставаться здесь. Я швырял уголь в печь и злился, что он долго не разгорается. Хотелось немедленно бежать, уничтожать мастихином, избавиться от того, что там у меня есть. Ни секунды не хотелось осознавать, что оно есть. Так есть. Ровно по всем колосникам горит уголь. Я не закрываю дверцу. Жар падает на руки, стягивает кожу. Я сижу и думаю… Днем кочегарка вроде беспрерывной импровизированной летучки. Утром Дмитрий Алексеич отпустит горячую воду шоферам и сидит на перевернутом ящике. Тарахтят остывшие моторы, вбегают в кочегарку трактористы. — Дед, давай своего! Утром трактористам всегда некогда. Они затягиваются самокруткой и всякий раз удивляются: — Самосад покурю — весь день помню. А на папиросы только злюсь. До конца не пробирают… — Как вино. А у деда — «Московская». Он в этом толк знает… Дмитрию Алексеичу видно, как нравится трактористам быть в кочегарке. Прохладный, чисто подметенный земляной пол, огонь в раскрытой дверце. Им разъезжаться по дорогам, везти на поле навоз, ехать за силосом. Они залезут в кабины, будут смотреть на медленно набегающую серую ленту, подавая еле заметным движением на себя рычаги. Руки будут дрожать от ровной работы мотора. Исчезнет то неторопливое беспокойство, что всегда преследует их, пока не заведут мотор. Потом беспокойство это отпустит. — Ну, дед, и работу ты себе выбрал! «Не бей лежачего». Поменяться с тобой, что ли? Подкинул уголька и жди… — Ты бы напортил здесь все, едят тебя мухи. Наверно, опять сегодня последним поедешь… — Ты меня, дед, не критикуй. А то мой трактор сюда повернут, а тормоза, бывает, отказывают… Дмитрий Алексеич скучнеет, когда все разойдутся и он останется один. Тогда ему хочется почитать что-нибудь, но книг он давно не читает. Если начнет, то уж нужно и дочитать до конца, а от этого у него глаза заболевают, воспаляются, и начинает ломить в висках. Дмитрий Алексеич читает только газеты, но в кочегарку их не берет — темно здесь — и радостно ждет, как развернет ее дома, еще свежую, с незнакомыми картинками. Здесь достает завернутую в кисет газету, истертую на сгибе, и, прежде чем оторвать ее на папироску, развернет и почитает слепой текст — он окажется самым интересным, только в нем всегда недостает конца. Дмитрий Алексеич досадует, разворачиваетобозначенную квадратами газету всю, но конца так и не находит. — Мы думали, ты в городе остался, — встретил меня Дмитрий Алексеич. — Все привез? — Привез, — сказал я. — Как вы здесь? Дмитрий Алексеич оделся и сел, положив рядом шапку. — Сколько там пожил? — Неделю. Я за вас эти дни отработаю. — Об этом разговора нет. Раз тебе надо было. Стеганые брюки на коленях у него блестят, а кожа на пальцах рук залощена до желтой пластмассовой прозрачности. Я смотрю на его пальцы, и мне кажется, что ощущения их атрофированы и прикосновения их к дереву будут слышны. Я не пойму, что держит его сейчас в кочегарке, и его деликатность не позволяет сказать это. Когда я шел, увидела меня тетя Шура, крикнула из ворот: «Андрюш, сменяться? Гони быстрей старика… Нам письмо Миша прислал. Он его ждал. Обрадуется». — Значит, с неделю ты там? Он смотрел в землю, скособочился и достал из кармана кисет. Начал разворачивать машинально. Без кисета я его почти не видел. — Мне вот что непонятно… Учили тебя… Денег на тебя государство затратило. Кого же оно из тебя приготовило? Кем ты для него должен быть? Со мной уголь кидаешь, а от чего ты убежал? Не зря же оно тебя учило? За учебу ты должен рассчитаться… А оно тебя кормить должно. Есть же у вас такие, что своей работой живут, своим делом? Или все так? — Есть… Я рассказываю о Корине, Пластове, о переполненных запасниках музеев, о творческих дачах художников, о художественных цехах, где художники конвейером выполняют заказы школ на изготовление копий портретов. О надеждах на лето, на свободные месяцы, что «вот заработаю на хлеб, тогда что-нибудь начну»… Проходит лето — там подвернулся хороший фондовый заказ, и надежда начать все отдаляется. А потом вдруг выясняется, что даже так не можешь начать, как умел. На сотню человек, получивших специальное образование, — пять человек остаются художниками. Остальные… Кочегарят, в общем. Дмитрий Алексеевич уходит. Я остаюсь один. И ничто не мешает мне думать. Я вижу белый нетронутый фон, смутное, ускользающее видение чего-то неясного, что должно быть у меня. Я еще не знаю, что это будет, но я вижу это, и мое нетерпенье уже торопит ночь.2 марта. Юрка вернулся из правления быстро. Неодобрительно сказал: — Председателя в райком вызвали. С парторгом. По поводу статьи. Вот чертыхнулся! Мне еще и сейчас не по себе. В общем, с тобой не соскучишься.
3 марта. Сказали, что машина в райцентр пойдет через час. Мне нужно походить по магазинам и успеть в районо. Я жду в конторе. На стене длинный, как простыня, табель учета трудодней. Я читаю графы: январь, февраль. Очень наглядная агитация. У свинарок по семьдесят пять трудодней за месяц, как у механизаторов. Было утро. Я села к окну. По дороге трактор тащил сани с флягами. Алюминиевые бока тускло вспыхивали на солнце. Мальчишки с сумками догнали воз и упали животами на фляги. Прокатившись, соскочили и направились к школе. Я узнала Санька. Без пальто, в мышиной распахнутой форме, низко опущенной сумкой он бороздил по снегу. Неподалеку от плетня женщина скалывала топором лед у крана, обмотанного старой телогрейкой. Снег, оттаяв, осел, и дорожка к крану высилась тоненькой дамбой. Ледяные брызги от топора вспыхивают и сыплются мучной крошкой на ярко лучившуюся наледь. Овечка с ягнятами каким-то чудом залезла на крышу, топчется на сене, и беленький ягненок прыгает вокруг, останавливается и далеко засовывает голову под ногу матери. Звонит телефон на стене. Мужчина притушил о плиту папиросу, лаконично ответил: «Нет его. Уехал. А он на месте не сидит». Всегда — уехал. Председательский «козлик», хрустя сухим ледком, остановился у крыльца. — Уже здесь! — сказал восхищенно мужчина. — Ну и носится! Замотал шофера. Другой, в измазанной брезентовой куртке, улыбается: — Иван вырваться не может. Говорит, курить отучился — за день папироску достать некогда. — Зачем машина-то в район идет? — Он дисковые пилы достал. — У шефов? — И здесь успел… Я знаю этих мужчин. Маленький, почти подросток, с белой головой — тракторист на «Беларуси»; другой — комбайнер, а сейчас ремонтирует трактор в мастерской. Солнце жарко греет через стекло. Я невольно слушала их разговор и думала о газете. Думала, как они читали мою статью и удивлялись глубине постижения их жизни. Мне казалось, что вот эта их жизнь видна мне, понятна и уже подвластна моему объяснению. И я причастна к ней. Председатель кивнул молча и прошел к бухгалтеру. В серой шапке крупного каракуля, с немолодым обветренным до темного лицом. Голубые глаза на нем казались выцветшими. И были они строги, не расположены к улыбке. Я знала его отношение ко мне — этакое взрослое подтрунивание. Он как бы радовался разговору со мной и не сомневался, что я-то его шутки пойму. Сегодня председатель меня не заметил. Может, и не исчезло бы доброе восприятие утра, если бы не этот разговор, неожиданный и все перевернувший во мне. В этот день я так и не поехала в район. Началось со статьи. И первые слова ошпарили меня, сняли атмосферу радости. Нас сразу же разделила стена неприязни. Хотя Петр Сергеевич и крепился, держался в пределах такта, я почувствовала, что мы все понимаем и видим по-разному. Полюса наших позиций четки. И я собралась вся. Собралась отстаивать себя, потому что здесь не могло быть компромисса. «Ты приехала. Пожила три месяца. Посмотрела на все с крыльца и поняла… Ах, какая я умная, а все…». «…и строится благополучие достатка на недоверии. А жизнь, которую делаем мы, предвидим, предполагает вознаграждение нашего ума и наших дел. Честное вознаграждение за нашу отдачу. А если не гасится тяга прибавлять к своему личному достатку еще и колхозный, не пресекается, а поощряется общей стихией, то разрастается злокачественная опухоль нечестности. Как тогда жить с этим?» «Духовные утраты необратимы…» Так? Председатель глянул на меня в упор. Нет — мы не были с ним друзьями. — Что за самонадеянность… Начитаются… В пеленочной мудрости сами себя уведут куда-то, а потом опомнятся, сообразят, что их не понимают, и давай накручивать, поучать… Вот уж действительно по пословице: «Цыплята курицу…» И ты… Написала… А сама-то еще даже скорлупку не пробила. Знаешь, как это называется?.. Палки в колеса. Приедут вот такие… Накладут прямо на дороге… — он замялся, — и объезжай. В глаза это он не мог сказать — сказал в стол, будто кому-то. — Ты от имени людей говоришь. Что они ждут… Что им надо… А я здесь уже шестой год с ними и знаю не только то, что им надо, но и… Я изыскиваю способ, как из прорухи вылезти, научиться дыры затыкать. А что ты предложила? Чем нам помогла? У меня уже за эту картошку без тебя выговор по партийной линии. …Духовные утраты необратимы… Ты знаешь, что вот Безлепкину надо? Сейчас он в конторе стоял… Я его осенью с трактора снял… Его послали боронить, а он уехал на другое поле культивировать — выгоднее было. И ведь знал, что поле нужно к утру готовить. Рвач он… Вот где утрачиваем. Снять-то я его снял, а у него шестеро детей. Четверо в интернате в школе. Им нужно четверо пар сапог, да вторую обувь. Каждому пальто да школьную форму. И заплатить за интернат за четверых. А где ему взять деньги? Я ему их должен дать, он их у меня заработал… Должен дать… Он вчера напился и подступил: «Почему трактор не даешь? Детей с учебы сорву — отвечать будешь». Видишь? Я отвечать буду. Я ему обязан каждый месяц деньги выдавать. Где я их возьму? Подскажи! Выговор мне дали, а денег шиш… Ты меня долбанула — и в стороне. А что мне теперь делать? Понимаешь?.. И вдруг он будто устал. — Я попросил бы тебя. Ты же случайная здесь. Не мешай… — У него было издевательски усталое выражение. — У меня ведь тоже образование не ниже твоего, только я еще знаю что-то… И увидел это не с крыльца. Так по каким же законам ты начинаешь меня судить? Он уже овладел собой, горячность спала, и у него появилась возможность сожалеть о запальчивости. Я не возражала ему, сидела ошеломленно покорная, он уже давал понять мне, что никаких умозаключений моих всерьез не примет. Я не убежала. Скованность удержала меня, позволила прийти в себя и дала возможность спокойно высказаться. — Если даже вы, с вашим высшим образованием, ничего не поняли из того, что я хотела сказать, и возмутились до состояния невменяемости, то, конечно, здесь трудно… Ни на кого я не накидывала петлю. Я попыталась разобраться, предостеречь. Помочь. И дело вовсе не в торговле, а зарождающейся тенденции к духовной изоляции. К вам у меня претензий нет. Все гораздо сложнее. Так отчего же разговор об этом выводит вас из себя? Может, я не имела права вмешиваться? Я моложе. Но я не знала, почему еще нужно объяснять кому-то, что ответствен человек не только за то, что он способен сделать, а и за то, что он видит несовершенство жизни и не старается быть в стороне. Еще не известно, кто будет прав в нашем отношении к жизни и чья оценка запросов людских будет точнее. Но кому я должна доказывать это? Ему? Ведь он будет оспаривать меня конкретным знанием жизни, а у меня только предчувствие. Я за человека, намеченного в моей душе, за человека, которого: я предвижу, в которого верю. Это лично мое. Это не постороннее. Я буду здесь. И еще представится возможность нам увидеть, что духовная высота людей проявится не в тех границах, которые отвели им вы. Еще увидим… Я сказала: — Значит, вы здесь человек заинтересованный. А мне места не отводите? Вам не кажется, что я уже здесь не зря даже потому, что вот такой разговор произошел. Он должен был быть. Когда ваша запальчивость уляжется, то о чем-то вы подумаете совсем иначе. Если вынести наш разговор на суд людской, еще не известно, какой резонанс он получит и кто будет более уязвим. — Какого разговора ты хочешь? На что надеешься? Моего осуждения?.. Кем? Ничего вы не понимаете здесь. Случайные вы в деревне. — Муж агроном. Я учительница. Специальности не второстепенные для деревни. — Агроном! Какой он агроном… — Председатель язвительно хмыкнул. — Сельскохозяйственный балласт. Временщик в спортивной командировке. Я голос потерял. Кричу, бегаю… Это же его дело — быть хозяином, а не гостем. А он сидит себе на телеге — прутиком по голенищу постегивает. Дождь. Заморозки. Снег полосу того и гляди завалит. Пшеницу свалило — не знаем, как ее взять, закрутило всю. А он — прутиком по голенищу. И я вдруг в это сразу поверила. У меня упало все. Я думала… Я оправдывала свое существование здесь тем, что мой муж отдает себя работе, которую избрал, любит, принят ею. А оказывается… Наша жизнь с ним в деревне — прутиком по голенищу. Безжалостная оценка. Машина остановилась за воротцами у конторы. — Екатерина Михайловна! — кричали мне. — Ждем. На машину уже подсаживали какие-то мешки. Я соскочила с крыльца и побежала домой.
2 марта. Поросят грузили с вечера, пока не стемнело. Свинарки ловили их за ноги и подавали в кузов. Они бегали по машине, стучали о доски и сбивались в углу. Ловить старались ровненьких, чтобы покупатели не придирались: «Все одинаковые, по четырнадцать килограммов». В машину погрузили по сорок штук. Натянули тенты. В семь часов вечера три машины подошли к правлению колхоза. До города семьдесят километров, два часа езды. На базар выезжают в субботу, чтобы перед открытием в воскресенье быть уже там. Ночами заморозки. Постоишь ночь у закрытых ворот рынка, замерзнешь и поросят простудишь. У них ноги тогда отнимутся. — Если сейчас выедем — в десять часов будем у рынка. И ждать до шести утра? — Поедем к председателю. На каждой машине по два человека — торговать поросятами. Один поросенок — семьдесят пять рублей. Еще очередь за ними. — Там стоять долго, — сказала Лида Бессонова председателю. — Поросят зазнобим, они на ноги не станут. — Что вы предлагаете? — Часа в три поедем. К открытию. — А здесь? Теплей, что ли? Логика колхозников председателя озаботила. Он уже не настаивал на немедленном отправлении машин и еще не знал выхода. Он отвернул тент, поднялся на колесо и заглянул в кузов. Поросята, набитые тесными спинками, как белые булыжники, сдавливали друг друга боками. Он потрогал их в темноте — теплые, податливые. Спинки хрюкали у него под пальцами, и визг, как рябь по воде, прошел по машине. Председатель соскочил. — А если… Ну-ка сбегайте за Макосовым. Давайте в гараж. И пришло оживление. — В три часа отправитесь. А пока пусть постоят в тепле. Две машины ввели в гараж, а третья не входила — дуги высоки. Мучились, мучились — чуть дуги не сломали о верхний косяк. Оставили на улице. Откатили. Постояли рядом, досадуя и не находя выхода. — Ладно. Подоткните получше тент. Пусть тут стоит. Только почаще проверять приходите. Вместе со всеми председатель ушел домой. Сопровождающие перед отъездом в баню сходили. Часа по два успели поспать. Оделись потеплее и к трем часам были на месте. Открыли гараж. Петр Ларин зашел в темноту, поднял тент сзади, потрогал на ощупь. — Спят. Крепче нас. Э!.. Сережа Чекин вывел машину. Лида Бессонова залезла в кузов, расталкивая и выбирая, куда поставить ногу. Ничто не шевельнулось. — Ой!.. — Она нырнула под тент. И показалась снова быстро и молча. На нее глянули и полезли в машину. Поросята были мертвы. Бросились к другой машине, что еще стояла в гараже, и там, под тентом, не было движения. Поросята еще теплые. Раздвигали их, безжизненных, они ударялись о кузов головками. Рты их открыты. Ноги, прижатые к животам, затвердели. Только в машине, что не вошла в гараж, поросята визжали и жались друг к дружке боками. Из ста двадцати поросят, отгруженных на продажу, — восемьдесят задохлись от газа. Ночью сбегали за председателем. Утром вся деревня возбужденно жила тягостным событием.
23 марта. В моих генах, повторенных в десятом поколении, наверное, есть что-то от крестьянки. Иначе отчего же так невыносимо близок мне запах обожженного помела, когда тетя Шура подметет им под и проносит по избе в сенцы. Еще тлеют сухие листики и пахнет горячим хлебом, золой, распаренными прутьями. И этот запах стоит в избе и в сенцах и над всей деревней утром. Я сижу на скамейке у стола, ловлю его исчезающую теплоту, и мне становится грустно, словно что-то чувствую в себе и теряю. Выхожу на улицу. Из труб падает дым. Не идет вверх, а расплывается, сваливается с крыш на воротца, а под ним движется тень по снегу, и глазам мягко смотреть на эту тень, свет там не так тепел и резок. И дым с нежным запахом помела и пода бережно клубится над головой, оседает за плетень. За избами, на оттаявших пятачках соломы, расхаживают куры, выпущенные уже на солнце. Красный петух, широко расставляя ноги, разгребает солому под собой. Вскинет голову и начинает ходить важно, грудью вперед, как шаржированный жених из хора имени Пятницкого. А атласное оперение его на шее плывет, плавится в беспокойном движении, и тяжелым лоскутом дрожит рубиновая бородка. Он прыгает на изгородь, на жердь, как здесь называют палку между стянутыми кольями, декоративно топчется и высоко вскидывает голову. Потом откуда-то издалека, из-за серой купы черемушника, от дальних дворов слышится поспешный и длинный голос ответного крика. Он будто навстречу мне. И не в глазах, а где-то глубоко начинаются во мне слезы. «Ах, книжные университетские девочки. Я понимаю ваши улыбки. И все-таки вы никогда не узнаете о моем ощущении жизни. О нем вам никто никогда не сможет рассказать. Современная литература боится быть сентиментальной. А этим утром я живу беспокойным сочувствием. Вижу лицо Лиды Бессоновой, замедленное, горестное топтание у двери Дмитрия Алексеича, когда он, мешкая, развертывает кисет. Тетя Шура видит его и настораживается у стола. — Мать… — скажет он, и от этой интонации его опустятся у тети Шуры руки с фартука. Еще ничего не ведающая женщина принесет яйца из стайки в поле телогрейки, а в избе уже ждет ее соседка. Она здесь наскоро, не застегнута. — Я к тебе… Кума, ты уже знаешь?.. — Что случилось-то?.. Избы полны напряженным недоумением. «Кто?» «Как же это могло случиться?» Здесь каждой клеткой сознания знают цену потери, цену одного поросенка, одного вздоха его жизни, одного утра, одной его кормежки. «Кто? Теперь кто виноват?» Здесь каждый судья. Своя мера вины. — Сторож-то где был? — С девчонки какой спрос? — Нагрузили, а сами в баню. — Черт его знает! Разве подумаешь про бензин этот. — С председателя теперь взыщут. Сам-то он никому не спускал. — Я даже слышу градацию их голосов. И в разговоре этом не городская пассивность, не безучастное сочувствие. Еще ничто не осмыслено, не выяснено. Не поднялся гребень накала, и не определена мера морального приговора. А он будет. Потому что потери колхозные здесь — беда каждого. И все мне кажется, что к беде их я теперь тоже причастна.
28 марта. Целый день по улицам деревни моталась «Победа» из редакции местной газеты. Вечером у нас под окнами прокричал клаксон. Я увидела Юрку с корреспондентом. Они разделись у двери. — Случайно от вашего мужа узнал… Так это, оказывается, вы Холшевникова? Корреспондент коротенький, с круглым лицом. Лица его как бы не было… Нет, оно было, но его не было видно. Был виден новенький университетский ромбик на залосненном лацкане костюма. Он его даже, кажется, не докрутил, чтобы тот сильнее выпирал. Корреспондент достал мягкий блокнот, положил рядом на стул. Он довольно пыжился. Своим образованием был полон взахлеб. Наверное, заочник. — Материалу собрал на целый очерк. Ну, председатель ваш делец… И люди ему под стать. Замкнулись. Ни из кого слова не вытянешь. Круговая порука. — Он возмутился — Сегодня же материал этот обработаю. Только газета наша мала. И другого профиля. Специфика не позволяет… Все отступления вытравливаются. Он показал, как вычеркивается что-то из газеты, нажимая на мнимый карандаш. — Попробую углубиться тоже. И пойдет… Только масштабы не те… Он смотрел на меня, как бы давал понять, что мне должно быть известно, о чем он говорит. — Толковый у вас материал получился. Чисто… этические проблемы, — он обрадовался находке. — Мой, конечно, будет конкретней. Мало еще здесь нас таких, — сказал он убежденно. — Мы бы всю домостроевщину растормошили. Ваш Измаденов божок. Хотел с ним побеседовать… Захожу. Он знает меня, конечно. Увидел, но одевается. «А что со мной разговаривать. Вы же с другими говорили». Говорил. «Вот и… Другие обо всем лучше моего знают». Ушел… Ну ничего… «Еще один умный, — думаю я. — Железно уверен, что делает доброе дело». Его ромбикового образования не хватило, чтобы оценить мои ноги и их откровенное покачивание у его колен. Он не знал, хорошо это или плохо, даже среди «корреспондентов». Юрка недоуменно насторожился. — Надо еще к этому парню заскочить, к художнику. Здесь у вас живет. Может, правда, что стоящее. В газету сосватаю. А ты, Юрий… Когда у тебя показательные выступления? Сообщай… Знаешь, как это подадим! Первое начинание в районе. Ромбик у корреспондента был значительный, новый, не истертый, как галстук у подбородка. Очень яркая визитная карточка. Он оделся. — Надо бы нам побольше общаться. У нас там глушь, а здесь, наверно, воете? Он уехал. Почему-то было ужасно стыдно, словно меня высекли.
2 апреля. Юрка говорит, что любой технически грамотный человек должен знать, что маленькая доза бензиновых испарений для животных смертельна. Последствия можно было предвидеть. Я не поддерживала разговор с Юркой об этом. Мне было безразлично все, что он говорил. Какое-то отупляющее равнодушие расслабило меня, и я в себе не проясняла это до времени. Будто лишилась чего-то очень главного и все оттягиваю, оттягиваю, чтобы не увериться в своем предположении. — Председатель собирает общее собрание. Здорово он погорел, — сказал Юрка. Я ничего не ответила. — Юрка, а ты точно уверен, что сам эти машины не загнал бы в гараж? Юрка вопросительно уставился на меня. — Почему ты не подсказал? — Я не телепат… Не предчувствую, что может в деревне произойти. — Значит, ты просто не знал и не успел предупредить, а как технически грамотный человек не сомневаешься, что маленькая доза бензиновых испарений для животных смертельна. Просто ты не знал, что в деревне делается…
4 апреля. Что я ждала… Я понимала, что сама не готова к оценке. Выход не нашла бы и хотела повзрослеть сейчас, рядом с людьми. Я верила в их духовную зрелость. И надеялась… Надеялась, что все мои размышления в статье не пройдут даром, как-то взойдет мой моральный посев. Неужели нацеленность моих разговоров канула? Я ждала оправдания своей жизни здесь, своего места. Пронька и Безлепкина на собрание не пустили. Председатель распорядился — пьяных выводить. Пронек кричал в дверь: «Бражка собралась? Да? Все снюхались! Знали, кого удалить». Пнул два раза в закрытую дверь. Не носком, а подошвой, и ушел. Председатель сидел в стороне. В разговор не включался. Вид у него мятый. И докладывал он собранию бесстрастно: — Вы все знаете, что в субботу была отгружена партия поросят, сто двадцать голов на три машины. Сопровождающими назначены на одну машину Лида Бессонова и Иван Белов. На другую — Петр Ларин и Герасимова. На третью — Вера Назарова с Белоконем. Ночью, перед отправкой на рынок, две машины поставили в гараж, одну на улицу. Восемьдесят поросят задохнулись. Живы остались только на машине Назаровой и Белоконь. Поросята весили по четырнадцать, пятнадцать килограммов. Продавали мы их по семьдесят пять рублей. Значит, колхоз потерял шесть тысяч рублей. Решение этого вопроса я выношу на собрание. Оно должно решить, куда отнести убытки. На чей счет. Председатель сел. В зале было тихо. — Можно спросить у Ларина? — Не видно было, кто говорил, но голос слышали все отчетливо. — Когда машины подошли к конторе, кто распорядился поставить их в гараж? Ларин поднялся. Белую толстую кепку смял в руке, оперся ею на спинку стула. — Председатель Петр Сергеевич. — Правда, Петр Сергеевич? — Правда. — Еще Ларину. А приходили их проверять ночью? Ты или Лидка? Мороз же? — Нет. Мы думали — в тепле. — А у Белоконя на морозе. — Я приходил раз. Смотрел своих. — А тех не слышал? — Там тоже визжали. Больше моих. — Они задыхались уже! — крикнули из зала. — Караул кричали! А никто не сообразил… Головы!.. — Я скажу. — Белоконь поднялся от стола. Он был в президиуме. — На нашей машине поросята остались живы. Но это случайно. Здесь моей заслуги нету. Мы машину не могли в гараж загнать. Если искать виновных, и моя вина выходит такой же, как их. Моя машина еще в худшем положении была. Мы с ней как бы не справились. — Дурак, — шепчет кто-то за спиной. — Дярябнут с него, будет отдуваться. — Значит, на одного человека нечего валить. Все на равных были. Кого виноватить? — Как — кого виноватить? — соскочила бойкая доярка. — А мы за двух коней плотим. Нашли виноватых. Нам не спустили… Лошади сами объелись, а на Пашку насчитали. — Сравнила! На Пашку… Пашка выгнал коней за деревню, а сам пить… — Ты ему подавал? — Ладно! — Перебранку прервали. Доярка села. — Что получается? Я с места. А то тут ног много — не пролезу. Шесть тысяч прошляпили. Если старыми деньгами — шестьдесят. Можно купить три трактора. Если такими кусками будем колхоз раскидывать, что получится? Я думаю, виновных надо найти. Поровну раскинуть на них на всех, а не на одного председателя. — Прям, — всполошилась Лида. — Я-то что? Только смотрела. А мне их еще больше всех жалко. Своих на машину ловила. — Председатель человек образованный, должен гнать, что в гараже пары бензинные. Это каждому шоферу известно. Он подумал об этом? — Нет, не подумал, — сказал глухо председатель. — Так вот надо, думал чтоб… — Я больше с поросятами не поеду! — крикнула женщина с толстой шалью. Поднялась. — Других посылайте. Душа болит, не знаешь, куда деться. На людей глядеть боишься. Мы привезли поросят шефам, заехали во двор на шахту. Люди машину окружили, ждут. Поросята такими маленькими показались. Когда цену назвали — нас бабы чуть не разорвали. Мужики мешки свои свернули, зашумели. Нас так домой и отправили. Даже сами борта закрывали. Теперь лучше к шефам не заявляйся. — Ты давай по существу. Рассусоливаешь! — А я по существу. Послушали бы, как на базаре народ ругается. Одна женщина купила у нас поросенка, принесла домой, а он у нее на ноги не встает, то ли обморозился, то ли от тряски. Она его притащила обратно, стала деньги требовать, милицию пригласила. Кричат всегда: «Паразиты, торгаши». Хоть сквозь машину проваливайся. Мы когда с базара едем — меж собой возмущаемся, а здесь молчим. — Ладно… Не уводи собрание в сторону. Женщина оглядела ряды, но не нашла, кто ее одернул, ненавидяще села. — Кричим, кричим… А кого выкричим? — грузный мужчина в шубе-борчатке прошел по ряду, прихрамывая, волоча ногу, остановился у сцены. — Это навалилась на нас стихия. Председатель не предусмотрел. Он машины зачем в гараж ставил? Чтоб теплее. Заботился об общем деле. Даже когда ему надо дома быть — он сам машины затаскивал. Теперь мы его ударим, у него руки опустятся, он трекнется и бросит все. И кому мы этим напортим? Я думаю, это дело надо загасить и сообща как-нибудь справиться. Женщины, что сидели рядом со мной, непроизвольно прокомментировали: — Справимся… Легко как… Ты их видела мертвых-то? — Прибегала. Смотреть страшно. Ровные, как один. Да их сразу же председатель на птицеферму отправил — курам на корм. Я сидела и слышала, что зал, как единый организм, активно и мучительно подбирался к истине. Кто-то сказал вслух, не поднимаясь: — В государство надо было сдать. Поросята бы росли, и мы деньги получили бы. — Т-ш-ш-ш… — зашикали сзади. — Тише ты. Еще не насдавался. Подскажи… Это легче легкого… Сдал и весь год носом шмыгай. Председатель молчал, смотрел перед собой. Лицо его было безучастно, и собрание его не чувствовало. Мнения качали зал, как лодку-болтанку, — то вспыхивали, то вдруг затаивались. Я была в эпицентре общей беды. Что же я хотела? То видела себя на городском базаре, подходила к торговке, что с неприступным терпением сфинкса продавала карандашной толщины связочки укропа по пятнадцать копеек. — Это же на один борщ не хватит — и пятнадцать копеек? И на старые деньги такой пучок пятнадцать копеек стоил. — Иди, иди… Дорого… Ты его сама порасти, — считая меня дурой, с уничижительным превосходством отгоняла торговка. Она знала, что я снова вернусь к ней и куплю этот укроп ее. Я покупала. Но испытывала ли она радость, когда я уходила от нее с покупкой? И могла ли я сейчас упрекнуть этих людей в чем-то? Это их жизнь. От этого зависело их благополучие. Каждый получает за свой труд. Но я ждала высокого сознания доброты, кроме заботы о материальном благополучии — моральной цены доходов. Я думала: «Неужели им все равно, как приходит к ним достаток?» Мне хотелось, чтобы люди знали об обоюдной радости у прилавков, а в зале этого чувства не искали. Искали виновных, что должны пополнить потерю. И когда предложили: «Передать дело в суд. Прокурор разберется, найдет и правых и виноватых» — настороженно притих зал. — Дурное дело не хитрое. В притаившейся тишине люди почувствовали, что установившийся порядок жизни их под угрозой. Тогда стали голосовать. «Кто за то, чтобы гибель поросят отнести за счет стихийного бедствия, прошу поднять руку». Голосовали. Почти все. Против не было. Против не было даже руки той доярки, что со слезами кричала с заднего ряда. Вот тогда у председателя и появилась живинка, хотя в ней еще не было прежней силы. — Товарищи колхозники. Все собрание я молчал. Вы, вероятно, сами заметили. Это, чтобы после не говорили, что я давил на собрание. Я ни слова не сказал. Вы все сами решили. И я верил, что вы решите по-справедливому. А теперь я скажу. — Он подошел к краю сцены. В голосе его уже была доверительность. — Ущерб наш не на ту сумму, которую я назвал вначале. Если бы его начислили на меня и других, если бы за него пришлось расплачиваться, то фактическая наша потеря совсем другая. На базаре мы продаем поросенка по семьдесят пять рублей, но государственная его стоимость — двадцать пять. Все колхозы сдают мясо живым весом по этой цене. И мы свой план сдали по такой же цене. Значит, убыток наш не шесть тысяч в базарных ценах, а две тысячи. Вы теперь опасаетесь, что, мол, нечем нам будет рассчитаться на трудодни. Раз так… Я обещал. Раз обещал — то найду. Сотню поросят мы еще продадим. Как я выяснил, в ближайшее время в области поросят ни один совхоз продавать не будет, а последними постановлениями правительства разрешено в городах держать скот. Мы используем создавшуюся конъюнктуру, и сотню поросят у нас возьмут даже по восемьдесят рублей. Поросята у нас хорошие. Значит, и в этом месяце на трудодни вы получите. Все было правильно… Люди сообща решали свою жизнь. А мои чувства были неопределенны. Мне казалось, что-то произошло недоброе. Что я ждала? Ведь все было правильно, все было честно. Люди имели право так решать. И решение их было самым гуманным. Но решали это они — будто знали, что идут на что-то неузаконенное, с потайной оглядкой, и идут сообща. И мне не нравилось это их «сообща». Не нравилась тенденция что-то решать таясь. Тенденция решать шепотом. Я ненавидела эту стадность. А ведь я думала, что это для них я писала статью о Чекине, о его кожах и о внуках деда Подзорова. Но меня не помнили. Люди себя не пересматривали. Председатель знал, что у них глубоко, а я была легка, как поплавок, со своими идиллическими надстройками.
X
— Ты когда приехал-то? — Утром. — Не отдыхал. Холст какой натянул! Что ли, большое что хочешь начинать? Мама постояла и призналась: — Я посмотрю, как мужики приходят на твои картины смотреть. Сидят перед ними смирно, у меня и горе будто проходит. Думаю: хоть и денег у тебя за них нету, все равно пусть смотрят. И даже радость какая-то. Мужики — они ведь серьезные, им все всегда много знать хочется. А тебе, если в деревне понравилось, и работай. Как-нибудь проживем… Ой, что я стою?.. Она будто испугалась, но от усталости ничто в ней не встрепенулось. — Ты и не ел ничего, наверно? — Побудь немножко со мной, мама. Я давно тебя не видел, не смотрел на тебя. Когда-нибудь мы с тобой получим деньги. Много денег. Кофту тебе купим — самую лучшую, какие только есть на свете. Платок оренбургский — мягкий и красивый, — ты никогда таких не видела. Мама смутилась от непривычного внимания, хотела уйти. — Ты и так много чего-то навез в коробках. — Краски. — Все деньги, наверно, истратил? А в рубашке какой уехал, в такой и приехал. — Вот и нет. Какие ботинки купил! Сейчас покажу. — Я достал чехословацкие туфли. — Нравятся? Мама молчала в тихой обалделости. — Ой… Нехороши. Носы шибко острые, как на смех… Клоуну. Надеть стыдно. — Сейчас такие носят. — Носи, если тебе хорошо. Только в деревне ведь, если наденешь, мне все равно будет стыдно. — Ладно, ма, обещаю — при тебе не надену. — А мы сегодня картошку перебирать закончили. Изнастались. Пойдем есть. Щи из печки доставал? — Она открыла заслонку. — Пока ты ездил, ой, что здесь было! Катя Холшевникова в газете про нас написала. И про Подзорова, и про Чекина кожи. Вся деревня читала. Голумели три дня. Она ведь теперь учительницей работает. А Пронек встретил в конторе Чекина, возьми ему да скажи: «Ну как, газету видел? Теперь с тебя борчатку снимут». Сережка Чекин собрался со своими дружками, напился в воскресенье и пришел к клубу Пронька искать. А там плотники из города деньги получали, домой собрались и тоже пьяные. Те, дескать, городские, а эти наши — боксеры, агроном их учит. Ну, слово за слово — и… что тут началось!.. Губы поразбивали, кровища льет. Один плотник на машину залез, наши за ним. Он цепью отмахивается, бьет по рукам — весь кузов искрошил. Тут Юрка прибежал. Без шапки, в свитере одном. Кричит: «Перестаньте, перестаньте», — а его боксеры все лезут. Он тогда как давай их сам… Как кого ударит — так падают. Дрались страшно. Председателю это не понравилось. Хорошо, что ты в городе был, там, поди, такого нет — у нас только.10 апреля. Андрей зашел и поставил авоську на стол. Достал из сетки три бутылки «Рислинга» и свертки в упаковке гастрономов. — Откуда? — удивился Юрка. — Из города. Зашел перед отъездом в магазин, смотрю, ну и… не устоял. Дома одному сидеть не хочется. Я разворачивала колбасу и сыр. Студила ладонь целлофановая обертка «любительской». Я была рада сегодняшнему вечеру. Появилась студенческая праздничность, когда нет ни к чему претензий и просто радуешься случаю, что собрались вместе. — Я поджарю. Только вам затапливать. — А можно не жарить, — по-ребячьи упрашивает Юрка. — Опять дрова… — Можно не жарить, — притворно канючит Андрей. — Я бы вам показала свои кулинарные успехи. Знаете, что я уже умею? — Можно не топить? — тянет Юрка. — Давайте наскоро, а? Я гремлю крышками ведер в углу. Достаю капусту, холодец. «Разве можно такое ставить к вину?» — А это надо? Андрей, мы еще не ели… — Ставь все, — говорит Юрка. — Простим себе. Пододвигаем стол к кровати. — Долго там жил? — Неделю, — говорит Андрей. — Двум нашим парням из Суриковского мансарду дали. Они туда с женами перебрались, холстами перегородились. Рады. Утром жен отправляют на работу, а сами за живопись. Говорят, я тоже получил бы. Теперь прозевал. Зеваю… Всю жизнь. Спал у них на иллюстрированных журналах, наверное, поэтому полон замыслов. — Неужели так сложно с квартирами? Даже художникам? Андрей рассмеялся. — Художникам особенно. Инженеры от своих организаций получают, а у художников организация тунеядствующая. Они прошлый год косяками в деревню подались. Газеты об этом покричали. В общем, «патриотическое движение». А они через полгода все вернулись. Деревни-то чужие. Парни кочегарами не захотели работать… Андрей возбужденно насмешлив. — Я давно тебя не видел, — говорит Юрка. — Ты, по-моему, даже похудел здесь? — В форму вхожу. Я смотрю на него, на сгустившуюся синеву глаз, и не вижу той беспомощности, что была там, на лугах. И у меня ни смущения, ни сожаления. Ощущение такое, будто об этом я знаю только одна, будто это мне приснилось и я вольна, как хочу, думать об этом. Мне хочется рассмеяться, соскочить и закружиться по комнате. Но ведь Андрей знает об этом. Знает. — Мужчины! Ну что же вы? Я пью это всегда неприятное мне вино. Даже хочу, чтобы в нем было больше горечи. И с большей болью насилия я хочу пить его и наказывать себя до отчаяния, делать глупости, будто все мне — трын-трава. Я знаю, что еще не пьяна, только не чувствую себя. Я не материальна. Андрей только что приехал из города. В деревне пожил, поработал и уехал. А я? На что обрекаю себя? Жить среди людей, которые будут главным своим, подспудным вечно держаться кержацких устоев. Может, и пробудится у них когда вспышка удивления перед чем-то, но своим они не поплатятся. Андрей шутливо сообщает Юрке: — Парни чуть меня не женили. В следующий приезд, наверно, не устою. Посмотрю на тебя… На какое-то мгновение глаза его словно замирают в задумчивости, а сам он улыбается, весел. Я ловлю в себе непонятное эгоистическое чувство. Хочу, горько хочу, чтобы не было у него к другой никогда такого обреченного и радостного испуга. Это было только мое. Для меня. — Юра, давай за тебя, — говорит Андрей. — За то, что ты вносишь нечто, потребовал своего утверждения. Боксеры-то из этих парней ничего получаются? Помнишь у Джека Лондона? Какого-нибудь сибирского феномена обнаружишь. — За то, что в добрую форму собираешь энергию и даешь ее познать в новом проявлении. За то, что здесь уже не зря… Я поднимаюсь, выхожу из-за стола. Я хочу музыки — громкой, чтобы она оглушила меня, не дала взорваться. Я нахожу ее. Магнитофон на стуле бубнит, я слышу звуки его в полу, в стенах. Мы с Юркой убираем в угол стол. Андрей поднимается, и я вижу в нем грустное удивление, которое маскирует он напускной независимостью. У него исчезает улыбка. Я нахожу Юрку, и мы танцуем с ним с самозабвением, дурачась, как давно уже не танцевали. Юрка чувствовал, что ему легко, будто нашлась опять та близость между нами, что была совсем, совсем недавно — в век студенчества. Я видела, что Андрею нравится, как я танцую. Я повернулась к нему, позвала и поняла, что танцевать он не будет. Не потому, что не знает современные танцы, не принимает их, а просто не может, что-то в нем не позволяет вот так извиваться, ломать себя, крутить. Видно, студенчество с ним ничего не смогло сделать. В нем осталось больше крестьянина, чем художника. Так думала я. Так чувствовала. У меня хорошо кружилась голова. Чем спокойней он стоял, тем сильнее и отчаяннее мне хотелось бездумных движений без конца. Оборвался ритм. Щелкнул и помолчал магнитофон. — Андрей, — говорю я. — Ты не танцуешь? Мы с Юркой тоже тысячу лет не танцевали. Не можем. Наши танцы кончились. Очень медленно начинается вальс. — Вы только зиму здесь, — говорит Андрей. — Я недавно видел Лиду Бессонову. Думаю, кто же у нас еще так ходит? Думал, думал и вспомнил: Холшевникова! То же небрежение взгляда… Увидел ее подружку — опять Холшевникова! Юра, заметил, как они стали носить головы? Девчата теперь знают новые эталоны. Я жду, что скоро закончится вальс, уже узнаю по звучанию, что остался еще только оборот. «Ничего ты не понимаешь! Я здесь временная. Уже узнала это, поняла это и даже сжилась с этим. И Юрка. Юрка давно…» Солнце загорается на недопитых бутылках вина. Юрка перебирает на кровати бобины. — «Очи черные, очи жгучие», — сообщает Юрка. — Ставим? — А что, хорошие стулья, — говорит Андрей. — Сам делал? — Старик. Прямо скажем — с юмором дед. — Это что, Шаляпин? Откуда? — Юрка записал. Мы молчим. А Шаляпин задыхался от избытка голоса. Ему не хватало этой песни. Сейчас снова спать… — Пойдемте на улицу, — говорю я. — Походим.
12 апреля. — Сергея не пускают, — говорит Юрка. — Мне еще предстоит бой выдержать. Ничего, посмотрим… Через райком пробью. Юрка ел жареное сало. Оно брызгало со сковороды, как с газированной воды. Горячие шматочки остекленели и на концах сморщились розовыми прослойками. Юрка выбирал вилкой что посуше. — И надо было им подраться… Ну, завал… У председателя теперь козырь, не прошибешь… Я ему говорю о спорте в деревне, о пользе бокса, а он: «Это не спорт, а… Ты бандитов мне подготовил». Не глупый мужик, а в простых вещах не рубит. А то без этого у них драк не было! Нет, мы так не сработаемся. Ладно, я еще отыграюсь… Сегодня же в райком сбегаю. Эта поездка для нас слишком много значит… Неужели командировочные не выпишут? — В конце концов не один председатель решает, — сказала я, — отпустить вас или нет. В парторганизацию обратись. — Да? То ты не знаешь? Только родилась? Для здешних членов партии аргументация председателя слишком убедительна. У них интеллекта не хватает, чтобы ей противостоять. Так что при голосовании их руки сработают синхронно, как у марионеток. На лыжах до райкома добежать мне часа хватит. — Когда вы должны ехать? — Завтра: — И как долго продлятся ваши сборы? — Семь дней. — Едете, все? — Шестеро. Я заявку подавал заранее. Юрка торопился. — Ну, так о чем я тебе говорил? Ведь едем… — А почему Чекина не отпускают? — Его на бензовозку перевели. Теперь, видишь ли, оказывается, заменить некем. — А если действительно? — У Прокудина права есть. При желании выход всегда можно найти. — Прокудин же трактор ремонтирует. — Ты помогаешь им искать объективные причины? — Юрка, кому — им? А как ты сам на все это смотришь? — Ты что, не рада? Эту поездку не одобряешь? — Не знаю… Наверное, это хорошо… Но… Юрка весело озадачился. — Ты меня боишься отпустить на неделю? Я села на стул к столу. Навалилась локтями на подоконник. Мне хотелось сжать ладонями лицо, до боли сдавить губы, чтобы ничего не ответить. Передо мной стояло недоброжелательное лицо председателя: «…всю пшеницу скрутило… Я бегаю, кричу… Голос сорвал, а он — прутиком по голенищу». — Юрка, — говорю я. — Не уезжай. Наверное, ездить можно кому-то. И агроному… Только, понимаешь… Все ли ты сделал здесь? Так ли сделал, чтобы иметь право на такие поездки? — А что такое? — спросил он вдруг серьезно. — Это что-то у тебя новое? Кажется, даже жена мне сказала, что я плохо работаю. — Он встал. — Так вот… Знай, что я делаю здесь не меньше других и еще чуточку больше. И это «больше» для меня не менее главное. — Вот именно. — Как жить — намерения у нас были одинаковы. Кажется, мы понимали друг друга. А сейчас я не собираюсь обманывать ребят и тем более себя. Я не играю. И обывательское мнение на этот счет постараюсь изменить. А от тебя я уже не знаю, что ждать. За шесть месяцев ты развернулась на сто восемьдесят градусов. — Ты не понимаешь, что тебе не нужна эта поездка сейчас? Тебе кажется, ты остаешься самим собой, а на самом деле… Не уезжай, Юрка… Ведь какие-то вещи надо любить всерьез. — Ну дожил! Ну дожил! — Юрка разводит руками и театрально хлопает себя по карманам. — Даже жена… Собственная жена утверждает, что я халтурю. А я, как ишак, день и ночь… — Он поднимает меня вместе со стулом, заваливает и кружит по комнате. Останавливается и пристально смотрит на мои губы. — Разве так жены относятся к своим мужьям перед отъездом.
15 апреля. Меня тянет в клуб больше, чем домой. Я посидела рядом с Саней в радиоузле. Он великодушно разрешил мне покрутить эбонитовую головку. Я ползала по ночному эфиру. Рука ловила то резкий истончившийся свист, то наигранный хохот с интимно приглушенным шепотом. — Холодно, Саня, — сказала я. — Апрель, а холодно. Ладно, я пойду. — Знаете, почему сегодня никто в клуб не пришел? По телевизору «Голубой огонек» передают. На улице было теплее. За углом встретил меня плотный ветер, мягкий и сырой. Он пах мокрыми деревьями и силосом. «Как здесь подходит весна.Издалека-издалека…» Вечер бережно трогал лицо. «Почему я ни разу не была у Андрея? И не видела его работ. Вот сейчас возьму и пойду». И ветер сразу сбил мне дыхание. «Приду. Пусть все покажет. А я буду его критиковать… Скажу: «И это все, что ты можешь?..» Представляю его глаза при этом. На улыбку ему даже не отвечу. Я вошла в избу. Меня никто не окликнул. Свет горел в другой комнате, а в первой только полоса на полу и рассеянный полумрак. Я тихо подошла к раскрытой двери и остановилась. Комнату загородил наклоненный холст. В черной тени от него на полу валялись рассыпанные кисти и пустой плоский флакон. Андрей сидел на подоконнике, поставив одну ногу на табуретку. Он не шевельнулся и не глянул на меня. Я постояла и медленно пошла к нему, чтобы увидеть, перед чем он так сидит. Странным и неподвижным казалось его лицо. Оно жило одними губами. Они у него были воспалены и сухи, будто перегорели. Андрей снял ногу с табуретки. — Здравствуй, — сказала я. Он машинально кивнул головой, словно ему тяжело было выговорить слово. На холсте, небрежно брошенном у деревянного дивана, я увидела мальчишку с ведром, в телогрейке. Он стоял на снегу. Какое-то низкое трехногое сооружение сверкало зеленым льдом. Потом глянула на холст, перед которым сидел Андрей, и сначала не поняла, что на нем было. Сизыми, синими, перламутрового блеска красками была написана летняя деревня. Съежившиеся пятистенники с осыпавшимися пластами, с торчащими старыми жердями, тонули в мокрых цветах подсолнуха за осыпающимся березовым тыном. Прохладный теневой уют прятался, гас, а над ним поднимались шиферные крыши, смоляная свежесть новых стен. Дома напирали, забирали все солнце. Но мягок и влажен был яркий день. Избы вылеплены шутя, несерьезно, будто неважна была художнику строгость рисунка. Он только любовался тончайшими градациями холодного цвета. Все сверкало в капели. Это была серебряная деревня под мокрым солнцем. Но все это уходило, не лезло. С холста прямым взглядом смотрел на меня Дмитрий Алексеевич. Без шапки, с седой головой, блеклыми тяжелыми волосами, свежий, с отрешенной улыбкой и горечью за ней: «Вот… Посмеялся я с вами…» Спохватился и досадует на себя за это. Рот полуоткрыт, будто старик дышит через единственный зуб. На дегтярном лоске телогрейки масляное отражение сибирского неба. Это был даже не Дмитрий Алексеевич, это была стихия лица, жесткого, напряженного цвета. Я была не готова к нему. Не знаю, как рассказать об этом, не найдусь. О цвете не думалось. Андрей его таким не видел, он его просто выдумал. И писал… «Вот… Вот же… Вот! Следуйте за мной. Следите. Мне некогда. Видите, какой мазок? Думаете, я не знаю, куда его положить? Не попаду? Я же знаю, на какую форму его кладу. Я ее чувствую, ее вижу. Смотрите… Вот что самое главное, вот… а на остальном задерживаться некогда». Все намеченное в лице Дмитрия Алексеевича обнажено и усилено. Я обомлела. Посмотрела на Андрея, и лицо его показалось мне серым, однообразным. А Дмитрий Алексеевич сымпровизирован, мерцающе нереален. Я не могла от него откачнуться. Казалось, что тяжелые мышцы лица тронутся, шевельнутся усы, и он спросит: «Что? Что ты знаешь обо мне? Молчишь?.. А-а-а-а…» Изображение на холсте держало непонятной притягательной силой. Я уже не могла отделаться от ощущения, что передо мной не Дмитрий Алексеевич, а какой-то непонятный мне человек, огромный и значительный, смотрит и безжалостно думает, что я ничтожна. Рядом с Дмитрием Алексеевичем Пронек, с неулыбчивым, сумрачным лицом, и старик Подзоров. Дед не выпячивался, как бы чуть сзади устало сворачивал самокрутку. Кисти рук Подзорова на холсте размазаны, на них потемнели краски — видно, соскабливались неоднократно. Я уже замечаю на других местах картины затертый обнажившийся холст. «Как он подступится к ней, — думала я об Андрее. Что еще от себя потребует, доводя до горячечного изнеможения работой?» Мысль об этом уже подчиняет меня, держит в безотчетной слабости. Я стою рядом с Андреем и молчу. «Ну критикуй, — говорю я себе и понимаю, что Андрей сидит в тяжелом оцепенении давно. — Критикуй», — говорю я себе, казнясь и вспоминая его улыбку в ту первую ночь, когда сидела перед ним в тулупе. Какие мы бываем злые, пошлые, самоуверенные! «Мне надо уйти», — думаю я, не трогаюсь с места и смотрю на Андрея. «Ведь я ничего, ничего не знаю о нем…» — Андрей, — говорю я. — Я пришла увидеть твои картины. Юрки нет — я не хотела оставаться дома. В клубе один Саша киноаппарат ремонтирует. И я пришла… увидела тебя таким… Таким… Однажды мне уже хотелось зайти к тебе — я шла мимо вашего дома, у тебя горел свет, — зайти, просто сидеть и молчать. И вот… Я стояла рядом с Андреем, чуть отклонилась назад, прижалась головой к острому косяку окна. Андрей медленно посмотрел на меня, не улыбаясь, и я подумала, что губы у него завтра потрескаются. — Расскажи мне о себе, — говорю я. — Нет… Не о себе, а о том мальчишке, что стоит на снегу… — Ладно… — Андрей испытующе посмотрел на меня, потом долго улыбался чему-то своему, далекому. — Знаешь, какая у него рубашка под отцовской телогрейкой? Из ситца с крупными цветочками. Товар в деревню никогда не привозили. За ним ходили в сельпо. За десять километров. Отпускали на человека по четыре метра. Чтобы попасть в очередь, спешили к пяти часам утра. Отец не ходил в сельпо за ситцем. «Голова садовая, — говорил он матери. — Долдонишь. А кто работать будет, колхоз держать? Только злыдари полдня на это убивать могут. Ты меня с ними равняешь». В очередь ходила мать, возвращалась и успевала на работу. «Издавили всю… Прям не вздохну… Мужики — они сильные, лезут… Которые по два раза успевают… «В семье у мальчишки было пять человек. Три сестры старшие, и ему все за ними приходилось донашивать. Однажды он пошел за водой к колодцу. Осенью. Встретилась ему девчонка, сделала большие глаза, — это он хорошо запомнил, на всю жизнь, — и ужаснулась: — Ой… девчачье пальто!.. У нее был противный сморщенный нос. А парнишка был растопша, в таких тонкостях не разбирался. Пальто как пальто, даже не порванное… и вдруг девчачье? Дома он его сбросил и больше не надел. Мать не настаивала. Она у него чуткая, мать. Мальчишка стал носить отцовскую телогрейку. Он не огорчался, потому что не был модником. Я улыбнулась и проследила, как это Андрей сказал, но он говорил без оттенков, будто себе, будто думал. — Ему никогда не хватало дня. Казалось, самое главное он не успевает закончить именно вечером, а зачем-то приходит ночь. Он всегда радовался утру… Жил и хотел, чтобы все, что он любит, любили все люди. Андрей тоже отвалился спиной на косяк. — Потом он учился в институте… Мать ему не могла помогать. — А потом? — Потом… После учебы у него остались только академические рисунки, а отправить домой багажом живописные работы денег не хватило… Раздарил все, побросал… А этот единственный… Потом… Он шел однажды по дороге… Выпал снег и стоял месяц… Такой, ну… Снега горели. Спала деревня… Его деревня. Был праздник снега, а на душе у него было отчаянье. Он увидел, узнал женщину… Женщину, которую ждал всю жизнь. И той ночью он понимал, что у него никогда не будет ее любви. Ты не знаешь, что это такое… Он привстал, высокий, пахнущий краской, с неуютной распахнутой ранимостью. — Я знаю, ты ничего не изменишь, — трудно выговаривал Андрей. — Только не уезжай отсюда. Ты нужна здесь всем… и мне. — Уже, наверно, поздно? Я испугалась. Сердце обреченно падало, как на льду, когда он уходил из-под ног. Некуда уже было деть голову, и невозможно отвернуться. Андрей целовал меня, а я больно вдавливала затылок в острый косяк окна. — Зачем ты это сделал? — спрашиваю я. Я не поворачиваю голову, мне хочется чувствовать боль от угла, приятную и какую-то необходимую мне. Откуда-то взялась досада, злость. Злость оттого, что он посмел, что я не сопротивлялась. — Не смей больше никогда… Слышишь? Я злилась на себя, а хотела казнить его, отвергать бесповоротно, жестоко. — Слышишь?.. Ни-ког-да… Глаза мои, наверное, были холодные и злые, как у рыси. Я отстранилась от окна, сказала: — Поздно! Андрей оставался в грустной неподвижности. — Я пойду. Будто опомнившись, он спешно надел у вешалки шапку. — Только ты, пожалуйста, меня не провожай. Мне нужно одной пойти. У дверей я приостановилась и спросила: — А он — этот мальчишка? Он не заблуждается? Приехал жить в деревню — здесь он не потеряет себя? Все, что он знает, что умеет, это дано ему школой, культурой, общением, средой. Он не боится, что все это умрет в нем, заглохнет. Он не страшится глуши? — Нет. Андрей приподнялся и сказал с резкой неодобрительностью. Видно, это для него было давно решенное: — Он думает, что глушь остается там, откуда он уезжает. — О… а он, этот мальчик, самоуверен.
20 апреля. Днем расплываются дороги. В низинах огородов белые пологи снегов набухают, и только к обеду над снегом проступают темные окна тяжелой воды, растекаются на глазах, пугающе неподвижные, и еще не просачиваются из сугробов колючие оттоки. Вот уж и березки оказываются в воде. Выцветшие плетни — белесые, как полынь, а перевернутое отражение их темно и неподвижно, только ершит его иногда нестерпимой синевы мелкая рябь от ветра. К вечеру морозец стекленеет, но еще долго ползет из-под снега вода, оплывает наледью. А потом широко разлившиеся лога лежат подо льдом. К ним не подступишься по снегу. Лед тонок. Ступишь на него, он, прогибаясь, уходит из-под ног с иголочным потрескиванием, и со сладкой болью что-то падает внутри. Только не переступать ногами… только докатиться до берега!.. Там он снова поднимается за тобой, лишь обозначит брызнувшими лучиками трещин невидимый след. Ребятишки бегут к школе по ледяному разливу в огородах, снуют среди березок, а рядом у стволиков выцвиркивают фонтанчики воды. Мальчишки знают, что утренний лед пускает пробежать только первого, а второй след уже не прощает. А подо льдом затаилась тугая снеговая вода. Мальчишки с благоговением чувствуют ногами ее темную глубину, и не познавать ее не могут. Я замираю перед деревенской беспечностью здешних женщин и тоже не останавливаю мальчишек, хотя всякий раз трудно сдерживаю себя. И мне кажется, что городские мальчишки никогда не изведают жутковатого и щемяще притягательного страха перед реальной возможностью почувствовать однажды, как уходит из-под ног мягко подавшийся лед. Мое дворовое детство прошло под неослабевающей опекой матери, на маленькой скорости, как легковая машина, с которой еще не снят технический ограничитель. Я люблю, ходить по белому ледку на лужах, под которым барабанная пустота. Он рассыпается с пергаментным хрустом. Я рано прихожу в школу, чтобы на улице ждать ребят. Поднимается солнце. Воздух чист и резок. Ребятишки прибегают и, стесняясь меня, скрываются в школе. Как они успевают такую рань промочить ноги! И я не знаю — отправлять ли их домой, садить ли за парты? На первом уроке они долго не могут прийти в себя. Лица их в утреннем загаре.
21 апреля. Вечером я подходила к дому. Влажные облака ползли над верхушками деревьев и пахли весенней прелью. Юрка приехал со сборов, но я его еще не видела. Он встретил меня у двери. — Кажется, похудела, старуха? Изработалась… Вконец… Юрка улыбался, был нетерпелив. — Поздравляй… Представляешь?.. Наши выступления вызвали ажиотаж. На второй день соревнований я был уже первой величиной. Меня окружали. Мне заглядывали в глаза. «Откуда я таких ребят набрал?» Сережка вышел в финал с одним нокаутом. Встречу с ним третьеразрядника прекратили, ввиду явного преимущества. Сережка всех удивил. Даже судьи ждали его удара правой. Работает он так… еще не очень. Но если достанет — парни сразу садятся, как рыбы… С открытыми ртами. Вот были кадры… Такое надо видеть. И так… — Юрка замолк и смотрел на меня, дожидаясь поощрения. — Теперь могу сообщить… Главное… Сергея зачислили в спортивное общество «Динамо» на регулярные тренировки. Он переезжает в город. Прописку обеспечивают. До осени поработает, потом устроится в техническое училище. Об этом с ним уже переговорено. А мы… ну… можешь начинать радоваться… Ты хотела… Ты требовала… Я не устоял… Мы уезжаем тоже. Можно даже сейчас… Работа приемлема… Гарантии обеспечены. Теперь дело только за тобой. Юрка говорит, но словно насторожило его что-то. Он внимательно присматривается ко мне и не договаривает, будто почувствовал за мной вину, уже зная, но не называя ее. Я молча скинула боты, сняла мокрые чулки, осталась босиком. Подошла к окну, повернулась и сказала Юрке тихо и обреченно: — Я не поеду. Я остаюсь здесь, а ты уезжай… Один. Так нужно. Так лучше. У Юрки изменилось лицо, собралось, будто дул на него сильный ветер. Он сдержался и твердо сказал: — Не дури… — Ты ничего не знаешь… Я остаюсь здесь. Мне это надо… Уже решено… Я не знаю, зачем это мне нужно говорить тебе… Но я не могу больше быть с тобой, понимаешь, Юрка. И от жизни здесь мне труднее отказаться, чем тебе. Ты должен знать это… Я хочу быть честной с тобой… И больше не могу… Пока уйду жить к тете Шуре. — Не дури… — сказал Юрка, зачем-то зажимая рукой щеку и медленно выходя из себя. Сел на кровать, долго молчал, рассматривая стенку. Нехорошо засмеялся и вышел на улицу. Я увидела в окно, как он поскользнулся на дорожке в своих ЧТЗ, и расплакалась.
24 апреля. В лице Юрки появилось что-то антрацитово-черное. Сгустились на щеках тени. Он будто еще вырос, и все у него стало выпирать: подбородок, локти, плечи. Исчезла спортивно-мальчишеская округлость, и стали спокойно отчужденными глаза. Мы разговариваем с ним, но разговор у нас какой-то необязательный. Отжато из наших слов все, чем жили мы до этого, что было дорого нам обоим. Вечером он пришел решительный, стал выдвигать чемоданы, беспечно насвистывая, будто меня не было в комнате. Я видела всю его деланность и ничего не могла сказать ему, ни слова утешения. Все во мне пусто, нестерпимо легко, а слова были неповоротливы и тяжелы. Юрка перестал суетиться, остановился передо мной, спросил с небрежением: — Ты хорошо подумала? Со мной такими вещами не шутят. — Я не шучу, Юрка. Мне казалось, позови он сейчас, чуть смягчись, я прижалась бы к нему головой, чувствуя привычные руки на плечах, полная покоя и жалости. — Я уйду сегодня. — Можешь остаться. — У Юрки каменеет подбородок. — Я завтра уезжаю. А ты оставайся. Будешь принимать. Или с некоторыми товарищами ночами за сеном ездить. На сене экзотичнее… Ох, я не могла ничего сказать. Так, наверное, задыхаются. От безоружности, от бессилия. — Адрес свой тебе оставить? Я не бегу… В любом случае на алименты можешь рассчитывать. Я качала головой. Знала, что глаза у меня открыты, но я ничего не видела. — Значит, не надо? Сжигаешь все мосты? Смотри! Будешь звать, обратно я не поплыву. — И ты мой муж… Я как-то вся замерзла.
28 апреля. Весенний ветер влажен. За окном длинные нити березы тяжело раскачиваются, нехотя отдаваясь ветру. На темных почках собираются капли. Ветер сбивает их, и они глухо бьют по стеклу. На подоконник натекла лужа. Я лежу на кровати, накинув на ноги шубу, не шевелюсь, равнодушно отмечаю, как неуютен весенний вечер, как сгущается темнота. Я не поднимаюсь и не включаю свет. Юрки уже нет. Какое тихое бывает одиночество и отчаянье! Я не плачу, только чувствую свои соленые губы. За окном сибирская деревня. Андреева, а не моя. Она сложнее и значительнее моей. От сопричастности к ней что-то уже полнится во мне сильным и отчаянным упрямством.
XI
Шоферы еще не пришли, когда я сдал дежурство Дмитрию Алексеевичу. Было раннее утро. Свежее колебание воздуха над землей холодило лицо. С тяжелых от работы рук сходила усталость. Я отдавался весне и впервые никуда не спешил. Навстречу мне в тени плотной ограды шла Катя Холшевникова. Чтобы не ступать в грязь, она перехватывалась руками за колья, осторожно выбирая протоптанные следы на бровке. Разойтись было невозможно, и, уступая дорогу, я сполз ботинками в грязь. Катя остановилась в неожиданном замешательстве, не готовая что-либо сказать. На ее лице под нахлобученным платком лежала милая нежная измученность. Небольшие груди ее напрягли вязаную кофточку. Затянувшееся молчание пугало. — Ты картину свою уже закончил? — Да. Я ее отправляю. — Отправляешь? А я хотела Колю Портнягина к тебе прислать. Он успеет? Мы оба понимали, что совсем, совсем не о том сейчас говорим. Но чтобы я не думал так, с неумолимой недоступностью потребовала: — Ну, я пойду? Она пересекла переулок, постояла у дощатой веранды школы, неторопливо выдавливая каблуками сапожек узоры в оттаявшей земле, и, будто опомнившись, взбежала по высоким ступенькам.НЕ ПРЯЧЬТЕ СКРИПКИ В ФУТЛЯРАХ
«…Нашими войсками на Орловско-Курском и Белгородском направлениях за день боев подбито и уничтожено 272 немецких танка. В воздушных боях и зенитной артиллерией сбито 83 самолета противника».Войдя к себе, Борис постоял у двери. В комнате со стен на пол осыпалась едкая известковая пыль. На полу валялись скомканные бумажки. Борис разделся. Повесил на гвоздь за печку свою промасленную, клеенчато-липкую спецовку. От спецовки пахло железной сыростью. Не очищая сапог, Борис прошел через комнату к окну и долго смотрел на улицу, окончательно сознавая, что теперь он один. «Сестра, наверное, тоже в окошко смотрит. На березовые колки, на черные дороги за шлагбаумами, — думал Борис. — Хотя бы стереть у нее с губ слезы. Только ничего он такое нежное не умеет». Отец писал с фронта письма им обоим. Теперь будет ему одному. Борису захотелось перечитать эти тоненькие треугольники. Он достал их с этажерки, разложил на столе.
«…Боря, помнишь из вашей школы Колю Колесникова: ты учился в седьмом классе, а он — в десятом. Его еще направляли физруком в пионерский лагерь. Рослый такой. Он был уже капитаном. Командовал нашей ротой. Обе ноги ему оторвало. Шинель цела, а ног нет. Не знаю, где его похоронили. Я только пустые полы шинели ему запахнул. Потом мы ушли дальше. Молодой парнишка был. Вот вам я написал, а родители его об этом еще не знают. Сейчас я…»Что «я»… Борис не знает. Через весь листок жирной полосой перечеркнуты три строчки. Отцовы письма часто исполосованы вот такими черными лентами. Борису всегда хотелось знать — что там за ними. Ему казалось, что именно там что-то было самое главное. Там настоящая правда о войне и о чем-то другом. А кто-то не хочет, чтобы она дошла до него. Борис встал. Прижал развернутое письмо к оконному стеклу и, растягивая бумагу, долго всматривался в слепую черноту штрихов. Но разобрать там что-либо было невозможно. Борис начал стирать полосы резинкой. Потом смывать водой. И ничего. Только мокрые катышки бумаги под пальцами. Он опустил размазанное письмо на стол, сел на кровать. Снял затяжелевшие от грязи сапоги. Не наклоняясь, а болтая поочередно ногами, размотал портянки, скинул их. Положив под голову руки, завалился на подушку. Увидел ноги Кольки Колесникова, тугой, зашнурованный ремешком футбольный мяч и отполированные ободья вагонных колес. За окном стоял летний вечер: неуютный, прозрачной свежести. Солнце садилось за дальними огородами. Растопыренные желтые подсолнухи потемнели. Из окна на стенку протянулась ярко-багровая полоса. В ней мельтешили перепутанные тополиные листья. Листья молодых тополей большие и лощеные, как ладонь Бориса. Борис!.. Сегодня суббота. Вставай. Надо начинать обо всем думать самому. Еще только девять часов. Но ничего этого Борис не делает. — Борис!.. Боря… Почему ты уснул? Ты ведь ничего не ел. Уже вечер… Так сказала бы тебе мать. Ласково улыбаясь, отнесла бы к печке твои сапоги и принялась на кухне стирать портянки. А утром ты налил бы из ведра воды в рукомойник и, брызгаясь над тазом, умылся и вбежал бы в комнату. Еще пахнущий мылом, надел бы свою спецовку и улыбнулся от непонятного восторга. — Мама, что ты так смотришь? А мать… Мать увидела бы, что лихо расстегнутый воротник твоей спецовки холодно лоснится. Рядом с ним незагорелое лицо твое кажется ей незащищенно-детским, а темно-серые глаза беспомощно-голубыми. Мать подошла бы к тебе и, чувствуя легкую прохладу спецовки, начала застегивать пуговицы и вдруг, незаметно опустив воротник, расправила его, не желая прислонить промасленную осклизлость к шее. И сказала бы: «Большой уже ты стал… и когда вырос…» Но матери не стало, когда тебе было три года. — Борис… Это правда, что ты нарисовал уродливую карикатуру на классную руководительницу: «Али-Баба и сорок разбойников»? И свой рисунок пустил по-партам? — Что молчишь? Спросил бы у тебя отец. Он все еще думает, что ты учишься. Думает, что… Или там, где-то далеко, шипя и разбрызгиваясь, гаснут над темной речкой ракеты. Тяжело шурша мокрой галькой, останавливаются солдаты у воды, и твой отец черпает пилоткой воду, пьет, погружая в освежающую прохладу потное до жжения лицо. Оббив ее о приклад ППШ, надевает и стоит, тяжело покачиваясь и смутно соображая, что еще жив. А от реки тянет холодом. Может быть, в это время он думает о тебе? Борис!.. Ты спишь?.. А ты точно знаешь, что он жив? Борис! Кто разбудит тебя ужинать? Есть ли хотя бы один человек рядом, у которого живет в памяти такая частица — Борис? Или ты останешься без ужина?
Утром Борис мыл пол. Сдвинул на середину комнаты стол и кровать. Шлепал мокрыми брюками у стен. Легко развозил их по крашеным доскам. Выжимать брюки мешали пуговицы, и он срезал их в таз. А когда выплеснул воду в помойку и вернулся в комнату, удивился, что в комнате пахнет зеленым тополем. Пододвинул к открытому окну стол и заходил по комнате. Подумал: для начала стол застелить газетой. Или от резкой свежести из распахнутого окна, или еще от чего-то Борис испытывал непонятное ощущение свободы. Борис достал белую рубашку из чемодана. Надел. Отец носил эту рубашку с запонками, а Борис свободно закрутил рукава до локтей. Полотно рубашки прохладно коснулось горячей кожи. Борис носит теперь рубашки отца. Сестра предложила: — Борька, у тебя плохие рубашки. Давай папины примерим. Она тогда достала их все. — Они тебе малы, что ли? На папе они не так сидели. Ты выше его, Борька! — обрадованно поразилась тогда сестра. — Все примерь. А когда Борис надел вот эту белую — сестра сказала ему: — Знаешь, Борька, Нина Гамзикова, которая за мной вчера на танцы заходила, сказала, что ты будешь девчатам нравиться. Говорит, что ты высокий и глаза у тебя задумчивые. Только ты какой-то слишком бойкий и неуравновешенный. А ты знаешь, Борис, — правда. Я так боюсь за тебя! И почему папа редко пишет? Только спецовку отца сестра свернула, положила в фанерный ящик и вынесла в кладовку. — Не будем трогать. И стирать не будем. От папки так всегда пахло — железом. Отец работал техником в депо. Борис начал перебирать книги на этажерке. Роб Рой. Лермонтов. Как давно он не читал! Книги показались Борису далекими, молчаливыми друзьями, к которым он давно не заходит. Стопка учебников. Физика с закладками за восьмой класс. А вот… Его тетрадь с сочинением по литературе. Как она сюда попала? Это же отцова полка. Борис вспомнил тот давнишний урок по литературе. Учительница приколола кнопками к доске картинку и объявила: — Будете писать сочинение на тему «Летом в лесу». Борис сначала не знал, что писать. Он только думал о чем попало. О лесе вообще. Потом вспомнил «барашки». Их нераскрывшиеся головки в жирных резных листьях. Представил даже их вкус. Будто снова брал тугие зеленые шарики, снимал сначала верхнюю плотную одежку, потом тоненькую рубашечку из розовых лепестков, и тогда появлялся пухлый пучок желтых тычинок. Откусишь его, и тычинок станет сразу так много, что даже не прожуешь. Потом Борис вспомнил черную смородину. В тени крупная, с глянцевым боком, а на ярком солнце матовая, без прозрачности. И Борис стал об этом писать. Половины не написал, как прозвенел звонок. Борис испугался, но тетрадь все же сдал. На следующий день он обреченно молчал. Учительница всегда откладывала лучшие, пятерочные, работы наверх. Четверочные — под ними, потом троечные, двоечные. Пятерочных было обычно тетрадки три. На этот раз в числе их сочинения Бориса не оказалось. Борис и не рассчитывал. В числе четверочных — тоже. Тройку Борису уже не хотелось получать. И только когда учительница раздала все тетради, чуть помолчав, она сказала: — У меня есть еще одна тетрадь. За это сочинение я тоже поставила «пять», хотя оно и не закончено. Я его прочту. Учительница так читала его сочинение, так что-то в нем увидела, что Борис сам удивился. Тоненькая синяя тетрадь… Борис сложил книжки на этажерку и оставил только журнал, который принес недавно из библиотеки. Бросил его на стол. Часам к десяти утра пришел Оська. Борис чистил на кухне сапоги. Оська лежал животом на подоконнике. — Тебе хорошо, — сказал он, когда Борис вошел в комнату, — что хочешь, то и делаешь. Можешь в кино ходить на любой сеанс. Никто не скажет, что долго шляешься. Можно девчонок водить. Оська сел на кровать и стал раскачиваться на сетке. Многозначительно сощурив глаза, проговорил: — Ничего, пружинит. Борис посмотрел на Оськины ноги. — Ты бы снял ботинки. Я же сам пол мою. — На коленях? — усмехнулся Оська, но ботинки снял. Носки у него порваны, и поэтому часть их завернута вниз вместо стелек. — А-а-а… — досадливо сказал Оська и снова надел ботинки. — Че попало. Как правдашный. Борис рассмеялся: — Слушай, на речку пойдем. Ты там возле девчонок разуйся. Настроение у них поднимется. — А что? Тебе советую. Женские чулки покупай. Проносил — отрезал. На месяц хватит. Придерживать пажами будешь. Вот так, через плечи и к чулкам. Солидно и выгодно. У Оськи круглое, как у девчонки, лицо и всегда готовая улыбка. Он не улыбается только своему токарному станку. — Ладно, пойдем, — сказал Борис. — Времени-то уже много. Когда Борис с Оськой вышли на улицу, у подъезда, за квадратной тенью от навеса, было такое солнце, что на белых гусей, щипавших траву, невыносимо было глядеть. — Вот черти, — сказал о них Оська. — Белые, а обжечься можно. На речку идти сначала нужно центральной улицей через всю станцию. Борис и Оська родились здесь. Здесь и выросли. И знают о своей станции все. Они знают, что главное для станции — железная дорога. Депо. Все, что важно для депо, — важно для станции. Депо будит всех гудками. Гудки слышны за много десятков километров, и окрестные деревни сверяют по этим гудкам свои часы. Знают, что в средней школе, где они учились, сейчас завод, в начале войны эвакуированный из Киева. На этом заводе Оська с Борисом и работают. Белые стены школы посерели. От ее углов на центральной улице вырос высокий забор из заостренных, грубо пиленных досок. Завод наложил на станцию свой отпечаток. Огороды и палисадники на окраинных улицах обнесены кружевными оградами; на тесаных жердях приколочены железные ленты, изрешеченные частыми отверстиями в форме подковок для солдатских сапог. В отверстия прорастают пырей и крапива. Борис с Оськой идут по земляным и твердым, как асфальт, дорожкам, мимо двухэтажных деревянных домов, мимо длинных сараев с балконами и сеновалами. Проходят новую электростанцию, окруженную молодыми тополями. Рядом с громадными стеклянными окнами и кирпичной стеной здания тополя кажутся вытянутыми и тоненькими, как спички. Наконец они сворачивают в узкий переулок. В палисадниках у маленьких окон запыленная черемуха закрывает тенью провисшие облезлые ставни. Пыль на дороге уже просохла, стала горячей и мягкой. По такой пыли только босиком бегать, — она глубокая и невесомая. Почти не чувствуется. Пуховая. Идут обочиной дороги по мелкой траве. Борис сломал через ограду отросток подсолнуха с маленькой тугой головкой. Из крепкого кулачка жестковатых листьев вылезли желтые стрелочки нераспустившихся лепестков. Он их развернул бережно, обнажив шероховатый кружочек, и спросил: — Почему девчонки цветы любят? Смо-о-трят на них… У этих девчонок и глаза такие… Красивее, чем у ребят. Ребята своими глазами что-нибудь думают, ищут, стараются побольше увидеть, что надо и что не надо. А девчонки на все смотрят, как на цветы. — Будь здоров, — сказал Оська. — Они тоже все видят. Ты бы послушал, о чем они между собой разговаривают. Не вытерпишь. Борис крутил стебелек в ладони. Маленькая головка подсолнуха вяло сникла, беспомощно сваливалась в разные стороны. Он стегнул стебельком по телеграфному столбу, — головка отлетела и упала на дорогу. До речки Борис всю дорогу молчал и все почему-то помнил, как хлопнулась головка развернутыми лепестками в пухлую пыль, будто ткнулась лицом в подушку. На песках, где всегда купались, расположилось стадо коров. Коровы стояли в воде по брюхо или, лениво присмирев, лежали на берегу, раздувая бока. Они разомлели от жары. Разленились. А некоторые, даже не шевельнув хвостом, пачкали задние ноги, расшлепывая зеленые брызги на песок. — Пастух совсем обнаглел, — выругался Оська. — Не мог другое место найти. Обмакнуть бы его мордой, как кошку, в эти лепешки. — Ладно, идем на вторые пески, — равнодушно сказал Борис и пошел на дорогу. Глинистая дорога ныряла под разросшиеся кусты. По ней давно никто не ходит и не ездит. Вдавленные колесами колеи и глубокие следы засохли до костяного отвердения. Борис с Оськой шли, пригибаясь в прохладной тени, шурша лопухами. Свежие побеги тальника с сизыми листьями мягко стегали по груди. Вторые пески, намытые тихой речкой, с перламутровыми ложечками раскрытых раковин у воды, чистые и горячие. Перепачканные ребятишки копали в песке колодцы, глубокие и узкие, как сусличьи норки. Руки их еще не доставали до воды, и они засовывали их вместе с плечами, чуть не переламывая шеи. Зачерпывая ладошкой влажные шматочки песка, сбивали его тугой пирамидкой. Борис с Оськой переплыли на другую сторону. Скользя по мокрой глине, вылезли на берег. Поочередно забираясь на трамплин, выложенный кем-то из земляных пластов, прыгали в воду. Потом лежали на песке, и Оська, глядя куда-то в сторону, проговорил: — Что-то неинтересно купаться. Людей никого нет. Пойдем хоть кочетков поедим. Он поднялся и стянул свою одежду ремнем. — Никуда это не денется. Эй, огольцы! — сказал Борис. Огольцы дружно подняли головы. — Под вашу ответственность. Мы уходим. В одних трусах, ощупью ступая босыми ногами, они бродили по поляне в кустах. Наступали на шиповник и прошлогоднюю траву. Ноги податливо ломались, и казалось, что ноги их не ноги, а гуттаперча. Насыщенно кислые стебельки кочетков ломки и сочны до слез. Оська приговаривал: — Вот гад попался! Рот повело. Навек калекой оставит. Припекло солнце. Жгло плечи и шею. Они залезли в кусты. Снимали с безлиственных веточек зеленую, с белесоватыми меридианчиками красную смородину, от которой зубы становились размягченно вязкими. Их сизые спины, исцарапанные сучками, были в сухих росчерках. Обожженные крапивой, ребята еще долго ломились по чаще за кислицей вниз по реке. У песчаной косы, рядом с дорогой, оба решили окунуться — сухие сучья в трусы насыпались. И неожиданно услышали смех. Озорной, беспечный, девчоночий. Оська присел: — Смотри, Ленка Телегина… На длинном песчаном языке стояли две девушки. Одну из них ребята не знали. Она говорила: — Ты тоненькая. Таким только и плавать. Пойдем, еще раз покажу. И они начали забредать в воду. Ленка стояла по грудь в речке, а ее подружка бесшумно вихлялась возле нее в воде. Потом поплыла Ленка. Она надулась. Била ногами. Рывками гребла под себя воду одновременно обеими руками, как лягушка, будто хотела из воды выпрыгнуть. — Вот плывет, ничего не видно. Глаза и брызги, — удивленно констатировал Оська. Потом Ленка выходила из воды. Песок, освещенный солнцем, плотный и матово-белесый. Вода была из спокойной, блестящей до рези, голубизны, а Ленка — из чего-то оранжевого и сиреневого. Ее прямые волосы отбившимися мокрыми косицами прилипли к щекам как-то естественно, по-дикарски. Она, не убирая их, задумчиво улыбалась и медленно, будто из холодного литья, вытягивала из воды ноги. И тогда Борису захотелось, чтобы Ленка знала, что ее видели. Почти рядом, наброшенные на ведра, лежали девичьи платья. Борис, скользнув голым животом на дорожку и царапая о глинистые выбоины локти, подполз к ним. Стянул платье. Перебирая в руках, поискал рукава. Их не оказалось. Тогда он завязал платье в узел. Упираясь коленом, стянул его до тугой перекрученной твердости и положил в ведро, где чуть на донышке зеленела кислица с листьями и редкими налившимися красными ягодками. Вернувшись, остановил Оську: — Тише… Посмотрим, как они зубами растягивать будут. Ленкина подружка рядом с Ленкой казалась полной, широкобедрой. Она, став у кустов, подбирала отбившиеся локоны, подтыкала их в узел на затылке и без умолку говорила: — А я никогда волосы в речке не мочу. После не могу расчесать. Ленка отводила щепоткой свои прямые обсосанные пряди со щек. С них спадали капли на узенькие плечи. — Ты что так одеваешься? Отожми. — Я что-то… — застенчиво мешкая, сказала Ленка. — Вот глупая. Да никого же нет. Ленка развязала тоненькие тесемки. Лифчик спал, и вдруг выставились наружу незагорелые кругленькие груди. Толстая подружка охнула: — Господи… Ленка… Ты как коза… Да ты без лифчика ходи. — А стыдно. — Чего? — Торчат. Всем заметно. Оська необычно срывающимся голосом шептал за спиной: — Ну и Ленка! Не подумаешь. Буферишки-то у ней какие-то курносые. Борис не отвечал. Ленкина подруга вынула поочередно из плавок посизовевшие ноги и начала перед собой выжимать черный мокрый жгутик. Борис с Оськой, не сговариваясь, поползли задом в кусты. И когда, как казалось им, их уже не увидят, шарахнули в заиленную ломкую согру, обдираясь и цепляясь трусами за выступающие сучки. Закупавшиеся до изнеможения «огольцы» дрожали от пяток до макушки, но стойко ждали их. А Борис с Оськой выскочили из воды, шлепнулись с размаху на песок, глянули один на другого и, прыснув, спрятали лица в согнутые руки. Ребятишки недоуменно смотрели, как долго вздрагивали у них лопатки. Через полчаса, как бы случайно, Борис и Оська догнали у огородов девушек. Лена прижимала локоть с ведром, закрывая порванное платье. По ее лицу, по глазам, потемневшим, горестным, было видно, как долго она плакала. Она затаенно молчала, прощающим зверьком взглядывала на ребят и покусывала губы. А Борис смотрел на ее лицо сбоку, на изрешеченное вокруг талии платье, все в мелких сдвинутых лентах, и со стыдом представлял свою идиотскую радость, с которой он перекручивал это старенькое выцветшее платье. И, как всегда, в нем поднималось странное чувство, чувство горечи, вины, раскаяния. Он старался убить его или хотя бы заглушить. Для него это былослабостью, малодушием. Не мужское это. Надо быть взрослее и сильнее этих чувств. Он знал, что другие не раскисают вот так. Когда это чувство рождалось в нем, он, досадуя и беспощадно издеваясь над ним, старался делать все назло ему, казался дурацки непоследовательным. Но оно появлялось и появлялось в нем. Девушки свернули на свою улицу. Оська, дожидаясь улыбки, уставился на Бориса, а потом рассеянно молчал всю дорогу. А Борис думал, что вот с Галимбиевским никогда такого не бывает. Он по пустякам не казнится.
Борис не любит начинать работу на грязном станке. Даже чистую станину он протирает новой ветошью, чтобы знать, что на ней нет чужих стружек. Включает над головой рубильник. Патрон, осторожно вздрогнув, начинает разгоняться и завывать, завывать, набирая высокие ноты. Рука на станке загудит, и Борису кажется, что рубильником он включает себя. Вставляет в патрон болванку. Подрезает конец, и на нем лучатся звездочки, как спицы на уменьшенном велосипедном колесе. Осторожно подводит резец к лучащемуся пятачку. Металл мягко шипит. Крутясь и упруго покачиваясь, ползет с резца белая матовая стружка. Стружка теплая, тягучая, и металл кажется мягким и сырым. Если резец тупится, стружка, ломаясь, осыпается. Попадая на руку, она обжигает. Шершавая с одной стороны, с другой — она фиолетово-зеркальна и ломко суха. Металл пахнет необъяснимо: тонким, горячим дымком. Снимешь стружку, коснешься его пальцами, и шероховатая поверхность мелко цепляется за кожу, а тронешь его напильником и наждачной бумагой, он скользит и пальца не принимает. Ему всегда кажется, что это он сам врезается в крутящееся металлическое тело. Когда снимаешь готовую деталь, она тяжело давит на ладонь, ласково греет глубинной теплотой. Деталь долго держит теплоту, будто живет. Станок у Бориса старой марки «Свердлов». От него пахнет эмульсией и олифой. И весь цех Борис представляет себе как запах стружки, олифы, завывающее гудение шпинделей и густой расплывающийся свет над станками. И когда после смены он идет домой, медленно освобождаясь от станка, еще долго чувствует ладонями прохладную формочку пузатой рукоятки. Он устает. И все-таки эта работа ему нравится. Но оттого что Борис точит колпачки к швейным машинам, он относится к своей работе скептически. Он недоумевает, почему завод, который выпускает каретные валики и шпульки, называется военным. Правда, совсем недавно, до его прихода, завод выпускал ручные гранаты. В общем, Борис считает свое занятие не слишком серьезным, хотя и перевыполняет норму. Это дается ему без труда. Может быть, оттого что он умеет выжать из станка даже невозможное, или оттого что умеет безукоризненно точно заточить резец и установить его. Но как всерьез относиться к челнокам для швейных машин, если идет война? Вот позволили бы ему на этом станке вытачивать что-то очень сложное и очень нужное. Он бы на малую скорость включил станок. Не торопясь, осторожно снимал бы шелестящую жирную стружку. Выбирал в болванке ступенчатые канавки, растачивал отверстие невиданными, им самим придуманными резцами. Шлифовал. Отрезал бережно. И упало бы это крупное и тяжелое «что-то» на обе ладони. Или дали бы ему точить корпусы снарядов. Пустотелых, тяжелых. А на их ребристых боках выбили бы клеймо: «По фашистскому логову!..» — И внизу мелкими буквами: — «Лебедев». — И еще: — «Лебедев, Лебедев, Лебедев…» А то колпачки… Или пятый месяц подряд каретные валики. Муторно становится. Борис снимал чуть задребезжавший резец и шел в дальний шлифовальный цех заправлять его. Неторопливо шагал по длинному коридору. Останавливался в дверях соседнего цеха и смотрел, как ударяет стотонный пресс над терпеливой и до ужаса маленькой головой девчонки и как она, сосредоточенная, нажимая ногой на педаль, отбрасывает в сторону узорчато изрешеченные полосы жести. Борис всегда удивлялся какой-то железной стойкости этих беспомощных существ: простаивая у станков «без перекура» целыми днями, они так и не могут научиться затачивать резцы. Сожгут и ищут мастера. А казалось бы, чего проще. Зато он, Борис, при всем желании не может работать вот так, не разгибаясь, как они… Когда становилось муторно, начинал усиленно учить Павлика — «фезеушника», прикрепленного к нему. Он его ставил к станку. Павлик маленький, в зеленой форме, с начищенной бляшкой на ремне. Павлик ждал этого мгновения целую смену. Никто своих учеников не ставил к станку — Борис ставил. И не висел за спиной, а уходил из цеха. Поэтому у Павлика в глазах преданное восхищение учителем. Борису нравилось в Павлике детское благоговение перед станком. Однажды Павлик растерялся, забыл, как включается самоход, и патрон бил кулачками по резцу, а ремень свистел на остановившемся шкиве. Борис рванул рубильник. А Павлик, казалось, разучился моргать. — Застыл, — сказал тогда Борис. Подвинул его, остолбеневшего, к станку, взял руку и с силой положил на рычажок. — Вот… Рукой запомни. Борису хотелось приобщить Павлика ко всему тому, что он сам любил. Он доставал из шкафа самокальную заготовку резца и приглашал Павлика в шлифовальный цех. — А ну, отойди, — говорил Борис, включая наждак. — При разгоне камень рвется. Во лбу пробоину сделает. А теперь смотри. От самокала летела искра не легкими звездочками, как от стали, а оранжево-огненной струей. Струя билась о рубашку, мгновенно гасла. Борис сам не знал, отчего ему нравились именно эти искры. Багрово-литые, красивые и чем-то притягательно страшные, как фронт. — Давай сам. — Борис вкладывал в тоненькие руки Павлика теплую заготовку. Наждачный камень бил. Павлик притрагивался самокалом к наждаку, и у него неистово дрожали руки. Дрожала даже голова. — Ну что, цела, — трогал его голову Борис. — Давай теперь выбирай канавку. Но все-таки редко учится Павлик премудрости заточка резца и редко становится за станок. У Бориса норма. И сзади вдоль станков ходит по цеху мастер Степан Савельевич, заложив за спину руки. Борис давно уже не обращался к Степану Савельевичу ни за чем. Может быть, потому, что он сказал Борису однажды «субчик», или Борис чувствовал, что мастеру всегда как-то очень уж не до него. Степан Савельевич почти никогда не выходил из цеха. Он приехал из Киева вместе с заводом, и Борису казалось, что у него дома нет. Он живет на заводе. Заложит руки за спину и ходит по цеху все двенадцать часов. А уж после двенадцатичасовой смены на самом крупном станке в углу точит ночами коленчатый вал и не разгибается, не оглядывается на цех. Борис больше всего знал его спину, и, как большинство заводских ребят, не любил его. Степан Савельевич это чувствовал. Каждую осень семнадцатилетние мальчишки оставляли станки, уходили на фронт, туда, где воевали их отцы, где высока была значимость понятия «сибиряки», и мальчишки, гордые особым своим предназначением, с захватывающим нетерпеньем ждали призыва. Они не хотели понимать и прощать другим, взрослым мужчинам, что те приехали оттуда, от войны, работают, выпускают обыкновенные швейные машины, получают картошку с заводского подсобного хозяйства и не замечают мальчишеской усталости. Мастер жил заказами войны, был неприступен, молчалив и никогда не снисходил до человеческого разговора с мальчишками. И они тоже были жестоки к нему за высокомерное равнодушие к ним. Они все перешли бы от Степана Савельевича к мастеру другой смены, тоже эвакуированному, Стасику. Как мастер Степан Савельевич никогда никого не упрекал, не делал замечаний. Он больше молчал. Если у кого-то из токарей не шла работа, они просили его помощи. И он помогал. Помогал молча. Без сочувствия, без участия, без улыбки. Потом поворачивался спиной, какой-то равнодушной до оскорбительности, закладывал назад руки и, медленно ступая, удалялся. Ничем, никакой черточкой не показывал Степан Савельевич, что он не откликнется на просьбу. Но лишний раз тревожить его просьбой не хотелось. Когда Борис, побродив по заводу с резцом в руке, появлялся в цехе, мастер пропускал его мимо себя, смотрел молча, темными, без зрачков, глазами. Взгляд этот был неприязненным. Потом проходил мимо Бориса, не останавливался, а отворачивался, безучастно складывая на спине руки. Так и казалось Борису, что он говорит ему всегда «субчик». Казалось, что Степан Савельевич видит в нем что-то недоброе. И это злило. Наверное, мастер со всеми был такой. Без улыбки. Но у Бориса есть основания расценивать его взгляд по-своему. Это было еще при сестре. С оплаченными талончиками Борис сидел в столовой и ждал, когда официантка его обслужит. Он всегда обедал в пять часов, после работы. Народу в столовой было мало, но ждал он долго. Отгороженная дощатой стенкой в углу, переругивалась с кем-то кассирша. Из открытых окошек кухни доносился теплый запах кислой капусты. Борис представлял щи, соленые, без картошки. Разглядывал талончики, отбитые на машинке, и думал, что подделать их можно свободно. Потом начал разглядывать официантку. У официантки завернута коса на затылок. Сильно накрашены губы. Цыганские глаза улыбаются. Таким глазам лично Борис никогда бы не доверял. Они всегда не человека ищут, а что-то другое. Официантка обслужила соседний стол. Взяла талончики у солидного мужчины и поспешно скрылась. Борис хотел ее остановить, но не успел и с досадой подумал о себе: «Тюфяк. Тебя не замечают». Она шла с подносом, Борис медленно и значительно сказал ей в глаза: — Почему вы обходите меня? А она… Борис даже недоуменно смолк, — глянула на него и со значением подморгнула. Борис стал ждать с озадаченным терпением и думать: «Какая у нее странная улыбка. И почему она его отметила?» А официантка мелькала. Солидный мужчина уже ушел. Сели за стол недалеко от Бориса еще четверо. Когда официантка проходила мимо, Борис, хотя и неудобно было уже напоминать о себе, сказал: — Меня вы все-таки забыли… Она поспешно на ходу сделала ему знаки уже двумя глазами, родственные, обнадеживающие, и начала обслуживать пришедших четверых. И вот тогда-то у Бориса нехорошо потемнели глаза. Рука тяжело сжала талончики и легла на заглянцевевшую мазутную коленку. Официантка шла с подносом в проходе между столами. Борис встал перед ней. Нагнувшись, с неумолимой нагловатостью поглядел в ее испуганные глаза: — Это мне?.. Вот спасибо. Он взял одной рукой суп, второй — омлет из американского яичного порошка. — Думал, что не успею. А вы… так кстати, — издевательски дружественно сказал он и сел за стол. «Вообще-то, кажется, я нахал. А суп сегодня гуще обычного». Он глянул на стол, что обслуживала официантка, и увидел Степана Савельевича. Тот ждал обеда, а трое уже ели. Тоненький, водянисто безвкусный омлет Борис доел уже без аппетита, но неторопливо стойко. «За справедливость надо бороться», — бодро оправдывал он себя. При встрече с мастером старался не смущаться. Встречаясь с ним взглядом, молчаливо отвечал: «Ну что смотришь, как на холодный металл, — глаза застудишь».
Уже неделю Борис жил без сестры. Никто не говорил ему перед сменой: «Ложись. Хоть на два часа. Я тебя разбужу. А то хватишься, будет поздно». Целыми днями он или купался с Оськой на реке, или валялся с книгой. Борис работал в ночную смену. Ни молочно-яркий свет над головой, ни медленное движение суппорта, ни отрывистое завывание рубильника — ничто не могло отвлечь его. Он хотел спать. Пусть на ногах. Пусть чуть-чуть осев грудью на станину, только бы не силиться открывать глаза. Если бы разрешили, он, легко надламываясь, распластался бы на жестком, в мелких стружках, полу и, приятно чувствуя нежную колючую боль лицом, растаял в мягком сне. И все-таки он дождался перерыва. Окружив парту у двери, женщины развязывали узелки с едой. Борис вышел во двор. Съел свой обед — кусок хлеба. Больше он ничего не носил с собой. Дома не было даже картошки. На базаре ведро стоило сто двадцать рублей, и его заработка на такую роскошь не хватало. В его распоряжении оставалось еще сорок пять минут, и он возвратился в цех, влез на затененную полку стеллажа, растянулся на прутьях. Некоторое время помнил, как Валя Огородникова вынула зубами бумажную пробку из пол-литра с молоком и отпила. Помнил сразу повлажневшие ее губы, полные, с теплой белой капелькой. Потом уснул. Он не слышал, как провыла сирена, как загудели станки. Степан Савельевич прошелся несколько раз взад и вперед по цеху, постоял у станка Бориса и, не выказывая особого беспокойства, подошел к стеллажу. Борис спал лицом на сложенных руках. Чтобы достать его, необходимо было низко подлезть под полку. Степан Савельевич взял прут, коснулся кирзовых сапог Бориса и начал раскачивать его ноги. Испуганный Борис соскочил, болезненно щурясь от яркого света и не соображая. Степан Савельевич бросил прут и, заложив руки назад, молча удалился сутуловатой спиной. И равнодушно брошенный прут, и смех девчат у станков, особенно застенчивая улыбка Ленки Телегиной, жестко разбудили Бориса. Он недвижно постоял у стеллажа, разглядывая цех, хмыкнул. А заметив, что почти все видели это, и испытывая непонятную униженность, сказал мастеру в спину: — Железку можно было бы не бросать. Для других оставить. Степан Савельевич не оглянулся. Борис улыбнулся недобро и пошел к станку. Чувствуя злую сосредоточенность Бориса, всю эту смену Павлик не решился попросить у него поработать. Стоя за станком, смачивал нагревающийся резец эмульсией, макая щетинистую кисть в банку, лишь изредка взглядывая снизу на неподвижно спокойные губы Бориса. На следующую ночь Павлик со своим другом, тоже учеником токаря, вышел из проходной завода. — Я знаю, где он живет. Во втором бараке, — сказал Павлик. — А как грядки найдем? Они остановились у огородов. — Тише. Осторожно перелезем. Они доползли по выбитой бровке до угла длинного деревянного дома и присели в картофельной ботве. — Где третье окошко. Видишь? Высокая грядка — это его. — Почем ты знаешь? — А он их вечером сам поливает. Я здесь каждый день хожу, вижу. В доме горел свет. Из окон дымчатые полосы света падали на картофельную ботву. Огуречные грядки из навоза возвышались над землей. Ярко освещенные у окна, они удалялись в тень и прослеживались по теплой зелени листьев. Свет из окон второго этажа протягивался на далекий березовый плетень. Ребята притихли у огуречной грядки Степана Савельевича. Росистые стебли огурцов были нежно ломки. На черноте сырой земли доверчиво проглядывали желтые цветочки с маленькими завязями огурчиков. Цеплялись за руки наждачно-шероховатые, разлапистые, вязкие листья. Приподнимаясь на руках, ребята поползли по обеим сторонам грядки, захватывая стебли, вырывая с землей, отбрасывая их себе под ноги. Сзади оставались скучные, как глазницы, пустые черные лунки. На краю грядки ребята сорвались и кинулись через картофель прочь. Перевалившись через плетень, выбежали на дорогу, удовлетворенно зашептались: — Законно отомстили. Вздрагивая озелененными руками над жестяной банкой, потный Павлик изнемогал от нетерпения. — Теперь он подобреет… Еще не такое сделаем, — желая обрадовать Бориса, сказал Павлик. — На первый случай только огурцы пропололи. — Что? — спросил Борис и, дернув рубильник, ладонью остановил патрон. Павлик перестал моргать. — А ну, иди на улицу, — Борис первым пошел из цеха. На другой день наряд ему принесла табельщица, а не мастер. Степан Савельевич даже ни разу не оглянулся в его сторону. Только начальник цеха Давид Самойлович Капильзон вышел из своей каморки, увидел Бориса и застеснялся. Давид Самойлович всегда так. Высокий, выбритый, даже на работе при галстуке, в белой-белой, крахмальной рубашке под серым и уже мазутным пиджаком, смотрел задумчиво и как будто удивлялся, когда узнавал о людях что-то плохое. И этого плохого в людях стеснялся. Борис больше всего стыдился этой его стеснительной улыбки. — Не я, — хотелось тогда крикнуть Борису. Или ему хотелось, чтобы кто-то сказал, а может быть, само как-то узналось, что это не он, Борис, ходит по ночным огородам и раскидывает под окнами огуречные плети. Но Борис знал, что сам он никогда, ничего, никому об этом не скажет. — Эх ты, ФЗО, — холодно упрекнул он Павлика. — Стриженый, конопатый суслик. Удружил. Наверное, считаешь, что ты герой-парень. Шлепнуть бы тебя по круглому затылку. Борис злился. Может быть, поэтому у него и не клеилась работа. Он устанавливал опробованный расточный резец, опробованные прокладки, включал станок, касался резцом дна колпачка — станок дрожал. Кажется, он уползал из-под рук. Сыпалась мельчайшая игольчатая стружка. Борис переставлял резец, с силой зажимал, надставив ключ металлической трубой. Но только касался ребристой поверхности детали, как рукам передавалась неуемная дрожь. Борис который раз направлялся в шлифовальный цех. Затачивал резец и почему-то думал, что ему не хочется возвращаться к своему станку. Такого он в себе не замечал. Вспоминал о Степане Савельевиче. И понимал: да, поэтому. «А, пошел он… Что мне-то. Тоже, причина. Понаехали тут… Подальше от фронта. Разбежались, как тараканы в щели, и лезут, кто поглубже. Поближе к огурцам». В цех входил вызывающе, независимо.
Вадим Галимбиевский вернулся в механический цех полгода назад. Вернулся из тюрьмы. Давали ему восемь лет, а отсидел он только полтора года. Небольшого роста, широкоплечий и круглый, как комель, он был красивым. Красивые глаза и тонкие черные брови, как у девушки. Золотая коронка на верхнем зубе и располагающая улыбка. Ходил он в хромовых сапогах ка тонкой подошве с маленьким каблуком. И сжатые гармошкой голяшки сапог и отсутствие каблука делали его шаги мягкими. Так он был ловок, что казалось — брось его с высоты вниз головой, он все равно на ноги встанет. Сильный физически, и в других ценил он физическую силу. Его станок рядом с Борисовым. Точить Галимбиевскому давали крупные детали, потому что он мог поднимать их на станину. Только ему, только на его станок монтировали приспособление для накатки колпачков. Любо смотреть, как он работает. Отбитый на прессе металлический кружок прижимал он бабкой к вращающейся в патроне форме. Брал ролик с деревянной ручкой, зажимал его под мышкой, макал в масло и, оперевшись им на опору, подводил к кружку. Масляный ролик нагревался, дымил, искрясь, накатывал кружок на форму. От станка пахло горячим железом. Вадим входил в азарт, не собирал готовые колпачки, они падали в люльку и на пол, под ноги. А он, озлобленно торжествуя, улыбался чему-то. Выполнял он до трех норм. А Борис, когда его поставили на колпачки, еле-еле уложился в норму, да и то дня три не мог поднять правую руку. Вадима любили в цехе. Если его на работе не было — все в обеденный перерыв скучали. Выключали в цехе лампочки, оставляли одну у входа и, прижавшись друг к другу, дремали на старой ученической парте. А когда был Галимбиевский, в обеденный перерыв он то пел, то учил парней, как приглашать девчат на танец. Шаркал по полу подошвами, крутил из стороны в сторону глазами, как бы кого выискивая, и делал отчаянно неправдоподобные реверансы. Или рассказывал, как за ним гнался милиционер. Побежит, побежит, устанет, остановится и выстрелит. А когда израсходовал все патроны, то побоялся подойти. Он, Вадим, сел у него перед носом, переобулся и ушел. Однажды на рассвете Валя Огородникова увидела: два милиционера вели Вадима по центральной улице мимо окон завода. Потом увидали все. Сумеречный рассвет, летнее знобкое утро и странно чужой, независимый Вадим между милиционерами. Он оглянулся на окна цеха, вынул руку из кармана и махнул. Девчата выбегали посмотреть ему вслед. Через два дня Галимбиевский опять работал в цехе. Иногда Вадим был задумчив. Растачивая большие детали, включал самоход и пел:
Вечером Борис сварил себе кашу. Высыпал в кастрюльку несколько ложек пшена, залил водой, посолил и долго смотрел, как пшено лежало на дне, как помутнела вода, а потом густая масса вздувалась бугорками. Бугорки лопались, и тяжело вздрагивала кастрюлька — значит, каша готова. Борис поставил кастрюльку на газету, достал хлеб. Корочки на хлебе не было. Борис обломал ее дорогой, когда нес из магазина. Еще горячий, он положил его под мышку, шел и чувствовал боком мягкую теплоту. Нижняя корочка была ноздревата, а сверху маслянисто-подгоревшая. Сначала он отломил сухой хрустящий наплыв. От теплого запаха дрожжей закружилась голова. И Борис подумал: какая разница, что сейчас его съест, что позже? Ведь всегда же голодный. Пока шел до дома, обламывал корочки без сожаления. А сейчас досадно морщился: «Никак не приучу себя сдерживаться». Борис поел кашу… Положил остаток хлеба на крышку кастрюли, поставил в угол. Газету сложил вдвое, ссыпал из ее желобка крошки в ладонь, прикрыл ею в углу хлеб. Борис не любил ничего оставлять на столе. Особенно кастрюлю. Тогда он ее все время чувствовал в комнате. Уйдет на кухню, а сам знает, что кастрюлька стоит. Читает книжку, а она стоит. Уберет — и столу легче, и комната успокоится, и даже сам Борис. Занимайся, чем хочешь. Наступали сумерки. Борис стал ходить по комнате от стола к двери и обратно, тщательно заканчивая каждый шаг. Остановился у стола, пододвинул тоненький сборник со стихами. Стихи привязались к нему вот уже второй день.
Трудно понять женщин. То они одержимы работой. За смену ни разу не отойдут от станка, неумело ударяют железными обрубками по стержню, выставленному из патрона, чтобы тот не «бил». Как заговоренные, не поднимут глаз от резца, озабоченно собранные. Тогда, наверное, они ничего не помнят вокруг, не чувствуют, кроме отполированной тяжести суппорта. И только досада на лице, если вдруг захлопает надорванный ремень на ступенчатом шкиве. А то закончится обеденный перерыв, провоет сирена, а они как сидели рядышком, так и сидят. Даже не шевельнутся. Прижмутся одна к другой и покачиваются. Ленка, так та положит свою голову кому-нибудь на плечо и может не шевелиться целый час. Смотрит в одну точку. Приспустит ресницы и так думает о чем-то. И главное — не спит. Ребята уже станки включат. Степан Савельевич пройдется по цеху несколько раз, а они ну хоть бы что, как каменные. Первым не выдерживает мастер. — Что? — привычно спросит он. — Будем сидеть? На это они с минуту еще ничего не отвечают. — Ох, что уж, — легко вздохнет Валя Огородникова. — Пойдемте, девки. «Вот расклеились», — думает в это время о них Борис. Ему всегда хочется взять Ленкину голову, приподнять с плеча и сказать: — Ничего, я подержу, а то она у тебя набок отваливается, как колокольчик. Борис знает, что Ленка рассмеется. Потом, словно опомнившись, посерьезнеет. Прищурит глаза и уйдет к станку. А Валя Огородникова оттолкнет от себя Ленку и скажет Борису: — Что ты ей в глаза заглядываешь? Целуй же! Эх ты… размазня. Валя — солдатка. Но Борис так и не понял, почему Галимбиевский сказал о ней, что она «слишком женщина». Это, что плечи у нее круглые? Или, что, когда сидит и полные ноги прячет в сторону, коленки натягивают платье, будто им там тесно? А может быть, оттого, что очень уж голос у нее какой-то певучий. И говорит она в цехе все, что может знать женщина. Стыдное для нее что-то другое, но не то, чего стесняются другие. Ей нравится видеть на лицах других смущение. — Борис, давай я научу тебя целоваться. Так, чтобы в глазах темнело. Ну, подойди поближе. А то Галимбиевский показывал в цехе, как по утрам он занимается физзарядкой, падал на стенку руками и, упруго оттолкнувшись, снова вставал. — Ты об меня, — предложила Огородникова. — Ты не приспособлена на такое сопротивление. — А я не буду сопротивляться, — задиристо ответила она. Галимбиевский говорит о ней с усмешечкой. Многозначаще. Но Борис почему-то этой его усмешечке не верит. Борису кажется, что Галимбиевский здесь зачем-то играет. Борис видел однажды Галимбиевского рядом с ней. Валя стояла на высокой подставке у своего станка, а Галимбиевский возле нее. Еле притрагиваясь пальцами, он погладил ее поясницу и, низко нагнувшись к ней, сказал что-то, наверное, шуточное. Валя остановила станок, посмотрела на Галимбиевского серьезно и неумолимо. Потом взяла ветошь, вытерла руки и промасленно-грязным комком с силой провела Галимбиевскому по губам с одной и другой стороны. На своей подставке она была выше Галимбиевского. Борису даже показалось тогда, что у Галимбиевского прижались уши. Но находило на нее и другое. Как-то собрались в конторке механического цеха мужчины. Неизвестно почему. Или они выпили, или тому была другая причина, но они пели. Вместо масляного лязга станков, вместо глухого звона железа в цехе слышалась песня. Мужчины пели. Пели не как пьяные, что изо всей силы орут кому-то, а пели себе. Спокойно. Не надрываясь. И слов было не разобрать, и непонятно, что это была за песня. Так лес шумит. Был обеденный перерыв. Дощатая стена конторки начальника цеха смягчала голоса. Валя Огородникова сидела за партой, и не было в ее глазах бесшабашной насмешливости. — Как же я люблю, когда поют мужчины, — задумчиво произнесла она. — Какая сила в них. Насколько же они лучше нас, женщин! Строже… И… чище. Мы-то знаем, за что их любить. Она сложила свои руки кулачками в карманы фартука, и они устало лежали на коленях. В общем, Огородникова была насмешливым, неустойчиво беспокойным человеком. Как-то в ночную смену на заводе выключили ток. Что-то случилось с электростанцией. Степан Савельевич вышел из цеха. Ток не дали ни через двадцать минут, ни через час. Девушки устроились на полу, у парты. Борис с Оськой лежали на верстаке, прислушиваясь к их смеху. Оказалось, что ночь на дворе светлая. Из окон бледный свет экранами падал на пол. Он матовыми звездочками рассыпался на рукоятках, холодными дорожками на цилиндрических боках патронов, на полированных салазках станин. — Везет сегодня, — сказал Оська. — Может, всю смену профилоним. Только спать жестко. Это не верстак, а терка. Щека гофрированной стала. Пойдем к ним. Хоть голову найдем куда положить. Они подошли к внезапно замолчавшим девчатам. Те лежали на полу в лунных квадратах, исполосованные оконными переплетами. Борис лег, опершись на локоть. А потом, устраиваясь удобнее лопатками на полу, положил голову кому-то на живот. Под затылком живот затаенно дышал. — Голова тяжелая. Как болванка, — громко возмутилась Ленка. — Прямо чугунная. Все рассмеялись. — Пусти. Она начала руками сталкивать голову. Напрягшись спиной, Борис приподнялся на локтях, подался вперед и лег головой к Ленке на грудь. Щеку обожгло. Ленка, испуганно растерянная, перестала дышать. С минуту молчала, не зная, как взяться за его голову. Она говорила шепотом, чтобы уж никто не слышал: — Пусти же. Ну… А то… Но голову сталкивала не слишком уверенно. «С ними понахальнее, — удовлетворенно утешал себя Борис. — Прав Галимбиевский». А потом сам, крадучись, стал сползать головой на пол, потому что Валя Огородникова рассказывала о своей свадьбе. Она лежала на полу, подложив под голову телогрейку. Коленки ее туго спеленуты платьем. Заправленные вниз складки придавлены ногами к полу. Ноги белые, без чулок, лежат на грязном полу разутыми, отдыхают. — А после я все себе говорила: «Вот глупая». Вы даже сами не знаете, какие вы глупые… — почему-то говорила она всем, внутренне улыбаясь. Она была возбуждена вдохновением рассказчика, который понимает, что его торопят, его ждут. Она заново переживала все. Может быть, ярче, чем это было на самом деле. Она знала, что воспоминания ее чисты. Это был вызов, злая тоска по тому, что у нее отобрано кем-то. Это та жизнь, которая потеряна, и именно поэтому кажется счастьем, самым, наверно, светлым. Как солнечное тепло на траве или лунный всплеск в лужицах, это оборванное ощущение счастья ей хотелось повторить, вызвать вновь и вновь словами, памятью, всем существом женщины. Она не другим рассказывала о своей первой брачной ночи, для нее они не существовали сейчас, она вспоминала ее для себя. Так, наверное, пишут стихи. — Он еще не вошел ко мне в горницу… А луна такая!.. Даже стыдно при такой луне лежать в одной рубашке. Окна как глаза. А я… прямо сквозная… Лежу. «Господи, как это будет? — думаю я. — А ведь это сейчас будет». Борис слушал, закусив губу. Он бы не вынес сейчас света. Он бы убежал. Он не знал, как ему убрать свою голову, чтобы это не заметилось. Он съехал вниз, на плечо, потом на руку и удивился, почему Ленка не выдергивает руку. Больше всего ему хотелось, чтобы Ленка подумала, что он сейчас спит. Все, что рассказывала Огородникова, он уже знал из книг или от хвастающихся товарищей. А как это все происходит, он теперь хотел узнать от взрослых людей. Борис еще стыдился беременных женщин. Его ужасало, что они не прячут живот от людей. Даже глаз не отводят. Если это у «просто» женщин можно только предположить, то у беременных — это уже точно. А им хоть бы что. В темноте Борис представлял белые Валины ноги на избитом полу и сброшенные в стороны ботинки. Неожиданно во всем цехе над станками вспыхнул свет. Борис испуганно сел. Прикрывая рукой глаза, щурился. Увидел Ленку и непроизвольно улыбнулся. Она с недоуменной стыдливостью взглянула на него и поднялась с полу. Валя Огородникова надевала ботинки. Работать Борису оставалось часа три. Он работал еще только по восемь часов. А Валя Огородникова, как самая старшая в цехе, должна простаивать за своим станком двенадцать. В конце августа Бориса вызвали в профком. Пожилая женщина с рыхлым, как тесто, телом предупредительно улыбалась. — Ты садись, садись, — сказала она, подвигаясь к нему со своим стулом. — Мы вот по какому вопросу. Скучно тебе, поди, одному жить. Ни пол помыть, ни в комнате прибрать. И словом переброситься не с кем. Решили мы к тебе двух женщин в комнату вселить. Дочь со старухой. Люди они хорошие, скромные. Они и уют в комнате наведут. А то и постирают тебе что когда. Разве можно одному жить? Ну?.. Женщина помолчала. — Больше не к кому. — Тон у нее был просительный. — Мы уж смотрели. Теснота. Ну просто забито. Внизу у вас в комнатке живет одна семья, так туда подселили женщину с ребенком. Из Ленинграда эвакуированная. Господи, девчонка совсем. Ну что делать?.. И эти эвакуированные. — Я не возражаю, — сказал Борис. — Мне все равно. Шел в цех и думал: «Конечно, все равно. Скоро в армию». С работы Борис возвращался возбужденный. Его, конечно, сейчас попросят переставлять тяжелые вещи или прибить к стене вешалку — женщинам мало ли что потребуется. Надо помочь. Он сегодня никуда не пойдет. А как они будут ложиться спать? Наверное, ему придется выходить на улицу. Борис вошел в комнату улыбающийся. Сказал: — Здравствуйте, — и начал снимать спецовку. Повесил ее на гвоздь и спросил: — Наверное, нужно познакомиться? Меня зовут Борис. — Вера Борисовна, — ответила женщина, ей было лет сорок, — а ее зовите просто бабушка. Вещей у женщин было немного. Три чемодана, кухонный стол и кровать. Стол они поставили к стене и сидели за ним на табуретках — ели. Кровать Бориса переставили к двери: «Здесь она лучше стала». Борис умылся на кухне и прохладный, в майке, сел на кровать. Женщины разговаривали между собой очень тихо. Борис молчал и рассматривал их спины. Вера Борисовна была в шерстяном бордовом платье. Бабка сутула. Так сутула, что, казалось, положи на выпуклую спину стакан, он не скатится. Вера Борисовна раскладывала маленькой поварешкой кашу, кажется, тыквенную. Поварешка блестела, только ручка у нее была с какими-то тусклыми, как задымленными, узорами. Таких красивых поварешек Борис еще ни разу не видел. Вера Борисовна положила перед бабкой два кусочка хлеба. Один бабка отодвинула и сказала что-то. Вера Борисовна подала его бабке обратно. Борис почувствовал, что этим женщинам он не нужен. Так они стали жить. Вера Борисовна работала на заводе в бухгалтерии. Ее мать сидела дома. Она целыми днями никуда не выходила из комнаты. Сидит, ничего не делая, и молчит. Когда приходила Вера Борисовна, то разговаривали они между собой почему-то вполголоса. И Борису с ними тоже совсем не о чем разговаривать. Отчужденные они. Насторожены к нему. Первое время Борис недоуменно усмехался: «Ничего живем. Дружно. Не ссоримся». Он теперь брал два ведра — свое и их, — приносил воду, ставил. И это ему нравилось. А потом… Он приходил с работы ночью, хотел умыться, или поздно возвращался с улицы и подходил к ведрам напиться, — воды в ведрах никогда не оказывалось. Только на дне высыхал тинистый желтый налет. Колонка ночами не работала. Борис досадовал: «Я что, ишак? Спасибо ни разу не сказали… Вере Борисовне, пожалуй, не вредно самой поразмяться. Ветерком перхоть с плеч сдует». И утром, спеша на работу, он принес воды уже только одно ведро. Вера Борисовна по этому случаю сказала матери что-то еще тише, почти шепотом. Дома для этих женщин не было никакой работы, кроме как вымыть кастрюльку. Вера Борисовна никогда не ходила даже в кино. «И почему они такие? — недоумевал Борис. — Может, у них погиб кто?» Однажды он спросил у Веры Борисовны: — У вас, наверное, кто-нибудь остался там, на Украине? Вера Борисовна ответила: — Нет. Мы только с мамой… Но у нас там осталось все. А разве так можно жить? — Она обвела комнату рукой. Бориса обидело, как Вера Борисовна сказала о его комнате. И он не стал уточнять, что у них там осталось. Он только подумал: «Не так уж вы плохо и живете. Лучше меня. Маслом даже кашу заправляете». Иногда к ним заходила Пятницкая, женщина с нижнего этажа, и приносила топленое масло в пол-литровых бутылочках. Разговаривала она громко, чувствовала себя хозяйкой в квартире и, не обращая внимания на Бориса, требовала: — Ну, показывайте. — Вера Борисовна медлила. — Да не стыдись ты! — Кивала на Бориса и заключала: — Да он на наши бабьи дела и смотреть не будет. Вера Борисовна доставала из чемодана и развертывала перед Пятницкой шелковые женские рубашки. Та крутила их, долго примеряя. «В чемоданах такая одежда, а ходит постоянно в своем грязном платье, — удивлялся Борис. — И дома и на работе в нем». Давно ли Борис и женщины живут вместе, а в комнате стало грязно. Борис тоже не снимает сапог. Окна ночами не открываются, и исчез тот чистый воздух, который любил Борис в своей комнате. Однажды Борис демонстративно сам вымыл пол и ходил босиком по прохладным крашеным доскам. Ему снова захотелось застелить стол свежей газетой, раскрыть настежь окно, смотреть на тополя, а за ними на цепочку огней у вокзала и в прохладу раскрытого окна или этим огням читать стихи.
Борис сидел на снопах и глядел, как запряженная лошадь тянулась к рассыпанному снопу на стерне. Туго подвязанный чересседельник мешал ей. Лошадь беспомощно двигала в воздухе губами. Колхозная повариха брякала ложками в пустой кастрюле и закрывала флягу на телеге. Борис еще держал в коленях алюминиевую миску. Пустая, она заметно остывала. К обеду погода изменилась. Дождя еще не было, но воздух похолодал. Небо шевелилось. И лицо чувствовало пасмурную сырость воздуха. Посерел окостенелый лоск соломы. Оська лежал возле миски на животе. Его ресницы были в осотовом пуху, а брошенная рядом кепка — в вязкой, будто войлочной, пыли. Оська до обеда откидывал от комбайна солому. Валя Огородникова встряхивала косынку, а Ленка гладила исцарапанные соломой ноги, поджав их под себя. Оська закончил есть, отодвинул миску и сказал: — Хорошо жить Ленке. Доходна́я… Есть не во что. А я бы сейчас нарубался, как ванька-встанька, и стоял, покачивался от удовольствия. С улыбочкой. Повариха рассмеялась, села на телегу и, деловито натягивая вожжи, тронула лошадь. Громыхнула пустая фляга из-под супа. Повариха, придерживая ее свободной рукой, медленно поехала к меже. Десять человек из механического цеха работают в колхозе на уборке хлеба, обмолачивают пшеницу. Вот уже скоро неделю ночуют токари в поле, в соломенном шалаше. Сегодня осталось обмолотить небольшой прикладок и перевести комбайн к другой скирде. Недалеко, метров пятьсот. Женщина-комбайнер заводила комбайн. Сосала в себя из медной гнутой трубки бензин и, ругаясь, сплевывала. — Может, я, — покровительственно отстранил Борис женщину. Взялся за рукоятку, начал проворачивать. Она вырывалась у него из рук и пружинисто прядала вверх. Но вдруг мотор вздрогнул, выхлопами выбросил дым из тонкой трубы и вскоре задвигал всеми своими цепями, затрясся в серой бахроме паутинистой пыли. Остаток скирды обмолотили за полчаса и сели ждать лошадей — перевозить комбайн. Сеял дождь. Но он еще не мешал. Воздух был влажно пылен, как прохладный компресс. Мальчишка верхом пригнал двух лошадей. Рисуясь перед «городскими», лихо остановил их. Хомуты с болтающимися постромками наползли лошадям на уши. Мальчишка за что-то прицепил постромки впереди комбайна, тронул лошадей, и они потянули комбайн по жнивью. Земля уже намокла. Огромные колеса комбайна грузли в стерне, оставляли за собой широкие вдавленные полосы. Борис шел по глубокой колее, придерживаясь рукой за комбайн. Сапоги его промокли, противно ползли, и он чувствовал ногами осклизлость кожи. Метрах в пятидесяти от скирды, в ложбинке, лошади встали. У них ходили бока и мелко дрожали ноги. Десять человек облепили комбайн. Борис не особенно напрягался. Не выходя из колеи, упирался плечом в какой-то выступ комбайна и в положении «под углом» ждал, когда качнется под ним железная махина. Оська тоже, с многозначительной миной, симулировал чрезмерное усилие. Мальчишка кричал: — Ну, попрыгай, падла… — и хлестал лошадей кнутом. Лошади вытягивались, скоблили всеми ногами на месте, как мыши. Скользя, падали, тяжело ударялись мордами о землю. Поднимались. Мальчишка забегал вперед, хватал их за поводья, зло всхлипывал, бил лошадей по мордам. Они, моргая глазами, рвали поводья из его рук. Комбайн, покачнувшись, оседал назад. Оська сказал кому-то: — Утюг и муравьи. Борис увидал Валю Огородникову. Маленькая, она цеплялась за спицы огромного колеса, грязь сочилась меж пальцев. Скользя ладонями по ободу, она зачерпывала рукавами телогрейки густую жижу. И была в ее лице такая бабья убежденность, что, конечно же, она дотянет этот комбайн до скирды. Если не она, то кто же еще? Борис нехорошо подумал про Оську и противен стал себе. Противен за фальшь. Тогда он зло и нерасчетливо навалился всей тяжестью на колесо. Комбайн не шевельнулся. И Борис, продолжая лежать плечом на колесе, сказал: — Кончай! Выпрямился. Вытер руки о мокрый бок комбайна. — Ни черта не сделаем. Пусть лошади отдохнут. А то они плакать не умеют. Минут пять постояли кто где. От лошадей шел пар. На их боках медленно остывал мокрый лоск. Борис подошел к комбайну. — Слушай, парень, — сказал он мальчишке. — Ты давай спокойно. Не прямо веди, а разворачивай покруче вправо. Понял? А теперь все на одно колесо. Навалились гамузом. Ну, все! Все! Давай, парень. Давай! Давай! Давай же! — срываясь, кричал он. — Давай же… Держи!.. А теперь держим все, чтобы не откатилось. Комбайн развернулся вправо и, как пингвин, переставил через ложбинку свою массивную лапу. — Теперь влево. И повторим. Комбайн снова пополз к скирде. Волосы у Бориса намокли, спутались. Челка разбросанно прилипла ко лбу. Лицо под холодным дождем окаменело. Губы посинели. Борис шел за комбайном, не выбирая дороги. И этот окатывающий лицо дождь ему уже нравился. А еще ему понравилось, что, когда он стоял, привалившись спиной к скирде, на него смотрела Ленка Телегина. Валя Огородникова увидела это и что-то сказала ей шепотом. Борис чувствовал, что сказала о нем, потому что Ленка испуганно смутилась и тотчас отвернулась. Комбайн оставили у скирды. Молотить не стали. Был вечер. Дождь еще моросил, а мокрый хлеб комбайн не промолачивает. Лежали на сухой соломе в шалаше, укрывшись телогрейками. Было темно. Пахло мокрыми волосами и сладковатой теплой испариной. Борис думал над тем, что предложил сегодня Оська: — Давай ночью втиснемся между девчатами. А Валя Огородникова словно услышала его мысли, сказала: — Ленка… Ну и мокрая же ты! Как лягушка. Господи! Что ты так коленками уперлась. Борис… — Валя сдержанно рассмеялась. — Иди к нам. Ленка замерзла. — Прямо! — удивилась Ленка. — Пусть попробует. Сказала поспешно и испуганно. И вдруг рассмеялась, глуша и пряча во что-то смех. Утром Борис вылез из шалаша и не смог сообразить, что ярче — вороха соломы или солнце. Солнце упало на солому. Оно, теплое, вдавливалось под ногами. Воздуха не было — или он стал разреженно лучист. И неба не было — только разбеленная осенняя синева. От стерни лучи били в лицо. Они почти невидимы. Ничего не осталось от вчерашнего дождя, только на крашеном металле комбайна в тени капли, как пот. В соломенном лазе шалаша на коленях стояла Ленка, закрывая своей тенью резкую солнечную полосу. Выставив вперед локти, она вздымала руки, закрывая глаза от солнца. Она и пряталась от него, и поклонялась ему, как язычница. Вдруг, увидев Бориса, юркнула обратно в шалаш. Бывает… Иногда и сам не знаешь, когда это бывает… Может быть, тогда, когда стоишь с парнями у дверей клуба или у проходной завода. Откуда-то из дверей явится девушка и улыбнется тебе. Просто так улыбнется. Без причины, И уйдет. Улыбка забудется. А лет через десять, однажды, почувствуешь в себе прилив неожиданной светлой радости. И поймешь, почему такой прекрасной для тебя была улыбка той девушки. Тогда ты стоил этой светлой улыбки. А как просто это все было. Буднично. Знать бы, когда ты стоишь своего настоящего счастья. Или что, разбуженное памятью, принесет тебе радость. Наверное, существует облучение счастьем. Борис весь день не забывал, как Ленка Телегина закрывалась развернутыми ладошками от солнца. Он подменял у барабана Валю Огородникову. Двигал по наклонному столу снопы. Снопы скользили по челночной полировке досок на короткую ленту с планками. С ленты комбайн заглатывал их, затихал, натужно вбирал в зубастую пасть. Протолкнув, освобожденно завывал. Из барабана, как из страшного ветряного пульверизатора, летели колосья и головки осота. Над Борисом метался, крутился и плавал пух. Когда Борис отходил от барабана, его грудь была в сером пуху, как в тонком слое ватина, а с ресниц свисал седой мох. В запушенных серых ресницах глаза его казались промытыми, синели глубокой колодезной чистотой. Он улыбался, долго моргая в стороне и стирая платком пыльную каемку с губ. Молотить скирду закончили в семь часов. В воскресенье выходной, и все пошли домой. Ступая по мелкой, еще зеленой траве у дороги, Борис только теперь почувствовал, как он устал. Гудение перегруженного снопами мотора все еще вспыхивало в нем самом, нарастало и обрывалось, заглохнув. Он устало покачивался. Ему хотелось знать, чувствует ли Оська эти надсадные захлебы мотора. Оська нес телогрейку на плече, зацепив пальцами вешалку. — Неделю прокантовались, — сказал Борис. — Хорошая кантовка, — сказал Оська. — Мякины наглотался… Сегодня танцы играть… Начну дуть, и мундштук забьется… и желтые навильнички в глаза-а-ах… — театрально продекламировал он. От мазутной телогрейки у него отпотела и испачкалась щека. Борису стало смешно: — Ты как-то совсем не устал! Ты кремень. Нет, ты «самокал», «победит». У Оськи скучно сдвинулись брови. У него не было настроения шутить: — И ведь никто нас не заставляет. Выкладываемся… черт… как заводные… Меня на танцы сегодня не хватит. — Смотри, — кивнул Борис. — Кажется, мы подкрепимся до танцев. Витамином бодрости. Впереди на дороге их ждали девчата. За березовым леском, справа от дороги, лежало большое, покуда хватал глаз, поле моркови. Девчонки вопросительно смотрели на ребят. — Конечно… — сказал Борис, не доходя еще до них, и направился к моркови. Солнце садилось. Тень от березняка упала на поле, и воздух над морковной ботвой казался влажным и зеленым. Борис вырвал гладкую каротель. Собрал рукой хрусткие ниточки распадающейся ботвы и мягкой зеленью вытер морковь. Откусил тоненький обескровленный хвостик. Отбросил. От ломкого холода морковки знобко заныли зубы. Оська подкапывал пальцем вокруг тощих корешков, пытаясь найти морковку покрупнее. Он пел: «Все кругом колхозное, все кругом мое». Эта песня всех привела в восторг. В руке у него уже болтались три комолых сосиски. Он еще выдернул уродливую рогатулину и обрадованно закричал: — Мне, как всегда, везет. Двойная порция. Ленка, это я подарю тебе. «Пифагоровы штаны». Срубаешь, математику не забудешь и… меня. Но не успела Ленка ничего ответить, как глаза ее удивленно расширились. В одно мгновение все кинулись к дороге. Из березняка бежал колхозный сторож. — Разбойники! — кричал он. — Повадились целыми табунами. На ходу старик дергал затвором ружья, Борису не хотелось бежать. Он знал — дед не выстрелит. Девчата глупенькие. Он повернулся к сторожу. Щуплый старик, вращая ружьем и глазами, возбуждал в себе свирепость. Около Бориса его решительность иссякла. — У, т… У, т… — замахнулся он ружьем. Борис поймал его за поясницу и приподнял. У старика была морщинистая шея, редкая седая борода, грязная у корней и с черными крапинками, непромытый подбородок. — Что ты, что ты, что ты, обалдел? — испуганно смирился старик. — А что ты, дед, трепыхаешься? — сказал Борис. — Не узнаешь? Мы все свои. Когда Борис уходил, старик кричал ему: — Свои!.. Каторжные, сукины сыны. Небось все с за-вода. Борис увидел у себя в руках морковку, и ему не захотелось ее есть. Бориса ждали. Он подошел к девчатам и не слишком уверенно улыбнулся. — Что же вы? — с бодрой независимостью сказал он. — Рассыпались, как дождь. Такие большие… Вот вам теперь будет… Но было ему.
В понедельник рано утром все вместе шли на колхозный хутор. Воздух теплый. До хутора всего шесть километров. Поэтому не спешили. Ленка ловила ладошкой в воздухе пух, кричала ему: — Лисичка-собачка, сядь, посиди. А еле заметный пухленький шарик упруго обтекал протянутую ладонь и летел дальше. Борис ждал вчера вечером Ленку на танцы, но она не пришла. — Ну и лопух, — сказал себе Борис. — Сообразил… Только что. А всю неделю ушами хлопал. Он посмотрел на Ленку и удивился. Во всей осени не было такого цвета, как ее глаза. Он увидел ее губы и подумал: «Почему люди целуются? А что губы при этом чувствуют?» Ленку он тоже когда-нибудь поцелует… Он вспомнил, как они были с ней недавно в колке. Борис рубил березки для шалаша, а Ленка держала в руках лесинки и ждала его. Кофточку она тогда испачкала о березовую кору, словно грудью стенку обтерла. Борис подумал: «Вот глупая. Тяжело, а держит. Ничего не соображает. Как баба». А потом удивился: «Доверчивая… Сама как березка. Вон и живот в белой пыльце. И к ботинкам листья прилипли. Бери и руби…» Борис улыбнулся, представив, как она со своими лесниками обходила тогда пеньки. Лесинки бороздили вершинками по земле, бренчали. Почему он никуда не позвал ее тогда вечером? «Это же сейчас запросто, — отчетливо вспомнил он насмешливую улыбку Галимбиевского. — В войну бабы ничего не помнят. Все нараспашку. А что ждать…» И вдруг Борису подумалось, что Ленка и вправду может с ним хоть куда пойти. Просто так… Ленка вдевала в петельку кофточки тяжело провисшие колоски подорожника. Борис посмотрел на нее и с грустным недоумением понял, что Ленка, наверное, даже и не догадывается, как он о ней думает. Комбайнерша на хутор еще не приехала. Ждали ее под навесом. На деревянных штырях, вбитых в столбы, висели хомуты. Пахло потным войлоком. Борис сидел за длинным деревянным столом. Стол некрашеный. Поскоблен ножом. Борис протыкал соломинкой забитые щели. Его позвали в стан. Он поднялся по ступенькам и вошел в открытую дверь. В углу стояла облупленная беленая печка и у стен низкие нары. И еще там было много народу. Но прежде всего Борис узнал сторожа. Сердце как-то нехорошо ослабло. Перед ним стоял бригадир, здоровый, в расстегнутой гимнастерке, подпоясанный офицерским ремнем. В глаза Борису бросились мятые полоски нашивок за ранения. Качнувшись на ногах, бригадир с нервной нетерпеливостью перехватился ладонью за дубовую кривулинку своей клюшки. — А-а-а!.. — злорадно и тихо сказал он. — Значит, ты вон какой… Нет! Ты блатной… Черная кошка… Значит, вы все здесь можете! Все?! И вдруг он, багровея и взрываясь, взвинтил себя до срывающегося крика: — Можете!.. А вас некому здесь между рог бить? Борис, пугаясь его глаз, стоял у двери. — Гад!.. — Бригадир нервно задохнулся — А ты фронтовиков видел?.. Он резко ударил Бориса клюшкой. Клюшка хрустнула, больно обожгла плечо и отлетела в сторону. Уже на крыльце бригадир навалился на Бориса. Борис ухватился за его гимнастерку, с мстительной обреченностью падая с крыльца навзничь, перекатился спиной, как пресс-папье. Бригадир, перелетая через него, ударился лицом о сухую землю. Отскочив в сторону, Борис с ужасом увидел, что бригадир, словно рашпилем, ссадил себе лоб и скулу, что он встал, отрезвевший, зажал лицо рукой и боком прошел мимо расступившихся колхозников в хутор. Боли Борис не чувствовал, но почему-то все в нем дрожало. Он плохо слушал, что ему говорили колхозники. Возле него стоял Оська и девчата. Валя Огородникова кричала кому-то: — И как не стыдно! Как только не стыдно… Борис, за что он тебя? Или ты сам? — Так, поборолись, — сказал Борис. Больше он никому ничего не отвечал. Получилось нехорошо. Когда пошли с хутора к комбайну, Борису сказали, что из колхоза его отправляют. Борис шел домой и всю дорогу думал о бригадире: «И что он?.. Не разберется… А еще раненый… сволочь…» Он не чувствовал себя виноватым. Почти у самого дома Борис успокоился. Он уже знал, что лицо его в ссадинах. Чувствовал, как воздух касается пылающей стянутой кожи. Борис обрадовался, что во дворе никого не было, только торчали на глиняных буграх деревянные крышки погребов, опрокинутые на колышки. Погреба во дворе появились во время войны. Борис потрогал пальцами лицо, оно саднило. Подумал, как он войдет, что скажет Вере Борисовне, как объяснит. Она, наверное, испугается. Почему он такой неласковый с людьми? Почему он так никогда и не поговорил ни о чем с Верой Борисовной? Он сейчас придет и все ей расскажет. Он скажет: — Вера Борисовна, знаете… что-то не так все у меня получается в жизни. Никто не хочет знать, какой я. Всем все равно. Им даже все равно, есть я или нет. Ведь вам тоже все равно, что я живу. Борис подошел к подъезду. Встретился с женщиной из нижней квартиры, Пятницкой. У женщины под полой старой жакетки кастрюлька. Наверно, корм гусям. У нее широкое, багрово налитое лицо с фиолетовыми ветвистыми прожилками на скулах… — Хтой-то тебя… так? — с радостным удивлением пропела она. — Вы бы шли, тетя, — сказал Борис, — кормили бы свое стадо. А то прячетесь… Когда поднимался по лестнице, слышал: — Не зря говорят: «Береженого бог бережет, а бойкий сам налетает». В комнате была одна бабка. Стоял сухой запах шелушащейся картошки и еле уловимый — гнили. Крашеный пол землисто-сер. Борис повесил телогрейку. Остановился у двери, хмыкнул. Бабка завертывала в мокрую газету картофельные очистки. Несколько таких свертков лежали на полу у печки. Торжествующая ли радость женщины с нижнего этажа, или равнодушно шаркающая походка бабки, но что-то подменило Бориса. Словно минутная расслабленность осталась у широких лопухов за воротами, о которые он обмел пыль с сапог. «Силен!.. Шел жаловаться… На себя. Кому?»
Борис обрабатывал чугун. Металлическая пыль вздыбленным хвостом била из-под резца. Она была прозрачна. Резец свистел. Победитовая напайка, сдирая шершавую корку, накалилась, как вольтова дуга, и конец резца светился нежным голубоватым пламенем. Оська задумчиво смотрел на Бориса. Токари, которых отправляли в колхоз, сегодня первый раз вышли на смену. Оська изменился за неделю. У него обветренный, какой-то хлебный загар. Он уважительно молчал. Когда Борис закреплял чугунную втулку в патроне, Оська сказал: — А здорово ты того друга кинул. Наверно, весь день голова звенела. А что тебе сказал начальник? — Ничего, — ответил Борис. — Никто ничего не говорил. Хотя на другой день, по возвращении из колхоза, его окликнул кузнец дядя Егор. Он сидел с мужчинами возле электросварочного аппарата во дворе. Держал в руке самокрутку. — А, — остановил он Бориса. — Прикурить у тебя будет? Борис сказал, что он не курит. Тогда дядя Егор посмотрел на него снизу вверх и спросил: — Это тебя вчера из колхоза-то возвратили? Вон ты какой!.. А я тебя хочу попросить. Живу я рядом с твоим мастером. Так, понимаешь, у меня подсолнухи и немножко маку поспевает, рядом с огуречными грядочками Степана Савельевича. Ты будь жалостлив, обойди их сторонкой. По знакомству. А? Рядом с его грядочками. Сбоку. Борису почему-то не хотелось об этой встрече рассказывать. — Но что-то ты объяснял? — допытывался Оська. — Сказал, что выгнали. — За что? — За драку. — Ну и что? — Сказали — заступай на смену. Борис ждал, что Оська расскажет о другом. Он почему-то думал, что Ленка там, в поле, обязательно говорила о нем. А что говорила? Это было самое сейчас важное для Бориса. Но как об этом спросить? — Вы видели потом бригадира? — поинтересовался Борис. — Что он? — Глаз платком завязал. Мы как тогда ушли к скирдам, так на хуторе больше не были. А девчата так и не поняли, из-за чего у вас все завязалось. Всю ночь не спали. На другой день работа не шла. Огородникова все говорила — это оттого, что Борьки нет. «Девки ему понравиться хотели, вот и старались друг перед дружкой. А сейчас, как куры. На ходу спят». Даже ночами о тебе все жалели: «А правда, Борис мальчишка хороший? Его нет, как унес что. Бывает так — один уйдет, и не заметишь, а другой уйдет — как лампу после себя потушит. Девки, правда же? — подначивала Валя девчонок. — Он был здесь, будто только для него разговаривать хотелось. Из-за чего они подрались? Мужчина как ударился… Прямо лицом. Даже страшно. А Борис все-таки сумасшедший». Борису очень хотелось, чтобы Оська не уходил, чтобы выдавал и выдавал новые подробности. — А Ленка отчудила. Лежала. Вдруг ее осенило: скажи, это вы с Борисом тогда платье связали? Взяли, порвали все. А шли улыбались… Даже противно. «Ты что? — я удивился там, будь здоров. — Мы до такой степени пали в твоих глазах, да, Ленка?» А она все-таки сказала: «Ты — не знаю… А тот все может». Свет от металлического абажура падал только на Оськину стираную спецовку. Лицо его оставалось в тени за пылью. Оно смутно виднелось за снопом света. После смены Борис сказал, что проводит Оську. — Я никуда не спешу. Было около двух часов ночи. Воздух еще теплый. Но в переулке, за углом забора, он уже освежал осенней прохладой. — Как тебе Савельич дал эту работу? — спросил Оська. — Она же седьмого разряда. — Я сам удивился. Он предупредил: заготовки стоят дорого. Не рекомендую портить. — Объяснил что-нибудь? — Нет. — Что? Ходил около? Руки назад? — Только первую деталь проверил. Молча. Оська сказал: — Ладно, я пошел домой. Борис повернул назад и подумал, почему бы Оське не сказать: пойдем к нам. Переночуешь. Оське сейчас откроет мать. Будет ждать, когда он поест, чтобы убрать со стола. Из другой комнаты появится сонный брат-третьеклассник, такой же хитровато-любопытный, как суслик, похожий на Оську. Залезет за стол и протянет: — Оське-то вон что дала… Нет, хорошо, что он реже стал бывать у Оськи. Очень неудобно от обедов отказываться. Борис представил свою комнату, приподнятую над подушкой испуганную голову Веры Борисовны и стойкий запах влажных картофельных очисток у печки. Ему не захотелось идти домой. Он стал представлять, как заходит домой Ленка. И улыбнулся: у нее прежде всего появляются губы — «А вот и я», — потом она сама. Но подумал о Ленке уже без той детской теплоты, которая была в нем там, на пашне. К ней Борис тоже не пошел бы. В ее улыбке живет еще не человек, а «только попробуй». Валя Огородникова еще в цехе. Оставшиеся четыре часа она совсем не отойдет от станка. Лоб ее, под тонкой прядкой волос, начнет лосниться. Ее красивые ноги неподвижно будут стоять на деревянной подставке, белые, чересчур белые для промасленной юбки и массивного черного ДИПа. Лучший токарь завода. Она нужна заводу. И она очень нужна Борису на заводе. Со своими шутками, со своими улыбками. А сейчас? Этой ночью? Окажись рядом, что нашла бы Она сказать Борису? Или что бы Борис открыл перед ней? Он не поднимался на тротуар. Шел сбоку. Земля, утоптанная тысячами ног, утрамбованная и подметенная ветром, была жестка. И Борису больше всего хотелось бы сейчас быть с Галимбиевским. Он не знал почему. Может, потому, что Галимбиевский не удивился бы его появлению, не стал расспрашивать, зачем пришел, а просто сказал бы: «Притулиться некуда, челка?» Галимбиевский понимает Бориса. Он знает, что Борис бывает голодным, что у него уже кончились все деньги. Ведь это он сказал однажды в обеденный перерыв: — Что ты все от своих обедов прячешься? Волю тренируешь? А у меня вон карточка пропадает. За пять дней хлеба не выкупал… — и достал из кармана корешок с неиспользованными талончиками. — Настоишь — выдадут… Борису хочется походить на Галимбиевского. Быть отчаянно независимым, красивым, холодно насмешливым. Носить кожаную расстегнутую тужурку. Борис любит в Галимбиевском улыбку, которой тот улыбается девчатам, его мягкую ловкую походку. Хотя Галимбиевский невысокий, но он будто нависает над девчатами своей улыбкой. Он всегда находит, что сказать им. Девчата стесняются поднять к нему лица и улыбаются не ему, а себе. Он им нравится. Но Галимбиевский никогда не приглашает к себе Бориса. У него есть свои друзья. У самого дома Борис замедлил шаги. Ему вспомнилась сестра и последнее письмо от нее.
«…ни к чему я здесь привыкнуть не могу. Все еще живу дома. Скоро ты уедешь, и ничего там нашего не останется. Борька, может, ты оставшиеся вещи продашь. Будешь питаться лучше. Только сколоти какой-нибудь ящик побольше и уложи в него папины книги и все бумаги. И оставь его в нашей комнате. Пусть там останется. Пусть стоит. Ты попроси. Хотя бы в кладовке. И мы будем считать это нашим домом. А то куда папе после войны возвращаться…»На это письмо Борис еще не ответил.
Проснулся Борис в половине восьмого. Вера Борисовна тыкала себе в лицо ваткой. Пудрилась. Борис вышел на кухню умываться. Таз под рукомойником был до краев полон. Сверху на воде неподвижно плавала яичная скорлупа. Борис взял таз и, стараясь не расплескать, мелкими шажками начал спускаться со ступенек. Гипнотически уставясь на скорлупу, он согнулся, далеко выставил руки и чувствовал вес таза напряженно втянутым животом. Вода тяжело колыхалась в тазу и раскачивала Бориса. «Ничего себе, женская работка, — думал он. — Доведись бабке — голова отвалится. Надо сказать, чтобы так не наливали. Допредела. Не шелохнешься». Обратно Борис спешил. Пробежал через двор, прыгал через три ступеньки, думал: «Хорошо, что успел. Вера Борисовна еще не ушла». — Вера Борисовна, вы картошку куда-нибудь убирайте. Нельзя же в комнате. Заметив, что Вера Борисовна с оскорбленным недоумением уставилась на бабку, закончил: — У нас же кладовка есть. Вера Борисовна взяла со стола сумочку и, ничего не ответив, вышла. Она спешила. Бабка, вытянув над столом шею, начала, мыть тряпкой кастрюльку, расплескивая воду на свои шлепанцы. — Н-да, — сказал Борис. — Ну ладно. От меня не уйдет. В следующий раз напомню. Напомнил в воскресенье. Сходил на базар. Купил ведро картошки. В узкой кладовке поставил ее на пол прямо в мешке. Из мешка выбилась пыль, и опять сухо и резковато запахло землей. Вера Борисовна гладила белье на столе, а бабка толкла что-то в миске. Пройдя через комнату, Борис решительно раскрыл окно. И, чтобы прозвучало не слишком неожиданно, как можно мягче сказал: — Вера Борисовна, вы почему-те мне не ответили. А я говорил. Картошку-то надо убрать. И газетные свертки. Неделями лежат у печки… Заплесневели… Здесь не только вы живете… — Так не разговаривают с женщинами. Ты еще мальчик. Это некрасиво. Грубишь… Ты совсем плохо воспитан. У Веры Борисовны было обиженное лицо. — А вы? — как можно тише и спокойнее спросил Борис. Вера Борисовна уже не гладила белье. — Вера, — сказала бабка. — Он тебя ударит. Он нас убьет, Вера. Борис опешил. Вера Борисовна спрятала белье в чемодан. Закрыла его на оба замка. — Зачем мне нужно? — сказал Борис. — Я хотел по-хорошему… А если так… Не уберете картошку, то через неделю я ее сам выброшу. В кладовку. Вера Борисовна и бабка, не завтракая, куда-то ушли. «Пусть, — посмотрел им вслед Борис. — Я и правда все это выброшу. Сам». В такой грязи он почему-то даже не мог написать отцу письмо. За раскрытым окном ощущалась осень. В снопе свежего воздуха оживленно мельтешили серебристые пылинки. Борис стоял один в комнате. Он не знал, откуда взялась эта тоскливо сосущая неприкаянность. Бабка и Вера Борисовна не разговаривали с Борисом. Они его как будто не видели. Вера Борисовна вынесла газетные свертки с очистками в помойку. Бабка снова стала накапливать их у печки. Свертки чернели — бабка продолжала скоблить ножом печеную картошку и осыпала их сухой гарью. И тогда… Борис только пришел с работы, сидел на кровати и снимал с подушки наволочку — хотел постирать. Вера Борисовна обедала. Бабка засмотрелась на нее, запнулась о картошку, раскатила и стала ее собирать. — Ладно, — с тихим миролюбием сказал Борис. — Подожди, бабушка. Я сейчас помогу. Он поднялся, распахнул дверь и начал сгребать картошку за порог. — Овощной склад, — причитал он, раскатывая боком сапога ворох. — Свинарник… Помойка… Он сгрудил ногами к порогу и свертки, перевалил все это через порог. Из коридора в кладовку. «Не замерзнет… А окно в кладовке сам застеклю. Или забью досками. У нас с сестрой так было». Вошел в комнату, в стоячую пыль, стирая со лба рукавом пот. Не замечая немого ужаса Веры Борисовны, беспечно сообщил: — Давно бы мне надо. Вот так… Все просил… А вам тяжело. Теперь посвободней. А пол я сейчас сам помою. Запросто.
Что такое интуиция — Борис, пожалуй, не смог бы точно объяснить. Но его удивляло что-то в нем самом. Он осторожно подводил резец к детали, начинал тоненькую стружку и, не измеряя, не прикладывая лекала, чувствовал, — взял мало. Захватывал носиком резца большую стружку и знал — теперь много… А иногда уверенно прогонял ровный слой и знал, что диаметр стержня можно не измерять — размер взят точно. Как он это чувствует? Чем? Здорово это — точить. Из тяжелой неуклюжей болванки выбирать слитую холодную массивность, оставлять стерженек, словно бы замерший, так он ровен. Борис любит не блеск, а матовость в металле. Медленное вращение шпинделя, шуршание, какой-то цепляющийся шелест мягкой стружки. У него хорошее настроение с утра. Радует непривычная новизна незнакомой детали и то, что по норме таких деталей нужно выточить только три, а он заканчивает вторую, хотя времени еще только одиннадцать часов. Борис выключен изо всего и не слышит глухого, наполненного гудения цеха, не видит, что в раскрытые двери вошла Вера Борисовна. Вера Борисовна спрашивает что-то. Она плачет. Она оскорбленно взлохмачена. Мимо гудящих, вздрагивающих станков она долго идет к начальнику цеха. У девчат тоже интуиция… к слезам! Девчата смотрят вслед обиженной женщине. И они смотрели вслед Борису, когда через полчаса вызвали его к начальнику цеха. Борис вошел в дощатую каморку, остановился у двери. Микрометр, вдруг оказавшийся лишним в руках, опустил в карман. У мастера Степана Савельевича возбужденное и темное лицо. Вера Борисовна сидела на старом вдавленном диване, убито отчаявшаяся. У нее скорбные сборочки на губах. Она подняла на Бориса красные, заплаканные глаза и сказала: — …боялись. Приходил избитый. Являлся в любое время ночи. Без предупреждений. Открывал двери своими ключами. Мы не знали, где он бывает. Мы не знали, чем он занимается. Мы не могли оставить комнату одну. Он издевался над нашей беспомощностью. И вчера… — У Веры Борисовны на лице ужас. — Он… нас просто выгнал. Он выкинул из комнаты все наше. Ногами. Начальник цеха стоял спиной к окну. Высокий. Молчаливый. — Что за черт… — тихо выругался он. — Какая-то дикая, расхлябанная потребность в хулиганстве. В чем дело? Он посмотрел на Бориса с тоскливым разочарованием. И Борис почувствовал, что начальник цеха теперь никогда так по-доброму не застесняется от его выходок, как отец, который узнал об оплошности сына. Давид Самойлович поморщился, будто у него болели зубы, поймал взгляд Бориса: — Что ты на это скажешь? Неделю назад избил колхозного бригадира. Теперь… — Да не трогал я их, — с тихой и отчаянной просьбой выговорил Борис. — Не трогал… Я же… Но он уже не надеялся, что ему поверят. И вдруг с безоглядной заносчивостью выкрикнул: — Ну и пусть убираются… Это моя комната. И моего отца. Вы же ничего не знаете… — Знаем, — сказал Степан Савельевич. — Ну… — начальник цеха нетерпеливо прервал мастера. — Не так это делается. Еще разбираться будем. А сейчас… пока все! Иди работай, — кивнул он Борису. Вера Борисовна проследовала через весь цех, вытирая глаза. Борис остановился у своего станка, включил рубильник и неподвижно уставился на вращающуюся деталь. К нему приблизился Степан Савельевич и за спиной у него сказал: — За это судят. Надо судить. Давно. Борис рывком рубильника затормозил станок. — Вот вы… Степан Савельевич… Вы тоже не все знаете, а лезете…
…Давно ли Борис уходил с другими ребятами в Захарову дубраву — березовые леса на косогоре у речки. Еще ноздреватый темный снег лежал в прохладной тени лощин и на сухих косогорах под прошлогодней травой не прорастала зелень, — березки уже были живыми. Они казались раздетыми, их тонкие нитяные ветки с набухшими кулачками почек влажно темнели. Белая кора согревалась солнцем. Влажно-прохладная, она была натянуто-чиста, и казалось, что сейчас она лопнет и тонко зашелестит. В корявом стволе острой пяткой топора ребята вырубали треугольную канавку. Поочередно ждали. Пахнущий свежей щепкой и прохладой, откуда-то из глубины поднимался березовый сок. Он так прозрачен, что даже не виден. Борис срывал высохшую травинку, откусывал оба ее конца и начинал тянуть из канавки пронзительную свежесть. Сок исчезал, а травинка еще влажно сосала сладковатый воздух. Настывали мокрые коленки. Борис поднимался, чувствуя приятный озноб. От весенней сквозящей свежести чуть-чуть кружилась голова, и Борису казалось, что он сам покачивается, как березка. С лесом Борис навсегда связан детским весенним ознобом. Или они ходили заброшенной дорогой по заливным лугам. Три выбитых полосочки прятались в параллельных гривах пырея. Тянулись они через кочки, на которых рос дикий лук, через поляны с густыми травами и терпким запахом белоголовника. Рвали лук. Вязали его пучками и подтыкали закрученными головками под ремни. Тощие пучки лука болтались и били по бедрам. Без рубашек, обвешанные пучками вокруг пояса, ребята походили на папуасов. Где-нибудь у затененных кустов замечали над разомлевшей травой широкие шапки на сухих стропиках. Мальчишки срезали складничками пустотелые коленчатые «дудки». Выравнивали их концы и шли искать калину. Они рвали ее в карманы и фуражки, еще неспелую, тугую, тяжелыми гроздьями. Они брали ее в рот и били ею через дудку. Из тонкого конца вылетала она резко, с пробочным выхлопом. Особенно много калины было по берегам озер. К ней трудно подступиться, зато там она тяжелая и крупная. Необычны озера на лугах. Вода в них чиста и неподвижна. Присядешь на берегу и видишь два неба — внизу и вверху. А между ними ни на чем плавают широкие листья, от которых уходят вглубь желтеющие стебли. По невидимой глади воды скользят длинноногие жуки легкими толчками и не оставляют следов. Ударишь калиной по воде у другого берега, вода лопнет глухим пузырьком и расплывется литыми кругами, ломая и раскачивая перевернутую зелень осоки. С затаенной мальчишеской гордостью он смотрел, как отправлялись мужчины в армию. Проходили медицинскую комиссию в клубе. Поеживаясь, раздевались в углу, складывали одежду на стулья. Не торопясь развертывали портянки и ставили на настывшие квадратики паркета ноги. Беспомощно нагие, они оставляли потные, мгновенно исчезавшие следы. Под вечер пестрым насупленным строем они шли на вокзал. Мужчины уходили на фронт, а женщины оставались на цементных ступеньках клуба. Два дня они втайне надеялись, что медицинская комиссия забракует их мужей. Комиссия не забраковывала. Женщины непонятны Борису. Им ничего не стыдно. В войну никто не имеет права на жалость. Ведь жалость — ты мой, не ходи. Защищать не ходи. А чей пусть идет? Женщинам не стыдно рожать, и женщинам не стыдно не пускать. Но мужчины все равно уходили. — Немцы сибиряков боятся, — тогда говорил Оська Борису. Он был строгий и присмиревший. — Пленные немцы просят, чтобы им показали сибиряков. Говорят, что это не люди. Пусть посмотрят… Борис много уже проводил от клуба знакомых и незнакомых людей в молчаливых колоннах. Ему навсегда запомнилась жесткая неулыбчивость мужчин. Поэтому кажется Борису, что на фронте все неулыбчивы. И он не понимает, как отец мог присылать ему шутливые письма. А теперь вот он не получает их уже четвертый месяц. Борис смотрел на вращающуюся деталь, и ему не хотелось двигаться. Он чувствовал, что за каждым станком в его цехе думают сейчас о Вере Борисовне. Удалялась она по узкому проходу между станками, непривычно сжимаясь, боком. Борис знал, что в это время смотрели не на нее, а на него. Он не предполагал, как нужны ему эти люди, стоящие за станками, как дорога ему оценка этих людей. Что они о нем думают? Как понимают? Каков он в их глазах? И он почему-то думал, что ему они поверят. Но в обеденный перерыв Валя Огородникова громко, без обиняков, сказала: — Борис, ты это совсем уж! Борис ничего не сказал. А после обеда работал и все думал: «Я Ленке расскажу. Стружку самоход за пять минут прогоняет. Успею». У Ленки было отчужденно занятое лицо, синевато-бледное при ярком свете. На подбородке расплылись янтарными брызгами мелкие пятна олифы — она нарезала резьбу плашкой. У нее и глаза цвета олифы. Борис шутливо сказал: — И почему я до сих пор не видел тебя с веснушками? Но теперь от твоего станка я ни на минуту не отойду. Ленка остановила станок. Смерила лекалом деталь и, прежде чем отрезать ее, задержалась рукой на рубильнике. Подняла лицо на Бориса и посмотрела задумчиво из-подо лба большими затененными глазами. — Вот почему, — сказала она, — когда смотришь на тебя, глаза у тебя умные-умные… а сам ты дурак? Объясни. От неожиданности Борис покраснел. Взял из эмульсии кисточку и, оттянув щетину пальцем, брызнул Ленке в лицо. Ленка обиженно вытерлась. — Не попадешь, — сказал Борис. — Голова очень маленькая. С подчеркнутым безразличием повернулся и ушел. После смены Галимбиевский остановился у его станка, вытирая ветошью руки: — Что, челка, трезвеешь? Пора… Борис шел домой и придумывал, что он скажет Вере Борисовне. Он скажет: «Вера Борисовна. Вы старше. У вас же есть совесть? Или она умерла? Вы же сегодня хитрили! Вы… — ему обязательно нужно будет увидеть ее лицо, он это скажет ее глазам. — Вы сегодня, при мне, в цехе, старались разжалобить всех. Обмануть. Зачем? — Или… Нет… — Вера Борисовна. А я… разве вас выгонял? Мне только ваше овощехранилище не нравилось. И ведь для этого есть кладовка». Ключ от комнаты висел на гвозде, у двери. В комнате никого не было. Только в углу, где стояли чемоданы, темнели прямоугольные следы на запыленном полу. Борис вышел, оглядел кухню и, скинув самодельный, туго натянутый крючок, заглянул в кладовку — картошки там не было. Борис задумчиво постоял среди комнаты. Раскрыл обе створки окна. Пахнуло резковатой осенней свежестью. Борис сел на подоконник, навалившись спиной на раскрытую раму. Ногой в тяжелом сапоге уперся в противоположный косяк. Куда они ушли? Кто их где ждет? За окном на земле валялись белесые листья в рыжеватых пятнах. Громадный пыльный сапог и желтизна листьев напомнили поле побуревшей травы и Ленкины ноги с листьями и шматками грязи на ботинках. Они доверчиво стоят рядышком. И сама Ленка светлая и доверчивая. Он вспомнил киножурнал: у хат лежали женщины, неловко разбросав ноги, а немцы проходили мимо обгорелых печей и почерневших столбов от ворот. Борис чувствует, как больно прижался он спиной к острому углу рамы. Он представляет себя вжавшимся в бруствер окопа. Он даже чувствует рукой лакированную шейку винтовки и видит разъяренные кричащие лица немцев. И его не убьют. Не может быть, чтоб когда-то его не стало. Борис встрепенулся и опять увидел голые вытянутые ветки. Досадно вспомнил: «Почему Ленка считает, что он дурак?» Хотел это отогнать и вспомнить снова то, что в нем только что было, но оно уже не приходило. Тогда он стал мстительно мечтать, что на фронте совершит подвиг и о нем напишут в газетах, напечатают его портрет с офицерскими погонами, в большой черной рамке. Пусть потом увидит Ленка. Все будут говорить: это тот самый Борис? Какой он! Как мы этого не знали. У Ленки будут слезы. Нет, пусть лучше портрет напечатают без черной рамки. Борис после ранения приедет домой, встретится с Ленкой и… скажет. Или лучше он познакомится с какой-нибудь красивой девушкой, и Ленка увидит, как он идет с нею. Возбужденный Борис соскочил с подоконника. Увидел полупустую комнату и с непонятной тоской понял, что ему еще нужно ждать повестку.
Вечерело. Борис переоделся. Закрыл комнату и ушел. «Оську бы встретить». У клуба Борис, остановился и засмотрелся на матроса на плакате. Хотелось, чтобы его лицо походило на лицо этого матроса. С тенями под скулами. Матрос откинул назад руку с противотанковой гранатой. Граната, как графин, черная и тяжелая. «Вперед, на запад!» — Значит, вперед на запад… — кто-то сказал Борису. — Скопом. В телячьих вагонах? Галимбиевский сидел на зеленой оградке у клуба; На нем кожаная короткая куртка. Коричневый тонкий хром мягок на сгибах. Никелированный замок, до половины расстегнутый на груди, открывал воротничок шелковой рубашки. — Что-то ты пасмурный. — Он пристально посмотрел в лицо Борису, отвалившись на руку. Оживленно поинтересовался: — Хочешь выпить? — Что? — А ты не спрашивай. Помолчал. Многозначительно добавил: — Все уже налито. Как бы не выдохлось. — Хочу, — сказал Борис. — Радуешь, челка. Я видел, что ты и рубильник вовремя умеешь выключать. Степу Савельича сегодня пугнул неплохо. Галимбиевский мягко соскочил на Борисову тень. Хрустнула сухая пыль под подошвами на горячем цементе. Борис ничего не стал расспрашивать. Ему было все равно куда идти. Было приятно, что у Галимбиевского исчезла ироническая насмешливость. Он видел, что Галимбиевский поверил в него. — Пропуск у тебя с собой? — поинтересовался Галимбиевский. — Тогда пойдем в столовую. Столовая во дворе завода. Завод обнесен высоким дощатым забором. Доски забора не строганы, грубой шероховатой пилки, заострены на концах. Пригнаны одна к другой. У проходной охранница — женщина в старенькой шинели. Полы шинели обмахрились. Галимбиевский улыбнулся охраннице. Борис посмотрел на красивое, цыгански смуглое лицо Галимбиевского и подумал, что оно у него неуловимо меняется для каждого. Вход в столовую с правого крыла. У забора длинный деревянный склад, крытый тесом. К нему вплотную приткнут запыленный ларек. Ларек отодвинут от забора метра на полтора. Он не открывался все лето — должно быть, используется как склад. Галимбиевский не спешил. Из столовой выходили женщины в спецовках. Когда у дверей столовой никого не стало, Галимбиевский сказал: — Зайдем. И пошли за ларек. Влажные доски испаряли аммиачную резкость. — Тети здесь не бывают, — улыбнулся Галимбиевский. — Сюда только дяди заходят. По маленькому. Он наклонился и отнял от нижнего ряда ларька узкие доски. Доски были оторваны заранее. У ног, пугающие доступностью, обнажились пол-литровые бутылки водки. В темном сургуче, с холодно мерцающими боками. Галимбиевский вставил доски на место, будто наживил. — Заборчик рядом. Только перекидывай. Бесплатно. Он тронул забор. — Не великоват? До верху дотянешься? Прикинь… Больше никак не возьмешь. У проходной вон какая тетя стоит. С «дурой» на поясе. Галимбиевский вышел из-за ларька, небрежно охорашиваясь. Пока было светло — ходили по улицам. Ждали наступления темноты. В клубе танцы, оттуда доносилось глухое гудение оркестра. — Один раз, — рассказывал Галимбиевский, — мы сыграли березовую свадьбу. Борису казалось, что Галимбиевскому приятно быть с ним откровенным. — Пошли в сад. Темно. Смотрим — прогуливается парочка. Совсем неоперенная. Остановили. Он в пиджаке, она — в легком платье. Ладно, — сказали, — снимай… Стоит, надулся. Ножиком постращали. Снял. Рубашку снимай… Что стоишь? Снял. Парень!.. Ты и трусы снимай. Видишь, невеста ждет. Еще не тронутая. А теперь ты… Что? Помочь? Давай, девочка… Нам твое платьице нравится… Разделась. Тоже вся. Ну, беритесь за руки… А теперь давайте ножками три раза, вокруг березки. Одежду мы им отдали. Спросили: поняли? Теперь вы муж и жена. Ее мы не тронули. Вид у них ненормальный был, как у лунатиков. Борис шел рядом. У него напряглись мышцы на скулах. — Бабы помнят только первого. На всю жизнь. Первого они никогда не забудут. Не смогут. А сейчас война. Ты думаешь, кто верит в победу? Бабы верят? Да они все чуют, что ждать нечего. Вот они и успевают. Пусть мало поживут, да вовсю. Попробуют. Все. А что оно такое — быть женщиной. До слез. А там… Пусть хоть что, я уже все знаю. Женщин я понимаю… Если умру, буду помнить — жил не зря. Для каждого на земле есть своя женщина. А для меня на этой земле родилось много женщин. И они были моими первыми. Это, друг челка, здорово. Это счастье… А ты… Дождешься, что будешь довольствоваться той, которая уже была чья-то. Значит, родился ты зря. Такой красивый парень… Будь посмелей. Стало темно. Борис и Галимбиевский ждали, когда народ разойдется с танцев. Галимбиевский сказал: — У клуба постоим. Часам к трем еще один парень придет. К забору шли по огороду, выкопанным картофельным полем. Под сапогами вдавливалась ботва, выцветшая, вялая, с засохшими оббитыми корнями. Высокий забор казался черным. Только узкие щели между досками ярко светились. Электролампочка висела на углу склада в проволочной сетке. Свет качался веером на темной деревянной стенке, и на ней отчетливо выделялись белесые смоляные сучки. Другие лампочки у входа в столовую. Весь двор залит тусклым ровным светом. Окна в столовой темны. По двору ходил часовой с ружьем. Часовой постоял у столовой, пошел к складу. Его долго не было. Потом он показался и медленно ушел за угол столовой. Стояли молча, прижавшись лицами к забору. Галимбиевский тронул Бориса. Борис, подпрыгнув, ухватился за острые концы досок. Подтягиваясь на руках и упираясь ногами в плечи Галимбиевского и какого-то парня (Борис его не знал), влез на ограду и, мягко опускаясь, встал во дворе на землю. Он еще не сделал ни одного движения, как услышал за спиной шорох. Борис повернулся. В свете лампочки за углом ларька, почти рядом, стоял часовой. В оцепенелой неподвижности они смотрели друг другу в глаза. Борис не помнит, как он очутился на заборе. Он только больно почувствовал животом заостренные концы досок. Оттолкнувшись всем туловищем, перебросил через забор ноги, и, падая на землю руками, услышал, как выстрел ударил в гулкие доски забора. Борис соскочил и, слыша над головой взбудораженные крики, бросился в темноту. Он не понимал, куда бежит, но чувствовал рыхлую, избитую мелкими лунками землю. После света темнота казалась сплошной, прохладной, тугой, и было страшно в нее бежать. Он не верил в нее. Что-то тонкое обломилось под ногой, и он, на мгновение ничего не ощутив под собой, куда-то упал. Борис лежал лицом в землю. Пахло сухой прелью и плесневелыми досками. Сердце, как поршень, колотилось даже в пальцах ног. Он не шевелился и что-то ждал спиной. Он ни о чем не думал, только ждал… Кто-то пробежал рядом, спотыкаясь и сопя. Когда шаги затихли, Борис медленно, словно просыпаясь, отвалился на плечо, посмотрел вверх. Над собой увидел переплеты рам. Сообразил, что это парники. Края мелкой ямы осыпались на истлевший назем. Мягко опершись рукой на раму, чтобы она не сломалась, Борис выбрался из парника. И, чувствуя, что боится выпрямиться, лег на живот. — Тихо. Соображай, — сказал он себе. Чуть приподняв голову от земли, стал наблюдать. За забором все было встревоженно. — Где? — спрашивали там. — Кто? Не наш? — Черт его знает… в тени был… Я выстрелил. Может, попал. Борис пошевелил ногами и снова ощутил, как он падает на руки. — Нет, — сказал он им. — Не успели. — И улыбнулся себе одобрительно. Поднялся. Боясь неба, медленно пошел по мягкой изрытой земле. Перед оградкой постоял на меже в полыни и, убедившись, что его никто не видит, выпрыгнул из огорода в переулок. Он не успел пройти и пяти шагов, как услышал: кто-то приглушенно, но требовательно свистнул. Потом сказал: — Сюда. Борис пошел через дорогу к черному столбу, стоящему на стянутых рельсах. За столбом, прижавшись спинами к плетню, сидели Галимбиевский и тот, другой. Галимбиевский встал. — Жив? — опросил он со смехом. — Черт, как мы второго не видели? Теперь сорвалось. А хорошо было наклюнуто. Потом они начали хохотать беззвучно, безудержно, извиваясь и приседая. — Ну, летел… Ты пятками мужику подбородок не снес? Борис тоже улыбался. Ему самому уже было легко и смешно от сознания, что с ним произошло что-то непостижимо отчаянное. И что он неуязвим, смел и, конечно же, теперь он сможет не только это. Галимбиевский сказал, что ему домой не хочется. И что скучно идти спать на сухую. Зря запал израсходован. — Есть радости, от которых сердце исходит. Как газированная вода. На нет. И жалеть не надо. Шли за линию. Перешагивали рельсы, тросики у низких фонарей с зелеными и красными огоньками. Стучали в ставни дома на незнакомой улице. Вошли в дом. Борис увидел, когда включили свет, что в избе русская печка стоит поодаль от стены, а за ней вниз, в подвал, спускаются ступени. И на сердце Бориса лег холодок настороженного неуюта. — Лорка, мы ненадолго, — сказал Галимбиевский. — Нам что-нибудь. Лорка — в туфлях на босу ногу. Черная юбка неправильно застегнута сбоку, лишняя пуговица сверху болтается. Она еще молодая. Сонная. В юбке ей тесно. Принесла на стол пол-литра водки и на тарелке — шаньги. Шаньги творожные, с замасленными боками, с застывшими снизу сгустками сметаны. Галимбиевский разлил водку. Борис сел за стол на лавку. Галимбиевский ободряюще кивнул. — Ну, — он сделал движение стаканом, будто чокнулся, и выпил. Борис тоже выпил. И Лорка выпила. — А это кто с нами был? — спросил Борис. — А… Чалый… Ты его не знаешь. Спешит. Далеко до дому добираться, — ответил Галимбиевский нехотя. — А что ты знаешь? Я смотрю, ты многого не знаешь. А поди, книжки читаешь. Что ты там узнал? Подсказать, где надо о самом главном узнавать? У Лорки. Поинтересуйся, откуда она водку берет. Война, а она водку пьет. Умная. Галимбиевский еще налил себе. Поднял стакан. На пальце засияло тонкое золотое кольцо, и водка качнулась льдистым огнем. Борис увидел эту руку с кольцом, и ему показалось, что и в глазах у Галимбиевского тоже какой-то металлический блеск. «А что я о Галимбиевском знаю? — подумал Борис. — Кто Лорка?» — он проследил, как Галимбиевский выпил. Тот поставил стакан и, сузив глаза, долго глядел на него. Медленно наливался краснотой, будто на глазах загорал. Борис почему-то вспомнил: «А где был Галимбиевский, когда я падал с забора?» Но вслух спросил: — Почему тебя на фронт не взяли? Ты же с двадцать четвертого. — А зачем? — дурачась, заговорил Галимбиевский. — Ты пойдешь. Меня защищать. Ты сильный. А воевать научишься. Сибиряки все здорово воюют… и… их складывают штабелями. В одну ямку… Ножками вместе. Брезентиком перекладывают и присыпают. Мно-о-о-го… вас… там… Земля в глаза. Лорка, у него красивые глаза? Чистые. И земля в глаза. А? Галимбиевский выжидающе сказал еще один раз «А»? Его лицо покрыла хмельная напряженная бледность. — Налить? — спросил он. Борис промолчал. — Ладно, разолью. Пей. Ведь скоро в армию. Я видел, как вас на всеобуче гоняли. У вас морды были счастливые. Гордые. На каждой так и написано: «Буду стоять насмерть». Галимбиевский откинулся спиной на стенку. — Ты сибиряк? С сибиряками труднее воевать. А знаешь почему? Мы отсюда. Из сугробов. Еще недоразвиты. Не умеем соображать. И… не шибко знаем, зачем нами забивают окопы. А я… дома. Меня не просто на смерть погнать… На свете, челка, существуют не только умные головы, но и умные справки. Но тебя убьют… И за что? У тебя ведь и хлебная карточка всего одна. Все равно убьют. Смотри… У меня три. Галимбиевский достал из кармана карточки на октябрь месяц. — …и… меня не убьют. Думай, сибиряк. Да допивай. Борис взял стакан тяжело налившимися пальцами. Выпил. И странно, водки он почти не почувствовал. Почему-то в ней не было огненно шибающей горечи, от которой всегда внутри у него передергивалось. Он не закусил. Галимбиевский увидел это, и крылья его носа, вздрогнув, напряглись: — Правильно. В семнадцать лет тоже надо уметь думать. — Это я понял, — сказал Борис. — Надо уметь думать. Неожиданно спросил себя: «И зачем я здесь?» Вытер ладонью губы. И этот жест напомнил ему отца. Отца в последние дни дома. Повестку ему подали утром. Отец брился у раскрытого окна. Уголок собранной на шнурке занавески хлопал по зеркалу. Отец тогда встал и, забыв застегнуть рубашку, засмотрелся в окно. Борис тоже стал смотреть в окно. Но за сверкающими нитями рельсов у вокзала был только солнечный туман и далеко в кустах, на речке, маленькая водокачка с тонкой трубой. Белая, как яйцо на траве. — Что? — спросил тогда Борис. — Вот, друг Борька. И наш черед. Значит, пора. Отец тогда так же вытер ладонью губы и мыло с подбородка. Галимбиевский пристально следил за Борисом, крутил пустой стакан на столе. — Как считаешь? В семнадцать лет умеют глубоко думать? — Умеют, — сказал Борис. Галимбиевский рассмеялся: — А хлебную карточку тебе достанем. — Простецки намекнул. — Может, еще что интересно. Ты спрашивай. Я поделюсь. Борис поднялся уходить. Галимбиевский стоял у двери и держался рукой за доску полатей. — Слушай, — сказал Вадим. — Мне нельзя. Только что пришло в голову. — Он встал на табуретку и достал с полатей чемодан. Лорка недоуменно поднялась с лавки. — Завтра суббота. Надо кой-куда чемодан доставить. Одной Лорке не взять. Ты поможешь. С Чалым. К вечеру в воскресенье вернешься. Тогда погуляем. Смотри… Он раскрыл чемодан, набитый хромовыми сапогами и туфлями. — В хорошей заначке были. Сейчас все готово. Лорка баба — будь здоров. Борис смотрел на черные туфли с чуть стертыми набойками на каблучках и розоватой кожей внутри. Галимбиевский закрыл чемодан с туго вспучившейся крышкой и снова положил его на полати, за ситцевую занавеску. Табуретку отодвинул ногой к печке. — Пошли, — сказал он Борису. Подошел к Лорке, приласкался наигранно. — Хочешь с Лоркой остаться? Она тебя чему-нибудь хорошему научит. Видишь, какая парная со сна. А? Но Борис пошел к двери. Галимбиевский сказал ему у ворот: — Запомни. В субботу, к одиннадцати ночи. Сюда. Уже светало, а на смену нужно к восьми часам. И Борис почти побежал домой, странно тычась ногами в землю, которая была не на месте.
Борис включил станок. Резец с цепким шипением взял стружку. Самоход бережно потянул его от рук. Борис ладонью почувствовал лощеную плоскость суппорта и подумал о станке, как о живом: «Ты добрый. Надежный. Самый надежный. И при тебе можно думать. Например, о себе и Галимбиевском». Все сломано в представлении Бориса. Все неосознанно хорошее в его жизни смешано. Устойчивым остался только станок. И еще… Ничего, посмотрим… Галимбиевский подошел к Борису в обед: — Что, челка? Вздумал отвалить? А не получится. У тебя хвост прижат. — И, немного помешкав, спросил: — Почему в субботу не пришел? — Что-то не хотелось, — как можно равнодушнее ответил Борис. Галимбиевский ничем не показал, что видит его насмешливый вызов. — Я вижу, парень, ты еще не дозрел. Не вздумай по глупости в тот дом кого-нибудь навести. А то ребята тебя сделают, рубашку стирать не придется. Борис с напряженной сдержанностью ответил: — А я ведь из сугробов. Не привыкать падать. Зачем пугать-то? — А-а-а, ну ладно, — сказал Галимбиевский. — Ночи темные. — И устало улыбнулся, без уличной угрозы, и поэтому — страшно. Несколько дней подряд Борис оставался после смены. Часами простаивал у заточного станка в шлифовальном цехе. На наждачном камне выточил себе нож из плоского бархатного напильника. Чтобы не застали его за этим занятием, положил возле себя несколько заготовок резцов. На гранях ножа вынул канавки и отшлифовал на кожаном круге с пастой до холодного зеркального блеска. Ручку набрал из плексигласа. Поподкидывал нож на ладони и удивился, что шлифованный металл быстро настывает. Как тяжелую ледяшку, засунул нож в сапог. Из клуба вечером он возвращался теперь нарочно один. И ему даже нравилось постоянное ожидание встречи. Взгляд его стал мрачновато-упрям. Он не боялся ночной улицы. Нога чувствовала металлическую тяжесть ножа.
В воскресенье Борис решил прибить крючок на окно. А то открывать нельзя — ветер стекла выбьет. Он стоял на подоконнике и ввинчивал в косяк шуруп. В дверь постучали. Не отрываясь отверткой от шурупа, Борис крикнул: — Да. Можно. Борис оглянулся — в комнате стояла женщина и рассматривала его. Борис тоже стал ее рассматривать. Женщина тоненькая. В телогрейке и без платка. У нее большие глаза и длинная шея. Она молодая и красивая. Было в ней что-то такое, чего не видел Борис в других женщинах. Телогрейка, что ли? Нет. Телогрейка застегнута на груди натянутой петелькой, как у всех баб. Кажется, сиротски беспомощная, какая-то голая шея и гладко собранные волосы назад. В общем, Борис еще не разобрался, что это такое… Женщина сказала Борису, что она хотела бы с ним поговорить. Борис соскочил с окна и сказал, что с ним можно поговорить. — Я живу здесь, внизу, — почему-то стесняясь, сказала женщина. — Недавно. У меня маленький ребенок, и… В общем, две семьи в одной комнате, и очень тесно. А мне сказали, что вы скоро уходите в армию. Этой осенью. Вы же комнату оставите, да? Я бы хотела, чтобы она осталась за мной. Мне советовали перейти к вам. Я не знаю… Она вдруг в нерешительности остановилась. — Вы бы не согласились, чтобы я это время пожила у вас? И оттого что она была беспомощно красивая, Борис сразу согласился. — Но… — она осеклась. — Так о вас все говорят… Плохо… Это правда? Может… Чувствовалось, что ей трудно спрашивать об этом. У нее были такие добрые глаза. И она так беспомощно спрашивала. Но Борис безжалостно ответил: — Правда. Раз говорят. Женщина растерянно молчала. Она как бы пыталась улыбнуться и боялась. Потом ушла. Борис смотрел туда, где только что стояла молодая женщина, и все старался понять ее улыбку или припомнить, что это такое только что было? Он подошел к окну. Навалился на косяк плечом. Ему уже не хотелось прибивать крючок. Он стоял и думал, что телогрейка и вот такое лицо, как у этой женщины, не могут быть рядом. А вот ему и заводским девчатам телогрейка идет. Борис все-таки прибил крючок и сидел с плоскогубцами на окне. За дверью что-то громыхнуло. В комнату возвратилась женщина и остановилась у двери. Она держала два стула. Улыбнулась виновато и сказала, что она все-таки решила перейти. Женщину звали Лида. Она сама сказала так: «Зовите меня просто Лида. Можно?»
Мальчишку звали Митька. Он еще не ходил. Он только умел стоять в качалке, уцепившись за перекладину. При этом руки у него крепко прилипали к дереву до беспомощной синевы. Жизнь Лиды была распределена по минутам, а жизнь Митьки — рассыпана по стеклянным пол-литровым банкам. Лида вставала в половине седьмого, тормошила Митьку. Митька сначала переваливался по простыне, вялый, как вареный. Потом сонно хныкал и не соображал, зачем его одевают. Лида вытаскивала его руки из рукавов рубашки, надевала пальто, напяливала шапку и уносила Митьку в ясли. К шести часам они возвращались домой. Она раздевалась. Тоненькая, прямая, в туфлях, приседала у кухонного стола, распахивала дверцы и доставала крупу в стеклянных банках. В большой кружке варила Митьке кашу. Борис видел, как бережно она отмеряет ложкой манку. Манку Митька любил, кажется, больше всего, потому что этой крупы оставалась третья часть банки, а пшенной — больше половины. Митька был сознательный. Он не ел хлеб. Свой паек он оставлял матери. Потом Лида принималась наводить порядок в комнате. А Митька громыхал качалкой. Качалка у Митьки деревянная, с ножками, на выгнутых коромыслицах. Старая, некрашеная. Лида с девчоночьим воодушевлением мыла пол, а потом вдруг брала черный футляр со скрипкой и начинала его протирать. Протирала медленно, будто и не протирала, а так, думала. Глаза при этом у нее становились еще больше. В это время, кажется, она даже забывала, что у нее есть Митька. Протерев, она ставила его в угол, к книгам, и принималась домывать пол. Воодушевление у нее уже исчезало. Бориса поражало нелепое соседство некрашеной качалки и темного футляра скрипки в руке этой женщины. Вечерами Лида укладывала Митьку спать. Гасила свет и сидела в сумерках. Подолгу сидела. Борису в такие минуты почему-то хотелось узнать — ее это скрипка или чья? Он ее только такой и запомнил — с протянутой рукой к качалке, неподвижной, с чуть запрокинутой головой у окна. Лида никуда не ходила — Митьку не с кем оставить. Даже очередь за хлебом она простаивала с Митькой на руках. Борис еще не знал, как ему относиться к ней. В ней уживалась безудержная девчоночья смешливость с женской строгой собранностью. Особенно чувствовал это Борис, когда возвращался ночью с работы. Он стоял несколько минут у двери, не решаясь постучать. Ему не хотелось грубо вторгаться в ее мир, и он не пользовался своим ключом. Стучал не очень громко. Слышал за дверью, как она проходила босиком по полу. Вспыхивал в отверстии замка свет, и Борис чувствовал, как совсем рядом, у лица, отодвигалась задвижка. — Боря? Можно, одну минуту? — спрашивала она. — Я сейчас. Он старался не смотреть, как она ложилась. Но он всегда помнил непроизвольный, какой-то беспомощно женский жест, которым она натягивала на грудь одеяло. Борис гасил свет. Долго не мог уснуть и чувствовал ее настороженность. Он помнил, как она сказала ему в первый день: — О тебе так говорят… Это же неправда? Но прежде чем уснуть, он с улыбкой вспоминал ее защищающийся жест рук на груди. А слова навязчиво лезли и лезли в голову: «У женщин сейчас это просто. Любую». И Борис с досадой представлял тогда фотокарточку ее мужа. Она стояла у нее на столике. Борис никогда еще не видел фотокарточек с такими мягкими, расплывчатыми полутенями. В летной форме молодой мужчина, почти мальчишка, улыбался Борису в глаза. Улыбался светло и добро. Эта улыбка была не для войны. С такой улыбкой можно только смотреть на блестящую точку самолета за облаками. С такой улыбкой можно только верить людям. И она, эта улыбка, была на столике. Она была во всей комнате. — Где он теперь? — спросил как-то о нем Борис. — На фронте? А на каком? — Не знаю. Был на Ленинградском. От него нет писем. Уже семь месяцев. Борис засыпал. Видел его улыбку и говорил кому-то: — Ничего. Ты верь. Галимбиевский врет, сволочь.
Борис с Оськой посмотрели новый кинофильм «Актриса». Шли из клуба и молчали. Борису почему-то хотелось плакать. Ему все еще виделись орудия на платформах, снег, обожженные, молчаливые лица солдат и красивая женщина на дощатых подмостках. Хрупкая, незащищенно черная на белом снегу. Солдаты поднимались, перехватывали автоматы и уходили в снега, а женщина пела им вслед:
Ленка подняла лицо. Она негодовала. В глазах у нее шевельнулось что-то, как в бакенах, и не погасло. — А тебе-то что? — выговорила она. — Может, еще подскажешь, с кем мне дружить? Даже зло берет. Борис откачнулся. Помрачнел. Постоял минуту, сдерживаясь. Резко повернулся, ушел. «Понял? — сказал он себе. — Какого черта лезешь. Тебя же учат умные люди. Привыкай». Дня три назад к нему подошел Галимбиевский. Борис только что закончил деталь и шабрил внутреннюю шероховатую стенку. Когда он увидел Галимбиевского, рука непроизвольно сжала трехгранный, остро отточенный шабер. Но Галимбиевский был настроен дружелюбно, словно не было тех пугающих недомолвок. Он весь — только простецкая улыбка. — Ну, дай станку отдохнуть. Он же трется. И так вон тетя написала тебе сто сорок процентов. Видишь, как жмешь. Пупок развяжется. Он засмеялся и наклонился ближе. Лицо его надвинулось большим планом. Так на экране фокус наводят. — Чтобы Савельич не косился, ты помоги ремню на сшиве порваться. Шорник над ним потом минут двадцать поколдует. — Я и так отдыхать могу, если надо, — сдержанно сказал Борис, поражаясь его подкупающей доверчивости. — А-а… — сказал Галимбиевский с улыбкой. — А ты, челка, парень оказался ничего. Человек. Из костей и из мяса. И нервы у тебя крепкие… Правда ведь? Пиявки прописывать не пришлось. Ну, а карточку-то тебе дать? Я обещал… Он помолчал, прищурившись. — Или ты и так устроился неплохо? Практичный мужик… С какой это бабенкой я тебя видел? У магазина. Ты пацана нес, а она авоську… Мордочка у нее неплохая, И ножки… что надо. Я смотрел, как она каблучком запнулась… Это надо видеть… Вкус у тебя есть. Кто она? Не наша? Давай, парень, работай… Но такая баба для одного — это много. Ты не жадничай. Борису показалось, что Галимбиевский его еще не считает взрослым. Он словно играет им. Подталкивает плечом, чтобы он, Борис, перепрыгивал через забор, через ту грань, откуда вылезти можно только самому, если хватит силы. Руку Галимбиевский там не подаст. И оттого что ему это видно, он улыбнулся и торжествующе подумал: «Как здорово Галимбиевскому кажется, что он умный!» И Борис уже разговаривал с Галимбиевский на равных. — Ты, например, ей не понравишься. — Почему? — в шутку удивился Галимбиевский. — Ты только издалека красивый. Близко тебя рассматривать не надо. Цыганские глаза Галимбиевского затаенно сузились. В лице появилось что-то такое, от чего невольно хотелось заслониться. Но Бориса это уже не пугало. Ему почему-то показалось, что не физически, а чем-то другим он сильнее Галимбиевского. Тому хочется видеть в других страх, потому что сам знает его вкус. — Хвалишься, что умеешь думать. А у тебя всего лишь условный рефлекс на… — Ну-у? — сказал Галимбиевский. — Давно по-умному не разговаривал. — Разговаривал… За выпивкой. В ту ночь, когда ты на меня через щель забора смотрел. Из темноты. Ждешь за темным забором, когда тебе какой-нибудь простачок кое-что из жизни подкинет. И вообще… — Борис не выдержал. — Врешь ты все. Обо всем. И на женщин врешь… Странно, Галимбиевский не сердился. Он улыбался. — Зачем ты меня обижаешь? Спроси любого на всем белом свете — разве я кого хоть раз обманул? Я с тобой хорошоразговаривал. Как с человеком. А ты не поверил. Я все это проделаю у тебя под носом, сосун… Он помолчал. — Хочешь, покажу? Вон, Ленку… Мне с ней три дня хватит. Борису стало противно. Ему так хотелось, чтобы самоуверенность Галимбиевского была наказана. — А ведь ты меня обижаешь, — издевательски ломался Галимбиевский. — Просто нарочно. Ладно. Смотри. Это все только для тебя. Он улыбнулся красивой взрослой улыбкой. Борис не видел до этого, чтобы у него вот так, влажной блесной, сияла коронка. Сияла как-то нехорошо. Он сам включил Борису станок и ушел. Вот уже который раз Галимбиевский трогал в нем самое лучшее. Бесцеремонно. Подошел, и опять все взбаламутил с мутной примесью. На душе остался болезненно беспокоящий осадок. А светлое в жизни Бориса — и Лида, задумчиво помешивающая Митькину кашу, и Оська с его контрамарками, и письма от отца, — они почему-то давно не приходят, — и ослепительно-желтая солома у комбайна, и легкая, сквозная до самой гальки Ленкина тень на вечерней воде. «Она сказала тогда, — подумал Борис о Ленке, — так стыдно, когда все смотрят». Борис не будет смотреть. Он пойдет к ней и предупредит. Только он еще посмотрит, как Галимбиевский сам обожжется. Ленку-то Борис знает. Но Борис не знал Ленку. Он видел теперь, как часто стоял Галимбиевский у ее станка, отходил, а Ленка еще долго улыбалась себе. В обед она без особой причины хохотала и уходила из цеха, когда Галимбиевский особенно усердно всех развлекал. Но Ленка — это было его светлое, Ленка — его лучшее. А свое лучшее Борис никому не хотел отдавать. Вот тогда-то Ленка сказала ему с негодованием: — А тебе-то что?.. Даже зло берет. Лезут все… И вот сегодня… Утром, еще у проходной, Галимбиевский со странной улыбкой встретил Бориса и, ни слова не говоря, взял его кепку за козырек, натянул ее на глаза, больно сдавливая нос. Чуть позже, уже во время работы, сказал Борису: — Что ты за мной следишь, как черт за грешной душой? Ты за Ленкой следи. Я же говорил, любую… обработаю. Борис подошел к Ленке. Под глазами у нее будто кто мазутными пальцами водил — темные круги. И в лице — все не такое. Она глянула на Бориса, и он понял. — Уже?.. — тихо сказал Борис. — Эх ты… дрянь. Ленка страшно ткнулась в станок, как надломилась. Потом выбежала из цеха. Галимбиевский ждал его у станка. — Может, не веришь? Приходи. Дам координаты, где подождать. Сегодня. С условием. Первым пропущу я, а ты пригласи кого хочешь. В порядке очередности. И тут Борис не помнит, как это произошло. Он почувствовал, что ключ в его руке затяжелел. Видя только глаза Галимбиевского, он резко бросил в его голову ключ. Галимбиевский пригнулся. Ключ ударился о стену. В цехе никто не слышал, как он звякнул об пол. Только виделось, как из сухой выбоины в стенке на него сыпалась штукатурка. Галимбиевский стоял у своего станка бледный и спокойный. Борис, трудно приходя в себя, повернулся к цеху спиной и, чтобы сдержать противную дрожь в руках, взялся за пузатые прохладные рукоятки. Еще не понимая, как приступить к работе, почему-то безо всякой связи подумал: «Сволочь. Как подсолнух в пыль». Сзади подошел Галимбиевский. Спокойно сказал: — Ты в меня чуть не попал, — помолчал и почти шепотом добавил: — Смелый стал. Вот теперь я вижу, что с тобой мы встретимся. Не в цехе. В последний раз. Угу… — «Угу» сказал он буднично и махнул головой. — Тебя не будет. Если тебя сразу не будет, это легко. Ты немножко с этим походи.
Борис не любил Ленку. Он даже ее ненавидел за то, что ей нравился Галимбиевский… Борис и Оська сидели в садике. За клубом, на фонтане. Круглая цементная стенка осыпалась. В цилиндрическом бассейне валялись колотые кирпичи и обрывки желтых газет. Фонтан заброшен давно. Металлическая трубка в центре бассейна с мелкими дырочками шелушилась сухой ржавой чешуей. Оська обнял коленку и молчал со взрослой оскорбленной озабоченностью. Садилось солнце. Борис смотрел на продуваемую ветрами оградку, где скопились листья, на голые ветки и обнаженные стволы березок. Может быть, глядя сквозь оградку на оранжевые лучи, мальчишки вспоминали прохладные солнечные полосы на песчаной косе, Ленкино платье на ведре, тени кустов и Ленку. Им казалось, что так, как они помнят все это, точно так же должна помнить Ленка. Им хотелось сохранить все это. Защитить. Как неистоптанную траву на лугах, как речку, вода в которой была, чиста. Они не боялись довериться ей. Они прыгали в ее обжигающую прохладу. Вода смыкалась над ними. И так же прозрачна для них была жизнь. И вот исчезло что-то важное, но что? Этого они еще не знали. По их сосредоточенному молчанию было видно, что сидят они уже долго. Может, и не об этом думали они на сухих кирпичах заброшенного фонтана, только Оська сообщил: — Я вчера в клубе слышал, как Галимбиевский «духачам» рассказывал: «Дурочка одна с завода. Сначала сама со мной повсюду лазила. Даже ночью в деповский сад. А тут заартачилась. Ладно, говорю, потом маме будешь жаловаться». Оська не поднимал головы. Его руки все еще были сцеплены на колене. Рассказывал он, не глядя на Бориса. — А потом, говорит, ничего, исправилась. Он нож в траву воткнул. У ее головы… Оська вдруг выпрямился, откинулся на руку и уставился на Бориса: — Знаешь, о ком это он? О Ленке Телегиной… Борис держал в зубах коленчатый стебелек пырея. Хрупко перекусывал его на мелкие дольки, и они собирались на языке. — Давай в милицию сходим, — сказал Оська. — Зачем? — Заявим. — Угу… Все? Вот будет смешно… Скажут: «А вы что, из-за плетня за ними наблюдали?» Борис, воспитанный улицей, ее законами, полный жесткого ребячьего самолюбия, не представлял, как он пойдет «заявлять». И о чем? Он вспомнил Ленкины глаза, когда, по-кошачьи злая, она выкрикнула ему: «Лезут все. Даже зло берет». Сама же Ленка не заявляет. Может, ей все это нравится. И с каких пор это стало вдруг ребячьей заботой? — Тут у них, видишь ли, любовь. «…Слушай, челка! Ты чуть в меня не попал». Под его ладонью посыпалась сухая цементная щебенка. Борис спрыгнул на траву. Сказал непонятно: — Почему у некоторых людей глаза наглые? Как в них наглость вырабатывается? Не знаешь? Я знаю. Безнаказанностью. Многие от этих взглядов заслоняются локтем и пятятся. А мы с тобой даже в милицию бежать собрались.
Лида старше Бориса на четыре года. Но Борис не сказал бы, что она старше. В жизни она разбирается плохо. Прожить ей будет труднее, чем другим женщинам. В жизни она ничего никогда для себя не попросит. Это даже по ее лицу видно. Борис, например, знает, что некоторые женщины берут ребенка на руки, своего или даже для этого случая соседского прихватят, и выкрикивают у прилавка за хлебом: «Что уж вы, с ребенком пропустить не можете?» Смотришь — получила. А Лида со своим Митькой пристраивается молча в хвосте очереди. Только изредка, еле заметным движением, сверток повыше подкидывает, чтобы не сползал. Иногда заметят ее. Засоболезнуют: «Да иди ты, получи. Измучилась вся». А она и с места не стронется, скажет: «Что тут осталось-то. Три человека». Так до конца и достоит. Удивительно. А то вечером однажды надела телогрейку, сказала о Митьке, что он не проснется, и вышла. Когда вернулась — Борис ее не узнал, — такое у нее черное было лицо. Борис уставился на нее. Она рукой вытерла губы. Борис рассмеялся: — Вы что, в печную трубу падали? — Уголь носила. В сарай… — Какой уголь? — Мне привезли. Пришла на Митьку посмотреть. — Он не просыпался. Лида, мешкая, не уходила из комнаты. — Знаешь, оказывается, я физически люблю работать. Да. И даже не устаю. Я не про руки, а в общем. И об этом совсем недавно узнала. Она улыбнулась, показывая белые зубы. — Пришла к такому открытию. Если когда-нибудь физический труд отомрет, на свете станет скучно жить. А я и не знала. — Ладно, — сказал Борис. — А где лежит уголь? — Возле нашего сарая. — Пойду посмотрю. А вы умывайтесь. Митька проснется — испугается. Сбегал по лестнице и все улыбался: только и осталось, что глаза да зубы… «Пришла к убеждению»… В сарае еще не осела угольная пыль — рта не откроешь. Борис посмотрел на груду угля, на пустое ведро, уроненное в сторонке. В выемке угля валялся квадратик фанеры, которым Лида, наверное, насыпала ведра. Он постоял в нерешительности у поваленного ведра, взял в сарае лопату и начал скидывать ворох, а глаза его все помнили, как она сняла телогрейку, опустила ее осторожно у двери, развязала платок и неожиданно показалась ее тоненькая белая шея. Борис мог часами смотреть на Лиду, но только было неудобно. Поэтому он на нее не смотрел. Но он знал, что с осенней темнотой вечера в раскрытое окно глухо и прерывисто влетает музыка из заветренного репродуктора. Покачивается раскрытое окно. Лида уходит в себя, задумчиво потирает пальцы маленьких рук, сжатые где-то у подбородка, словно они у нее зябнут. И ее еле намеченное сквозное отражение глубоко качается в темных стеклах. А чем она сейчас занимается?
Борис постоял у клуба. «Леди Гамильтон» он вчера уже видел. Вечер девать было некуда. Борис пришел домой и сказал Лиде: — Идите сегодня в кино. — А Митька? — удивилась она. — Я останусь. Это же просто. Мы с ним давно друзья. В ее глазах появилась надежда. — И пойду, — неуверенно сказала она. — Конечно, — сказал Борис. — Я знаю, где его каша. С полчаса Борис с Митькой были друзьями. Борис читал, а Митька стоял в качалке и держался за деревянную перекладину. Если Борис ходил по комнате, то Митька, перебирая руками, перемещался вокруг качалки за ним. Потом Борис сел за стол есть. И Митька отпустил перекладину, изо всей силы сел и испугался. Мгновение сидел в неподвижной очумелости и вдруг начал обиженно морщить губы. Борис подошел к нему и стал раскачивать. — Ну, это ты зря, Митька. Это ты еще рано, — говорил Борис. Митька послушал с минутку, потом сообразил, что перед ним только Борис, и разревелся. Слова его не утешали. Потом Борис выяснил, что, если говорить с кем-то другим, Митька замолкал. «Ага, — думал Борис. — Главное — поразить воображение. Не отпускать. Не дать прийти в себя». Борис громко стучал пальцами в дверь и обращался к кому-то. Говорил он что попало, лишь бы говорить. — Это кто? Ты, друг? Что, к Митьке? На улицу с ним? Играть? А что! Я не возражаю. А вот как мать? Мать у него, друг, знаешь… — А потом тише и ласковее спрашивал: — Ты знаешь, какая у него мать? Митька молчал и смотрел на Бориса озадаченно. А потом сам поразил воображение Бориса. У Митьки стали мокрыми штаны. Мальчишка вышел из подчинения. И чтобы как-нибудь нечаянно не прислушаться к Борису, он старался реветь громче. Борис начал кормить его кашей. Митька не давал рот. Он оказался сильным и вырывал из рук Бориса лицо. А когда Борис успевал запихнуть ему в рот ложку, он выталкивал кашу толстым, как пробка, языком и орал. — Ну, ты, я смотрю, совсем распоясался, — говорил Борис. — Так дело не пойдет. Со мной взрослые и то лучше считаются… «Может, с ним на улицу сходить? — У него далее сердце как-то нехорошо сжималось — так сильно Митька ревел. — На улице, кажется, ребятишки засыпают». Он положил Митьку на теплое детское одеяло с угла на угол и завернул. Конец одеяла не держался, и Борис прихватил его булавкой. Нижний угол одеяла у ног завернул наверх. Он топорщился. Его тоже пристегнул. По обеим сторонам угла образовались две отдушины. Из них торчали Митькины голые ноги. «Холод попадет», — подумал Борис и прижал отдушины. Чтобы они не расползались, скрепил их тоже булавками. А чтобы ке замерзла голова, верхний угол одеяла пристегнул набок, оставил небольшое окошечко для лица. И все сморщенные складки, получившиеся на сгибах одеяла, для страховки закрепил, использовав остальные булавки из картонной коробочки. Сверток ничего получился. Весь блестит. Как на заклепках. Раздетый, только кепку надел, с Митькой на руках, Борис пошел на улицу. Митька хватил свежего воздуха и сразу же перестал плакать. Из-за свертка Борис не видел ступенек и, чтобы не упасть, спускался бережно. Вышел из подъезда. Стал прогуливаться вдоль оградки, обходя крапиву и крышки от погребов. В погреб пришла с завязанной кастрюлькой Пятницкая. Молча спустилась. А когда вылезла, повернулась задом к Борису, закрыла замок на крышке. Выпрямилась, заискивающе пропела: — Вот и папаша. Она и тебя к сыну помаленьку приучает… Борис посмотрел на нее. Она боком сошла с погреба. Лида запыхалась. Губы ее были раскрыты и горели. Подошла она, неразборчиво ступая туфлями по прошлогодним щепкам. Через силу сдерживая дыхание, спросила: — Ну что? А почему вы здесь? На улице? — Гуляем, — сказал Борис. — Поели. Она увидела сверток, сцепленный блестящими дужками булавок, и вдруг с детским, почти девчоночьим изумлением глянула в лицо Борису. В ее глазах, больших, синих, озорно и сдержанно нарастал смех. Вдруг он вырвался и брызнул, забился в глубине, как синяя электросварка. Лида беззвучно хохотала. Казалось, обессилев, она присядет. Но, наверно, смеяться ей было неудобно, и она изо всей силы сжимала кулачки, закрывала ими рот. Она их, наверно, даже кусала. «Э-э-э… — подумал Борис. — Пустосмешка». — Не будем перекладывать, — сказал он. — Проснется. Я сам понесу. Борис не видел, как Лида шла сзади и какие при этом у нее были глаза. С этого вечера что-то изменилось в их отношениях. Если раньше, когда Борис входил в комнату, ощупью вешал на спинку стула одежду, ложился на кровать, глаза медленно привыкали к темноте, и он еще не видел, а чувствовал, с каким напряженным ожиданием Лида прислушивалась к темноте, то теперь в сумерках комнаты она подавала голос и этим как бы признавалась, что в комнате есть женщина. Она спрашивала что-нибудь. Или, глядя в сторону Бориса, ставила на подушку локоть и, поддерживая ладонью голову, рассказывала о своем городе. Борис старался не смотреть на нее. Он смотрел перед собой, слушал ее голос и думал: какой он, Ленинград? Должно быть, очень непохож на его сибирский городок, если в нем могла родиться она. Где она жила там? Как-то вечером Борис возвращался с работы домой и думал: «Надо спецовку выстирать. Промаслилась насквозь. Два раза наденешь — майка грязная». Только стирать он будет, когда останется один. А то опять Лида начнет у него за спиной улыбаться: — Да почему ты от себя-то выжимаешь? Так даже неудобно. — Попытается воспроизвести неловкое его движение, скажет безнадежно: — До чего же все-таки неуклюжи мужчины! Борис вошел в комнату. Лида сидела на кровати. Борису показалось, что она даже не заметила его прихода. Она смотрела куда-то в пол, машинально раскачивая качалку. Сидела она с какими-то остановившимися, сухими глазами. Так сидят люди, ни о чем не думая, потому что думать для них о чем-то страшно. Борис постоял у двери, не двигаясь и не понимая, что сейчас ему делать. Митька стоял, держась за перекладину, вздрагивал коленками под длинной полотняной рубашкой. Рубашка колыхалась. Он заглядывал матери в лицо. Он пытался ей улыбаться, привлечь ее внимание, он просто весь сиял. Тем отрешеннее казалась ее неподвижность. Борис подошел к качалке. Подумал, как неуместно и тяжело громыхают его сапоги. — Митька, ты что радуешься? — сказал он, а сам подумал: «В наше время, кажется, только Митька сияет». Лида молчала. Борис не знал, как дальше молчать, и неумело спросил: — Что?.. Что-нибудь случилось? — А со мной разве может, — глухо сказала Лида, — что-нибудь не случиться? Она взяла Митьку, чтобы не видеть его сияющего лица, прижала к плечу. — Я потеряла карточки. Все. Свои. Митькины. Хлебные. Продовольственные. Я положила их в карман пальто. А в очередь так лезли. Когда подошла к окошечку, их уже не было. И… разрезан карман. — Вы не купили хлеба? — Я не купила ничего. Месяц только начался. — Но… Лида раскачивалась вместе с Митькой, так же машинально, как только что покачивала кроватку. Борис ничего не мог ей предложить. У него только одна карточка. А разве она ее возьмет? Одна карточка… А могло быть две. Галимбиевский давно предлагал. А он почти согласился. Талончики даже брал и четыре дня приносил домой увесистую краюху хлеба. А кто-то… И вдруг он вспомнил отчетливо, до тошноты, черные туфли в чемодане у Галимбиевского. Чуть залощенную белую подкладку задников. Кругленькие обжитые гнездышки пяток. Туфли были уже на чьих-то ногах, были примерены, делали кого-то чуть-чуть счастливее. А он видел, как Галимбиевский сдавливал их крышкой чемодана, нажимая коленом. Борис даже застонал. Он не мог взглянуть на Лиду. Он вышел на улицу. Солнце уже село. Все дома были как бы в тени. Только вершина тополя у соседнего двухэтажного дома — освещена. Голые его ветки казались оранжевыми и холодными. «Без пальто скоро не выйдешь», — подумал Борис. Он никуда не спешил. Просто ему хотелось быть одному. Он медленно шел, разглядывая тротуар. Оградки из низкого штакетника у казенных двухэтажных домов сменялись старыми плетнями. За ними торчали подсолнечные будылья с сухими крючками сверху, да в огородах, у стаек, сметанное в небольшие зародики сено, придавленное с боков березовыми жердями. Да на крышах кучки картофельной ботвы. И на всем этом уже лежал темный неуют сибирского вечера. Борис сворачивал в глухие переулки и все ходил, пока не стали черными избы, черными — копны сена на крышах и торчащие у сена скворечники. Все как-то затяжелело, налилось холодом. Борис спрятал руки в карманы. Они начали согреваться. «Что, мороз? — подумал Борис. — Хочешь достать? Рукам уже тепло, а лицу даже приятно. Я же сибиряк. Мне что… А ты неразборчив. Ты равнодушен, мороз. И тебе доверяют! Думают, ты наш. Знаешь, откуда люди приехали к тебе? Ерунда, — досадно сообразил Борис. — Лезет что попало в голову, а нужно что-то придумать». Он придет сейчас домой. Что скажет Лиде? Что ей предложит? Она, наверно, думает — я же среди людей, не пропаду. Они помогут. А люди помогут… Что они для нее делают?.. Он, Борис, что делает? Он сильнее ее, практичнее и ничего не может придумать. Как она качает своего Митьку, об этом знает только Борис. Она сидит одна. А Борис знает, как быть одному. И он не сможет остаться в стороне. Потому что этого после не простит себе. Он… От неожиданности Борис даже остановился, разглядывая темноту. Он сделает… Только еще подождет, когда погаснут во всех домах окна. Пусть. А люди ему и так ни в чем не верят. Борис вошел в свои ворота. Приблизился к темной стене сарая. В ночи было тихо. Жухлая осенняя трава в белой изморози крахмально приминалась под сапогами. Стоял он долго, не двигаясь и всматриваясь во все раскрытые подъезды домов. Подумал о Пятницкой, об ее жирных, еле переваливающихся гусях и об ее сыне, который работает заведующим райпотребсоюзом. Борис часто видит, как он приезжает домой на коне, как вылезает из плетеного коробка. Легкий ходок под ним покачивается. В синих галифе, белых фетровых сапогах, простроченных желтыми рантами, грузно спрыгивает на землю, берет охапку сена из коробка и вместе с ним, чуть приседая на ногу, вносит что-то тяжелое в сарай к гусям и там прячет. Убедившись, что на улице никого нет, Борис подошел к двери сарая. Нашел у стены длинный обломок от старой пешни. Продел его под цепку и с силой рванул к себе. Ржавый пробой резко скрипнул, и цепка с замком ударилась о косяк. В сарае загоготали гуси. Гортанно, обеспокоенно. Борис прижался к стене. Гуси затихли. Тогда Борис открыл дверь, увидел у дальней стены, в темноте, еле различимую белую сплошную массу. Масса зашевелилась. Борис поймал что-то белое и тяжелое, и вдруг темень в сарае вспенилась, закипела. Гуси захлопали крыльями. Тугие волны воздуха, как упругие пласты, ударили в лицо, опрокидывая навзничь. Борис поймал за шею гуся, сжал в ладони, чтобы он не кричал, и побежал. Неподалеку, за продуктовым ларьком, остановился и стал пережидать, когда гуси в сарае успокоятся. Он держал гуся за шею, сдержанно дышал. Гусь лежал на земле, как тяжелый, наполовину насыпанный мешок. Борис услышал, что кто-то идет по дороге к нему. Он услышал сначала шаги, потом голоса. Шли двое. Он различил военного в шинели и с ним девушку. — Ты слышал что-нибудь? — спрашивала она. — Нет. — Я так не люблю темные ночи! Пока они проходили по дороге рядом с ларьком, Борис медленно перемещался вдоль противоположной стены. Вдруг вялая шея гуся напряглась. Под рукой шевельнулся упругий жгут. — Ка-а-а-га, — оторопело закричал гусь и начал подпрыгивать от земли, как тяжелая подушка. Борис придавил его ногой. Отпилил голову ножом и шею завернул под крыло. Домой он постучал под утро. Включил свет. Посмотрел на Лиду и сказал: — Я сейчас. Вы не закрывайтесь. Вышел на улицу. Из-под сена достал гуся, вернулся в странно яркий свет своей комнаты и положил гуся на пол. Поднял голову и увидел, что Лида стоит рядом. В одной рубашке. На лице ее ужас. Она даже забыла придержать скомканную на груди рубашку. Она смотрела не на Бориса, а на гуся с вялой кровяной шеей. Кровь темными смородинками скатывалась с крыла на пол. Лида будто увидела шевелящегося удава, хотела закричать, но для этого у нее не хватило голосу. Борис поглядел на ее обесцвеченные, какие-то чахоточные губы, и ему стало смешно. Он рассмеялся и, казалось, вспугнул Лиду. — А, — сказала она, — а если сейчас сюда придет милиция? А… Борис? — Не придет. Никто не видел. — А придет? Борис вдруг представил себе, как, должно быть, действительно ей страшно сейчас. И, сочувствуя, он сказал: — Вам ничего не будет. Скажите, он пригрозил. Ножом. Борис попробовал ощипать гуся. Тянул изо всей силы перья с боков. Перья не вылезали. Лида Стояла молча. Потом присела на корточки против Бориса, сказала: — Иди, спи. У тебя не получится. Борис лег на кровать. — Это я для вас, — сказал он и укрылся одеялом с головой.
Утром, пока Борис умывался в кухне, ему казалось, что Лида его ждет. И ему не хотелось идти в комнату. Он медленно вытерся. Пошел к колонке за водой. Нес воду тоже медленно. Чтобы о вчерашнем не думать, думал о том, что вот на улице солнце, тепло, а от ведер прохладно. Поставил ведра на кухне и подождал, пока вода в них успокоится. Когда понял, что тянуть больше нельзя, вошел в комнату. Воскресенье, и поэтому Лида была дома. Она стояла спиной к окну и молчала. Напряженно ждала, и сама боялась этого ожидания. — Борис… — она осеклась. — Зачем ты это сделал? — спросила она не дыша. И вдруг, как отчаянная просьба, у нее вырвалось: — Не надо, Борис… Не надо. Ну… скажи, что это не ты… Обещай, что никогда не будешь этого делать. Ты не знаешь, куда себя деть. А кругом война. Она откладывает все слякотное на твою душу. И никакой ты… Я понимаю… Мне тебя не в чем упрекнуть. Все, что ты делаешь, это от чего-то хорошего в тебе. Но ты не чувствуешь… У тебя нет мерки… по которой нужно мерить себя. Борис стоял не двигаясь. Лида отстранилась от окна. Замолчала. Потом улыбнулась слабо. Заплакал Митька. Она наклонилась к нему, подняла из качалки и, придерживая ладонью спину, сильно прижала к себе. Подошла к Борису и, все еще продолжая улыбаться, сказала: — Вот, подержи. Я ему что-нибудь приготовлю. У Митьки глаза жмурились. Весь день Борис оставался дома. Ему не хотелось никуда уходить. И не хотелось ничем заниматься. Он сидел, наблюдал, как она убирает комнату, и слушал. Он смотрел на ее лицо и чувствовал, что все, что она говорит, ей хочется сказать именно ему, а не все равно кому. И он испытывал радость. Лида мыла пол, перебирала книжки на этажерке. Только к вечеру ей нечего стало делать. Митька сидел в качалке и продевал палец в выпавший сучок. Лида поднялась на подоконник, чтобы открыть окно, и сказала, что Митька уже сибиряк и холода не боится. Выдернула шпингалет. Спрыгнула на пол. Перехватила взгляд Бориса, застеснялась. И зачем-то начала рассказывать о своих друзьях. — …Я училась в консерватории. На втором курсе, а они заканчивали архитектурный. Они часто бывали у меня. Мы любили белые ночи… В этих ночах очень обманчивое состояние. Все видно. Все перед глазами. Лица, рубашки, руки. Вот они. Светлые. Все светло. Можно читать… А разверни книжку, и букв не видно. Они затуманены. Я была с ними одна. Чувствовала, что меня они брали с собой, чтобы было кому «выдавать» свои мысли. Они были талантливы. И кажется, знали это. Без рисовки, с захватывающей убежденностью говорили они о будущем. Меня всегда удивляло в них какое-то предчувствие необычности их судьбы. И ведь все это сбылось. Последний раз они были у меня уже в шинелях. Один из них… Сережа Назаров умер в госпитале в Ленинграде. Я его всего раз навестила. В армию они ушли все вместе. Мой муж тоже. Вскоре он летал под Ленинградом и писал мне ужасно несерьезные письма. Он всегда был несерьезен. Как мальчишка. Меня это злило иногда. Но однажды я увидела его заново. Нас привезли сюда осенью. Выгрузили на станции. Грязь. Дождь хлещет. Просто лупит по перрону. Митька в одеяле. Мокрый — хоть выжимай. Холод. Даже не хотелось двигаться. И тогда я его почти увидела. Снова. Он был прежний. Сначала молчал. Вытер мне лицо мокрым рукавом. Безжалостно, как деревяшку. Потом заглянул в глаза и… рассмеялся. Он всегда был такой: плачь, реви, а он смеется. Словно ему невесть как приятно, что человек в слезах. Я тогда как-то иначе увидела его смех. И все стало вокруг: и грязь, и холод, и даже слезы — незначительным и маленьким. А важным вот то большое человеческое превосходство в нем, что поднимает иногда людей над бедами. Я поняла тогда, что он не просто улыбался, а как бы говорил улыбкой: «И ты считаешь это достойным слез?» И теперь я часто зову его, когда у меня… Когда мне трудно… И вдруг, словно вспомнив что-то, повернулась к Борису. — Борис, хочешь, я тебе сыграю? — не спросила, а как бы сообщила она. — Хочешь? Потом поспешно, будто боялась опоздать, она достала скрипку, коснулась смычком струн. Звук, резкий, большой, полный, вызвал смятение, странную обеспокоенность. С ним в комнате оставаться нельзя. С ним тесно. Казалось, воздух в комнате натянулся, сейчас лопнет. Казалось, что это она, Лида, тоненькая, сама звенела. Напряженная до крика. Потом это впечатление прошло. Она играла о сегодняшнем разговоре, о вчерашней ночи, о всей жизни Бориса, которую не могла принять. Она играла об отце. О рвущейся звонкой тишине далекого фронта. О размытой утрамбованной глине. О молодых парнях, что уходят в шинелях навсегда. Или об улыбке своего мужа и о его глазах. А может быть, о том, что она почти год ничего не знает о нем, что он где-то там, на Ленинградском. Тогда зачем она, побледневшая, с обескровленными губами, светлеет и улыбается? «Зачем, — думает. Борис, — люди так мало живут? Может ее мужа уже нет. Только его улыбка осталась. Люди… Хоть один раз сфотографируйтесь с улыбкой. Вас не будет, а улыбка останется. А жить — это так здорово. И вы такие красивые. Отдавайте другим все, что есть лучшего в вас. Не опаздывайте. Спешите. Слышите?.. А то худшее у вас чаще наружу». Борис посмотрел Лиде в лицо. — Вот, — бледнея, сказала она. Растерянно села на кровать со скрипкой, и вдруг клюнулась лицом в колени.
Механический цех остановился на десять дней. На электростанции — профилактика. В понедельник с утра токари убирали металлические отходы во дворе завода. В грубых брезентовых рукавицах складывали узорчатые ленты на носилки и стаскивали в угол. В конце смены Бориса вызвал начальник цеха. — Что ты так тяжело смотришь? — спросил он, улыбаясь. — Зашел, и колючки наружу, как еж. Еж, он маленький, защищаться пытается. А ты… Ты скорей сам. Садись. И сними свои рукавицы… Борис сел на диван, придавил рукавицы рукой на колени. — Завтра всех посылаем в колхоз. Зерно обрабатывать. А тебе одному придется отходы грузить. — А я и грузить умею, — ответил Борис. — Умеешь… Начальник цеха пристально посмотрел на него. — Ко мне девчата заходили. Просили, чтобы тебя тоже с ними направили. Доказывали все, что ты не виноват. У сторожа ружье отобрал не ты. Бригадира избил не ты. Может, правда не ты? — Я. — Ну вот. А Огородникова утверждала обратное. — У него появилась озорная улыбка в глазах. Но Борису показалось, что он старается ее спрятать. — И шут тебя знает, что ты за человек? — сказал он. И строже закончил: — Ладно, ты там больше без этого. Завтра с утра — в колхоз. Понял? — Понял. — Давай.
Осенью колхозный хутор легко найти по широкой наезженной дороге. То натрушена солома, то стая воробьев на выплеснутой россыпи пшеницы. Воробьи не боятся людей. Идешь на них — они не вспархивают, а откатываются серыми шариками из-под ног. То по обочине дороги над травой высится островок высокой пшеницы с тяжелыми пыльными колосьями. А вот и лесок с домиками и сушилкой, надстроенной дощатым сооружением в виде скворечника. Хутор пустынен. Выбита трава. Где-то в стороне с весны оставлена сеялка или тракторный плуг. И оттого что они заросли пыреем, кажется, на хуторе никого нет, только висит над землей суховатый пшеничный воздух и еле заметный запах осенней прели. Но замечаешь бричку у раскрытых дверей, лошадей, привязанных за выступающее бревно избушки, столик на ножках буквой «Х», теплый запах столовой и сразу понимаешь, что все так и должно стоять. Длинный крытый ток. Соломенная крыша тока провисла, но боковые столбы лиственные, с глубокими пазами и узловатыми наплывами, стоят твердо. Земля под крышей утрамбована и суха. И за током, почти рядом, белесые заросли полыни. В полыни не пролезешь, так она густа и кряжиста. И растет она из соломы, сваленной давно. Наступишь на нее, солома податливо спружинит, и полынь обнажится у корней, как бы вырастет на глазах. Ветерок колыхнет ее тугие корзиночки, и задохнешься от сухой горьковатой пыли. Третий день на току с утра до вечера расхлябанно бьет решетами в дощатые бока веялка. Спереди в широкий лоток сыплется отвеянная пшеница. Ленка Телегина и Саша Герасимова с револьверного, стоя друг перед другом, вдвоем крутят веялку. Ленка глухо повязана платком. Голова в платке круглая, как забинтованная. Похожа на корчажку. Глаза у нее большие и какие-то неуверенные. Или просто так кажется. Но все равно об этой Ленке не подумаешь, что она ловила «лисичек-собачек». Валя Огородникова в лыжных брюках и ситцевой кофте плицей черпает из вороха пшеницу, развернувшись и как бы потянувшись вся, высыпает ее в веялку. Кофточка натягивается на ней, и кажется — вот-вот лопнет на груди. Оська деревянной лопатой перелопачивает пшеницу. Борис и Галимбиевский работают с женщинами-колхозницами. Женщины возят хлеб в Заготзерно. Насыпают мешки, а Галимбиевский и Борис заваливают их на телегу. Мешки, будто свинцовые чушки, выскальзывают из рук. Не возьмешься за угол, не вдавишь пальцы. Нагрузишь воз, и долго еще болят ногти на пальцах. Тяжело садиться отдыхать. Чувствуется в ногах какая-то обессиливающая, сладкая-усталость. А Галимбиевскому ничего. Он вспотел. Мешки таскает без рубашки. Подбрасывает их на телегу коленом. Широкоплечий и загорелый. С лоснящейся потной кожей. Садится на перевернутую плицу, улыбается женщинам и рассказывает: — Я в своей жизни старика встречал. Доходяга был, а все мудрил. Не верите, говорит, вы ни во что. А я вам скажу, все сбывается. В святом писании сказано: «Станут птицы со стальными клювами летать. Люди землю опутают стальной паутиной. По хлебу ходить будете, а есть будет нечего». Мы потешались над ним. Свистишь ты, дед: когда по хлебу ходишь — нагнуться недолго. Галимбиевский захватывал горстью пшеницу, подкидывал ее на ладони: — Вот дед пророк, а? А что? Под метелку работаем… Но женщины строго молчали. В избушке всего одно окно, большое и без рамы, земляной пол. На нарах сено, покрытое брезентом. Здесь спали. После ужина Борис не задерживался на улице. Ему хотелось быть одному. Он ложился на нары и смотрел в окно. За окном наступали сумерки. Прозрачные и стылые, как ключевая вода. Окно беспокоило. Там, за стеной избушки, перед окном — березовый колок из ровных, тоненьких березок. Он щетинился, как густой белый гребешок. Изредка эту сплошную белизну перебивали такие же вытянутые и тоненькие осинки. Колок без листвы. Борис знает, что у подножья, на сникшем папоротнике, на кровяных капельках костяники, на ломаной сухой траве, лежат вялые оранжевые листья. За окном нет ветра. Только настывает вечер. Неподвижный воздух будто тает, и кажется Борису, что натянутые стволики березок струятся. Борис не чувствует рук над головой. Со странной, светлой нежностью он вспоминает дом и непонятную тоненькую женщину Лиду. Даже не вспоминает, а видит. Вот она убирает со стола. Открывает журнал, который только что читал Борис. Задумывается над страницей или расхохочется и тут же прижмет пальцы к губам. Борису хочется тогда запомнить страницу, чтобы снова потом ее перечитать и понять, что для нее бывает смешным. Он видит ее глаза, руки. Видит, как она ходит по комнате, как надевает чулки, отвернувшись к окну, вытягивает ногу, разглаживая складки. Заметит, что Борис видел это, смутится. Или стоя скалывает прическу. Волосы не подчиняются. Она рассердится. Досадно выдернет приколку, и волосы тяжело упадут на плечи. Чтобы оправдать свою досаду, повернется к Борису и смешливо сморщит для него нос. Недавно Борис заметил, как она смотрела на него, а потом сказала: — Борис, мне хотелось бы увидеть тебя в Ленинграде… В концертном зале. Так просто. Посмотреть на тебя со стороны. Хотя бы один раз. И вдруг тревожно врывалось в сознание Бориса: «Борис, Борис… Не надо, Борис. Это не ты. Скажи, что это не ты… Ну, хочешь, я тебе сыграю? Хочешь?» Что могла она со своей нелепой скрипкой… Глупая… Беспомощная… Третий день он здесь. Что она думает о нем? Как он ее увидит? Он с отчаянием понимал, что не сможет теперь сказать ей: «Не я». Никому не скажет… Особенно себе. Вошел Оська. В сапогах залез на нары. — Свежо. На пшенице лучше спать. Она хоть снизу подогревает, — сказал Оська. — К утру дойдешь. Там уполномоченный из райкома приехал. Товарищей колхозников на танковую колонну агитирует. Идем, послушаем. Интересно. Колхозники сидели кто на чем. На скамейках, на перевернутых ящиках из-под зерна, на телеге и просто на земле. Уполномоченный в кожаном пальто, у маленького стола, накрытого красным. Кепка его лежала на столе, на бумагах. — Враг разбит под Белгородом и Орлом. Летнее наступление немцев сорвано. Враг покатился назад. Наши войска сами перешли в наступление. Может быть… — Уполномоченный приостановился. — Может быть, это ваши мужья и сыновья выстояли в этой великой битве. Наступают морозы. Они за нас. Но мы не можем армию оставить без одежды, без обуви, без еды. Мы не можем отправлять наших солдат с одной винтовкой на бронированные полчища врага. Мы не хотим лишних жертв, лишних жизней. Мы… Борис смотрел на женщину в серых брезентовых тапочках. На ее платок, сползший с головы, на руки, загорелые и обветренно-серые. Она прятала их в концы платка где-то на груди, на старой кофте. — …полушубки, пимы, рукавицы. На все нужны деньги. Где их взять государству? Но народ понимает… Я не думаю… Не найдется у нас ни одного человека, кто не поможет в такой час Родине. Не найдется… Женщина стояла не шевелясь. Что-то странное делалось с ее губами. — Не могу я… — тихо и тяжело сказала она себе. — Что вы делаете? Господи! Да не могу я! — вдруг закричала она громко, по-бабьи. — У меня же хлеба нет. Ничего нет. Что вы делаете… Вот посмотрите, посмотрите… Она не замечала, что все смотрят на нее. Она протягивала свои руки. — Что вы делаете! — кричала она пронзительно. — Что вам, моего мужика мало? Я вам своих голых чилят принесу. Смотрите. Пусть они у вас на столе рты разевают. У Бориса в груди стоял и не проходил незнакомый и тяжелый комок. Он сидел и смотрел, как женщина сначала стояла одна. Потом, недоуменно стесняясь, подошла к остальным. Комок подкатывался к горлу. Борис еще никогда не знал его в себе. Женщина стояла молча сзади всех. Двигалась вместе с ними к столу, а потом, когда подошла ее очередь, стала расписываться на листке. — Ну и овца же, — сказал Галимбиевский. — Кричала — даже этот бойкий мужик в кожане сочувствовал. А потом сама вместе со стадом в одни ворота. Стоило такую самодеятельность устраивать. На следующий вечер, после работы, Галимбиевский постоял возле окна в избушке, поежился плечами, сказал, ни к кому не обращаясь: — Пора прибарахлиться. Потеплее. А то загнешься. В общем, вы как знаете, а я завтра к утру буду здесь. Накинул пиджак себе на плечи и ушел домой. Всем тоже стало холодно. Девчата пошли на сушилку узнать, может, там на печках можно спать. Вернулись минут, через сорок. Принесли горох в платке. — Ну что вы за парни, — сказала Валя Огородникова. — Девчата о них заботятся, горох им принесли, а они… Хоть бы дров заготовили. Поджарить… — Лена, — сказал Оська, — для нас ты не пожалела даже своего платка. А я для тебя — лес, нет, два леса, сколько ты захочешь, на дрова снесу. Борис с Оськой собирали в колке сухой валежник. Осиновые стволики, невесомые и ломкие, от прикосновения разлетались на части. Собранные в охапку, они даже не ощущались в руках, только покалывали острыми сучками. Потом Оська держал большую плицу над костром, резко передергивал ее. Горох громко перекатывался по жести. Горячие горошины подпрыгивали кверху, глухо расщелкивались. Поджаренный, приятно и душно пахнущий, брали его в ладони, обжигались, ссыпали в карманы. В кармане он долго и как-то по-домашнему грел тело. — Почему Вадим ушел-то? — поинтересовалась Валя Огородникова. — Скоро же суббота. Странный… А бригадиру надо сказать, пусть окна вставят. Не думают. — Сегодня пойдем на ток спать. Там есть ворох неперелопаченный. Ляжешь — из глубины греет. В пшеницу руку засунуть нельзя, — сказал Оська. Ночь наступила темная, без ветра. Спать легли на ворохе пшеницы. Борис укрылся телогрейкой, зажал ладони в коленях. Пшеница грела каким-то далеким-далеким теплом. Борису казалось, что он почему-то помнит такое тепло. Кажется, оно бывает, когда разломишь еще горячий хлеб и поднесешь к губам. Задохнуться можно. Когда это с ним было? Девчата, прижимаясь друг к дружке, не шутили, как обычно, а были озабоченно притихшими. Только Валя Огородникова все же сказала: — Ладно, не возитесь, девки. Завтра ребят попросим из-за пазухи пшеницу вытряхивать. Уже не чувствовалось холода. Борис дышал в спину Оське, и его лицу становилось тепло. — Борис, посмотри. Посмотри, Борис. Валя Огородникова осторожно трогала Бориса за плечо, шептала прерывисто в самое ухо. Борис приподнялся, увязая рукой в пшенице. — Тише… Валя затихла, поняв, что Борис видит, закончила: — Смотри… Недалеко, у веялки, кто-то насыпал в мешки пшеницу. Было их двое. Один, стоя, держал мешок, а другой, согнувшийся, неторопливо зачерпывал зерно плицей. Оно шуршало по выгнутой жести. У Бориса стало сухо в горле. Девчата не спали. Борису показалось, что все они ждут только его. В темноте, еще не видимый за ворохом пшеницы, он встал. Как-то всем телом почувствовал, что рядом, с доверчивой готовностью, Оська застегивает пуговицы на пиджаке. Борис полез на ворох, тяжело вытаскивая сапоги из осыпающейся пшеницы. Выпрямился. — Гм, — сказал Борис неожиданно даже для себя. Темные фигуры выпрямились и застыли. А когда увидели, что из-за дальнего вороха на них движется толпа людей, отпятились в полынь. Из-за полыни выплывала луна, неправдашне большая и яркая. В нее, казалось, можно идти по траве, так она неожиданно близка. Ночь становилась мягкой, дымчатой. Только пугающе черной оставалась полынь, и за полынью, рядом, — темная грузовая машина. У освещенного столба Борису что-то попалось под ноги. Борис нагнулся. Поднял. «Что-то» было тяжелым вальком от брички с кованым крючком посередине. За редкой стеной полыни, в ее разреженной темноте, не прячась, неподвижно стояли двое. — Борис… — и вдруг Борис почувствовал, что он узнает одного из этих темных людей. Узнает эту приземистую фигуру, покатые плечи. Так может стоять только один человек. Мягко, будто на лапах. Спружинившийся, беспощадный, этот человек смотрит на Бориса через полынь со вспугнутой злобой, как волк сквозь черный тын. Борис знает этот взгляд. — Галимбиевский! — отчетливо выкрикнул Борис в полынь. Казалось, полынь вздрогнула, но фигура не шевельнулась. — Хватит!.. Выходи. К нам на свет… Борис выговаривал это, освобожденно торжествуя. — Хватит! Хватит подкрадываться. Что ты все около… Темные фигуры, шурша соломой, начали отпячиваться. Безбоязненно, откровенно вызывающе. Опять… Бориса взорвало это пренебрежение. Он даже не замечал, что тяжело сжимает конец валька. Уходят. Безнаказанно… Карточки — безнаказанно… Ленка — безнаказанно… Женщина с серыми губами — безнаказанно… И… этот хлеб… Даже тогда, когда здесь он, Борис, — безнаказанно. — Это же их, — глухо подсказала Огородникова, — машина. В машине что-то звякнуло. Там, спеша и срываясь, заводили мотор. Борис медленно пошел к машине. Две резкие тени, его и Оськина, качнулись по земле. Наступая на них, настороженно и молча двигались девчата. — А… бог! — пугающе выругались из полыни. — Не подходи к машине!.. Дешавло… Борис чувствовал, что впервые он испытывает страх, что страх противен, что руки и ноги не слушаются, они как на шарнирах, что он, кажется, отвратительно труслив. И если он сейчас остановится, то больше уж никогда, нигде не будет иметь права гордиться решительностью, которую любил в себе. — Ну! — нетерпеливо и визгливо крикнули от машины. Не чувствуя ног, но почему-то чувствуя жесткую, проминавшуюся траву, Борис шел. Видя, что большая, откуда-то появившаяся ночью на току толпа все-таки идет, темные, неузнанные люди отходили в заросли полыни. Молча, затаенно. У машины уже никого нет. Да, конечно, никого нет. Видно же хорошо. Зеленые ободранные бока кузова. Полуторка. Только на той стороне раскрыта фанерная дверца. Лунный свет на стеклах. «Надо ту сторону осмотреть, — подумал Борис. — Там высокая трава близко». Бороздя концом валька по земле, Борис приблизился к машине и стал обходить кузов. «Чья? — думал он, замечая белые цифры номера и чуть сторонясь угла. — РП-24…» И вдруг что-то резкое и темное мелькнуло перед лицом. Луна вспыхнула во все небо, оранжевая, горячая, и… медленно погасла. Борисзагреб исчезающую траву горстью… Утром на хутор приехали колхозники. Они почему-то сразу подвернули к току. Слезли с брички. Увидели насыпанные мешки с зерном. Один упал, и пшеница рассыпалась. Рядом с мешками — девчата с завода, а чуть поодаль от тока — чужую старую полуторку. Бригадир в офицерской гимнастерке, подтянутый, с дубовой клюшкой в руке, шевельнул желваки на скулах и, что-то сухое сглотнув, спросил: — Это которого?.. Того? — Того… — сказала Валя Огородникова. Чуть свет Бориса, так и не пришедшего в сознание, увезли в железнодорожную больницу. За «Скорой помощью» ночью бегали Оська с Ленкой Телегиной.
Боли давно не было. Был только тугой марлевый панцирь вокруг головы. Сухой, прохладный. Он так стягивал голову, что Борис даже не чувствовал, куда его ударили. Но когда он закрывал глаза, то перед ним являлись ломаные жгутики и шатко плавились в мерцающей желтой глубине. Борис не умел лежать с закрытыми глазами. Вот уж что-то четкое собиралось в его памяти. Ветер на дороге, бурая отвердевшая трава, темный мокрый штакетник и гипсовый парнишка в запущенном палисаднике у вокзала. Исхлестанный ветрами, он качнулся на глыбистой подставке. Стронутые гипсовые мышцы осыпались на ногах, и обнажился черный металлический каркас. Горнист упруго покачивался. Потом Борис видел только губы женщины-колхозницы. Женщина отдавала свое последнее. И он подумал, что эта женщина живет какой-то своей мудрой жизнью, которой он не знает. Эта жизнь, большая и напряженная, существует здесь, рядом, для этой женщины, для Лиды, для Вали Огородниковой. И почему эти до изнеможения занятые люди должны еще помогать ему и проникаться к нему сочувствием? А не наоборот! Он ждал, когда кто-то подумает о нем. Слепой он! Галимбиевского брал в поводыри… Борис переворачивается на кровати. А все-таки Валя Огородникова той ночью, на току, будила его. От сознания, что тогда все ждали именно Бориса, на душе у него становилось светлее. А может быть, в палате посветлело. За большими окнами падал снег. Редкий, медленный.
В палату вошла медсестра с газетным свертком и еще в двери сообщила: — Лебедев Борис. Тебе передача. Она положила сверток на табуретку. — Пришли, ломятся. Крикливые — сладу нет. Будто не в больнице. — Если ломятся — значит, ко мне. Борис развернул записку.
«Борис, ну как? А их поймали. Это правда был Галимбиевский. Девчата шумят за спиной, мешают писать. Снег пошел. Они выбежали на улицу посмотреть, когда ты в окно выглянешь. А Ленка, если хочешь знать, когда тебя увезли, весь день ревела. Сейчас с нами шла. Вдруг на полдороге остановилась и сказала — дальше не пойду. Вот пойми ее. Девчата просили написать. Целуют. Каждая по отдельности. Только Валя Огородникова первая. Имей в виду. Мы на улице, у входа. Может, выглянешь? Оська».Борис вышел в коридор. За окном внизу, в кружеве белых хлопьев, он увидел черные фигурки людей. Залез на подоконник. Распахнул большую форточку и высунулся по пояс. — Бо-орька! — загалдели внизу. — Выздоравливай. Быстрее. Мы ждем. Все. Оказалось, что у Бориса нет с собой ни телогрейки, ни кепки. Из больницы его выписали в двенадцать часов. Он вышел на крыльцо. На улице лежал мокрый снег. Над снегом стояло ласковое солнце. У крыльца снег не тронут. Он плотно сжимался, водянисто леденел под подошвами сапог. Сзади оставались темные лучистые следы. От солнца и снега кружилась голова. Борис зачерпнул снег ладонью, сдавил до тугой ледяной формочки и далеко бросил вдоль улицы. С непривычки приятно заломило плечо. Потрогал мокрой ладонью теплый бинт на голове, улыбнулся и пошел домой, раскрытый, в одной рубашке с засученными рукавами. Шел по свежему снегу, стараясь не попадать в чужие следы. Дома он долго ждал Лиду. Он ждал и боялся, что повязка, челка, прихваченная бинтом, ее оскорбят. Он увидел, что спецовка его все еще висит на прежнем месте, за печкой. «Не решилась убрать. Надо ее повесить в коридоре», — подумал Борис. Он снял ее, и ему показалось, что гвоздь прибит ниже привычной высоты, и что движения его странно взрослые и уверенные. Это его озадачило. Лида пришла поздно. — Ох, — сказала она и стала поспешно снимать туфли с ног. Туфли были сырые, на них лежал снег. В тепле он шевельнулся на мокрых носках и, медленно стронувшись, сполз на пол. Лида босиком пробежала по полу. Не развертывая, положила Митьку, скинула пальто, забралась с ногами на кровать. Болезненно улыбаясь, она смотрела на Бориса и руками согревала пальцы, ног. Изо всей силы сжимала их, морщилась и зачем-то качалась. «А я, — подумал Борис, — утром так радовался снегу». Он смотрел на нее и молчал. Потом сказал: — С пару разошлись. Их нужно в холодную воду. Отходят. Увидев, что Лида все еще смотрит на него, он зачем-то потрогал повязку на голове, вспомнил про окровавленного гуся и, почти стесняясь, сказал: — А я опять… Вот, в колхозе работал… Лида молчала. Потом посмотрела Борису в глаза и сказала: — Я все знаю, Борис. Сказала строго. И вдруг, чтобы уж не касаться этого, рассмеялась: — А что такое — с пару разошлись?
Повестку принесли через три дня. Борис проснулся. Еще почти во сне, с неосознанной радостью, почувствовал рядом чье-то присутствие. Открыл глаза. Над ним стояла Лида. Она смотрела задумчиво и спокойно, даже не вздрогнув ресницами. Она будто знала, что Борис сейчас проснется. — Тебе на работу… — не то сказала, не то спросила она. — А вот… — Она взяла со стола серый прямоугольничек бумаги. — Из военкомата. Борис сел.
«Явиться девятнадцатого ноября. Иметь при себе…»Борис вышел, на улицу, не застегивая телогрейки, сдвинув на затылок шапку. Челка лихо топорщилась. По лестнице он почти сбегал, нерасчетливо хватался ладонью за перила и, отталкиваясь, прыгал через три ступеньки. В цехе Оська уже подготавливал свои инструменты к сдаче в «инструменталку». — Тоже? — спросил Борис. — Тоже, — ответил Оська. — Идем в бухгалтерию за расчетом. В коридоре их поймал Агарышев: — Вы зайдите ко мне. Я на вас характеристики написал. От бюро комсомола. Агарышев обращался больше к Оське. Пока сидели в кабинете комсорга, Борис характеристику прочитал. — Что же это я у тебя такой хороший получился? Агарышев покраснел. — Знаешь, Лебедев… — он даже привстал над столом. — Не надо хмыкать. Я всегда как думаю о человеке, так и говорю. В три часа вышли с завода. Оська сказал: — Мама просила, чтобы ты зашел к нам. У перекошенных ворот Оську ждал брат. Еще издали увидел, побежал в комнату. Оська зашел в избу, остановился у порога. — Опять, — сказал он матери. Мать молча наклонилась над столом, что-то складывая в две стопки. Расстегнутые обшлага кофты болтались у локтей. На подбородке у нее висели слезы. — Оба здесь, — сказала она, не скрывая, что плачет. — А я вот уже приготовила. Это — Оське, а это — тебе, — показала она Борису. Поочередно придавила ладонью сложенные стопки белья. — Вот кальсоны, вот рубашки, вот носки. — Зачем мне? — сказал Борис. — У меня есть. — Есть… Уже зима. Стынет все. Что ты в своих трусах будешь в окопах сидеть? Ведь сказано — две пары нижнего белья. Заметив, что Борис колеблется, Оська сказал: — Ладно, он возьмет. Что форсить-то. Ты, ма, собери на стол что-нибудь. У нас есть выпить.
— А заводские ребята, что прошлый год призваны, давно на фронте, — сказал Борис. — Только три месяца стояли в Новосибирске. Тоже осенью ушли. А зимой уже присылали письма с передовой. Борис в сапогах, в рубашке, заправленной в брюки. На груди, в уголке расстегнутого воротника, видна вылинявшая застиранная майка. Она узка, туго натянута на развитых мышцах. Щеки его запали. Построжела, сгустилась синева глаз, и поэтому особенно нелепой кажется падающая на лоб взмокшая, потяжелевшая челка. — Не представляю, — говорит Лида. — Немцы — это страшно. Это дико. Это что-то черное. Против этого нужен солдат. Шинель. И… ты. Ведь ты не солдат. И через три месяца не солдат. Как это? А там… Так легко быть убитым. Лида сидела почти рядом, на стуле. — Не солдат?.. — сказал Борис. — Ну? Еще какой! Метр семьдесят пять… Лида улыбнулась. Помолчала задумчиво. Борис уже все уложил. Нужно закрыть чемодан. Он повернулся спиной к столу и посмотрел на Лиду. И вдруг Борис понял, что он сегодня уйдет совсем. Куда-то в зиму. В ночь. Будет качаться на деревянных нарах дощатых товарных вагонов. У отодвигающейся двери будет гудеть красная жестяная печка, валяться колотые, расщепленные доски и… не будет Лиды. Он понял, что ему дорога эта женщина, тоненькая, в вылинявшей ситцевой кофточке, беспомощная и обезоруживающе строгая. И ему кажется, что он может приблизиться к ней. Наклониться. Поцеловать. Только бы один раз. Ведь при отъезде это можно. Ее руки неподвижно лежат на коленях. — Ты знаешь, — глядя в глаза Борису, сказала Лида, — тебе в дорогу не скажешь: «Береги себя». Тебе ничего не посоветуешь. Ты не хитрый. Ты не благоразумный. Ты и везде будешь такой…
На вокзале слишком яркий свет. Свет, как туман. Кружится голова. Борису кажется, что это не вокзал, а слепящий аквариум. И опущен этот аквариум во что-то черное. За большим, во всю стену, окном бьется метель. Двери не закрываются. Вокзал набивается и набивается людьми. Входят из темноты снежные люди. Женщины в облепленных снегом шалях, рослые деревенские ребята с мешками за плечами. Они оббивают у дверей шапки о колено. Сброшенный с шапок снег разбрызганными пятнами тает на цементном полу. Он тает на их обожженных ветром лицах, мгновенно свертывается, будто кожа их лиц горячая. Деревенских ребят провожают матери и молоденькие девчонки. Девчонки не знают еще, как вести себя. Они ютятся в стороне, стараются не попадаться женщинам на глаза. Борис оставил Оську с матерью. Вышел на перрон. Поезда еще не было. Мел по перрону ветер. Широкие яркие полосы из окон лежали на прибитом снегу палисадника. Борис остановился у штакетника. Оледеневшие доски таяли под горячими ладонями. В заснеженной траве, в ломаных квадратах света, напряженно качнувшись, стоял гипсовый горнист. На пьедестале, на бедрах, на плечах, на грязных гипсовых его волосах мокрой налипшей шапкой лежал снег. Влажный ветер леденил его бок, неуютно свистел в металлических прутьях обколотых ног. А горнист, запрокинув обледенелую голову к горну в отбитой руке, все еще что-то пел в черное небо. На путях, у темных махин грузовых вагонов, седыми маленькими силуэтами двигались обходчики. Сгибались у колес, хлопали металлическими крышками. Издалека, мимо депо, мимо шлагбаумов переезда, чуть раскачивая землю, шел тяжелый состав. Он надвигался на вокзал тремя желтыми, слепящими точками. Со лба устрашающим зеркальным снопом на нитяные рельсы падал широкий луч. А в нем, с мотыльковым мельтешением, кружились черные снежинки. У переезда паровоз закричал резко и тоскливо. Крик, громкий, безудержный, повисел и исчез за кувыркающейся завесой снега над землей. И Борис неуютно вспомнил, что всегда живет с ним этот крик. Уходил отец, уезжала сестра, а крик этот оставался. И он — Борис — оставался. Один. И сейчас один. Опять один… — Ну-у? — все в нем обрадованно запротестовало. — Один? На душе горечи не было. Хрустя по бетону шлачной пылью, шагнул в теплоту вокзала. — Вот он, — сказал Оська. — А мы ждем. Рядом с Оськой стояли девчонки из токарного. Потом Борис с Оськой на улице пили водку. Закусывали огурцом. Огурец сморщенный и теплый — девчонки принесли его в кармане. Потом Борис чувствовал себя большим, находчивым и отчаянно красивым. От расплывчато-яркого света, от вокзального гама у него голова шла кругом. Он что-то говорил Ленке. Заправлял ее волосы, выбившиеся из-под платка. Ленка молча все это выдерживала. А когда распахнулись двери на перрон, закричала какая-то женщина, люди хлынули на улицу, плотно сбиваясь у входа, Борис, не стесняясь никого, целовал девчонок. И Ленку. Целовал впервые и чувствовал, что губы у девчонок теплые, пугливые, и у всех разные. Посадки еще не было. Перед глазами близко, освещенные вокзальными окнами, стояли пассажирские вагоны. Покачивая тусклыми фонариками в тамбурах, маячили проводницы. — Борис, тебя зовут, — запыхавшись, крикнул сзади Оська. — Там. На выходе у вокзала. Борис вошел в вокзал. Там никого не было. Из круглого картонного репродуктора над дверью лилась музыка. Неожиданная. Какого-то задумчивого домашнего звучания. Он выбежал в высокую, плохо закрывающуюся дверь. У фасада вокзала было темно. Виднелись только редкие квадраты окон и закручивающиеся язычки метели у стен. Борис сбежал с цементной площадки, в густой снежной темноте увидел неподвижную фигуру. — Лида? — крикнул Борис. Она стояла У коновязи. Летел густой косой снег. Коновязь черная, и Лида черная. Снег лежал на ее теплом платке и телогрейке. Ее глаза в снежных каплях были влажные и строгие. — Борис, я тебе принесла. Вот. Она протягивает ему аккуратный маленький сверток. — Пусть будет это от меня: полотенце, ложка и мыло. Борис берет сверток. Снега нет. Рядом близко ее лицо, неулыбающееся и мокрое. — Борис, — говорит Лида. — Ты мне напишешь?






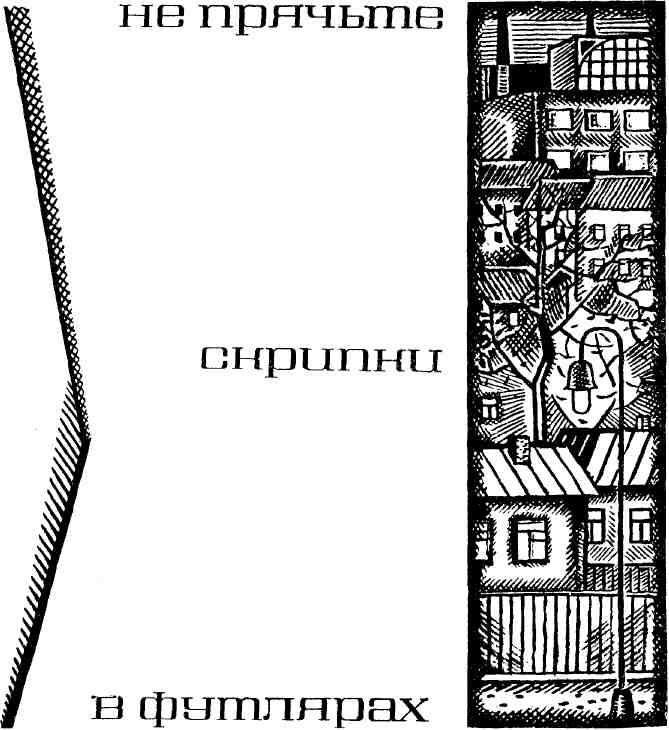
Последние комментарии
2 часов 15 минут назад
18 часов 19 минут назад
1 день 3 часов назад
1 день 3 часов назад
3 дней 9 часов назад
3 дней 13 часов назад