Небо в огне [Ян Парандовский] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
Ян ПАРАНДОВСКИЙ
НЕБО В ОГНЕ
Роман
I
Теофиль проснулся раньше обычного, хотя спокойно мог позволить себе поспать подольше. Идти на занятия не надо было — начались «малые вакации» после раздачи свидетельств за первое полугодие. В его собственном свидетельстве были сплошные тройки, а за одной из них мерещился призрак двойки. Угрожала она Теофилю по латинскому языку, благо еще учитель сжалился, дал на исправление срок до конца года. Мальчик, попятно, дома об этом не проговорился, дома и так жизнь стала невыносимой — на Теофиля смотрели, как на преступника. Отец, пробежав глазами его жалкие отметки, позвал Теофиля в свою комнату, выдвинул нижний ящик письменного стола, достал пачку старых бумаг и протянул ему одну из них:
— Вот, прочти!
Мальчик взял плотный, шероховатый листок с серо-голубым отливом, но разобрать угловатую каллиграфическую немецкую вязь было не так-то легко. Через минуту Теофиль с ней освоился и заметил, что слово «ausgezeichnet» неизменно повторяется рядом с перечнем предметов.
— Видишь, какое было у меня свидетельство за первое полугодие шестого класса. А ведь учился я в таких условиях, о которых ты, баловень, понятия не имеешь, — сказал отец и захлопнул дверцу. Теофиль даже не успел заглянуть в аккуратно, прибранное манящее нутро письменного стола.
Оттуда появлялись на свет божий новенькие стальные перья разных образцов, карандаши, ручки, бумага нескольких сортов — все это выдавалось скупо, с подозрительными взглядами, советами и напоминаниями. Там же таились пузырьки с синими, фиолетовыми, зелеными и красными чернилами, ибо советник Альбин Гродзицкий подобно писарям по призванию, был помешан на разноцветных чернилах и непрестанно их менял; возможно, у него были какие-то приметы, а может, это делалось в угоду тайным склонностям души, для которой большую часть дня не существовало иных пейзажей, кроме зеленого сукна да казенных бумаг, где цвели красные и голубые параграфы. Еще в письменном столе находилась коллекция бритв и, наверно, мыла для бритья, судя по запаху, проникавшему сквозь щели. Где-то там, внутри, было и веревочное царство, откуда добывались куски шпагата, выдававшиеся — не без сопротивления — на домашние нужды, и там же исчезали новоприобретенные мотки, которые отец приносил из города. На веревочки была в доме как бы установлена монополия, их сокрытие или самовольное хранение советник считал своего рода контрабандой. В недрах стола хранились также различные предметы под общим наименованием «инструменты», хотя, кроме молотка, долота, сверла и коробки гвоздей, ничто там не заслуживало такого названия. То был всякий хлам — старые дверные петли, скобы, фитили, ключи от никому не ведомых дверей и тому подобные ценности, каждая из них «могла пригодиться» и годами тщетно ждала своего часа.
Но над этим материальным миром стола были еще и высшие сферы, из них-то появилось старое отцовское свидетельство, один из многих документов, заполнявших ящик; аккуратно рассортированные, они лежали пачками, или в конвертах с нетронутыми марками, или в особых холщовых мешочках — если это были документы важные, вроде метрик или бумаг, связанных с продвижением советника по служебной лестнице. Теофиль с детских лет относился к этому хранилищу тайн с благоговением, мечтал когда-нибудь им завладеть и в своих грезах не всегда мог избавиться от мысли о смерти отца.
Свидетельство Теофиля тоже было приобщено к содержимому почтенного стола. Сложенный вчетверо листок уместился в старой коробке из-под шоколадных конфет, которая сама была каким-то сувениром. На тонкий слой бело-красных свидетельств народной школы год за годом ложились свидетельства гимназические — плотные листы, где на бледно-зеленом фоне простирал крылья двуглавый имперский орел. До вчерашнего дня их было десять, каждое последующее хуже предыдущего; и, наконец, самое плохое — последнее, одиннадцатое.
Проснулся Теофиль с тревожным чувством вины и раскаяния. Почему это в гимназии нельзя, как в костеле, избавиться от грехов и возвратиться в лоно благодати? Каким волшебством вернуть себе место первого ученика, утраченное так быстро, уже во втором полугодии первого класса? Для чего тогда ангел-хранитель, если он не может подсказать ответа на уроке или хотя бы подбавить усердия, памяти и внимания?
Теофиль, родившийся второго октября, в день ангелов-хранителей, рассчитывал на их особое покровительство. Изображение одного из этих крылатых духов висело на противоположной стене и в темноте не было видно, однако Теофиль так хорошо изучил эту картинку, что ему и теперь казалось, будто он ее видит. То была старая олеография, купленная через несколько дней после его рождения у ворот Андреолли и с тех пор всегда висевшая в его комнате. Так и осталась она на той стене, у которой прежде стояла его кроватка с сеткой. Босой, становился Теофиль на одеяло и подушку и тянулся на цыпочках к картинке, чтобы перед сном поцеловать ноги ангела,— там были еще видны следы поцелуев, отпечатки детских, сложенных сердечком губ.
Картинка изображала темный, страшный лес с черными рытвинами, поваленными стволами, густым кустарником и высокими деревьями, под которыми алели шляпки мухоморов. Через эти дебри шла маленькая девочка босиком, в длинной ночной сорочке, и вел ее ангел-хранитель, достигавшей головой до крон деревьев. По тропинке извивалась змея, жало ее почти касалось ножки ребенка. Прогулка по лесу босиком, в ночной сорочке показалась теперь Теофилю чем-то совершенно невероятным, он даже возмутился: «Такое только во сне может присниться!» Куда лучше было бы иметь ангела-хранителя в образе школьного товаршца-невидимки, который умел бы подсказывать! Но, убоявшись греха, Теофиль отогнал эту мысль.
И — как естественный контраст — преподаватель латинского представился Теофилю похожим на дьявола. Ничто не могло укрыться от черных глаз латиниста, на днях он заметил ряды крошечных буковок, которыми Теофиль вписывал перевод между строчками латинского текста. Эта древняя, как мир, уловка, которая переходит из поколения в поколение и усваивается даже самыми бестолковыми по купленным у букиниста книгам, выручала его и с Непотом, и с Цезарем, и с Овидием при нескольких сменивших друг друга латинистах и вдруг подвела, — да еще так подло!
Учитель Рудницкий отличался от всех своих предшественников. То были, как правило, молодые внештатные учителя, которых судьба бросала на самые неожиданные предметы — каждый из них мечтал преподавать философскую пропедевтику, получить часы по истории или польскому в восьмом классе, но их порывы умеряли латинскими спряжениями. У Рудницкого же все это было в прошлом. Он не считал спряжение глаголов ярмом для духа и определил бы подобный взгляд как неверное толкование этимологий слова «конъюгация». Признавая, что люди не рождаются на свет со знаниями, содержащимися в «Краткой грамматике латинского языка», он находил этот факт прискорбным, но поправимым — между десятым и двенадцатым годами жизни человека. Следующих четырех лет достаточно для исправления прочих недоделок природы — а именно в области синтаксиса,— и в шестнадцать лет у человека уже не должно быть сомнений, какое «cum» требует конъюнктива. А на этом-то и засыпался Теофиль Гродзицкий в пятом предложении первой главы первой книги Ливия.
Выслушав подозрительно гладкий перевод, отдававший стилем бойкого писаки, Рудницкий предложил Теофилю разобрать слово за словом предложение, где старый падуанец с сатанинским коварством скрыл все грамматические ловушки — и необычно двусмысленное «ut» и «gerundivum», и «consecutio temporum», и, наконец, это злосчастное «cum», по сути ясное, как божий день, но в то же время предательски сбивающее с толку — вроде как обманчивым эхом — крохотным «tum», вовсе ему чуждым и поставленным через две запятые.
Учитель потребовал показать книжку. К чему уж тут было, Теофиль, уверять, что перевод между строчками писал не ты, что ты даже внимания на него не обратил, что книжка-де старая и вообще не твоя? Где был предел твоим лживым измышлениям? В конце концов ты, чего доброго, стал бы отрицать собственное существование?
Эта бесполезная, трусливая ложь мучила Теофиля неимоверно. Он прямо корчился от стыда. А вслед за стыдом его охватил страх, лихорадочный страх, кошмарное чувство, что время упущено, что от целого полугодия остался лишь месяц, нет, неделя, сутки, час — и вот, все уже пропало, и ты, второгодник, вышвырнут на улицу, как ненужная вещь.
Теофиль вскочил с кровати, дрожащими руками натянул брюки, рубашку и зажег лампу. От белого абажура лег большой круг желтоватого света, теплого, успокоительного, бодрящего. Мальчик раскрыл Ливия, тетрадку для латинских слов, слева положил словарь и грамматику. Как в лес, углубился он в текст, прежде всего выкорчевывая незнакомые слова. После каждой такой порубки в лесу немного светлело, но отдельные члены предложений торчали здесь и там, мрачные и неприступные, будто островки чащобы. В них он врезался с грамматикой, которая водила его окольными путями, и нередко он, сделав большой круг, возвращался туда, откуда вышел, и вдруг обнаруживал торную дорогу в двух шагах от грозных дебрей. После получасового странствия он будто и впрямь выбрался из лесу и с изумлением увидел большую реку, разлившуюся в весеннем паводке по равнине, где наподобие островов высились холмы. Среди пустынной, недвижной тишины раздался детский плач, потом откуда-то издалека, с гор, прибежала волчица и скрылась под поникшими ветвями фигового дерева.
Теофиль вернулся к началу текста, и лишь теперь понял он слова: «vi compressa Vestalis» — и смутился, как будто тут же, в его присутствии, насиловали весталку — так резко и ярко блеснул перед гдазами упругий латинский оборот. Драма Реи Сильвии, Ромула и Рема, обнаруженная вполне самостоятельно, тронула его — не как отрывок из школьного учебника, а как факт, который удалось узнать случайно, чуть ли не подслушать, собрать по частям из намеков и обрывков фраз. Это было совершенно новое ощущение. И еще неожиданней оказалось удовольствие от самой работы, от терпеливого вникания в слова всегда многозначные и какие-то не то скользкие, не то верткие — вот-вот, кажется, схватишь его, но вдруг оно ускользает, и упрямая часть предложения снова оказывается одетой в непроницаемую броню.
Пани Гродзицкая заметила необычное поведение сына и послала прислугу затопить у него печку. Но Теофиль не чувствовал холода. Что-то внутри у него пылало, обдавало знойным вихрем. Не отрываясь от Ливия, он внезапными бросками мысли захватывал другие предметы, которые отныне собирался покорять таким же способом. Могучие токи воли пронизывали его, все в нем твердело, напрягалось, словно душа его обрела крепкие мышцы, которых недоставало телу. Пробили часы, — гулкий, одинокий звук упал, как тяжелая капля, и погасил возбуждение. Уже половина седьмого. На оконных стеклах вились фантастические растения, пронизанные дневным светом. Еще минута, и их озарит солнце: морозные цветы и листья заискрятся, заиграют всеми цветами радуги, и снова встанет вокруг знакомый, приветливый мир, где когда-то мальчику читали Андерсена под треск горящих поленьев в печке. Теофиль задул лампу и пошел умываться.
— Morgenstunde hat Gold im Munde! — сказал советник Гродзицкий, когда сын уселся в столовой за стол.— По глазам вижу, что дело пошло хорошо. Чем занимался?
— Латинским.
— У тебя, кажется, с ним не все ладится? Не ты первый, дорогой мой, не ты первый. Это надо проглотить, как горькую, но полезную пилюлю.
Советник обмакнул в кофе кусок булки, съел его и запил. Булок он не любил, особенно свежих и пышных, Он любил только простой хлеб, притом черствый, и нарезал его для себя перочинным ножиком — привычку эту он унаследовал от отца, как и ножик с костяной ручкой. Отец его начал самостоятельную жизнь каменщиком и именно так ел свой сухой хлеб, сидя на куче кирпича и мечтая о куске грудинки, которым сможет полакомиться после субботней получки.
Теофилю, однако, нравилась хрустящая булка с зернышками тмина, нравился и кофе, хотя там злаков и цикория было больше, чем настоящего кофе: его пани Гродзицкая добавляла только для запаха. Сама она еле притронулась к булочке, собрала ложечкой пенку и оставила стакан недопитым. В ту ночь она дурно спала, ее преследовала мысль об аэроплане, который накануне с чудовищным грохотом пролетел над ее головой, когда она после вечерни выходила из собора. В городе говорили, что это русский аэроплан и что летел он со стороны Замарстынова. Кто-то сказал, что над улицей св. Николая пилот включил прожекторы. Но больше всего встревожили Гродзицкую слова какого-то офицера: «Это уже не первый раз. Они все летают, высматривают, а нам стрелять запрещено».
— Наверно, в утренних газетах уже есть об этом.
— Чепуха, — возразил советник, — я все узнаю в канцелярии.
Он принадлежал к тому счастливому поколению, которое уже начинало думать, что мир — это естественное состояние, по крайней мере в Европе и в этой благословенной монархии, основывающей свое право на существование весьма туманной необходимостью. «Если бы Австрии не было, ее следовало бы выдумать», — говаривал советник Бенек, цитируя некоего венского Вольтера.
— Войны обходят нас стороной, — заявляли эти люди, глядя на безоблачный горизонт.
Однако Теофиль чувствовал на себе взгляд матери и понимал ее мысли: она высчитывала, сколько еще лет сможет за него не тревожиться. Подперев щеку рукою, она глядела не прямо на Теофиля, а чуть повыше, словно видела там его голову, посаженную на более крупном, взрослом туловище, и Теофиль, подняв глаза от стакана, увидел ее расширенные зрачки в серой радужке, особенно прелестной на фоне отливающего перламутром белка. Сердце его тихо затрепетало, таинственная радость разлилась по телу и зашумела в ушах извечной колыбельной песней. То было мгновение тишины и покоя, одно из тех значительных мгновений, когда душа взрослеет, когда она вдруг ощущает как нечто единое все те годы, что прежде казались россыпью отдельных дней.
Но тут встал отец, пошел в свою комнату и вскоре вернулся с тремя толстыми тетрадями. В них была записана хроника, которую отец вел изо дня в день вот уже двенадцать лет и каждый день читал из нее то, что приходилось на эту дату, — чаще по вечерам, но иногда и утром, если был праздник или такой день, когда Теофилю не надо было спешить в школу, а жене — за покупками. Красивые ленточки, заложенные меж страницами, указывали место, где были записи за этот день в разные годы. Советник начал читать:
«1 февраля 1900. Четверг. Оттепель, в полдень 4°. Отец уже встает и требует свою трубку. В канцелярии ссора с Бачинским из-за второй кафедры украинской литературы. У Теофиля нарвал палец. Мама велела парить в молоке, и нарыв лопнул. Ужинали с Зосей во Французском отеле, жареный окорок с гороховым пюре. Когда вернулись, газеты. Из Трансвааля никаких новых сообщений. Легли в 10 ч. 30 м.
1 февраля 1901. Пятница. Тепло, грязь. Мама ворчит на прислугу. Зося за обедом плакала. Теофиль ее успокаивал и просил прощения, как будто он был виноват. Корытовский назначен тайным советником. Впервые в Австрии вице-председатель дирекции казначейства получает такое отличие. Эрцгерцог Франц-Фердинанд присутствовал на похоронах королевы Виктории, но когда на заседании рейхсрата председатель упомянул о покойнице, поднялись крики: «Долой англичан! Да здравствуют буры!» В 9 ч. на Стрелецкой — вечеринка чиновников, наместничества. Зося была очень хороша, много танцевала. В 1 ч. домой в фиакре.
1 февраля 1902. Суббота. Мороз. В полдень — 3°. Желеского перевели в Вену, в министерство внутренних дел, карьера ему обеспечена. По пути из канцелярии зашел к Дитмару, купить новый фитиль для лампы. После обеда с Теофилем в пассаж Миколаша на Бен-али-Бея. Мама не хотела нас отпускать, боится беспорядков. На улице Крашевского полно полиции и агентов. Перед русским консульством усиленная пехотная рота с четырьмя офицерами. Зося пришла за нами в пассаж. После ужина читала вслух «Quo vadis» Сенкевича. Легли в 10 ч. 30 м.
1 февраля 1903. Воскресенье. Оттепель, снег, дождь. После костела занес Домбровской квартирную плату. Попросил починить печку в гостиной. Старая скупердяйка завела речь о повышении квартирной платы! Играл с Теофилем в железную дорогу, разложил в столовой на полу стулья, это были вагоны, Теофиль был кондуктором, а я пассажиром. Дал ему свою дорожную сумку, он еще хочет машинку для прокалывания билетов, как у кондукторов. Зосе нездоровится. Весь день дома. После ужина читал ей Крашевского, «Хату за селом». Легли в 10 ч.
1 февраля 1904. Понедельник. Мороз, в 7 утра — 8°. При выплате жалованья получил сверх того 50 крон прогонных, так как завтра выезжаю на комиссию. Приходил в канцелярию Пекарский, приглашал на воскресенье. Репетитор не пришел, я сам готовил с Теофилем уроки. Раздражался, Теофиль никак не мог прочитать слово «снегирь». Теперь понимаю, что виноват я — надо при чтении по слогам подсказывать звуки, а не названия букв. В 6 ч. пошли с Зосей в Аукционный зал. Купили премиленький карточный столик за 11 крон. После ужина газеты. В воздухе висит русско-японская война. Легли в 10 ч. 30 м.
1 февраля 1905. Среда. С утра слабый мороз, потом потепление. Пасмурно, небольшой снег. В костеле иезуитов, говорят, служили молебен о победе японского оружия. Бурный спор в канцелярии — можно ли молиться за язычников и против христиан. Я настаивал, что в этом случае язычники — орудие божие. За границей беспорядки, в Варшаве льется кровь, никто не знает толком, что там творится. Грустно. Должны были пойти на «Заколдованный круг», но Теофиль стал жаловаться на головную боль. Ночью у него был жар. Зося сидела возле него, я несколько раз вставал.
1 февраля 1906. Четверг. Мороз, в 7 утра — 3°. Солнечно. Теофиль за обедом пожаловался, что учитель в школе ударил его линейкой по руке. Нельзя так воспитывать! В 5 ч. с Зосей за галошами. Купили у Левицкого дешевый чай. На улицах толпы «сечевиков» в желто-голубых поясах и шарфах, завтра должно у них состояться сборище на Высоком замке. После ужина занимался с Теофилем. Потом газеты и «Наши за границей». Во Франции беспорядки в храмах по поводу отделения церкви от государства. Легли в 11 ч.
1 февраля 1907. Пятница. Слабый мороз, идет снег. Поезда стоят, нет угля. Но у нас-то дома есть! После вчерашнего бала не выспался, чувствую себя усталым. У Зоси до обеда болела голова, после обеда пошла в баню. Я спал днем, потом занимался с Теофилем. В 7 ч. оба пошли в баню за Зосей, а оттуда в ресторан Илькова. К нам подсел какой-то судья, разговор о нападении на университет и арестах студентов-украинцев. Говорил, что арестуют свыше 100 человек. После 9-ти домой.
1 февраля 1908. Суббота. В 7 утра — 1°, потом потепление, облачно. Один из курьеров наместничества заподозрен в сношениях с Васинским. В 6 ч. с Зосей и Теофилем к Ципперу купить Теофилю часы, обещанные мною за хорошее свидетельство. Серебряные, фирмы «Cyma», 22 кроны. Потом в Краковский отель. Теофиль очень потешно рассказывал об учителях и товарищах. В наше отсутствие у нас были капитан Секерский с женой, ждали полчаса. Газеты. Отвратительные выходки в прусской палате господ при обсуждении декрета об экспроприации поляков. Зося даже расплакалась...
1 февраля 1909. Понедельник. Утром мороз — 6°. В канцелярию пришел позже, так как заходил в полицию заявить о том, что у Зоси украли сумочку, — поможет, как мертвому кадило. Шведзицкий, который был старостой в Бохне, возвратился в наместничество, недоволен. Еще несколько случаев скарлатины. Теофиль дома — малые вакации. Зося спекла хворост и пончики. Вечером понесли гостинец Паньце, но ее не оказалось дома. По дороге Теофиль показывал нам, какая красивая луна в облаках. В газетах много о деле Азефа. Читается совсем как криминальный роман. Легли в 10 ч. 30 м.
1 февраля 1910. Вторник. Заморозки, ясно. Первый день встаю. Курьер принес жалованье и срочные бумаги. Теофиль отнес Домбровской квартирную плату. Днем Зося с Теофилем на лекции в зале «Сокола» о комете Галлея. Зося не верит, что целую комету можно уместить в чемодане. В газетах пишут о возможности войны между Турцией и Грецией. Лег спать рано, еще слаб.
1 февраля 1911. Среда, Сильный мороз. В полдень — 10°. Владелец фаянсовых заводов Левицкий купил в Кракове дворец Любомирских. Стирка. Зося велела нам пообедать в ресторане. Теофиль ждал меня на Губернаторских валах, замерз отчаянно. Обед у Нейсарка. Разговор о краковских волнениях по поводу князя Циммермана. Теофиль сказал, что у них в гимназии об этом говорят и что некоторые мальчики одобряют смутьянов. Власть мальчишек! После ужина занятия с Теофилем, он прекрасно пересказывал отрывки из польской хрестоматии. Газеты. Легли в 10 ч. 30 м.
1 февраля 1912. Четверг. Сильный мороз, в полдень — 10°. Теофиль дома — малые вакации. Надо следить за его занятиями, читает много неподходящих книг. Опять при выплате жалованья дали золотой в сто крон. Зося хочет откладывать. Ян Тафф, директор гимназии им. Собеского, выбросился из окна и разбился насмерть — говорят, нервное расстройство. Непонятно, что могло терзать этого благороднейшего человека. После обеда спал. Потом с Зосей и Теофилем пошли в книжный магазин Альтенберга, купить «Гром мацеёвицкий» Валерия Пшиборовского. Автор в Варшаве осужден на 6 месяцев тюрьмы за то, что в этой книге «сеет ненависть» к москалям; книгу решено уничтожить. Ужинали в Краковском отеле, потом на санках домой. Легли в 10 ч. 30 м.
Советник не любил, чтобы его чтение прерывали; жена и сын, зная это, старались запомнить ту или иную подробность, чтобы потом обсудить. Но быстрый бег времени, мчавшегося в коротких фразах, уносил с собой все, и под конец пани Зофье только и оставалось вздохнуть раз-другой. В этих вздохах, разумеется, был налет грусти, навеянной картинами более молодых лет, но по существу в них царили покой и безмятежность. Слушая день за днем повесть своей жизни, пани Зофья могла обозревать ее ясные горизонты и с улыбкой думать о мимолетных облачках, которые когда-то, наверно, казались ей грозными тучами. Как ровна, спокойна и надежна была их супружеская любовь! Как прочно было ее, Зофьи, место в жизни и мыслях Альбина! Какой теплотой дышали отдельные места хроники, которые Альбин, покашливая, не слишком искусно пропускал! Теофиль догадывался об этих пропусках и понимал, что там говорится о любовных секретах родителей.
И для него эта хроника тоже была полна очарования. Его забавляла сама история дня, который менял свое место в неделе и с таким же непостоянством менял погоду — то повеет оттепелью, то опять затянет все льдом и снегом. А думая о себе, Теофиль будто видел, как он растет, — это напоминало ему естественно-научные фильмы, где в течение нескольких минут показывают, как из крохотного побега развивается растение. Всего минуту назад он составлял поезд из стульев, а в середине второй тетради получал часы за хорошие отметки. Два-три слова, короткая фраза — и из темных уголков памяти выплывают предметы и впечатления, как бы воссозданные вновь; порой ему казалось, что он слышит собственный голос и топот резвых детских ног по комнатам, так «же постепенно менявшим свой облик на страницах этих достовернейших тетрадей.
Прежде народу в семье было побольше, но о тех временах даже хроника упоминала очень скупо. Дедушка и бабушка исчезли за каким-то поворотом реки времени, прежде чем Теофиль успел к ним приглядеться. Деда он вовсе не помнил и представлял его себе старичком со старинной гравюры: в шлафроке, в ночном колпаке с кисточкой и с чубуком длиной в метр. Отец свято хранил этот чубук, Теофилю несколько раз удалось подержать его в руках и понюхать. От чубука шел слабый, но явственный запах табачного дыма, который пропитал вишневую древесину и оказался долговечнее человека. Бабушку Теофиль помнил сгорбленной старушкой в черном, которая во время грозы, при громе и молниях, ходила по двору с освященным колокольчиком, чтобы усмирить грозные небеса. Легкий звон и тонкий запах дыма — вот и все, чем держались в памяти Теофиля эти два угасших существа.
Время безжалостно сузило круг семьи. Пани Гродзицкая вошла в нее сиротой, потеряв мать через несколько месяцев после свадьбы, а единственная ее сестра задолго до того уехала с мужем в Америку, в эту удивительную, загадочную страну, где искали убежища всякие мошенники. Там и след ее пропал, так что у них троих во всем мире не было живой души, которая могла бы притязать на их любовь и заботу.
Пани Зофья приготовила мужу второй завтрак, он положил сверток в портфель. Уже надев шубу, он вернулся в прихожую поцеловать жену и пожать руку сыну.
— Не теряй времени! — сказал отец на прощанье.
Вскоре и мать ушла с прислугой за покупками. Теофиль остался один в тихой квартире. Печи уже погасли, безмолвным потоком струилось время, отсчитываемое тиканьем часов; на улице скрипел снег под колесами возов, через окна проникали косые лучи солнца, и в них мерцали пылинки. Теофилю вспоминалось много таких же часов в прошлом; предоставленный самому, себе, он точно так же ничего не делал, ничем не нарушал их покоя, счастливый уж тем, что находится в надежном, теплом уголке, среди привычных предметов, стоявших, сколько он их помнил, все на тех же местах,
Вдруг раздались странные дребезжащие звуки — как будто по зазубринам сложного механизма катился стеклянный шарик; раз-другой даже намечалась какая-то мелодия, но тут неожиданное препятствие опять выбивало шарик из ритма, и наконец он смолк, уткнувшись в тишину, как в выдолбленную ямочку. Это внезапно ожил испорченный, много лет не заводившийся музыкальный ящик с фигурками святого семейства; что-то повлияло на него извне — тепло ли, ржавчина или холод, проникавший сквозь поры в стене, — и ящик на миг пробудился от летаргического сна. Теофиль все ждал, не зазвучит ли опять этот древний механизм, преданный и надежный домашний кумир.
II
Заметив в нескольких шагах перед собой гимназиста, учитель Роек перешел на другую сторону улицы, где не было тротуара и по неровной, скользкой земле трудно было идти. Он был уверен, что это один из его учеников. Того и жди раскланяется, а потом увяжется за тобой, как тень, или засеменит рядом, а то еще и заговорит! Учитель боялся гимназистов, считал их всех наглецами, кроме того, его вообще раздражала молодость тем, что у каждого из этих мальчишек она могла сложиться лучше, чем у него.
Нынче он опять ушел из дому, не допив кофе, от которого отдавало грязной кастрюлей, и если б мог, то никогда бы не вернулся в эти вечно неприбранные комнатенки, почерневшие от кухонного чада и дыма. Двадцать лет назад он женился на девушке, которая была прелестна как ангел, однако нищенское существование превратило ее в сущую ведьму. В первые годы он имел на содержание дома немногим больше ста крон и залез в долги, пожиравшие каждую надбавку жалованья. На третий год появился ребенок — родился, даже не крикнув, прожил несколько дней, обводя глазами закопченный потолок, и умер, так и не издав ни звука, будто понял, что тут для него нет места. Пани Роек рассчитала прислугу, надеясь, что управится одна и сумеет сделать кое-какие сбережения, однако добилась лишь того, что ее руки огрубели и красота увяла у плиты. От непрестанных ссор из-за погреба, чердака, водопровода, грязи в коридоре она стала сварливой, набрасывалась на прислуг и соседок по дому, несколько раз ее вызывали в суд, сгоняли их с квартиры. Все же это был еще период бунта. Пани Роек боролась с паводком жизни, пыталась выбиться наверх. Но в конце концов она сдалась и опустилась на самое дно: целые дни просиживала у сторожих, у прислуг на чужих кухнях и, напичканная сплетнями, возвращалась домой, чтобы сготовить из плохо очищенной картошки и жилистого мяса обед, съесть который мог только сильно изголодавшийся человек.
Учитель Роек скрывал от жены размер своего жалованья. Но делал он это очень осторожно, утаивая из всей суммы только мелочь, что в последнее время составляло четыре кроны пятьдесят два геллера в месяц. Деньги эти он откладывал в ссудо-сберегательную кассу, а книжку носил на шнурке, надетом на шею под рубашкой. Таким способом Роек накопил около двухсот крон, в которых видел залог некоего туманного лучшего будущего. Мечтал он, правда, еще кое о чем: надеялся в ближайшее время получить VIII ранг, но решил дома об этом умолчать...
Уже подходя к гимназии, Роек догадался, что мальчик, шагающий там, по тротуару, — это Теофиль Гродзицкий, из всех гимназистов самый для него ненавистный, так как был сыном его давнего школьного товарища. Восемь лет просидел Роек с отцом Теофиля если не на одной парте, то, во всяком случае, почтя рядом. И теперь его кидало в дрожь при мысли, что он слова встретит Гродзицкого, почувствует на себе взгляд, полный жалости и презрения. Он старался устранить всякую возможность этой встречи и, прочитав в журнале VI класса «А» фамилию «Гродзицкий», едва не пошел просить директора, чтобы ему дали другой класс. Все же Роек этого не сделал, заранее зная, что ничего не выйдет; он только всячески избегал общения с Теофилем, почти не вызывал его, — а вдруг придется поставить плохую отметку, и тогда не миновать на родительском собрании встречи с паном Гродзицким. Теофиль тоже держался настороженно.
— А, Роек! — воскликнул советник, услыхав от сына, кто будет их учить греческому. — Будь начеку! Мне почему-то кажется, что он стал настоящим самураем...
Но это определение плохо подходило к Роеку, человеку, который скрывал свою беспомощность от учеников, отгораживаясь старой, потрепанной тетрадью, где в скупо отмеренных колонках уместилось не одно поколение гимназистов. Кое-как ему удавалось держать их в послушании при помощи греческих неправильных глаголов, однако полной тишины на его уроках не бывало. В классе обычно слышался гул — ученики шептались, хихикали, передавали друг другу книжки и тетради. Никогда не переходя в явный беспорядок, этот смутный гул, сотканный из нетерпения и скуки, отделял тридцать непокорных голов от учителя, стоявшего на помосте кафедры, как на берегу затянутого мглою моря. Усталые его глаза сквозь стекла очков едва различали черты тех, кто сидел в первых трех рядах, а дальше ему уже виделись какие-то призраки, мерещились несуществующие лица; он, случалось, выкрикивал фамилию ученика из другого класса и, лишь услыхав смех, понимал, что ошибся.
Раз за разом чей-нибудь голос извлекал из раскрытой книжки гомеровский гекзаметр, как золотую нить, которая, сверкнув на миг, тут же рассыпалась в прах. Каждый стих учитель Роек дробил на слова, на грамматические формы, затем разжевывал в дотошном, дословном переводе, превращал его в противную кашицу. Мир легенд и поэзии выходил из его рук совершенно изувеченным — унылые руины и пепелища, заржавленное оружие, истлевшие лохмотья, в которых никто бы уже не разглядел тирского пурпура.
Теофиля учитель не тревожил, находя себе достаточно других жертв, и он спокойно читал «Куклу» Пруса. Купил он ее несколько дней назад за девяносто восемь крейцеров, высыпав букинисту на прилавок коробочку одних медяков. Это были деньги, сэкономленные на школьных завтраках, тетрадках и разными другими хитростями — единственный источник доходов, с тех пор как плохое свидетельство за первое полугодие положило конец благоденствию Теофиля. Ему было приказано выписаться из библиотеки, три кроны — возвращенный ему залог — были конфискованы, все книги, не имеющие прямого отношения к занятиям, заперты на ключ — оставалась только школьная библиотека, но что в ней за интерес! Теофиль туда и не заглядывал. Считалось, что библиотека открыта каждую среду с часу до двух, а на деле это выглядело так: учитель Кубиш, веселый старичок, вбегал в комнату, с шумом отпирал шкаф, вытаскивал, что попадется под руку,— никчемное старье в обтрепанных обложках, осточертевшее «чтение для юношества», — и раздавал кучке сопляков, еще питавших иллюзии. Ни поговорить, ни попросить: все вместе — записывание книг в формуляры, шуточки, щелчки, подзатыльники — продолжалось десять минут. Затем учитель запирал шкаф и, крикнув с порога: «Приятного аппетита!» — убегал обедать к дочери, которой боялся не меньше, чем в течение тридцати лет боялся ныне уже покойной жены.
Теофиль быстро скопил эти девяносто восемь крейцеров в коробочке из-под визитных карточек отца и спрятал ее в своей комнате на печке, среди залежей пыли и паутины. Но он не был уверен, что в будущем его ждет такое же везение, — двумя томиками «Куклы» следовало наслаждаться не спеша, как сокровищем, умножить которое уже не придется. Читал он, стараясь не пропустить ни слова, а если кто-нибудь отрывал его, снова перечитывал последний абзац. Начиналась как раз глава шестая, где после описания ранней весны, занимающего строчек пять, сказано: «Около пяти часов пополудни. Панна Изабелла сидит в своем будуаре и читает последний роман Золя "Une page d'amour"»... Теофиль, полагая, что обязан понять каждое слово столь дорого доставшейся книги, вырвал из тетрадки клочок бумаги, написал эти слова и толкнул сидевшего впереди Кальта, который ходил на уроки французского.
— Напиши, что это значит, — шепнул Теофиль, просовывая записку под партой.
Но в эту минуту Роек произнес его фамилию. Теофиль схватил впопыхах книжку соседа, Смолика, и тот показал ему пальцем, где читать. К счастью, Теофиль этот отрывок выучил; увидав, что стихи знакомые, он успокоился и читал без запинки. На третьем гекзаметре учитель его остановил. Теофиль уже собрался переводить, как вдруг Роек сел за кафедру, уставился в окно и начал говорить, будто и не ученикам, а куда-то в пространство над гимнастической площадкой во дворе. Класс не сразу заметил, что он читает лекцию, — кто бы мог этого ожидать! В первые минуты все притихли, недоверчиво переглядываясь, потом кто-то громко захлопнул «Илиаду», за ним другой, и вскоре половина класса уткнулась в учебники и тетради, готовясь к следующему уроку — математике.
Роек, не привыкший долго говорить, умолкал, задумывался, постукивал карандашом, временами казалось — вот-вот остановится совсем. Но он с трудом двигался дальше, объясняя, что за последним стихом прочитанного Теофилем отрывка идет позднейшая интерполяция и только на следующей странице находится продолжение так, называемой «Патроклеи», одной из древнейших частей поэмы. Теофиль все еще стоял и с удивлением поглядывал на эту страницу — темный лес! Сзади кто-то тянул его за мундир, чтобы садился, но он не терял надежды, что учитель позволит ему перевести, как Фетида выходит из моря со свитой нереид. В этом отрывке было одиннадцать стихов — почти сплошь имена, — стихов нисколько не трудных, напевных и звучавших по-польски почти так же, как в оригинале. Но они были осуждены на уничтожение, Роек им отказал в подлинности. А когда выяснилось, что и вся сцена с Фетидой — ненужное добавление, Теофиль, подавленный и разочарованный, сел на место.
Никто из этих лоботрясов знать не знал, что старый сухарь по-своему справляет праздник весны. Видно, растревожил его запах шинелей, висевших на вешалке у печки и от тепла источавших легкий парок, и до того это проняло старика, что в нем воскресли воспоминания об университетской аудитории, где он когда-то сидел возле такой же вешалки и с толстой тетрадью на пюпитре слушал первые лекции — юный, старательный, полный веры. Фамилия Гродзицкий, которую он нечаянно назвал, безжалостно вернула его к прошлому. Вспомнились мечты о самостоятельной, творческой научной деятельности — когда-то отец Теофиля даже завидовал ему, Из тех далеких времен и явились мысли его лекции, такие старые, что уже казались Роеку его собственными.
В неуклюжем изложении учителя Роека отразился столетний самозабвенный труд немецких филологов, которые наглотались из тоненькой книжечки Фридриха Августа Вольфа дурманящей отравы. Во всех университетах, с десятков кафедр, почтенные старцы вводили юношей в заблуждение, которому сами посвятили жизнь, а те, в свою очередь, наживали себе геморрой и ордена в поисках «Пра-Илиады».
В памяти преданных учеников жили вожди отважной охоты за привидениями: Готфрид Герман — первый, кто искал ядро поэмы; Карл Лахман, который первым раскроил «Илиаду» на шестнадцать частей; бесстрашный Бете, многие годы рывшийся, как крот, в тексте «Илиады», пока не рассыпал построчно все песни, чтобы сложить их заново и, распределив на старшие и младшие, первоначальные и добавленные, установить в конце концов 1400 стихов подлинной «Илиады» и более десятка отдельных поэтических повествований; фон Виламович-Меллендорф, ученый с непоколебимым авторитетом, подобно геологу раскапывавший Гомера и открывший под одиннадцатью слоями наидревнейший эпос, который сохранился почти так же хорошо, как силурийский период; добряк Эдуард-Гуго Майер, который разрешил древний спор городов и островов за честь быть родиной Гомера, наделив разными частями «Илиады» поэтов Смирны, Кум, Хиоса; возвышенный Эдуард Шварц, которому было дано узреть подлинную «Одиссею» в ее, так сказать, неземном облике, им же созданном; Шварц, открывший всех поэтов, что переделывали и расширяли поэму о многострадальном скитальце, и обозначивший их, как заговорщиков, буквами: О, К, Т, F, L, вплоть до В, того самого виршеплета времен Пизистрата, того пачкуна, которому мы и обязаны этой дрянной книгой — нынешней «Одиссеей».
С поразительным упорством сотни, тысячи умов устремлялись в этот тупик науки. Ни один гекзаметр не избежал особого разбора или статьи в научном журнале, и если ему удавалось укрыться от нескольких поколений университетских светил, он в конце концов становился добычей провинциальных учителей, которые, вроде браконьеров, шли по следам большой охоты и в своих гимназических программах затевали поединки с полудюжиной дактилей и спондеев. Литература о Гомере росла, как коралловый риф, в ней шел тот же процесс недолговечной жизни и минеральной смерти: книги и брошюры множились, пожирали друг друга и умирали на библиотечных полках, завершив за год, за месяц, порою за несколько дней круг бесполезного своего существования. Это удивительное массовое безумие длилось весь XIX век и проникло повсюду, где только был культ немецкой науки. Королевско-императорские университеты ей покорились вместе с австрийской армией под Садовой.
Учитель Роек также пал жертвой завоевателей, как все его коллеги — и старшие, и младшие, и те почтенные пенсионеры, которые оставляли предисловия к школьным изданиям Гомера. Впрочем, унылая эта теория звучала в лад его хандре и разочарованию. Ему было приятней иметь дело с чем-то безымянным и вневременным, и, случись ему над этим задуматься, он бы ощутил благодарность к людям, избавившим его от гения, которым надо восхищаться.
Звонок прервал Роека в середине фразы, он умолк, как рассказывал дома Теофиль, «на запятой», и так никогда и не докончил лекцию. Теофиль стал относиться к учителю с еще большим недоверием, это было одно из тех неосознанных и неотвязных чувств, которые все усиливаются, как бы потому, что их невозможно выразить словами.
— Совершенно не понимаю тебя, — пожал плечами советник. — А ты, Зося, слыхала, чтобы кто-нибудь так защищал существование Гомера?
Пани Гродзицкая, кладя мужу на тарелку два пухлых шницеля, беспомощно улыбнулась:
— Мне кажется, Теофиль, ты мог бы в этих вещах доверять отцу и учителю.
— Мой мальчик, — поднял вилку советник, — primо: не придирайся к Роеку, ибо твое знание греческого не дает тебе на это никаких прав; secundo: не принимай так близко к сердцу мнения ученых, ведь их высказывают только для того, чтобы другим ученым было что опровергать; tertio: учись прилежно, это даст тебе кусок хлеба, но помни, — ты вовсе не обязан верить во что-либо, кроме того, чему велит верить католическая церковь.
III
Выйдя из костела Марии Магдалины, Теофиль увидел, что мир преобразился. Только что землю окутывала серая мгла, веяло оттепелью, а теперь чуть подморозило, кристально чистый воздух освежал легкие, и небо бесшумно спускалось на землю белой лавиной снега. Теофиль подставил рукав шинели, чтобы поймать крупные звездчатые снежинки, которых за зиму почти не видал. Сбежав с откоса, он повернул на улицу Коперника, желая скорей уйти подальше от дома. На крики товарищей он не отзывался, — ему хотелось побыть одному, идти в этот призрачный белый город, что виднелся внизу. Впереди шли две барышни, говорили они по-немецки; Теофиль расслышал:
— Die Luft ist sehr angenehm.
Он даже вздохнул поглубже, чтобы ощутить вкус морозного, увлажненного снегом воздуха. Одна из девушек, та, чьи слова он услыхал, обернулась и глянула прямо в глаза Теофилю лучистой чернотой зрачков из-под заснеженных ресниц. Он ускорил шаг и обогнал девушек, чтобы не подумали, будто он их преследует. Те заговорили шепотом — наверно, о нем. Он чувствовал их взгляд, подмечающий все недостатки . его наряда: старую фуражку с нелепыми клапанами, опускавшимися на уши; потертую ниже спины шинель, фалды которой бесформенно торчали из-под хлястика; стоптанные каблуки. Он знал, что нет в нем даже того скромного изящества, какое при желании можно придать гимназической форме, и страдал от этого. Уходил в прошлое возраст невинности, когда Теофиль беззаботно просиживал свои грубошерстные серые брюки, пока они не становились сзади прозрачными, как паутина, когда протирал локти, терял пуговицы в пылу драки, швырял фуражку за печь. Сегодня утром он впервые почувствовал, что ему нужна щетка, и обнаружил ее там, где она находилась всегда, — а он раньше и не знал этого, — в стареньком кармашке из зеленого сукна, висевшем в прихожей.
Он оглянулся — девушки исчезли за пеленой снега. Не видя их, не чувствуя на себе их взглядов, он с упоением вспоминал черные глаза, блеснувшие ему на румяном личике в меховой опушке. «Die Luft ist sehr angenehm». Никогда еще немецкая речь не звучала так приятно. До сих пор она доносилась до него из-под порыжевших от табака усов учителя Майера — нудная и брюзжащая; или из чащи чернойбороды учителя Клейна — напевная и претенциозная; или из деревянных челюстей учителя Павлика — жесткая и скрипучая; а у самого Теофиля немецкие слова будто пухли во рту и вылетали булькающими, нескладными фразами. Но вот же; могут они иметь и форму, и музыкальность, и аромат! От них снег становился еще более звездчатым,, воздух — более прозрачным и голубым, наполняя грудь вольной, широкой мелодией!
На улице Карла-Людвига он отряхнулся, даже с фуражки смахнул налипшую наверх белую горку. Время гулянья еще не наступило, прохожих было мало и совсем другая публика, не та, что в полдень заполняет тротуары от Банка до Академической. Этот Львовский «салон» был теперь весь покрыт снегом, будто чехлом, и убирать снег не спешили. Но вот уже шагает со стороны театра полицейский, совершая обход, и звонит у ворот дворникам, чтобы выходили с метлами. Латунный его полумесяц вскоре скроется на мостовой, меж фиакрами и трамваями, уступая место восходящим офицерским звездам. Пока их не видно — денщики еще начищают сапоги, доводят до ослепительного блеска шпоры, ножны, пуговицы, которые должны пленять взоры дам и девиц, идущих к обедне.
В глубине души Теофиль завидовал воинам Его Императорского и Королевского Величества, он разделял общее мнение, что их стройные талии, танцующий шаг, плавные взмахи рук, когда они отдают честь, — это верх изящества. Больше того, он решил, по их примеру, носить фуражку набекрень, если только при весеннем обновлении гардероба ему удастся заполучить фуражку не синюю, а черную и чуть повыше, чем положено гимназическим уставом.
Шел он все вперед, без цели, и очутился у театра. Из еврейского квартала выходили старые евреи в поношенных цилиндрах, не спеша направляясь к месту своих ежедневных встреч на Гетманских валах. Переходя на другую сторону, Теофиль вспомнил, что по польскому на дом задана тема: «Исторические памятники города Львова», и решил осмотреть их получше, начиная с рынка.
Там было пусто, как в праздник. У ратуши не слышно рыночного шума, и стоит она, сонная, в прямоугольнике серой ограды, зевая раскрытыми воротами, через которые никто не входит. Нептун, похожий в снежном кожухе на старосветского шляхтича, заморозил в этот день свой фонтан, обычно журчавший по камням двумя струями. Башня ратуши будто выросла, будто еще чуточку вытянулась, чтобы заглянуть в более интересные уголки города; по галерее на ее верхушке часовой в длинной шубе меряет без устали шагами отведенный ему квадрат, под ногами у него тикают часы, над головой застыло белое небо — узник снежных просторов!
Теофиль уделил рынку только один взгляд, словно приотворил дверь в огромное, холодное, безлюдное помещение; темным коридором протянулась в глубину Русская улица с далеким силуэтом Валахской церкви. Потом он повернул к собору и начал с капеллы Боймов его обход, но сразу заскучал. Его уху ничего не говорила тишина переулка у собора, глаз равнодушно скользил по фасаду, изъеденному, источенному барельефами. Он. пустился прочь от каменной громады собора, словно боялся, что она обвалится. Веселая дорога, открывшаяся ему с первыми снежными звездочками, затерялась среди городских улиц. Как будто он заблудился. То и дело на глаза ему попадались пресловутые «исторические памятники»: костел бернардинцев, колонна блаженного Яна из Дукли, костел иезуитов, — и тоска все сильней овладевала им. Весь город стал серым и нудным, как урок учителя Маевского.
Этот отменно вежливый педагог, на приветствия гимназистов снимавший размашистым жестом шляпу и весьма искусно избегавший обращения «ты», сковывал учеников своей учтивостью, на его уроках они сидели тихо и слушали со вниманием, достойным лучшего применения. То был безупречный чиновник от науки. Если бы вдруг министерство просвещения оживило параграф своих инструкций, где говорится о преподавании родного языка, и одело бы этот параграф в костюм песочного цвета, он не сумел бы вести себя лучше, чем учитель Маевский. Каждый урок был тщательно разработан, охватывал предписанное количество страниц учебника и опирался на хорошо изученные, внесенные в реестры документы — ошибок быть не могло. Удивительное дело, но, кроме закоренелых двоечников, никто не нарушал этого порядка, у всех в голове литература аккуратно располагалась по эпохам, периодам, столетиям — от сказания о св. Алексее до заданных в субботу «Жнецов» Шимоновича. Директор любил показывать инспекторам и высшему начальству образцовые уроки Маевского, — никаких неожиданностей, все «вполне современно», учитель не заглядывает в журнал, урок ведется, так сказать, музыкально, ибо движение встающих и садящихся учеников напоминает движение клавиш. Каждому сановнику из Школьного совета врезалась в память внушительная фигура учителя с румяными щеками и светлыми усиками.
Чтоб не иметь лишней мороки, Теофиль стал у Маевского одним из лучших учеников. Далось это ему легко. Прежде всего, тетрадь для домашних заданий была у него всегда в образцовом порядке, притом без всякого принуждения — он унаследовал от отца любовь к канцелярской аккуратности. Остального он добился столь же недорогой ценой —просто умел привлечь к себе внимание как раз в тот момент, когда мог выскочить с ответом, и удачным, и во вкусе учителя. «Гродзицкий ведет себя на польском, как девка», — таково было мнение усатого второгодника Беняша, и Теофиль чувствовал, что доля правды тут есть, хотя имел весьма смутное представление о женщинах этого сорта.
Снег перестал, на улице Карла-Людвига толкался, шумел народ, но Теофиль этого почти не замечал. Он углубился в мрачную пустоту, которую с неких пор обнаружил в себе, и упивался там горечью и печалью. Чего ему не хватало, он не мог сказать и мучился этим бесконечным томлением, не умея еще выразить его словами. Он находился на том этапе жизни, когда человек жаждет быть хоть в чем-нибудь причиной, а не только следствием, когда возникает страх, что можешь так и остаться до конца дней лишь изумленным и беспомощным зрителем.
Короткая, узкая, крутая улица Сенкевича была под стать его угнетенному настроению. Неприбранная, кругом кучи снега, лежащего с начала зимы, с одной стороны тянется забор, сплошь залепленный афишами, воняет мочой, навозом и потом лошадей, дремлющих в упряжке пролеток, пока их владельцы сидят в трактире, источающем через распахнутые двери кисло-соленые запахи. Теофиль всегда сворачивал на эту улицу ради витрин магазина Пропста. Там висели длинные ряды открыток с видами, цветные репродукции, фотографии скульптур, и Теофиль каждую неделю выбирал себе новый идеал: какую-нибудь мечтательную или кокетливую головку, выглядывающие из цветов светлые кудри, белое плечико, которое он мог бы осыпать поцелуями. Но нынче он об этом вспомнил, уже пройдя половину улицы, а возвращаться не хотелось, да и перейти через грязищу мостовой было немыслимо. Еще минута, и он стоял у ворот пассажа Миколаша.
Лоточник-горец в длинной овчине бросал на раскаленный железный лист пригоршни каштанов.. Это была одна из тех извечных фигур, которые Теофиль помнил с первых дней сознательной жизни. Сколько книжек в конце каждого года превращалось в никелевые монеты и медяки, исчезавшие затем в кожаной сумке этого поставщика ранних черешен, вкусных коржиков, пряников, шоколадок! Теофиль не был ему абсолютно верен, заглядывал и в другие киоски, ларьки, кондитерские, разбросанные по городу как придорожные корчмы, но все же лоточник из пассажа был главной статьей его расходов. Теперь же Теофиль проскользнул мимо, так как в кармане не было ни геллера.
Всякий раз, заходя в пассаж, он испытывал волнение, будто в ожидании чего-то необычайного. Столько событий произошло под этой стеклянной крышей, под покровительством загадочных фигур, щедро размалеванных пурпуром и золотом на двух огромных картинах, которые размещались под центральным сводом! Здесь Теофиль впервые увидел дикого кабана у порога ресторана Илькова; здесь он любовался водолазом в круглом шлеме из отекла и меди, в резиновом костюме и тридцатикилограммовых ботинках, который нырял в большущую кадку с грязноватой водой и отыскивал на дне крейцеры, что бросала ему публика; здесь его трижды приводил в восторг папуас с белой копной волос и красноватыми белками, который двумя-тремя змеевидными движениями освобождался от кандалов, цепей и колодок; здесь видел он карликов и невероятно толстых девиц, весивших сто пятьдесят кило, и сиамских близнецов, и негров с татуировкой, изображавшей сражения, леса, слонов. В этом пассаже веяло ароматом далеких миров, который в захолустный Львов доносился лишь изредка и мимолетно. Но вот однажды открылся более широкий просвет и Теофиль впервые увидел фильм. Было ему восемь лет. Быстро мелькающие кадры изображали эпизод русско-японской войны — «Нападение хунхузов на поезд», и публика, сочувствовавшая, как и весь Львов, Японии, кричала в конце сеанса: «Банзай!» Все это продолжалось пятнадцать минут, стоило двадцать крейцеров, снилось потом ночью и повторилось не скоро. Только через год в пассаже открылся настоящий кинематограф, но прошло еще несколько лет, пока Теофиль стал достаточно самостоятельным, чтобы туда ходить. Вот и теперь у входа в кинематограф стены залеплены афишами, извещающими о новой программе, а наверху висят гигантские фотографии Псиландра, Асты Нильсен, Макса Линдера, Хенни Портен, чародеев и волшебников новых времен.
Теофиль мог бы пройти по пассажу с завязанными глазами, ориентируясь по запахам. Сейчас исчезнет запах кофе и табака, доносящийся из кафе, сразу за ним узкой полоской пересечет дорогу свежий, сочный аромат фруктов, выставленных в корзинах перед лавкой Шлейхера, и наконец аптека Миколаша наполнит воздух запахами лекарств. В этой последней полосе, строгой и неуютной, над раковиной без воды, в холодном сквозняке, веющем из двух ворот, стоит белая мраморная девушка.
Уже много лет служит она предметом споров в магистрате, как некогда, на склоне античности, статуя Победы в римском сенате. И точно так же выступают тут свои святые Амвросии и Симмахи, воюющие из-за нее под смех и рукоплескания галерки. Благочестивый профессор с седеющей гривой, с красными пятнами на скулах и горящими глазами аскета, терзаемого плотскими соблазнами, каждую неделю мечет громы против этой очаровательной особы и стучит кулаком по пюпитру, готовый схватить молот и раздробить белый камень, — так выступал бы он на Форуме, когда бы судьба, дав ему почти латинскую фамилию, даровала бы заодно более подходящую для его страстей эпоху. Почтенные печатники, жестяники мясники, заседающие в магистрате, остаются глухи к его словам, радикалы и социалисты потешаются; даже те, кто, возможно, разделяет его мнение, не спешат выступить с поддержкой, боясь стать посмешищем, а он тем временем грозит, заклинает, ломает руки — ведь враг не дремлет, тысячи юных душ могут в любую минуту оказаться в его власти и погибнуть из-за этого символа Греха!
Теофиль, как всегда, на миг задержался перед мраморной своей ровесницей и, не посмотрев на лицо, обвел взглядом ее нагие бедра, живот и груди.
IV
Гости явились почти все сразу, в прихожей стало людно и шумно, повеяло морозцем обсыпанных снегом шуб, пол у дверей покрылся мокрыми пятнами. Каждый гость повторял те же слова о метели, о мартовских капризах погоды. Гродзицкий помогал раздеваться, обнимался с мужчинами, целовал руки дамам, благодарил за поздравления. Но подарки ему решили не вручать, пока не пройдут в комнаты.
— Там, при свете, выяснится, кто сильней любит нашего Альбина, — сказал, советник Бенек.
Сам он принес трость с костяной ручкой в виде конского копыта. Трость была тяжеловата, но Гродзицкий похвалил — отличная трость для загородных прогулок. А еще преподнесли портсигар, и зажигалку, и карандаш с серебряным наконечником, и стеклянных слоников — подарок от барышень, на счастье.
Юные братья Файты смущенно держались в стороне. Они ничего не принесли, полагая, что счетоводам-практикантам неприлично делать подарки советнику, особенно, когда впервые приходишь в дом. Зато они надели фраки, и это произвело хорошее впечатление. Впрочем, оба брата были здесь с боку-припеку, их привела с собой сестра. Алина Файт училась в гимназии вместе с дочкой Пекарских, у которых Гродзицкие и познакомились с нею.
Две стены гостиной, угловой комнаты дома, были наружные, а за третьей находился коридор; ветер продувал ее насквозь, и топить здесь надо было больше, чем в других комнатах: круглая изразцовая печка чуть не трескалась от жара. Она была тех же цветов, что и стены, — голубой с золотом, любимые цвета пани Гродзицкой, царившие здесь повсюду: голубыми были обивка мебели, ковер на полу, даже никогда не зажигавшиеся витые свечи в большой висячей люстре, а потолок изображал небо со стайками белых облачков, похожих на ватные усы. Советник Пекарский, развалившись в кресле, запрокинул голову, да так и загляделся на черные крестики ласточек, порхавших по яркой лазури.
Последней пришла Паньця. Это ласковое имя пристало к ней из-за двух лохматых пинчеров, беседуя с которыми она так себя называла, — бедняжки давно уже покоились под деревом на Погулянке, каждый в картонной коробке и в отдельной могилке, она сама копала землю кухонным ножом. Ее настоящее имя — Малгожата Пайкарт — настолько от нее отделилось, что когда Гродзицкий посылал ей открытку с новогодними пожеланиями, цветную картинку, на которой дряхлый старик с длинной седой бородой, с осыпанной снегом елочкой на плече, уступал дорогу голому мальчугану, несущему рог изобилия,— он, надписывая адрес, всегда секунду колебался. Именам этим наделил ее полвека назад молодой офицер, пьяница и мот, который через год после свадьбы оставил Паньцю семнадцатилетней вдовой, покончив с собой в ночь под рождество выстрелом в рот. Никто уже не помнил, как она сумела предать забвению разбитую, окровавленную голову, да никто бы и не подумал, что у этой спокойной, благодушной, бодрой старушки могли быть в прошлом такие ужасные события. Корсет, который она не снимала даже ночью, помогал ей держаться прямо — это был ее панцирь, не хуже всякого другого; она хотела быть уверенной, что грядущий день не застанет ее согбенной.
Паньця принесла имениннику суконные туфли, ею самой вышитые; она и советник поцеловали друг друга в плечо, и сразу же Паньця привлекла к себе Теофиля. Он был ее «голубой принц», ее «крошка», ее «горюшко», одной мимолетной лаской она окутывала его атмосферой детства, осыпая воспоминаниями, словно поцелуями. Она была частью самого далекого его прошлого. Сколько Теофиль себя помнил, он во все времена видел рядом с собой ее худощавое лицо и слышал запах табака, которым она была пропитана. Теперь она одна обратила на него внимание и вытащила из тени, — он стоял, укрывшись листьями пальмы, мечтая о том, чтобы под шумок улизнуть в свою комнату.
Паньця еще и папиросу не докурила, как Гродзицкая пригласила всех к столу. Из гостиной взяли несколько кресел — в столовой не хватало стульев. Стол раздвинули, гостей можно было усадить свободно, соблюдая, разумеется, надлежащую иерархию. Молодых Файтов, однако, не спихнули на конец стола, — было много особ женского пола, которых нельзя ведь сажать вместе. Алине даже досталось почетное место рядом с капитаном Секерским, что, возможно, было не очень хорошо по отношению к капитановой дочке. Та оказалась в самом конце, но зато где бы сыскать для нее лучшего соседа, чем Теофиль? Почти ровесники, играли когда-то в песке, в Иезуитском саду. Но увы, это не очень их сближало. Теофиль понятия не имел, о чем бы заговорить. Можно, конечно, спросить — трудно ли у них учиться, много ли задано на понедельник? — но у Теофиля хватило ума сообразить, что тема эта не слишком увлекательна. К счастью, его выручали обязанности хозяина: он приносил бутылки, наливал гостям вино — отец не любил вставать из-за стола и желал, чтобы Теофиль все время был под рукой. Когда же ему удавалось склониться над своей тарелкой, о которой заботилась мать, он краем уха ловил отдельные фразы старшего Файта. Да, этот черноглазый господин с бакенбардами — настоящий кавалер! Видимо, Нюся Пекарская, сидевшая слева от него, больше интересовала Файта, но и соседка справа, дочка капитана, не могла на него пожаловаться. Теофиль скорее чувствовал, чем слышал, что это и есть настоящая беседа с барышнями, беседа в лучшем вкусе, с многозначительными намеками, догадками, настояниями, уверениями, коварными замечаниями, вопросами, не требовавшими ответа, приглушенным хихиканьем, обиженными минами, удивленными взглядами, внезапными паузами, перешептываньем,
Говорил Файт вполголоса, не потому, что боялся пани Гродзицкой, которая сидела рядом с Теофилем, но поминутно выбегала на кухню, — нет, Файт говорил вполголоса, чтобы, упаси боже, не помешать каким-либо неосторожным словом беседе в высших сферах стола. Там советник Бенек, управившись с ценами на шелковую обивку «дюшес» и на простыни из голландского полотна — предметом приятной беседы меж Паньцей, женой капитана и пани Пекарской, — насмехался теперь над полицией.
— Да такого даже в «Смигусе» не встретишь! Вообразите, господа, полицейский арестовал парня, который расспрашивал людей, почему у одних солдат штаны красные, а у других голубые. Потащил беднягу в комиссариат — он, мол, шпион. Я записал номер этого полицейского, поставлю на это число в лотерее.
Советник потянулся к карману, но на сей раз он был не в обычном своем пиджаке, а в парадном сюртуке. Вспомнив об этом, Бенек на миг умолк, — да тут кстати прислуга просунула меж ним и Паньцей большое блюдо с индейкой. Капитану его рассказ пришелся не по душе:
— Если бы вы, пан советник, знали о русском шпионаже то, что мы знаем, вы бы не насмехались над этим полицейским.
— Прошу объяснить мне, пан капитан,—вмешался Гродзицкий, — в чем тут опасность для монархии, если неприятель узнает, что наши солдаты носят штаны разных цветов?
— Можно установить, какие у нас есть войсковые соединения.
Советник Бенек, который уже успел проглотить отменный кусок индейки, не питал никаких опасений.
— Через пять дней, господа, — молвил он, подняв вилку, — произойдет демобилизация русской армии.
— В котором часу? — съехидничал капитан.
— Думаю, что в полдень. После обедни. Нет, нет, я отнюдь не ясновидец, сударыня, — обратился он к капитанше. — Это всем известно. В этот день будет юбилей русской царствующей династии, и демобилизация задумана как грандиозная мирная манифестация.
— Вот-вот, очень точно сказано: манифестация!
Капитан был не в духе — уже разливали вино, а перед ним еще не появилась стройная бутылка клостернейбургера. Неужто забыли, что он ничего другого не пьет? Нет, не забыли, и капитан, хлебнув глоток своего излюбленного вина, мог бы подобреть, но ему трудно было согласиться на слишком долгий мир. Голова его уже изрядно поседела, однако при каждой раздаче чинов золотой воротник все доставался другим. Карьера капитана двигалась трудными путями — по всяким лестницам, коридорам, кабинетам, сколько этажей надо обойти, на скольких столах полежать под сукном! Этажи, коридоры — вот что такое мир! А война — это просторная арена, открытое поле. Удача льнет к человеку, как собака. Вовремя отдал приказ, пробыл минутой больше или меньше где-нибудь в лесу, за селом или за холмом — и ты получил то, до чего вовек не дослужишься ни в казармах, ни в канцелярии. Так говорил себе капитан Секерский, время от времени щелкая каблуками: под столом слышался тихий звон шпор, как бы голос доброго духа, у которого находишь и поддержку и понимание.
Но во главе стола раздался другой звон, куда более громкий — это советник Бенек трижды ударил ножом по резному бокалу и встал:
— Дорогой наш именинник! Имя Альбин, или Альбинус, происходит от латинского «albus», что означает «белый». Хорошее имя дали тебе при крещении, любезный советник. Правильное имя для твоей души, чистой, как снег. И для твоего сердца.
Так начал советник Бенек, и Теофиль, стоявший с откупоренной бутылкой, заметил, что Нюся Пекарская прикрыла рот салфеткой, будто скрывая смех. Ну, конечно, советнику и думать нечего растрогать эту девицу с копной волос, как солома, желтых, и, как сено, сухих и жестких. Под ними скрывался убогий, суетный мозг, который, подобно ветряной мельнице, перемолол все книжки, изданные с тех пор, как советник перестал читать. Нет, это явно не для нее, все эти речи о голубином сердце, о голубке, воркующей в гнездышке (взгляд в сторону хозяйки), о птенце, у которого растут крылья (взгляд на покрасневшего Теофиля — ах, бедняжка!), и этот неожиданный поворот — есть-де среди белых птиц одна, и она у всех нас в сердце, это среброкрылый орел! Нет, видно, никогда не придет время, чтобы вот эта Нюся Пекарская слушала подобные речи так, как ее мать, которая сидит с покрасневшим носом и, вздыхая, смотрит на стол.
Наконец-то можно встать, можно чокнуться и смеяться, словно и тебя расшевелило общее веселье, — его советник Бенек запланировал в своем орнитологическом экскурсе, внезапно перейдя от высоколетных птиц к индейке на блюде. Пропели «Сто лет», особенно отличились при этом юные Файты, и подогретые их пылом гости повторили здравицу целых пять раз. Теофиль еле успевал наполнять рюмки, их выпивали залпом. Прислуга, жонглируя подносом, хватала из-под рук тарелки. Пани Гродзицкая нарезала ореховый торт. Эту минуту и улучила Алина Файт, чтобы шепнуть хозяйке несколько слов, — братья уже давно делали ей знаки.
Гродзицкая, застигнутая врасплох, сперва взглянула на Алину с недоумением, потом словно очнулась:
— Ну, разумеется, дитя мое! Я буду очень рада. А где ж эта штука?
— Мы оставили ее у дворника.
— Нет-нет! — вскричала Гродзицкая, видя, что один из Файтов бежит в прихожую. — Сейчас я пошлю прислугу.
Это был приготовленный Файтами сюрприз — граммофон. Они одолжили его на вечер у знакомых, вместе с дюжиной пластинок. Но в коридоре, подойдя к дверям Гродзицких, вдруг испугались своей дерзости и упросили дворника не выдавать их. Теперь они целовали руки хозяйке, уверяя, что это самый тихий граммофон, тише не бывает. Гродзицкий, глядя на огромную красную трубу, заподозрил в их словах некоторое преувеличение, однако и он не протестовал.
— Просто счастье, что над нами живет астроном, — на ночь он уходит в обсерваторию.
— Интересно, — хихикнула Нюся, — можно ли о таком человеке сказать: ночная птица?
— Побойся бога, — рассердилась Паньця, — это, наверно, очень ученый человек.
— Не знаю, — сказал Гродзицкий, — я только один раз с ним беседовал. Он был тогда вне себя от возмущения — кого-то из его коллег-профессоров повысили в ранге. Согласитесь, Паньця, что сидеть у телескопа, смотреть на звезды, в бесконечность, и при этом думать о каких-то жалких чинах — не бог весть какая возвышенная философия.
— А у него самого какой ранг? — спросил советник Бенек.
— Шестой.
— Фью, фью, фью!
Советник Бенек, еще не достигший таких высот, был изумлен. А он-то полагал, что у астронома должен быть ранг куда ниже! И советник Бенек с почтением взглянул на потолок.
Граммофон нарушил чинный порядок празднества, хозяин, как мог, сократил свой тост, в котором благодарил гостей, и, чокнувшись с Паньцей, выпил за их здоровье, А красная труба меж тем заливалась на разные голоса. Мужчинам постарше поправилась певичка, ошеломительно быстро тараторившая песенку «Бум-цик-цик» — так и виделась пухленькая, верткая дамочка, беспечная, плутоватая, задорная, с огоньками красного в туалете. Гродзицкого же больше трогало «Lеise flehen meine Lieder», — мягкое меццо-сопрано звучало нежно и грустно, вам мерещились голубые-глаза на бледном личике с изящными чертами. По просьбе именинника, после нескольких монологов и залихватской «Фидра-фидра», эту пластинку прокрутили еще раз.
Тем временем Гродзицкая с помощью Теофиля поставила в гостиной два карточных столика — один для преферанса, другой для «лабета», в который она села играть с Паньцей и капитаншей. В столовой осталась молодежь и советник Пекарский — он не играл в карты и не курил. Грузный, сонный, он молча сидел в кресле; перед ним даже не извинились, когда надо было отодвинуть стол к стене, чтобы освободить место. Старший Файт, заметив, что Теофиль хочет уйти, кинулся к нему:
— Очень прошу вас остаться с нами. Вы будете танцевать с панной Зосей.
— Я не умею танцевать, — сухо ответил Теофиль и, нахмурясь, пошел в гостиную.
Его ответ не был ложью, не был и правдой. Танцевать Теофиль никогда не учился, но был убежден, что сумел бы не хуже других. Его так и подмывало сделать ловкий поворот на цыпочках, икры пружинились, будто наэлектризованные, по телу пробегал ток — казалось, нет ничего проще, чем войти в столовую, смеясь обнять Зосю и очаровать всех своим невиданным искусством. Граммофон играл вальс. При переходах мелодии что-то в Теофиле то успокаивалось и затихало, то снова как бы начинали тревожно переворачиваться белые страницы, которым суждено остаться пустыми.
Он выпил украдкой рюмку вина. Стало легче, свободней, еще минута — и он очутился в совсем других краях, где одним усилием мысли можно вознестись на недосягаемые высоты и упиваться горечью и презрением. Но долго он там не удержался, его вернул на землю ласковый взгляд матери.
— Почему ты не веселишься? — шепнула она.
— Мне здесь очень хорошо, — ответил он, наклонясь к ее уху.
И ему точно стало хорошо. Как славно шелестят карты и звенят монеты, падая на тарелочку из папье-маше, как приятно дымят папиросы Паньци! Глядя на движения ее рук с розовыми, будто ломтики ветчины, ладонями, Теофиль вспоминал вечера, которые проводил у нее, начиная лет с семи. C нежностью представил он себе ее комнату, где столько раз наблюдал за игрой в карты и где у него была лишь ровесница — пастушка с вышивки, пастушка с ягненком и порхающим над ее головой мотыльком. Часами сидел он между матерью и Паньцей, пока сон не укладывал его на большой, просторный диван, где всегда валялось начатое шитье, а в спинке торчали иголки, и откуда его стаскивали на рассвете, заспанного, дрожащего, и потом они долго-долго шли домой по пустынным и прохладным улицам, — где-то вдали тарахтели возы, в вышине звучал колокольный благовест, и они шли через скверы, где пахло росой и громко щебетали птицы. Теофилю вдруг захотелось поспать на том диване, походить в коротких штанишках.
Чтобы познать очарование собственного детства, вовсе не надо прожить полжизни. У Теофиля бывали минуты щемящей тоски по маленькому мальчику, который все видел по-другому, слышал по-другому, был сам чем-то совсем другим и для себя, и для окружающих, чем-то куда более привлекательным, нежели этот нескладный подросток в толстых темно-серых брюках и темно-синем мундирчике с двумя золотыми полосками на бархатном вороте. Тот малыш был во всех отношениях понятней, был существом ярким, уверенным в себе, а то, что отражается сейчас в зеркале напротив и глядит на него сквозь пелену дыма, вселяет только уныние. Зеркало будто показывало Теофилю его внутреннее состояние и ничего не говорило о густых каштановых волосах, о блестящих глазах под изящными дугами бровей, о прелестном овале лица, алых губах и белоснежных зубах, открывающихся в улыбке, горечь которой чувствовал он один.
Сидевший за другим столиком отец позвал Теофиля налить вина. Мальчик поэтому не слыхал, как капитанша сказала его матери:
— Такому личику любая девушка позавидует. Вот будет когда-нибудь красавец мужчина!
В столовой прекратился рев граммофона, и Теофиль, заглянув туда, увидел приготовления к новой забаве. Посреди комнаты поставили ряд стульев, барышни и молодые люди уселись друг за дружкой, втянули в игру и Теофиля с криком: «Телеграф!» Ведущим был старший Файт, он сидел сзади. Перед ним сидела сестра, и для начала он ущипнул ее за щеку, что немедленно, повторили все остальные. Так и пошло: ерошили соседу волосы, тянули за уши, щекотали затылок, никто не знал, что его ожидает через мгновение, что делается позади, — обернешься, плати фант. Вот сидевшая за Теофилем Зося noцеловала его в шею. И он, не раздумывая, чмокнул сидящую впереди Пекарскую. Через минуту опять поцелуй в губы. Он и это выполнил, но с таким ужасом, какого в жизни не испытал. Встать было невозможно, пришлось пережить еще несколько поцелуев — у него даже шея горела от стыда. Хоть бы лампа погасла или сорвалась c крюка на потолке! Хоть бы советник Пекарский заснул, даже умер! Теофилю хотелось стать негром, чтобы чернота скрыла его пылающие щеки. Но он все перенес, и когда игру вдруг прекратили, прошел (а может, пробежал) через всю, такую длинную, комнату в гостиную, чтобы опять укрыться среди витавших там воспоминаний детства.
Но он сразу же отогнал их прочь. Не ребенком желал он быть теперь, а всемогущим королем, владыкой жизни и смерти всех этих людей. Не в силах сдержаться, он отошел в угол, под пальму, и в страстном шепоте дал выход своим мыслям. Вот он появляется в столовой, могущественный и жестокий властелин; всех мужчин он приказывает заковать в цепи, всех девушек раздеть донага. Они дрожат, они краснеют от стыда,— и он может делать с ними все, что пожелает. Но он оказывает милость только одной, и тем сладостней ему слышать плач Зоей и Нюси. Если бы кто-нибудь подслушал его и спросил, что же он намерен делать дальше, Теофиль затруднился бы ответить. Оказалось бы, что столь необычные обстоятельства не под силу его воображению. Оно было анемичным, вскормленным, так сказать, на вегетарианской пище. Цветы, деревья, лесные поляны, весны, утра сплетались в его мечтах, образуя тихие, укромные уголки, где пели птицы, журчали ручьи, светило солнце, где царили вечное ожидание и томление, и порой предвосхищение чьего-то неуловимого, теплого, душистого присутствия. О сыром мясе любви Теофиль не имел понятия и никогда его не жаждал.
Отец велел ему принести новые свечи для стоявших на карточных столах подсвечников, Советник был в хорошем расположении, карта к нему шла, деревянная шкатулка, которую он суеверно прикрывал, наполнялась желтыми, синими, красными фишками и тонкими металлическими жетонами с золотым отливом. Он засунул палец сыну за воротник и легонько пощекотал — детства знакомый ласковый жест! В этот миг прибежал младший Файт и в большом возбуждении накинулся на Теофиля:
— Ах, вот где наш адресат! Для вас есть письмо, заказное и неоплаченное. Надо его получить на почте! — закричал он и потащил Теофиля за рукав в столовую. Там все сидели теперь врозь на стульях и в креслах, а старший Файт держал на коленях шляпу, при виде которой Теофиля проняла дрожь. Он знал, что в шляпе находятся фанты, был уверен, что его фанта там нет, и все равно задрожал. Ему уже случалось переживать страшную минуту, когда кто-то, подняв стиснутый кулак, кричит: «Что делать с этим фантом, который я держу в руках?» Каких только дикостей не выдумают — приказывают жертве ползать на четвереньках, отгадывать мысли, плясать, заниматься гимнастикой, и что бы ты ни делал, все вызывает хохот и насмешки, все становится позором.
Теофиль плелся вслед за Файтом, как обреченный, а тот тащил его через ярко освещенную комнату под тяжелым взглядом советника Пекарского, который все сидел, неподвижный, ухмыляющийся, толстый, с большущим животом, похожий на китайского идола, поставленного у места казни. Теофиля втолкнули в его собственную комнату и сразу закрыли дверь. Он не шевелился, ждал. Вдруг шепот:
— Не узнаешь меня?
У него перехватило дыхание.
— Алина, — произнес он тихо, и сам едва расслышал свой голос — так сильно стучало сердце.
Девушка подошла к нему, верно, на полшага.
— Вот, возьми. Тебе письмо… Издалека... — сказала она приглушенным, грудным голосом, нервно посмеиваясь.
В комнате было совсем темно, только по сторонам узкой шторы пробивались слабые лучи уличного фонаря — две тонкие ниточки, стежки света в густом мраке. Один из них, зеленоватый и мерцающий — будто светлячок пролетел, — упал на руку Теофиля, согнутую в локте и робко, словно ощупывая темноту, тянущуюся вперед. Алина схватила ее своей ладонью — мягкой, горячей, чуть влажной. Теофиль наклонился прямо к тому месту, откуда исходило теплое дыхание, и прикрыл его своим ртом. Губы Теофиля, не разжимаясь прикоснулись к ее губам, тоже сжатым. Больше он не сделал ни одного движения, лишь чувствовал, что медленно наклоняется вперед, а ее голова подается назад. А может, это ему почудилось? Может быть, оторвавшись от реального мира, он оказался вне его законов и испытал действие земного вращения? Секунду глаза Теофиля были закрыты, а когда он их раскрыл, то увидел прямо перед своими глазами два темных блестящих зрачка — в тот же миг раздались два согласных вздоха, и сухие губы обоих разъединились.
Скрипнула дверь, за нею вспыхнул желтый свет, но сразу же погас — осталась лишь тонкая полоска вдоль неплотно прикрытой двери. Младший Файт постучал:
— Ну как? Получили почту?
Ответа не последовало, так как Теофиль убежал через другую дверь в спальню матери. И очень кстати — минуту спустя вся компания ворвалась в его комнату. Но он уже был на свободе и спрятался в комнате отца — настольную лампу оттуда унесли, было темно, только из гостиной и столовой доходило немного света. Кто-то открыл одну створку окна, чтобы дать доступ свежему воздуху. После недавней метели похолодало, но было тихо; на краю неба над садом, расположенным напротив, мерцало несколько звезд. Глядя на них, Теофиль погружался в недра тишины, нахлынувшей на него, как прилив вдохновения. Там, на самом ее дне, все было ясным, осознанным, зрелыми, — мысли, охватывающие вселенную, слова, разрешающие любую сложность, и хотя ни одна мысль, ни одно слово не всплыли на поверхность, Теофиль чувствовал себя обладателем несметных духовных сокровищ.
В столовой опять стало шумно. Файты раздобыли где-то бутылку вина, начался выпивон. Рюмка шла по кругу, пьющего подгоняли песней: «Слава, слава и почет, кто вино как воду, пьет! Выпей, бороду утри и соседу поднеси!» Барышни, закашливаясь, смеялись визгливо и возбужденно, будто их щекотали. Теофиль прислушивался — не раздастся ли голос и смех Алины. Но она как раз убежала из столовой в гостиную. Жаркая волна поднялась в нем и схлынула, на глаза навернулись слезы. Неужели это оно — то, что шло ему навстречу из глубины длинной аллеи, что плыло к нему в лодке меж камышами и нависшими над водой ивовыми ветвями, что ждало его на скамейках под цветущими каштанами, что убегало по берегу неведомого моря, не оставляя следов на песке? Все было точно так, как в самых чудесных грезах, только намного, намного сложней.
Теофилю все же пришлось выйти из своего убежища — в гостиной началось движение. Первыми встали преферансисты. Советник Бенек потянулся и зевнул.
— Первый час уже, — сказал он, взглянув на часы.
— Но завтра же воскресенье, — успокаивал Гродзицкий
Пани Гродзицкая тоже удерживала гостей, предлагала вина, печенья, чаю или чего-нибудь покрепче. Гости прощались, и Теофиль видел, как глаза матери все больше грустнеют. Он понимал ее, он чувствовал то же, что и она: боялся внезапной пустоты, которая воцарится в доме после ухода такого множества людей, — останется лишь табачный дым, запах разрезанных тортов, винные пятна на скатерти, окурки на полу. И еще он боялся прощанья с Алиной, — и когда эта минута наступила, Теофиль попятился на шаг, чтобы выйти из светлого круга от лампы, которую нес провожавший гостей отец. Рукопожатие было коротким и слабым, но Алина глянула ему прямо в глаза, прежде чем он успел опустить веки, и одна эта вспышка в бесконечно малую долю секунды отделила его от тела от земли, пространства, времени, освободила из-под власти законов вселенной и швырнула, как заблудившийся атом, в сумятицу еще не оформившихся миров.
V
Директор Зубжицкий нервно прохаживался по своему кабинету. В последнюю неделю на него свалились три крупных неприятности. Епископ, проводивший в прошлом году пасхальное говенье, договорился с другим заведением, «златоустый» каноник Малиновский уехал, а старший гимназический законоучитель ксендз Грозд сообщил письмом, что болен. Это вот письмо и встревожило директора больше всего. Поминутно он подходил к столу — еще и еще раз взглянуть на него. Сомнений нет: человек, который лежит в постели, так не пишет. Но разве обязательно надо лежать, чтобы быть не в силах читать часами проповеди? Инфлуэнца — явление обычное в эту пору. С самого утра директор все смотрел в окно, и в зависимости от того, становилось ли пасмурно или выглядывало солнце, менял решение. «Что-то тут нечисто! — А может, следовало бы его проведать? — Нет, во всяком случае, не сейчас, еще подумает, что я за ним шпионю».
По вине ксендза Грозда этот простодушный математик стал настоящим дипломатом. Ксендз появился в гимназии на второй год его директорства и сразу же очень искусно усложнил ему жизнь. Директор стал замечать, что рядом с его властью существует иная, тайная и безмолвная, но весьма твердая. Сперва это открытие рассердило его, потом встревожило; получалось, как если бы капитан корабля обнаружил, что кто-то из команды посылает без его ведома сигналы и находится в сношениях с людьми, от которых он, капитан, зависит. Ксендз Грозд постарался даже укрепить его подозрения, предсказывая никому еще не известные постановления высших властей, словно обладал пророческим даром. С той поры директор, человек по натуре искренний и непосредственный, стал осторожным, скрытным. Теперь он лишь изредка позволял себе быстро решать дела, даже к самым пустячным приглядывался и так и эдак — нет ли подвоха. Это его до такой степени изматывало, что он точно подсчитал, сколько дней осталось ему до пенсии, и каждый вечер, заведя перед сном часы, прежде чем потушить лампу, с облегчением вычитал прошедший день из четырехзначного числа, которое держал в уме.
Он устал ходить — сел и закурил сигару. Хорошая затяжка ароматным дымом приободрила его и освежила. Конечно, глупо находить связь между отказами епископа и каноника — и болезнью ксендза Грозда. Несомненно, это всего лишь случайное совпадение. Если ксендз не поправится до субботы, надо его навестить. Но не раньше. А говенье должно состояться в положенные дни — ничего не поделаешь. Он подвинул к себе раскрытую еще утром толстую книгу в парусиновом, изрядно замусоленном переплете — уже четверть века директора записывали в ней свои распоряжения, и характер почерков изменялся по слоям, как в монастырских хрониках. Рукой Зубжицкого были заполнены десятка два страниц, которые свидетельствовали о постепенном упадке его духа. Всего за несколько лет он перешел от букв красивых, крупных к мелким, разбегающимся врозь, с ненужными закорючками. Старательно написав распоряжение о говенье, директор поставил подпись и, размахнувшись, протянул от последней буквы длинную линию, закрутив ее под своей фамилией, как лисий хвост.
Потом он позвонил.
— Отнесите это, Михал, в классы и скажите ксендзу Скромному, что я прошу его зайти ко мне после урока.
— Ксендз в актовом зале, пан директор, — сказал гимназический сторож.
— Тогда просите его.
У ксендза Скромного, младшего законоучителя гимназии, был свободный час, и он, как обычно, проводил его не в актовом зале, а в смежной комнатке, где хранились карты и глобусы. Сидя у окна, ксендз ел булку, прикрывая рот ладонью. На коленях у него лежала бумага для крошек — «Colligite fragmenta, ne pereant». Возвращаясь домой, он высыпал их на улице воробьям. Сторож приотворил дверь и крикнул:
— Пожалуйте, пан ксендз! Пан директор ждет вас.
Сторож презирал ксендза, который завтракал всухомятку булочкой, купленной в лавке. Дело в том, что жена сторожа держала в гимназии буфет, где можно было купить масло, ветчину, сосиски, стакан молока или чаю, но говоря уж о сластях. Из всех преподавателей один только ксендз Скромный не поддавался соблазну ароматов, в большую перемену распространявшихся по всему зданию от расставленных в рекреационной столов пани Мотыки. Выкрикнув приглашение, сторож исчез — ксендз не успел даже слова вымолвить.
Ксендз Скромный завернул в бумагу вместе с крошками недоеденную булочку и сунул в задний карман сутаны.
Вряд ли когда-либо фамилия так подходила к человеку. Маленького роста — в пятом классе не было ученика, на которого он мог бы смотреть сверху вниз,— и такой тучный, что, приди ему охота пригрозить кому-нибудь, он не сумел бы сжать руку в кулак, ксендз катился по коридорам, будто волчок, в своей старой, потертой сутане, вечно разыскивая кого-то из учителей, чтобы выклянчивать поблажки для провинившихся гимназистов. Судьба назначила ему быть заступником всех, кому угрожала двойка, и разузнавать экзаменационные вопросы для выпускников. В своем призвании он проявлял немалый героизм, ибо в душе трусил перед учителями как последний школьник: робко подавая им свою пухлую ручку и поздоровавшись, он минуту колебался, перед тем как снова надеть шляпу. В преподавании своего предмета он совершенно отказался от всяких педагогических ловушек: ставил всем подряд наивысший балл, будучи глубоко убежден, что обидел бы дитя честных католиков, заподозрив его в незнании основ религии. В этом одном он был непоколебим и, не внимая едким замечаниям на педагогических советах, ставил «отлично» в первой строке свидетельства, где все прочие баллы были «неудовлетворительно».
С сильно бьющимся сердцем ксендз Скромный вошел в кабинет директора.
— Пожалуйста, прошу... — сказал Зубжицкий, привставая в знак приветствия.
Ксендз сел на краешек — все стулья были для него высоки, и, сядь он как следует, его короткие ножки болтались бы в воздухе.
— У нас в этом году неожиданное осложнение... — начал директор.
Он запнулся и, поднеся ко рту сигару, поглядел из-под прикрытых век на ксендза — а может, и этот участвует в заговоре? Носквозь дым смотрела на него пара карих глаз с такой искренней тревогой, что ему захотелось обнять этого старого младенца, этот колобок, вылепленный из доброты человеческой.
— Да-с, неожиданное осложнение, — повторил директор, И, рассказав о епископе и канонике, прибавил: — Что поделаешь! Надо провести говенье своими силами.
— А ксендз Грозд как раз болеет! — огорчился Скромный.
— Вы-то откуда об этом знаете? — Директор наклонился к нему через стол.
— Я нынче замещал его в пятом «Б».
— По чьему распоряжению?
— Пана Маевского, классного наставника… — прошептал ксендз.
— Ах, так! Хорошо. — Зубжицкий вспомнил, что сам говорил об этом с Маевским.
— Что ж, я рассчитываю на вас, — сказал он и поднялся.
Ксендз Скромный, тоже поднялся и указательным пальцем ткнул себя в грудь:
— Как так, пан директор?
— Нет выхода. Говенье начнется в четверг, я уже составил расписание. У вас есть время подготовиться — сегодня и завтра. Если нужно, могу даже освободить вас от уроков.
И директор пожал ему руку. Ксендз Скромный, сгорбившись, попятился к дверям, он будто стал еще меньше ростом.
— Вот незадача! — прошептал директор, глядя на скрывающуюся в дверях старую, потертую сутану.
Ксендз Скромный был в отчаянии. Каждый год он с величайшим изумлением слушал проповедников, которые с жаром излагали символическую драму христианства. От их слов и жестов, казалось, раздвигаются своды над актовым залом. Но у Скромного не было памяти на красивые фразы, и он тщетно пытался вспомнить хоть что-нибудь из услышанного. Он только читал Евангелие далеко за полночь, даже слезы проступали у него на глазах — и от усталости, и от глубокой скорби, которую всегда вызывал в нем рассказ о муках и смерти Спасителя. В четверг утром он явился в гимназию в новой сутане, уже три года надеваемой в особо торжественных случаях. Сторож направил его в гимнастический зал — в актовом натирали пол.
Непривычное место привело учеников в бешеное веселье. Ксендз застал картину самого дикого буйства. На лестницах, трапециях, турниках, канатах — нигде ни дюйма свободного, все облеплено телами, они вертятся, лезут вверх, спускаются, сталкивают один другого. Над полом клубится пыль, это кувыркаются пары борющихся. Шум адский — собственного голоса не слышишь. Ксендз осмотрительно остановился на пороге гардеробной, опасаясь, — и не зря, — что, если сделает хоть один шаг, ему уже не спастись из этого хаоса. Но вот пришли еще несколько учителей, и порядок установился, правда, не сразу: какой-то малявка-первоклассник забрался под самый потолок и, не видя, что происходит внизу, орал во все горло; внезапно наступившая тишина так его испугала, что он едва не свалился на пол.
Так начался у ксендза Скромного первый день говенья. Ему не приготовили ни стола, ни пюпитра, даже стула не поставили; маленький, толстый, смешной, он стоял перед сомкнутыми шеренгами учеников, — было их несколько сот человек, — отделенный от них узкой, шага в два-три, полосой свободного пространства, и прямо над его головой висела трапеция, еще колыхавшаяся после прыжка кого-то из учеников. Трудно было отогнать мысль, что это сам ксендз только что-забавлялся с трапецией — вот была бы умора, подними он вдруг свои короткие ручки да попробуй ухватиться за качающуюся поперечину. Ксендз невольно усиливал комизм ситуации — он то и дело поглядывал вверх, и тогда казалось, что его мысли тоже заняты этим заманчивым гимнастическим снарядом.
Скука смертная одолевала всех, к тому ж от стояния болели ноги. В шеренге, где находился Теофиль, шушукались, смеялись. Но раз за разом, по ней ударяло имя Христа и ширило смятение — нет, надо пересилить себя, надо, понять... Теофиль потихоньку отделился от своих соседей и стал у стены, рядом с Костюком, который, вытянув шею и раскрыв рот, слушал проповедь. Сын крестьянина, Костюк хорошо знал, как дорого обходится отцу его ученье, и считал своим долгом ничего не упустить — впрочем, ему было приятно слышать в этих стенах нечто такое, что можно понять без напряжения.
Ксендз Скромный рассказывал о последней неделе Спасителя, почти слово в слово повторяя евангелистов, и лишь кое-где вставлял свои робкие комментарии. Теофиль слушал задумавшись. В этой простоте было для него что-то новое. Он привык к проповедям, содержавшим поучения о нравственности и патриотизме, к проповедям, где голос Евангелия смешивался с цитатами из поэтов. Все знали, что в последний день бывает речь о воскресении Польши, и с нетерпением ждали этого, как коронной арии, неизменно производящей сильное впечатление. Но сам Христос обычно как-то меркнул, и в рассеянии духовном его можно было понять как метафору. Здесь же он присутствовал в каждом слове, каждая фраза дополняла его образ — настолько все было обстоятельно, почти наглядно. Любой простак евангелист рассказывал бы не иначе. Ксендз Скромный не гнался за стройностью изложения, оно часто бывало путаным из-за боязни упустить какую-либо мелочь, зато становились отчетливей многие трогательные детали — как при рассматривании старинных гравюр.
Наивную веру Теофиль утратил, когда, изучая закон божий, они перешли к догматам и религия приобрела абстрактный облик. Уроки ксендза Грозда распылили Священное писание на бесчисленное множество цитат, которые были у него выписаны на карточках. Эта картотека, все время пополнявшаяся, составляла гордость ксендза; помещалась она в особом ящичке с перегородками, заказанное в Обществе столяров по собственному его чертежу. Каждое отделение посвящалось тому или иному вопросу догматики, пронумерованные карточки стояли в хронологическом порядке, от Книги Бытия до апокалипсиса святого Иоанна. Из этой духовной аптечки ксендз Грозд отбирал для каждого урока надлежащую дозу и клал ее в кожаный бумажник красивой выделки с изображением собора св. Петра — подарок, привезенный ему из Рима учителем Маевским. Как только ксендз вынимал бумажник из кармана, ученики раскрывали тетрадки, хватались за карандаши — ксендз на многое смотрел сквозь пальцы, но упаси бог пропустить хоть одну цитату.
В этом году Теофиль узнал, что вера — дело нелегкое. Все, что прежде было так просто — иначе, думалось, и быть не может, — усложнилось до чрезвычайности. Теофиль немало встревожился, когда в одно сентябрьское утро ксендз Грозд начал рассуждать о существовании бога в таком тоне, словно над этим вопросом надо было еще думать. Через несколько уроков три эти священных звука, к удивлению Теофиля, как бы повисли на ниточках сомнений, но потом он понял, что сомнения эти не прочнее паутинок, протянувшихся за окном. С тех пор он уже не страшился опасностей, угрожающих бессмертию души, ангелам или учению об откровении, — он был уверен, что ксендз Грозд сумеет избавить от них с помощью учебника догматики и своего красивого бумажника. Ему даже начали нравиться богословские тонкости — вникая в их хитросплетения, он чувствовал свое превосходство. Готовясь к уроку, Теофиль просил мать следить по книге, верно ли он выучил заданный отрывок. Гродзицкая не позволяла ему ни на йоту отступить от текста, который приводил ее в полное недоумение.
— Уповаю на господа, — говорила она, вздыхая, — что если я умру, причастившись святых тайн, он все же примет меня, хоть я тут ни слова не понимаю.
И Теофиль терзался, что не может поделиться с матерью своим богатством. Оно казалось ему гораздо более значительным, чем было на самом деле, — ведь состояло оно из одних слов. Очень немногие проникли в его душу по-настоящему, остальные осели на ее поверхности, образовав сухую корку пустых фраз. С последними осенними листьями бог в облике седобородого садовника покинул Теофиля и оставил его наедине с существом, состоящим из полутора десятка прилагательных в преврсходной степени; а в первых числах марта Христос со светлым челом и темными волосами до плеч поблек, превратился в смутное видение, маячившее над тремя страницами «Догматики», где было толкование двойной природы Спасителя, — божественной и человеческой.
Ксендз Скромный возвратил Теофилю веру в абсолютную истинность изложенных в Евангелии событий. Слушая его, Теофиль вспоминал страницы своей иллюстрированной Библии, страницы, давно развеянные ветром времени. И с ними вернулся к нему задушевный строй каких-то давних вечерних часов или воскресных полдней, всех мгновений тишины и одиночества, когда, склонившись над картинкой, он с величайшим упоением вбирал в себя ее красочную прелесть. Цвета одежды, изгибы складок, очертания предметов, расположение перьев на крыльях ангела, спускающегося по лучу света к Масличной роще, пламя и дым факелов в руках у стражей первосвященника, каждая ступенька возвышения, на котором сидел Пилат, даже каждый листок одинокого дерева на склоне Голгофы — все это посетило его вновь, свежее, яркое. Сколько снов, сколько видении срослось с этими подробностями! Как сладко было припоминать их! Теперь Теофиль уже не стал бы плакать над бичеванием, терновым венцом и крестом, но слезы, которые он когда-то над ними пролил, оставили глубокий след. Путь Христа от триумфа в Иерусалиме до Голгофы пролег через жизнь Теофиля, когда в ней было еще пусто и все отпечатывалось, как следы подошв на девственной почве.
После проповеди была обедня, и Теофиль горячо молился. Выйдя из костела, он минуту постоял в нерешительности, как и его товарищи, разбившиеся на кучки. С высокого откоса они смотрели вниз, на улицу Льва Сапеги, на проезжавшие трамваи, на дворников, которые убирали последний снег, превратившийся в темные комья грязи. В холодном воздухе чувствовались теплые дуновения, несшие запах влажной земли, поверху — терпкий и горьковатый, а понизу — густой, приторный, — ошеломительная в своей наивной простоте повесть ранней весны о почках, набухающих кислыми соками, и о жизнетворном гниении всего, что разлагается и тлеет. Мальчики расстегивали теплые шинели, щурили глаза от ярких солнечных лучей, отражавшихся в рессорах, лужах, водосточных желобах, этот анемичный день нагонял вялость и сонливость, и они, немного помедлив, разбредались в разные стороны. Теофиль шел с Костюком, тот почти ничего не говорил, широко шагая в тяжелых, подкованных сапогах. Но даже и этот спутник был в тягость, и Теофиль под каким-то предлогом расстался с ним, чтобы в одиночку побродить по улицам, — его не покидала нелепая надежда встретить Алину. Чувства его, скользя удивительнейшим образом по тем же фибрам меланхолии, переходили от религиозного волнения к его ребячьей тревожной любви.
Ксендз Грозд выздоровел до субботы, чтобы принимать исповеди. Он сделал это как бы по настоятельной просьбе директора, который навестил его в пятницу; на самом же деле он вовсе не собирался уклониться от обязанности, вознаграждающей духовника разными подробностями из жизни гимназистов и гимназии. К сожалению, все это были мелочи, ибо ксендз Грозд пользовался доверием только в младших классах, где он не преподавал. Ученики постарше избегали его. Они действовали по традиции, возможно, порожденной инстинктом, или же каким-то определенным случаем, или смутным подозрением, оставшимся с давних пор. Теофиль, по примеру товарищей, опустился на колени перед исповедальной ксендза Скромного — справа, где было чуть светлей. Как всегда, грехи были у него выписаны на листочке, в порядке заповедей, которые он нарушил.
Однако шестую заповедь он отложил напоследок и даже не обдумал — понадеялся, когда дойдет до Алины, на вдохновение, на слова, идущие от сердца. Но теперь он не мог их найти, и ксендз, не зная, закончил ли он, спросил:
— Есть у тебя что-то еще?
— Да. Я поцеловал одну девушку.
— Каким образом?
— Во время игры.
— Ты уже говорил об этом.
— Нет, то было другое. А ее я поцеловал с мыслью, что... с мыслью, что я ее люблю. И потом все время о ней думал.
— Вы с нею виделись после этого?
— Нет, но я искал ее по городу, и хотел к ней пойти, и мне очень грустно...
Теофиль почувствовал на ресницах слезы.
— Дитя мое... — шепнул ксендз.
У него были наготове слова о том, что Теофиль еще слишком молод, что пока надо думать об уроках, что бог сам позаботится о его сердце, если оно правдиво и невинно, но дарованная ксендзу искорка святости надоумила его промолчать; он лишь перекрестил мальчика и произнес формулу отпущения. Взволнованный этим необычным молчанием, Теофиль ждал — какую ксендз назначит епитимью.
— Для твоих провинностей, — молвил тот, — достаточной епитимьей будет молитва. Сам будешь решать, сколь велик долг твой господу.
Когда Теофиль кончил молиться перед главным алтарем и встал с колен, в костеле уже никого не было. По пути домой он завернул в Иезуитский сад и там, в глухой аллее, подальше от фонарей, разорвал на мельчайшие клочки записку с грехами, потом достал из кармана лопаточку, уцелевшую от детских игр, выкопал под кустом сирени ямку и спрятал в ней эту горсточку бумажного крошева. Он всегда так делал — то ли из боязни, что кто-нибудь прочитает его грехи, то ли из смутного чувства, что, предавая тлению в земле свой «счет совести», он освобождает душу от зла.
VI
В великую субботу советник Гродзицкий отправился с сыном на праздничное богослужение. Теофиль надел не шинель, а накидку, чтобы спрятать книжку, которую собирался поменять в библиотеке. Это было «Старое предание» Крашевского, он думал о нем с нежностью, почти с благодарностью за теплый колорит невозвратного прошлого Польши, за шум могучих лесов, запах меда и дымящихся груд «мяса» — одно это слово пробуждало в нем голод и наводило на мысли об аппетитных домашних копченостях, — он уже заранее ощущал их вкус.
Ему теперь опять разрешили пользоваться библиотекой, так как в последней четверти он выказал явные успехи, но говорить на эту тему с отцом Теофилю не хотелось. Советник к тому же был не в духе. Вместо обеда ему дали селедку с печеной картошкой, кислую капусту с оливковым маслом и стакан чаю. Умерщвляя таким образом плоть, он разбередил душу, равновесие которой явно зависело от тарелки супа, куска мяса и надлежащей порции сладкого.
— Твоя мать, — сказал советник, когда они вышли на улицу, — не мыслит себе праздника без больших расходов. Но ведь это глупо, если всего месяц назад мы устраивали такой роскошный прием. Мы живем не по средствам. В этой стране все живут не по средствам. Но de publico bono никто не думает. Вот тебе пример: «Польское Слово» предложило не пить на праздники вино и водку, а вносить деньги на Общество народного просвещения. Стоит взглянуть на подписной лист. Княгиня Сапега: две кроны; княгиня Любомирская: пять крон. Позор! Но хорошо, что это напечатано, — возможно, придет время, когда им это припомнится.
— На этих людей нельзя рассчитывать, они иностранцы среди своего народа, — сказал Теофиль, чуть конфузясь своих глубокомысленных слов, и покашливание отца, понятое им как одобрение, наполнило его блаженным теплом. Однако советник не любил слишком резких суждений и не согласился с сыном.
— Это верно, что княжеские титулы еще существуют, а душ княжеских не найдешь, — сказал он, — и все же надо вести счет в целом. Княгиня Сапега дала всего две кроны, зато отец ее, возможно, отдал половину состояния, а то и кровь свою. Сильно сомневаюсь, чтобы о нашей семье можно было бы сказать нечто подобное. Родина — это, друг мой, страшная штука, страшная, разумеется, в тех условиях, в каких мы живем.
Теофиль удивился таким словам, совсем для него неожиданным, но в эту минуту они с отцом входили в костел Марии Магдалины, а когда вышли, пробившись через толпу, и снова очутились на улице, отец заговорил уже о чем-то другом. К нему вернулось обычное, добродушное настроение, его радовал уличный шум. У иезуитов и бернардинцев толпа была еще гуще, советник ко всему приглядывался, сравнивал с тем, как праздновали в прошлом году, останавливался у столиков для пожертвований, читал надписи и то там, то здесь бросал на тарелку монетки в десять геллеров, припасенные им в большом количестве.
Стало смеркаться, Теофиль начал нервничать, что не успеет в библиотеку, — наверно, ее уже закроют. Но он надеялся, что сумеет затеряться в толпе, которая уже тесно обступила собор в ожидании полуночи. Против книжной лавки Губриновича стоял отряд солдат с винтовками к ноге. Это апостолический монарх прислал малую толику своих вооруженных сил, дабы почтить воскресение господа из мертвых. Больше того, он прислал с полюжины генералов — в голубых шинелях, со светло-зелеными султанами, они появились с Галицкой улицы, и толпа стала напирать еще сильней. Теофиля оттолкнули, он сопротивлялся, и его вынесло течением на площадь Святого духа. Он был на свободе, но прежде чем сбежать, он встал на цыпочки и увидел отца - тот тревожно озирался, на лбу у него пролегла трогательная морщинка. С чувством, что совершает подлость, Теофиль поспешил по своим делам.
Сворачивая на Академическую, он услышал залп салюта. Почти одновременно ударили в колокола. Теофиля проняла дрожь. «И слышал я как бы голос громов сильных, говорящих: "Аллилуйя!"» — вспомнились ему вдруг слова апокалипсиса. А колокола вызванивали по два, по три, их звуки то сливались, то расходились врозь, под темнеющим небом плыли облаками бронзовые голоса, удары становились все громче, все настойчивей, падали сверху как тяжелые капли расплавленного металла. Теофиль пустился бегом, будто спасаясь от бури.
Дверь библиотеки была заперта.
— Не дергай, ручку сломаешь.
Это появился на лестничной площадке гимназист Юркин, который был на один класс старше Теофиля.
— Если нас не пустят, можем друг с другом обменяться. Что там у тебя?
Теофиль смутился, что у него «Старое предание». Ему стало так же стыдно, как если бы он нес под мышкой Платона. Он всегда робел перед Юркиным, втайне восхищаясь его дерзким взглядом, его смехом, его фуражкой, такой высокой, какой не сыщешь во всех императорско-королевских гимназиях, его мундиром — не синим, а черным. Юркин походил на карикатурные фигуры гимназистов-щеголей, «барчуков», в серии открыток, выставленных недавно в одном из магазинов в пассаже Миколаша. Глядя на пожелтевший, засаленный титульный лист «Старого предания», он снисходительно покачал головой:
— Люблю эту книжицу, она мне напоминает раннее детство.
Теофиль не стал возражать.
— А у тебя что? — спросил он.
— Кое-что занятное. Советую взять. Как раз пасхальное чтение.
Это была «Жизнь Иисуса» Ренана. Теофиль оторопел. Чем-то поразила его эта книга, — или названием, в котором священное имя было упомянуто так сухо, без всякого почтения, или тем, что ее рекомендовал именно Юркин. А тот глядел на Теофиля с ехидной усмешкой.
— Не бойся, старина, ее можно прочитать и прожить после этого еще недели две. Но не будем терять времени.
И Юркин повел Теофиля по темному коридору, где знал какой-то тайный ход. Дверь им отворила одна из девиц, выдававших книги. Юркин ловко расшаркался.
— Ты много теряешь, Гродзицкий, шепнул он, когда они стали у каталога, — что не ходишь на каток...
Теофиль взял в руки возвращенную Юркиным книгу и как бы нехотя назвал ее номер пожилой, худощавой даме, записывавшей книги. Юркин, заметив это, улыбнулся и на прощанье махнул ему рукой.
Домой Теофиль не спешил: гуляя, он забрел на улицу Мицкевича и только тут сообразил, что еще поспеет на всенощную в костел св. Елизаветы. Он увидел в этом очевидный знак «действующей благодати», ту сверхъестественную духовную поддержку бога, без которой мы неспособны совершить что-либо, достойное награды свыше. «Останься я с отцом у собора, — думал он, — я бы исполнил свой долг, но совершил над собой насилие. Поступок этот был бы похвальным, но тогда я бы не чувствовал в себе благодати, которую чувствую сейчас, и этот поступок не был бы заслугой перед небесами». Никогда еще догматика не говорила его душе столь убедительно. Даже взятое из учебника сравнение, что действующая благодать подобна «свету, на миг зажженному в нашей душе», великолепно подходило к состоянию внезапного просветления, испытанному Теофилем при мысли, что он еще успеет на всенощную.
Было уже совсем темно. В двух шагах впереди Теофиля фонарщик нес на длинном шесте голубой огонек — зажигал газовые лампы. Они загорались, резко и коротко пыхнув. Наверно, так же ходил фонарщик и в прежние времена, в эпоху керосиновых фонарей, в которой еще пребывала улица Шептыцких, темная, как ущелье. Мостовая покрыта толстым слоем грязи, но в одном месте ее пересекает дорожка, протоптанная вдоль полосы света, падающей из застекленных дверей трактира на углу. Но вот площадь и костел, а колокола-то как звонят!
Готическое здание сияло, свет лился изо всех окон, больших и малых, — то здесь, то там как бы открывались узкие щели, и из них тоже шел желтоватый свет, но наверху царил мрак, и в нем терялись очертания крыши, а колокольня высилась еще более темная, чем небо. Процессия шла со свечами — трогательные, робкие, мигающие огоньки. Люди шли и пели о воскресении Христовом и, когда процессия скрылась за углом костела, пение еще звучало, удаляясь, — как будто эти люди, толпясь вокруг сверкающего балдахина и победных хоругвей, отправились в поход в ночную тьму, чтобы всюду на пути своем возвещать пришествие неугасимого света.
Никогда еще чары религии, в которой родился и вырос Теофиль, так сильно не действовали на его душу. Он не сошел с места, пока процессия под серебристый перезвон колокольцев в клубах кадильного дыма не проследовала обратно в костел. Лишь на улице Льва Сапеги, у Политехнического, Теофиль перестал слышать колокола костела св. Елизаветы, они внезапно смолкли, но тотчас где-то далеко, в недрах города, отозвались другие — бронзовые голоса неустанно несли свою молитву небесам.
Теофиль прошел через кухню; пышущую жаром и полную паров. Мать стояла у жаровни, в которой готовилась ветчина.
— Христос воскрес!
На голос сына Гродзицкая обернулась, вытерла рукн передником.
— Воистину воскрес! — сказали она и поцеловала сына в лоб.
Прислуга, мывшая кастрюлю, отодвинула ее и перекрестилась мокрыми, блестящими пальцами.
— Воистину воскрес! — прошептала она.
Отца Теофиль застал в своей комнате, он наливал в лампу керосин. Делал он это очень сосредоточенно, не сводя глаз с серебристой струи, лившейся из жестяного бидона. Только, прикрутив горелку с фителем на место, он обратился к Теофилю:
— Ты куда ж это сбежал, сорванец?
Но из слов Теофиля явствовало, что потерялся в толпе не он, а отец, или, может, отец даже умышленно бросил сына, который смиренно и благоговейно ожидал перед собором, пока не разошлись все, кроме нищих. Не дослушав попреков, Теофиль стал на цыпочки и поцеловал отца в складку на затылке, что дало ему возможность засунуть взятую в библиотеке книгу между тетрадей и учебников, лежавших на полке. Теофиль был глубоко убежден, что для чтения подобных книг отец не позволил бы транжирить керосин и не стал бы так тщательно очищать фитиль.
— Не хочу с тобой спорить, — сказал советник, — я был уверен, что ты поступил так, как тогда в Любеце. Помнишь?
Позорное это происшествие случилось уже лет десять назад, но время от времени о нем воспоминали в укор и назидание. Отец тогда попросил Теофиля пойти с ним вместе на вокзал встречать маму. Теофиль согласился за плитку шоколада, но, получив шоколад, прошел шагов сто заявил, что у него болит нога, и вернулся домой играть со своей собакой. Поступок был действительно постыдный, и Теофиль счел своим долгом еще раз попросить за него прощения. Но сделал он это от души, потому что отец, положив руку ему на плечо, смотрел Теофилю в глаза с такой несравненной добротой!
Вытащить книгу из стопки тетрадей Теофиль решился не раньше, чем услыхал в комнате отца шелест разворачиваемой газеты. Внимательно приглядываясь к титульному листу, он снова испытал все то же неприязненное чувство. Обе фамилии — автора и переводчика, Ренана и Немоевского — были ему неизвестны. В несколько минут он прочитал короткое предисловие Немоевского, и его охватило беспокойство. Там не было сказано ничего определенного, но все говорилось так, словно это было продолжение страстного спора. Теофилю представилась такая картина: в приотворенную дверь видна комната, вся в табачном дыму; мы знаем, что там отчаянно спорят с десяток мужчин, но особенно выделяется громкий голос одного из них, который ежеминутно вынуждает других умолкнуть.
«Сегодня поляк хочет быть свободным во всех отношениях, а значит, и в умственной жизни…»; «Куда они привели польский народ?…»; «Эпоха невежества кончается…» Вот что выкрикивал голос за дверями. Теофиль смутился и точно так же, как попятился бы подальше от той шумной, опасной комнаты, отодвинул книгу. Он не сомневался, что у нее самые скверные отношения с миром колоколов, песнопений и свеч, откуда он только что возвратился.
Назавтра, ровно в полдень, пришел ксендз Марчинковский, старый знакомый Гродзицких — он крестил Теофиля и каждый год освящал у них пасхальный стол. Советник обнял ксендза и поцеловал в плечо, потому что сердечно любил старика; вдобавок ксендз открывал ему доступ к отменным дарам божьим, которыми советнику уже не терпелось насладиться. Он ухаживал за ксендзом, помогал надеть облачение, подмигивая Теофилю, чтобы тот не забывал о своей роли прислужника. Мальчик знал свои обязанности и исполнял их с большим увлечением. Стоя рядом с ксендзом, прямо против окон, он видел кусок неба с черневшими там, еще оголенными, деревьями. Свежевымытые окна, окаймленные белыми занавесками, придавали этому дню особую праздничность и чистоту.
Покрытый белой скатертью стол по-своему изображал праздник весны. Кресс-салат, посеянный в бутылке, обернутой в серую папиросную бумагу, сказочно разросся в большой, пушистый султан зелени. Четыре горшочка с гиацинтами — белым, красным, голубым и лиловым — источали пасхальный аромат навстречу солнечному лучу, который, прокравшись над крышами, забрался в дом через окно в комнате отца, пробежал через открытую дверь до хрустального графинчика со святой водой и рассыпался там на тысячи радужных искр. От обилия света и запахов стол казался легким, воздушным, радующим глаз прежде всего формами и красками.
А на самом-то деле он прямо ломился от изобилия. Посреди стола, разделенные гиацинтами, красовались два торта, ореховый и прованский; увенчанные разноцветными цукатами, они выглядывали из бумажных кружев, поблескивая стеклоподобной глазурью. На одном конце стола сгрудились копчености: улыбающийся розовым срезом окорок, черные, закоптившиеся в можжевеловом дыму колбасы и полендвица; на другом — две бабы, представительницы от дюжины своих товарок, которые еще в страстную пятницу вышли из высоких глиняных форм; одна баба стояла надрезанная, чтобы свидетельствовать о своем благородстве золотистой, как мед, мякотью. Светлая лепешка нуги, украшенная бледно-желтыми вафлями, и темный излом слоеного пирога символизировали все прочие виды мучного, для которых не нашлось места. Символичны были также бутылка вина и голубой стеклянный графин с вишневой наливкой. А между этими вельможами праздничного стола теснилось простонародье: сахарный ягненок с серебряным колокольчиком на красной ленточке, хрен, похожий на обструганный прутик, несколько яиц, окрашенных в голубой, красный и зеленый цвета, масло в серо-голубом каменном сосуде и на особой тарелочке яйца, нарезанные и целые — для поздравлений.
Гродзицкая налила в мисочку святой воды, Теофил подал ксендзу кропило. Ксендз поднял очки над требником и оглядел стол, чтобы запомнить все яства, которые надо было приобщить к славе латинского языка. Одно за другим называл он мясные закуски, яйца, мучное, напитки и, погрузив кропило в воду, стряхивал на них по несколько капель, будто не только благословлял, но и крестил более благородным именем. Для некоторых не нашлось названия, он ласково поименовал их: «et caetera comestibilia» и напоследок еще раз тряхнул кропилом:
— Per Christum Dominum nostrum!
— Amen, — отвечал Теофиль.
Через час ксендз Марчинковский ушел, унося с собой порядочную коробку, в которую Гродзицкая положила всего понемногу — и пирогов и мясного. Советника после обильной еды и нескольких рюмок стало клонить ко сну, он ушел к себе. Гродзицкая еще немного повозилась, но вскоре и в ее спальне послышалось щелканье пуговиц и китового уса — она расстегивала корсет. Чуть погодя на кухне тихонько скрипнула дверь — это прислуга удирала в город, оставив посуду недомытой. Теофиль открыл окно на улицу, там тоже царило безмолвие, лишь время от времени где-то вдали раздавался треск: это мальчишки стреляли бертолетовой солью. Божий мир, напоенный молитвами и благостью, убаюканный утренним перезвоном, проводил в тишине и спокойствии день воскресения Христова. В этот-то час Теофиль отправился в путешествие, из которого вернулся совсем другим человеком.
Там, где он очутился, весна была, уже в разгаре и погода теплей, чем за окном его комнаты. На холмы взбирались виноградники, овцы паслись среди олив, на дорогах курилась белая пыль под ногами странников, идущих к колодцам, у которых смеялись и судачили женщины: солнце двигалось вдоль тихих долин к горам, чьи вершины пламенели в час заката; потом наступали звездные ночи, рыбачьи лодки бесшумно выплывали на озеро; и сети погружались в посеребренную луной воду.
Теофиль впервые увидел евангельский пейзаж, который ему до той поры никто не показал. Наслаждение он испытал, наверно, не меньшее, чем Ренан, когда писал эти страницы в чарующие летние дни, на склонах гор Ливанских, откуда видны Сарепт, Хермон, Кармел, горы племени Дана, не замечая, как летят часы восторга и вдохновения. Невыразимо приятной прохладой повеяло на Теофиля, он мчался по страницам, будто по лугу, пока но перехватило дух, и только тогда заметил, что его настигают страшные мысли. Книга была сладкой, как мед, и горькой, как полынь. Теофиль в ней заблудился, все прелестные тропинки коварно приводили на пустынные, раскаленные скалы, где с его бога сдирали ризы божественности. Это было невероятно волнующее видение, ничего подобного Теофилю еще не довелось пережить.
Сухими, безжалостными глазами смотрел Теофиль на то, как кощунственно свергали бога с престола. Ни одним словом, ни одной мыслью не поддержал его Теофиль в этот миг, что был страшнее Голгофы. Нет, он позволил ему умереть без воскресения, не вскрикнув, когда после снятия с креста его закрыли в гробу, с которого уже не снимет крышку никакой ангел. Теофиль был убежден в истине, открывшейся ему за эти два-три часа, убежден, как ему казалось, более глубоко, чем когда-либо был убежден в истине, возвещенной ему первыми словами молитвы «Отче наш». Не помогли и мягкие увещания Генриетты Ренан, заботившейся о том, чтобы творение ее брата не было чересчур резким и чтобы возможно больше уцелело из того, что оно стремилось разрушить. Чем трогательней и сердечней говорил бывший семинарист об Иисусе, чем большим восхищением окружал его учение и обаятельный образ, тем плотнее он закрывал перед ним небо, и оно становилось бессмысленным сочетанием лазури и туч.
VII
Теофиль проснулся среди ночи. Он был уверен, что спал всего несколько минут — те же мысли, с которыми он вчера так поздно лег, еще осаждали его. И он удивился, когда часы в столовой пробили четыре. Почти сразу им ответили кухонные часы со стариковским кряхтеньем и громким скрежетом гирь, сползающих на цепочках по колышкам, а издали, из отцовской комнаты, донесся степенный бой больших стоячих часов. И еще: высокий, волнообразно затихающий бой часов на башне ратуши, последний из четырех ударов, поднебесный, трепетный глас, словно заблудившийся на своем пути к звездам.
При мысли, что он проспал целых четыре часа, Теофиль еще больше встревожился. Ему казалось, что он явственно ощущает различие между телом и душой и что его пробуждение произошло на рубеже двух миров. Без сомнения, душа его не спала, и для нее все это время, раздробленное на тысячи тикающих секунд, либо вообще не существовало, либо было ничтожно кратким, незаметным, как молниеносное движение моргнувшего века на вечно бодрствующем глазу. Ведь если душа не является частицей времени, она должна принадлежать вечности. Теофилю вспомнился рассказ о монахе, который вышел из монастыря с песней жаворонка и возвратился, как ему казалось, через минуту, а на самом деле через триста лет, и ангел в образе юного привратника растолковал ему законы вечности.
Эта легенда неотступно владела мыслями Теофиля. Он никак не мог вырваться из круга неизменно повторявшихся образов: монастырь — монах в белой рясе — лес — поле — жаворонок черной точкой в сияющем небе — седобородый старец перед монастырской калиткой, которую ему отворяет монашек с ангельским лицом. В образах этих была неизъяснимая прелесть, очарование погожего утра и беспредельного покоя — таков, наверно, был бы облик вселенной, будь она соткана из одних солнечных лучей.
Грусть, томление, жалость и множество других сходных чувств, не имеющих названия, — ибо ни одно слово не могло бы их выразить и оказалось бы или слишком общим или слишком определенным и приросшим к какому-либо одному понятию, — растрогали Теофиля до слез, которых он не мог сдержать. Казалось, что-то его покидает, что-то от него уходит, медленно удаляется, оставляя позади себя длинную светящуюся полосу. Но светлая полоса становилась все короче, Теофиль бежал за нею, нагонял ее и снова попадал в круг все тех же неотвязных символических образов. Он снова видел своего монаха, и шел с ним в лес, и ощущал глубокую, тихую радость, глядя на деревья, испещренные солнечными бликами. Вдруг лес стал сплошь березовым, и вид белых стволов и блестящих трепетных листьев опять вызвал у Теофиля судорожные слезы.
В окне, по обе стороны шторы, уже светлело; по мостовой, грохоча и лязгая железом, ехал тяжелый воз, кто-то быстро прошел по тротуару; мир пробуждался, и ничто в нем не изменилось. А в комнате было совсем темно, и во всем доме еще царила ночь, когда потрескивают шкафы и сами по себе скрипят половицы. Теофиль не мог остаться равнодушным к этой таинственной ночной жизни, которой прежде не замечал. Но вскоре все вокруг стихло, будто не желая мешать видениям, завладевшим его душой. Вернулся страх, тот страх, от которого он проснулся. Замирало сердце, трудно было дышать, одеяло казалось жестким, нервный зуд полз по телу, Теофилю было жарко, он обливался потом; боясь повернуться к стене, он лежал на левом боку, — сердце отчаянно билось, глаза не могли оторваться от светлевшего окна.
Вдруг он вспомнил, что уже испытывал подобное состояние. Раза два или три. Бывало это после исповеди, когда он ложился спать в отчаянии, что забыл упомянуть какой-то грех, и тревожился, что утром не хватит времени для дополнительной исповеди и придется либо не подойти к причастию, либо, хуже тoro, причаститься, дрожа от страха перед ксендзом, сознавая, что ты запятнан и недостоин. Да, тогда бывало то же самое, только проходило быстрей и было много способов избавиться от скверны. Сколько рук простиралось к нему, чтобы снять это бремя, сколько любви, заботы и снисходительности встречал он! И в конце концов все страхи рассеивались в легком, как туман, привкусе облатки.
«Corpus Domini nostri, Jesu Christi, custodiat animam tuam in vitam aeternam!» Кто же теперь будет охранять его душу, если всеспасительное тело божие предано праху и тлену? В этом гнетущем состоянии, на переходе от вечной боязни греха к новому, дерзостно смелому сознанию, он был совершенно одинок. С готовностью приняв бремя новой, горькой жизни, он думал о себе метафорами: путник, заблудившийся в темном лесу — пилигрим в бескрайней пустыне — изгнанник, которому нет доступа в человеческое жилье. На время он забылся в этих романтически грезах, словно подыскивал для них строфы и рифмы. Он чувствовал себя как бы живой поэмой, звучащей трагически и возвышенно.
Потом он опять заснул и проснулся уже среди бела дня, — в кухне скрипела кофейная мельница, шумел водопроводный кран, гремели кастрюли. Теофиль ощущал усталость, на сердце словно камень лежал. И наступил третий день — еще праздничный и свободный от занятий — ничем не мог ему помочь, не заставлял спешить, а спешка отрезвляет или же отгоняет мысли. Став босыми ногами на коврик у кровати, Теофиль обнаружил неожиданную пустоту: как же быть с молитвой? Он оглядел свои святыни: вот ангел-хранитель со следами его поцелуев, вот богоматерь с младенцем, а вот вифлеемские ясли, увитые цветами. Все эти предметы культа нисколько за ночь не изменились, но он, Теофиль, был уже неспособен им поклоняться.
И однако в душе у него остался осадок неуверенности, или даже осколок надежды, что все еще, быть может, вернется и станет по-прежнему. Впрочем, он ведь толком не знал, что именно перестало существовать и не уцелел ли, например, после вчерашнего разгрома ангел, существованию которого непосредственно не угрожало у Ренана ни одно слово. В эту минуту он понял, что «Отче наш» — молитва, пригодная для любой религии, и что он мог бы ее читать, мысля себе бога без каких-либо мифов. Да, но можно ли читать молитву, не перекрестясь?
Родители накануне вернулись поздно и еще спали. Когда Теофиль попросил у прислуги воды для умыванья, она сказала:
— В столовой для вас корзиночка.
Это была та же корзиночка, в которой Паньця посылала ему в детстве праздничные гостинцы. Открыв ее, Теофиль ощутил знакомый запах тортов и печений, отличавшийся от домашнего, но столь же давний. На мгновение он увидел кухню в ярко-желтом солнечном свете, бабушку, открывающую эту корзинку, и свое место за столом — было ему тогда года два. Он как будто и сейчас сидел там, но не видел себя, — ни лица не видел, ни туловища. Теофилю подумалось, что это - предвестие разлуки с прежним его миром и что отныне все будет вот так же уходить от него.
Он съел завтрак на краешке праздничного стола и поспешил в свою комнату — его осенила мысль, что он, наверно, найдет поддержку в «Догматике». Начал он с раздела о подлинности Евангелия. Страницы были испещрены пометками и приписками; читая фразу, он уже знал следующую — месяц назад все это было выучено назубок. Он помнил места, которые у него спрашивали, и даже те, где ксендз его поправлял. Но как убого все это звучало! Между строчек скупого школьного текста прокрадывалось чарующее повествование Ренана и с ним новые взгляды, против которых были бессильны эти сухие доказательства.
Совсем другими глазами читал он, что «невозможно допустить, чтобы такие люди, как евангелисты, посвятили свою жизнь служению лжи…». Или: «Ложь не могла быть для них выгодной, а лгут лишь те, кому это выгодно. Кроме того, они тогда не могли бы надеяться на награду в царствии небесном, ибо они знали, что бог за ложь карает, а не награждает». Неужели эти слова и раньше стояли здесь? Как он мог не видеть их? А когда он дошел до доказательств воскресения Христова, надежда покинула его окончательно.
Отец в домашних туфлях неслышно вошел в комнату и испугал Теофиля своим внезапным появлением. Поверх головы сына он заглянул в раскрытую книгу.
— Это «Догматика»? А вздрогнул ты так, будто я поймал тебя за дурной книгой? И вообще не понимаю, кто это, сидя над догматикой так лохматит себе волосы? Трудно, что ли?
Теофиль уставился на отца с тревогой, что тот отгадает его мысли. Но отец, засунув руки в карманы халата, глядел на него веселыми глазами, свежеумытый, румяный, с тщательно расчесанными усами, пахнущий одеколоном, такой милый, добрый, родной — хотелось обнять его за шею, поцеловать в пухлую щеку, прижаться лицом к небольшой, мягкой руке. Теофиль старался глядеть поприветливей: он чувствовал, что взгляд его суров и недоверчив. Советника позабавила эта сконфуженная сына — видно, нелегкий задан мальчику урок. Протянув руку, он двумя пальцами пощупал лежавшую на столе книгу.
— Мой бог! Такая тоненькая, и ты еще жалуешься! В мои времена учебники были вдвое толще, а догматикой нас пичкали так, будто хотели сделать богословами. Ты уже завтракал? Ну, тогда иди слушать хронику.
Теофиль подумал, как бы изменилось невозмутимое лицо отца, если вдруг рассказать ему о своих переживаниях. Удивится он? Опечалится? Рассердится? Или отнесется к нему как к сопливому мальчишке? Это было бы хуже всего, тогда Теофиль, наверно, стал бы говорить не то, что следует, и вызвал бы приступ раздражения, овладевавшего отцом хоть и редко, но всегда с необычайной силой. А может, отец тоже испытал такое, может, с возрастом это проходит? Может, стоит задать ему несколько вопросов, как бы невзначай, издалека?
Вошла мать поздороваться с Теофилем.
— Паньця очень жалела, что ты не пришел. Были Нюся и Алина.
Теофиль встал и начал перекладывать книги на полке.
VIII
Алина впервые решилась в своей утренней молитве просить бога о встрече с Теофилем. Она не видела тут никакого греха: она была уверена, что любит его и что бог благословит эту любовь. Ей стало известно, что по вторникам у Теофиля после обеда урок английского; если часов в шесть выйти на угол улицы Уейского и Верхней Сикстуской, можно встретить его как бы случайно. Для провидения исполнить ее просьбу — сущий пустяк, из-за которого не пострадает мировой порядок.
Однако она сильно ошибалась. Учитель английского Мац не явился на урок, и это само по себе было следствием стольких событий, что вмешаться в их ход было бы возможно, лишь возвратившись вспять примерно на неделю, И хотя события эти были как будто чисто внешними, в них сказались характеры, темпераменты, склонности, состояние здоровья нескольких человек, и направить их иначе, значило бы изменить условия жизни и развития этих людей, что несомненно отразилось бы на мировой истории вплоть до первых летцарствования Франца-Иосифа. Итак, просьба Алины не была услышана, и когда девушка с надеждой и радостной тревогой вышла в полшестого из дому, Теофиль находился где-то между портретами Михала Корибута и Станислава Лещинского работы Яна Матейко, висевших в гимназии на стенах вдоль лестницы, — и затем в два счета очутился у ворот. Сунув в карман «Tales of William Shakespeare» Лэма, — от которых его чудом избавил гимназический сторож, объявивший, что учитель не придет на урок, — и байронически задрапировав плащ, Теофиль убежал в чарующие сумерки города. Сегодня они наступили раньше обычного — небо затянули весенние тучи, за которыми еще угадывалось солнце, кое-где золотившее их края.
Идти в открывающийся тебе навстречу город, устремленный к зеленому конусу Высокого замка — это совсем не то, что кружить от угла Сикстуской до угла Технической и обратно под высокими стенами женского исправительного заведения, да еще стараться шагать естественно, не подавая виду, что ждешь, что считаешь минуты. Натерпишься при этом всякого — недаром у тебя стройная фигурка, обтянутая синим пальто, хорошенькое личико и две косы с белыми шелковыми бантами. Вон тех шестерых мальчишек, что выбежали из гимназии, их не проведешь. Пусть они мало что видели в жизни, однако они знают, что их фуражки, и мундиры ни в ком не вызовут интереса — если нет особого повода. Тем более, кому охота заглядывать в их лица, которые то краснеют, то бледнеют, когда эта пара глаз обводит их быстрым взглядом, словно циркуль из серебристой, волшебной стали! Но смех побеждает все, смех выводит из тревожного, нелепого смущения, и мальчики со смехом что-то выкрикивают, потом, распевая: «Паненка, вы куда?», исчезают за углом, и серый перекресток становится совсем пустынным.
Теофиль же тем временем прошел всю улицу Батория, останавливаясь у каждой букинистической лавки, чтобы прочитать названия всех книг в витрине, наконец он приблизился к витрине Игеля и в темноте, прильнув лицом к стеклу, еще раз поглядел на манивший его томик и прочитал цену на обложке. Цена была небольшая, вполне по его капиталам, и все же Теофиль отошел на несколько шагов, чтобы сосчитать свои деньги. Лишь после этого он зашел в лавку.
Медлительный букинист попросил повторить название книги.
— Радлипский «История сына божьего», она у вас в витрине, — сказал Теофиль, уже робея, так как в глубине лавки кто-то зашевелился.
Игель, больше полагаясь на осязание, чем на свои близорукие глаза, нащупал на полке книгу, поднес ее к самому носу, будто обнюхивая, и, слегка стряхнув для виду пыль, ее покрывавшую, подал книгу мальчику. Теофиль взамен высыпал горсть мелких монет, и оба стали их пересчитывать. Но тут Теофиль снова услыхал шорох и оглянулся. В глубине лавки стоял господин, примерно тех же лет, что отец Теофиля, с пышной серебрящейся шевелюрой. Пальто на нем было расстегнуто. Держа руки в карманах брюк, незнакомец смотрел на Теофиля, как бы в раздумье. Наконец он спросил:
— Почему вам вздумалось покупать эту книгу?
— Я увидел ее на витрине.
— Вас интересуют такие вещи?
— Да, интересуют.
Незнакомец подошел к прилавку, взял книгу, повернул ее корешком вверх, будто определяя объем, и положил обратно.
— Ну что ж! Теперь вам остается сунуть ее под мышку, пойти домой и засесть за чтение.
— А может, ее и читать не стоит? — встревожился Теофиль.
— Да нет. Так, немного путаная. Введение можете пропустить. А давно вы стали интересоваться такой литературой?
— Довольно давно...
— Гм!
Теофиль покраснел, но у него было время успокоиться — никто на него не смотрел. Игель, сосчитав монеты, проверял их, поднося одну за другой к глазам. А незнакомец снял пенсне и протирал стекла платком. Теофиль, подойдя к нему, спросил вполголоса:
— Скажите, пожалуйста, что вы думаете обо всем этом?
Из-под покрасневших, как бы припухших век глянули темные глаза.
— Присядемте, молодой человек! — указал незнакомец на два стула в нише, уставленной книжками под самый потолок.
Он надел пенсне, достал деревянную табакерку и начал сворачивать папиросу. В тишине было слышно, как шелестит папиросная бумага и шипят две газовые лампы над прилавком. Букинист, спрятав деньги, неподвижно стоял, глядя в окно. Сердце Теофиля сильно билось от нетерпения и страха: вот он выдал чужому человеку свою заветную тайну — теперь его либо поддержат, либо уничтожат. Вспыхнула и погасла спичка, голубоватый дымок потянулся к потолку.
— Вы спрашиваете, что я думаю? Думаю, что вы на хорошей дороге. Вы сейчас переделываете по-своему одну старую историю. Вернее, единственный раздел истории, где кое-что зависит иногда от нас. Во всех других мы уже ничего не можем изменить. Сколько бы вы ни бились, дату смерти Юлия Цезаря вам не передвинуть ни на один день. А тут вы с самим героем можете обойтись как угодно жестоко, можете даже лишить его права на существование.
— Что вы! — прошептал Теофиль. — Неужели вы вообще не верите...
— Я сомневаюсь, только и всего. Кроме Евангелия это не подтверждено ни одним источником, разумеется, источником посторонним, беспристрастным. Надеюсь, на Иосифа Флавия вы не полагаетесь?
Теофиль не полагался на Иосифа Флавия, о котором слышал впервые. Но он считал, что среди духовных особ есть люди ученые, которым не чужды подобные сомнения, и вряд ли они избавляются от них, прибегая к обману. Правда, выразил он свою мысль так нескладно, что не сразу был понят.
— Ну, конечно. Если бы религии были основаны только на обмане, с ними было бы нетрудно покончить. Гораздо сложнее бороться против искренней веры, сердечной чистоты, простодушия…
— Я думаю, среди верующих есть и умные люди,
— Не знаю, что вы называете умом. Я бы поостерегся назвать умным человека, убежденного, что праотец Ной в своем ковчеге длиною в триста локтей, шириною в пятьдесят локтей и высотою в тридцать локтей поместил по паре всех земных существ.
— Может, они понимают это фигурально?
— В таком случае они заблуждаются, ибо святой автор нигде не указывает, что пользуется здесь метафорой. Самое большее, можно предположить, что он измерял другим локтем — не таким, какой известен нам. Нет, сударь мой, если не научишься закрывать глаза на подобные вещи, то сохранить веру очень нелегко. В богооткровенной книге все истинно, там не может быть ни противоречий — ибо два противоречивых утверждения не могут быть в то же время истинными, — ни каких-либо неточностей. В богооткровенной книге ошибки невозможны.
— Даже в мелочах?
— В богооткровенной книге нет мелочей. Если бы мы ту или иную фразу сочли маловажной, это было бы оскорблением бога, вдохновившего святых авторов. Здесь все важно, здесь самый крошечный кирпичик — опора всему зданию. Попробуйте его убрать, и все рухнет.
Незнакомец умолк, снял пенсне и, помахивая им, вглядывался в Теофиля сквозь щелки припухших век. Казалось, он прицеливается, чтобы бить наверняка, чтобы ни одно его слово не пропало даром.
— Если верить, так, по крайней мере, как Боссюэ,— был в семнадцатом веке такой проповедник, — нетерпеливо бросил он эту фразу, вспомнив о скудости знаний своего слушателя. — Боссюэ воскликнул: «Какое чудо, что Кир упоминается в Библии за двести лет до своего рождения!» Вы понимаете? Исайя, живший в восьмом веке до рождества Христова, дважды в своей книге называет имя Кира, который царствовал в шестом веке. И вправе ли вы отвергать это чудо ради гипотезы, что книгу сочинил не Исайя и что она апокриф времен вавилонского пленения. Сами посудите, какие последствия это имело бы для веры в канонические книги?
Теофиля обдало волной тепла — как всегда, когда он испытывал восторг, что-то открыв для себя или поняв. Тесный, затхлый угол букинистической лавки словно приоткрылся в неведомый, мир, откуда явилась книга Ренана, чарующий мир, который становился все более близким Теофилю. Наверно, и седеющий господин с желтыми от табака пальцами занимает в этом мире какое-то положение?
Теофиль не ошибся. Д-р Винцентий Кос два раза в неделю проводил в университете занятия по логике и один час посвящал лекциям о Канте. Этими тремя часами ограничивалась его деятельность доцента, приносившая ему все больше седых волос. Профессор Твардовский, слушатели которого не умещались ни в одной из университетских аудиторий, читал свои лекции в зале кинематографа «Аполлон»; профессор Вартенберг, даже в неблагоприятное время между часом и двумя пополудни, заполнял XIV аудиторию, читая свое «Введение в философию», а Кос считал удачным тот день, когда перед ним сидела дюжина студентов. Это были главным образом старательные, но неопытные первокурсники, не успевшие еще разобраться, что его подпись в матрикуле ровно ничего не значит.
Но д-ра Коса это не тревожило. Он зарабатывал на жизнь, преподавая в гимназии, для холостяцкого хозяйства средств хватало, и оставалось достаточно времени, чтобы бродить по книжным и букинистическим лавкам, просматривать новые и старые книги, журналы, каталоги, никогда ничего не покупая. Его интересовало все, от математики до социологии, о каждом предмете он мог рассуждать с видом специалиста, поражая своей памятью, и все вокруг ждали, что он вот-вот выступит с произведением, которое принесет ему славу. Но он никак не мог на чем-либо остановиться. По несколько раз в день он менял планы, в зависимости от того, с кем говорил и о чем. Он был жаден до бесед и не разбирался ни в способах, ни в людях, только бы утолить эту страсть. Диалоги переполняли его, он спорил даже с молчанием.
— Вы забываете, юноша, — упрекнул он молчавшего мальчика, — что богооткровенная книга — это чудо. Чудо — вот краеугольный камень религии. Не было еще такой религии, в которой не творились бы чудеса. С начала своего существования человечество питало пристрастие к миру хаотическому, где стройное здание природы расшатано. Если вы верующий, вы, разумеется, ответите мне, что только в католической церкви есть истинные чудеса, а все прочие — выдумка. Но откуда эта монополия? Если чудо возможно, оно возможно везде, и древний политеизм, уважающий логику, верил именно так. Но когда для толкования греческих или египетских мифов применяют безупречный исторический метод, а, берясь за Евангелие, отказываются от него, — это неразумно или нечестно. Нельзя иметь двух противоречивых мнений об одном и том же предмете. Но, может, быть, христианские чудеса удостоверены лучше других? Ошибаетесь. Я знаю только одно чудо, удостоверенное должным образом, и оно находится вот здесь.
Он указал пальцем на полку, под которой сидел Теофиль.
— Достаньте-ка ту книгу. Нет, не эту, рядом.
Это были «Истории» Тацита. Д-р Кос с поразительным проворством нашел нужное место и стал его переводить так быстро, будто читал готовый перевод:
— «В те месяцы, когда Веспасиан ждал в Александрии попутных ветров и спокойного моря, произошло много чудес, свидетельствующих о милости и благосклонности богов к Веспасиану. Некий человек, давно ослепший, припал к его стопам с мольбой об исцелении, говоря, что бог Серапис велел ему просить императора, чтобы тот соизволил плюнуть на его веки и глазницы. Другой, человек, с искалеченной рукой, по велению того же бога, просил, чтобы император милостиво доставил на него свою ногу. Веспасиан вначале смеялся и слушал эти просьбы с пренебрежением, потом спросил совета у лекарей — возможно ли такую слепоту и увечье исцелить силами человеческими. Лекари принялись рассуждать. О слепце они сказали, что зрение еще не совсем пропало и, устранив кое-какие помехи, можно его возвратить, а о калеке — что его рука может снова стать здоровой, если будет применена чудотворная сила, и, возможно, такова явная воля богов… Веспасиан, видя, что все ему благоприятствует, в присутствии множества людей, с веселым лицом исполнил обе просьбы. И сразу же калека начал двигать рукой, а слепой прозрел. Все, кто при этом присутствовал, вспоминают об этом исцелении и поныне, когда уже нет никого, кто бы стал платить им за ложь». Так говорит Тацит, то же самое сообщают Светоний и Дион Кассий. Чего ж вам еще? В существовании Веспасиана вы вряд ли станете сомневаться, об императоре свидетельствуют несколько килограммов монет и десятки подписей, подлинность которых вне подозрений.
Доктор Кос встал, чтобы поставить книжку на место. Проходя возле Теофиля, он положил руку ему на плечо.
— Вот видите, это чудо иного сорта. Светское чудо. Скромное, осторожное, с оттенком недоверия. Не хотите ли узнать, что об этом говорит один из наших теологов, чье рассуждение вы можете прочитать в «Церковной газете»? Он попросту осмеивает Веспасиана. Он говорит, что плеванье на веки напоминает штучки знахарей, но никак не подобает чуду. Он удивляется, что оракул Сераписа не дал более пристойного рецепта. Однако шутки плохо служат тому, кто не умеет с ними обращаться, и наш ученый ксендз оказался в двусмысленном положении — он забыл, что тем же самым, по его мнению недостойным, способом был исцелен слепой в главе восьмой Евангелия от Марка.
Тем временем обманутая в своих надеждах Алина отважилась подойти под окна Гродзицких. В них было темно, шторы не опущены, в одном окне открыта форточка. Алина решила, что это и есть окно комнаты Теофиля, и, проходя под ним, бросила на карниз букетик фиалок, бесполезно украшавший ее пальто.
— Мы не верим в чудеса, — убеждал д-р Кос от своего имени и от имени Теофиля. — Никакие свидетельства не могут подтвердить чудо, разве что его подложность была бы еще большим чудом, чем тот факт, который на основании этих свидетельств считают истинным. Но такого до сих пор не случалось.
Он свернул себе еще одну папиросу и поднес ее ко рту, как бы напоминая этим жестом о начале их разговора.
— Так-то, сын мой, — сказал он,— вам нечего опасаться. Времена веры миновали. Разумеется, для людей цивилизованных. Вера существовала, когда добывание огня с помощью палочек или огнива было волшебством. Надо было заставить демона, владевшего огнем, чтобы он дал пламя. Этот тип мышления, начисто свободный от понятия причинности, существует и поныне, но, чтобы его обнаружить, не надо утруждать себя путешествием на Полинезийские острова. Мы каждый день сталкиваемся с людьми, для которых вселенная — это игра прихоти. Вот, к примеру, этот старый еврей наверняка сохранил веру эпохи палеолита.
Старый еврей вышел на улицу опустить металлические шторы.
— Сидите, сидите, — крикнул Кос, стараясь перекрыть оглушительный грохот железа. — Тут есть другой выход. У нас будет еще немного времени, пока Игель сосчитает дневную выручку.
Но Теофиль, взбудораженный словами незнакомца, тревожился по другой причине. Он чувствовал, что вступил в игру, где ему придется поставить нечто большее, чем подлинность нескольких семитических текстов. Кто же все-таки является первоисточником и миропорядка, и чуда, нарушающего этот порядок? Неужели не тот, о ком человечество единодушно свидетельствует столько веков? Ведь нет другого столь распространенного убеждения, как вера в бога. Однако едва он вкратце изложил эту мысль, как д-р Кос махнул рукой.
— Ах, это пресловутое consensus gentium! Оно скорее опровергает существование бога, ибо то, во что верят все, — это всегда нелепость. Ни один теолог не отважился бы сослаться на consensus omnium sapientium, ибо не нашел бы такового, а лишь такое согласие могло бы заставить нас задуматься.
Теофиль пожалел, что не сохранил в памяти поучительный перечень физиков, в химиков, биологов, философов, имена которых украшали в «Догматике» параграф «о доказательстве всеобщим убеждением», — ксендз Грозд, пользуясь карточками из своего бумажника, значительно расширил этот список. Но д-р Кос уже сам заговорил об этом:
— Нельзя отрицать, что многие ученые и мыслители были приверженцами той или иной религии. Чему тут удивляться! Чаще всего они не задумывались над этим, так как были поглощены своим делом. Если человек всю жизнь занимается, например, наукой об электричестве, у него может просто не оказаться времени для метафизических вопросов, и он, самое большее, отнимет у своего божества арсенал молний, ибо не позволит вмешиваться в те области, которые им хорошо изучены. А в остальном он может сохранить привычки, привитые ему с детства и связанные с дорогими воспоминаниями. Человек, только из стремления к удобству, готов назвать разумной самую причудливую концепцию миропорядка, если она не мешает какому-то виду его деятельности, дающемуся ему легко, или какой-то его способности, которую ему приятно развивать. Вера людей интеллигентных,— если она еще существует, — неимоверно запутана и хаотична. Там вы найдете и заученные в детстве религиозные догматы, и усвоенные сознательно, а чаще бессознательно, влияние других верований, и философские понятия, и научные факты, — все это бродит, бурлит, сталкивается и в конце концов превращается в покорность и равнодушие или механическое исполнение религиозных обрядов, очарование которых с возрастом может даже усиливаться.
Букинист, уже в пальто, стал позади стула доцента; он стоял молча и неподвижно, приученный побеждать все препятствия терпением. Д-р Кос обернулся, сказал: «Ага!» — и принялся искать шляпу. Нашел он ее на железной печурке, где еще с зимы стоял чайник.
— Осторожней,— сказал он Теофилю, — здесь ступеньки.
Ощутив более холодный воздух, Теофиль догадался, что они вышли во двор. Там было темно, как в колодце, только в вышине мерцало несколько звезд. Д-р Кос остановил Теофиля:
— Нет, я не верю, — сказал он, — чтобы человек интеллигентный или, как вы говорите, умный, мог в наше время быть верующим. Это было возможно раньше, когда наука была так робка и бедна, что, по сути, ни о чем не давала ясного представления. Но мы находимся в совершенно ином положении. Девятнадцатый век разрешил задачи, которые прежде были дразнящей тайной. Астрономия объяснила нам, как возникли миры, теория эволюции раскрыла историю жизни на земле, история показала, как родятся и умирают религии. Мы вступили в период новых идеалов, нам предстоит завоевать все!
Последние слова он почти прокричал, но в наступившей вслед за ними тишине Теофиль услышал шум удаляющихся шагов. Незнакомец исчез, во дворе не было ни души. Мальчику стало не по себе на этом мрачном пустыре, и он поспешил прочь. По пути он задел какой-то темный предмет, и тот покатился за ним с гулким грохотом, будь Теофиль в более спокойном состоянии, он бы сообразил, что это бочка, стоявшая под водосточным желобом. Очутившись наконец в воротах, освещенных закопченной керосиновой лампочкой, он на миг остановился, чтобы успокоилось замиравшее от страха сердце.
Доктор Кос так внезапно покинул своего слушателя отчасти из осторожности, чтобы не показываться на улице в обществе гимназиста, который, возможно, не сумел бы сразу перейти к разговору на безобидную тему, но главным образом — под влиянием умственного возбуждения. Он быстро шагал домой, охваченный мыслью, что неплохо бы написать книгу под названием «Новая эпоха», книгу весьма нужную, чтобы пробудить в людях сознание того, в какое великое и просвещенное время они живут. Он с упоением набрасывал в уме главу «Об отмирании суеверий».
«Надо было еще сказать этому юноше, — думал он, — что его боязнь расстаться с христианством это отнюдь не аргумент. Такое же огорчение испытывал греческий эфеб, когда беседа с философом или умная книга подрывали его веру в Зевса. Наверно, он вначале также чувствовал себя несчастным, когда его покидали все боги и милые сердцу духи гор, лесов, злаков, неба, когда все вокруг становилось каким-то тусклым, когда мир терял свои сочные краски и оказывались ненужными статуи и жертвоприношения. Да, в те времена только очень умный человек мог с такими мыслями стоять спокойно под небом, мечущим молнии».
Вставляя ключ в замок своей двери, д-р Кос размышлял, можно ли написать «Психологию религиозных кризисов», объясняющую, каким образом основные религии мира, начиная с египетской, угасали в душах, снедаемых сомнениями.
Под бой часов, вызванивавших на ратуше восемь, Теофиль спешил домой, догоняя свои разбегающиеся мысли. «Может, когда-нибудь я и пожалею, но сейчас я знаю, что буду жалеть во сто крат больше, если остановлюсь на полпути. Возможно, я буду несчастен, но могу ли я быть счастливым, если откажусь от познания истины».
Подходя к воротам, он растоптал букетик фиалок, который, упав с карниза, валялся на улице. Теофиль этого даже не заметил, он забыл, что на свете есть цветы и девушки, которые приносят цветы. Новая страсть, полная жгучего, манящего очарования, овладела им безраздельно.
IX
Гродзицкая сидела у окна — там было еще достаточно светло, чтобы штопать носки. Как всегда в сумерки, на нее находила тихая, беспричинная грусть. Ища для себя повода, эта грусть примечала то юные парочки, идущие под руку, то дворец, безобразные, красные стены которого выглядывали из-за старых деревьев, то почтовую повозку, каждый день в один и тот же час спускавшуюся по крутой улице под пронзительный визг тормозов. И не находя опоры ни в тоске по молодости, ни в картинах богатства, к которому ее ничуть не влекло, ни в однообразии жизни, Гродзицкая заполняла зту неопределенную грусть мыслями о двух дорогих ей людях, двух центрах своего существования.
Она отодвинула горшок с амариллисом, чтобы не проглядеть, как муж войдет в ворота. Сегодня у него заседание в наместничестве. Хоть было это делом обычным, Гродзицкая ждала возвращения мужа уже с легким беспокойством. Она гадала — пойдет он пешком или сядет на трамвай на углу Лычаковской. От этого зависело, с какой стороны — слева или справа — появится он в ее поле зрения.
Вдруг сердце ее встрепенулось: под окном прошел Теофиль и скрылся в воротах. Как всегда, он зашел через кухню, а проходя по столовой, не заметил матери и направился прямо в свою комнату. Гродзицкой показалось, что он вздохнул. Что она о нем знает! Он уже вышел из того возраста, когда она могла понять и предвидеть каждый его вздох. Она позвала его.
— Ах, ты дома?
Он стоял перед ней — такой ужасно длинный.
— Отец еще не вернулся, — сказала она, чтобы прервать молчание.
Теофиль, будто не слыша, подошел к окну, отодвинул занавеску, посмотрел на улицу и ушел в свою комнату. Было слышно, как он зажигает лампу, подвигает стул, раскрывает книжку. Спустя несколько минут Гродзицкая застала его погруженным в чтение. Она села возле сына, он бросил на нее быстрый, чуть удивленный взгляд.
— С некоторых пор я тебя совершенно не узнаю, — сказала она.
Откинувшись на спинку стула, Теофиль смотрел куда-то поверх лампы, на стену, где колыхалась гигантская тень матери. Его молчание было для нее неожиданным, она всерьез затревожилась.
— Чтo случилось?
Теофиль ощущал потребность излить душу, но он не хотел делать этого так просто. Первый раз в жизни он владел тайной, которая чего-то стоила; не годилось портить какой-нибудь ребяческой выходкой. Он желал придать ей как можно больше веса; проведя ладонью по лбу, он шепнул:
— Мне трудно об этом говорить с тобой.
— Побойся бога!
— Вот именно! — и он попытался изобразить горькую и язвительную усмешку.
Вдруг он вскочил со стула, прошелся по комнате и остановившись в углу, очень тихо сказал:
— Я утратил веру.
По вздоху матери он понял, что доставил ей скорее облегчение, и это чуть ли не разозлило его. В коротких, отрывистых, бессвязных фразах он изверг из себя суть своих терзаний, высказывая мысли дерзкие и кощунственные. В его речах проскальзывали невольные и мимолетные нотки болезненного душевного разлада, и они-то произвели самое сильное впечатление. Гродзицкая сразу поняла все, поняла намного больше, чем он сказал. Она сидела, не шевелясь, пораженная неслыханной новостью. У нее было такое чувство, будто ее сына кто-то изувечил,
— Откуда это?.. Кто тебя? — шептала она.
Теперь она уже ничего не понимала — Теофиль, заметив ее испуг и влажные глаза, сразу смягчился и принялся описывать все подробности своего нового состояния. Минутами казалось, что он намерен и ее переубедить — столько он выложил всяческих аргументов, и чужих и собственных. Мать была ошеломлена, она чувствовала себя беспомощной, точно ей надо было понять очень трудную книгу.
— Наверно, это из-за учения, — сказала она. — Может, каждый мальчик должен через это пройти.
— Но я уже не надеюсь вернуться! — раздраженно воскликнул он.
— Не говори так, дитя мое. Кто верует и исполняет обязанности честного католика, тому бог не позволит отречься от веры по такой причине. Это противоречило бы его справедливости и доброте.
В прихожей скрипнула дверь. Гродзицкая встала.
— Отцу ничего не говори, — шепнула она. — Помни, я буду молиться за тебя!
Советник явился сильно возбужденный,
— Сегодня после заседания у меня был долгий разговор с наместником, — сказал он, уведя жену в гостиную. — Знаешь, что предложил мне его превосходительство? Ах, ты никогда не догадаешься! Чтобы я перешел в Школьный совет.
— Ну и что?
— Я поблагодарил его, дорогая, вот и все. Объяснил, что это дело мне незнакомо и что я слишком стар учиться.
— Не знаю, правильно ли ты поступил.
— Вот тебе раз! Его превосходительство нашел, что я прав, и мы расстались наилучшими друзьями. Неужели ты хотела бы, чтобы я морочил себе голову всеми этими дрязгами с украинцами?
— Нет, но, может быть, ради Теофиля…
Гродзицкий выпустил руки жены.
— Знаешь, Зося!.. Пусть уж он сам о себе думает. Я не намерен тащить мальчишку за уши, протекцию оказывать.
Теофиль не причинил отцу хлопот: недели через две он принес почти безупречное свидетельство. Вступив на путь бунтарства, он обнаружил, что прежде всего надо избавиться от глупых ребяческих привычек, и сумел с ними справиться. Было бы ужасно, если бы, по его же вине, его отрывали от важных мыслей пошлым напоминанием, что у него-де есть другие обязанности. Блестящих успехов он не сделал, но, приложив некоторое старание, добился приличных отметок и перестал бояться неприятных сюрпризов. А между тем в его растревоженной душе все бурлило.
Каждый день он убеждался в том, сколь непрочен его новый мир, кое-как слепленный из нескольких книжек и обрывков беседы у букиниста, которая еще ощущалась им как событие. Мир этот не мог устоять даже перед звуком костельного колокольчика, будившего по утрам Теофиля своим торопливым, назойливым звоном. Еще заметней расшатывал его колокольчик, звучавший во время причастия, и священные слова, которые превращают хлеб в бога. «Церковь меня воспитала, и я не перестал ее любить», — честно признавался себе Теофиль. Однако он не исполнял никаких религиозных обрядов, сохраняя для приличия лишь видимость. Чтобы не выдать себя, он брал в костел карманное издание «Божественной комедии» в тисненной золотом обложке, похожее на молитвенник, и читал возвышенные терцины со смутным чувством, что, придись ему когда-нибудь за них оправдываться, он мог бы получить прощение.
Пришлось ему также перед концом учебного года пойти на исповедь. Он признался ксендзу Скромному в своем неверии и заявил это даже гораздо решительней, чем чувствовал. Законоучитель выслушал его спокойно.
— Все это искушения, сын мой, коими господь бог дозволяет нас испытывать. Надо иметь терпение. Не следует отвечать лукавому или слушать его. Пусть стоит себе у дверей и стучится. Если ты ему не ответишь, если не спросишь: «Кто там?», он в конце концов перестанет тебя осаждать.
Так представлял себе ксендз Скромный прекраснейшего из серафимов. На более внушительного дьявола у него не хватало воображения. Веря в козни духа отрицания, ксендз Скромный все же считал его власть совсем ничтожной. Это было существо хилое, невзрачное, робкое и простоватое, ксендз избавлялся от него очень легко — стоило разок топнуть ногой или попросту не обращать внимания. Годами не напоминало оно ксендзу о себе и наверняка оставило бы его в покое навсегда, если бы ксендз сам время от времени о нем не думал. Не давая нечистому повода привязаться к себе, ксендз Скромный порой обнаруживал его рядом с юными душами, которые исповедовал.
После причастия Теофиль провел тяжелую ночь. Перед глазами все стояло лицо ксендза Скромного, когда тот склонился к нему умиленно и торжественно, полный благоговения к свершившемуся таинству. «Умри я теперь, я был бы проклят навеки». Теофиль совершил такой тяжкий грех, какого прежде и вообразить не мог, но у него еще не было полной уверенности, что ему за это ничто не угрожает. Со страхом думал он о молитве, думал так горячо, что когда сон наконец обезоружил его, старые, целительные слова, возможно, скользнули по его жаждущим устам. Простерся над ним утлый, как паутина, свод с золочеными образами, снова его охраняли святые в нимбах, и белая рука с кровавым пятнышком на ладони приподняла завесу мрака.
Дневной свет рассеивал страхи. Теофиль только чувствовал на себе взгляд матери — настороженный, робкий. Опасаясь, что Теофиль не захочет перекреститься перед едой, она звала его к обеду, когда советник уже подносил ко рту первую ложку супа.
Однако ее мучила тайна, а также мысль, что жизненный опыт не мог ей подсказать, что делать в подобных обстоятельствах. После долгих колебаний она решила поделиться с Паньцей. Немалого труда стоило ей убедить старую даму, что дело это серьезное. Три клетки с канарейками сотрясались от оглушительного щебета, через открытые балконные двери врывались в гостиную дневная жара и уличный шум. Паньця ежеминутно вставала, и от ее беготни по рассохшемуся паркету дребезжали на комоде стеклянные безделушки. Гродзицкая насколько раз повторила свою историю, перемежая ее рюмочками ратафии, ломтиками ветчины и свежими булочками, которыми потчевала гостью Паньця. Стоило ей произнести имя Теофиля, как Паньця разражалась каким-нибудь воспоминанием из его детства.
— В жизни не видела такого мальчика!
Уразумев наконец, в чем дело, Паньця призадумалась.
— Это неприятно, дорогая моя. Я всегда думала, что первые заботы, которые он нам доставит, будут связаны с девицами. Но это еще успеется. Приглянется ему какая-нибудь барышня, и он забудет обо всем. Ах, какие у него глаза!
Гродзицкая не могла возражать восторженным речам Паньци и даже всплакнула.
К обеду она опоздала, советник сердился, что «ничего еще не сделано». Но постель была уже собрана, подушки и одеяла увязаны в тюки. Теофиль помогал укладывать мелочи. К четырем часам была заказана подвода, чтобы отвезти все это в Брюховичи. Пока нагрузили, время подошло к шести, а прислуга, которая должна была ехать с возницей, то и дело соскакивала с подводы и бежала на кухню за забытыми вещами.
Гродзицкие сняли на лето дачу, расположенную в самом лесу. Мебели там не было — только стол и два-три плетеных кресла. Все пришлось везти из Львова, это было настоящее переселение. Отец, мать и сын имели по отдельной комнате, а посредине была еще одна большая, пригодная для столовой. Но куда приятней оказалось сидеть на просторной застекленной веранде, где пахло соснами. Тут накрывали стол скатертью в голубых цветах, и советник привез рожок, старую игрушку Теофиля,— подавать сигнал прислуге на кухню в другом конце дома, чтобы несла следующее блюдо.
Отпуска Гродзицкий еще не получил. В будни он приезжал к обеду, затем отдыхал в своей комнате, шел прогуляться и после ужина возвращался во Львов — ночевать он оставался только в субботу или перед праздниками. Теофиль ходил на станцию встречать отца, вечером провожал его с фонарем. Он сам уговорил родителей ехать в Брюховичи, чтобы быть поближе к Львову и брать книги в библиотеке. Из денег, которые мать давала ему на дорогу, он экономил половину — в одну сторону шел пешком.
Выходил Теофиль утром, после завтрака, и шагал вдоль железнодорожного полотна по тропинке, повторявшей все неровности почвы, — то она взбиралась вверх, к самому лесу, то шла низом, у края поля; по дорожным столбам он отсчитывал пройденные километры, мимо него с грохотом пролетали поезда, минутку он отдыхал в Женьсне Польской на скамье у станционного домика, возле подвод, стоявших в лужах конской мочи, и наконец входил в пределы Львова, на что указывали быстро множившиеся рельсы. Он знал место, где можно было пролезть между старыми, негодными вагонами и через дыру в заборе выйти в глухой проулок, откуда минуты две ходу до Городецкой улицы. В кармане у него была завернутая в бумагу тряпочка — обтереть с ботинок пыль и грязь. Поменяв в библиотеке книгу, он еще немного бродил по улицам, где ему встречались какие-то совсем незнакомые лица, проходил под окнами своего дома, глядя на опущенные шторы, и возвращался ближайшим поездом, жуя в вагоне ржаной крендель с белыми пузырьками соли на темно-коричневой корке.
Устав с дороги и разомлев от запаха леса, он ложился на устланном сосновыми иголками бугре вблизи дачи и просыпался как раз вовремя, чтобы идти на станцию встречать отца. Но сперва он прятал книжку в глубокое дупло старой вербы, пахнувшей бронзовками, которые роились на потрескавшейся коре или, соединясь в нежные парочки, летали вокруг, отливая на солнце темно-зеленой бронзой.
Длинная полоска бумаги, на которой Теофиль выписывал из библиотечного каталога номера книг, как-то связанных с его сомнениями, была уже вся исчеркана. Он добросовестно одолел с дюжину сочинений, после которых «Жизнь Иисуса» вспоминалась как свежее весеннее утро. Не раз его одолевало искушение: не просить нынче у барышни-библиотекарши один из намеченных номеров, а взять да порыться в заманчивом каталоге и, упиваясь еще нечитанным романом Купера, превратить брюховичский лес в американские дебри, или войти в трудный, мучительный мир Жеромского, или предоставить Прусу поводить себя по улицам Варшавы, такой загадочной, будто она и Львов никогда не находились вместе на карте, окрашенной в один цвет, или слушать с Серошевским, как бьется человеческое сердце в юртах чукчей, или, на худой конец, вернуться к старомодному Клеменсу Юноше. Но он пересиливал себя и опять брал какой-нибудь толстый том с чистыми, незахватанными страницами, вызывая безмолвное удивление веснушчатой барышни. Поддерживало его в этом чтении тревожное любопытство и странная злая радость, с какой он воспринимал все, что могло унизить веру.
В особой тетради Теофиль записывал свои замечания и перечитывал их, чтобы хорошенько запомнить. Там были обнаруженные в Евангелиях противоречия, дотошные сравнения языческих и христианских обрядов, исторические факты, не согласующиеся с церковными преданиями, неразрешенные вопросы. «Откуда известно о падении ангелов, если в Священном писании об этом не упоминается?» «Мы знаем только три года из жизни Христа. Вся его молодость, до тридцати лет, неизвестна». Подобные вопросы привели его к апокрифам, он был поражен, открыв для себя эту лубочную литературу, но, сделав из нее выписки, заключил их следующими словами: «Благодаря какому покровительству или случаю четыре Евангелия стали каноническими?» Снова и снова его обступали дебри ересей, разросшиеся в первые века христианства. Как объяснить, что люди, жившие в те времена и в тех местах, описывали каждое из евангельских событий по разному и были готовы претерпеть за свои убеждения смерть и пытки, — в чем догматика усматривает высшее доказательство истины. До XI века в Вифинии жили евиониты, утверждавшие, что среди них находятся потомки братьев Иисуса!
Купив дешевое издание Нового завета, Теофиль держал его под рукой и, читая критические сочинения, тщательно сверял цитаты. Первая глава Евангелия от Луки — это позднейшее мессианистское добавление о чудесном рождении от девы, неизвестном Матфею. Две родословных Иисуса — у Луки и у Матфея — различны до невероятного: уж не говоря о несовпадении имен, у одного их сорок два, у другого только двадцать шесть, то есть меньше на шестнадцать поколений; или на четыреста лет! Рассказы о взятии Иисуса под стражу и суде над ним сбивчивы и неправдоподобны. Если с самого начала не признать, что Евангелие — это откровение господа, то чего стоят книги, повествующие о событиях, происходивших без свидетелей? Крест, на котором казнили осужденных, был простым столбом (по-гречески «ставрос») и не имел ничего общего с символическим знаком, появляющимся за много веков до Христа в разных религиях. Бог Митра — Sol Invictus — рождается двадцать пятого декабря. Малютку Диониса каждый год убаюкивает в яслях пение дельфийских жрецов. Богиня Хатор с младенцем Гором бежит от преследований Сета в Египет на ослике; иллюстрация этого мифа в помпейских фресках, изображающая богиню с ореолом вокруг головы, поразила Теофиля. Когда родился Кришна, злой король Канса приказал убить всех младенцев в стране. Разве Ирод (даже если бы он не умер за четыре года до рождества Христова) мог решиться на такой шаг без согласия римского прокуратора?
Идиллия Ренана вспоминалась теперь как слышанная в детстве сказка. Ее заслонила печальная картина страны порабощенной, стоящей на низкой ступени цивилизации, не знающей ни искусств, ни наук, ни каких-либо духовных стремлений, страны фанатичной и дикой, править которой для просвещенного римлянина было равно изгнанию. Теофиль проникся глубокой симпатией к Пилату. В поисках сведений о прокураторе он наткнулся на «Иудейскую войну» Иосифа Флавия и, наконец, в сборнике новелл Анатоля Франса прочитал рассказ «Прокуратор Иудеи», который наполнил его чувством блаженства. Вот где истинное соотношение событий! Вот верное чувство тех времен и людей!
«Бог Иисус» Немоевского показался Теофилю скучным, астральные мифы — натянутыми и нелепыми. Не нонравилась ему также критика Библии на немецкий лад, где для одной главы Книги Бытия находили нескольких авторов, где текст кроили на все более дробные куски, где ранние и поздние редакции, а также интерполяции спутывались в клубки-головоломки. По его мнению, это было не нужно, даже вредно. Приведись ему и дальше читать такие книги, могло бы случиться, что в один прекрасный день ему захотелось бы поверить в единство и подлинность Библии, только из отвращения к этой утонченной и въедливой подозрительности.
В свою клеенчатую общую тетрадь он старательно записывал мнения отцов церкви, различающиеся между собой, либо не согласуемые с современной верой. Св. Августин спрашивает, могут ли духи обретать телесный облик до такой степени, чтобы вступать в связь с женщинами, и разделяет взгляд, что лесные или полевые духи бывают инкубами. К этой записи Теофиль сделал пометку: «"De civitate Dei", XV, 22. Проверить!» И сразу же стал размышлять: «Почему теперь церковь не занимается изгнанием бесов из людей? Наверно, не потому, что сама перестала в них верить, а просто вера эта теперь ужасно непопулярна. Применять ее не применяют, но и отбросить ее без ущерба для Евангелия нельзя». Выписывая некоторые скабрезные цитаты, он всегда снабжал их подробным указанием источников, чтобы не оказаться в дураках. Попадались среди них совершенно поразительные: например, предположения о том, каким способом была оплодотворена дева Мария. Или такое: Керинф и Папий полагают, что земное царство Христа после второго пришествия будет длиться две тысячи лет, а Лактанций говорит, что праведники тогда произведут на свет бесчисленное потомство. Евангелисты и св. Павел надеялись, что второе пришествие Спасителя свершится еще при их жизни. Частенько Теофиль убеждался, что в источниках нет тех слов, на которые ссылаются авторы. И это тоже аккуратно заносил в свою тетрадку.
Из разных упоминаний Теофиль впервые узнал о прискорбных страницах в истории церкви, не без труда собрал он еще кое-какие сведения о Марозии, об Иоанне XII, этом Гелиогабале папства, который проматывал наследие апостолов, устраивал оргии в стенах Латераца, ослеплял и кастрировал епископов, пил из священной чаши за здоровье дьявола; наконец, «Леонардо да Винчи» Мережковского погрузил Теофиля в развратную и кровожадную атмосферу семейства Борджиа. Однажды, провожая отца на станцию, он нечаянно обмолвился об этом.
— Ничего удивительного! — сказал советник. — Папа — тоже человек.
— Но мы его называем «святой отец».
Советник засмеялся.
— А я называю наместника «превосходительством». Можешь мне поверить, что я не понимаю этого буквально и не считаю его выше прочих людей.
— Наместник замещает императора, человека, а папа — наместник бога.
— Правильно, и он должен об этом помнить, так как ему придется держать отчет перед богом.
— Но пока это произойдет, он управляет церковью, издает декреты, он непогрешим. Можно ли признавать непогрешимым человека без чести и веры?
— Если я не ошибаюсь, непогрешимость папы касается только догматов, — надо бы спросить у какого-нибудь богослова, бывало ли, что дурные папы в своих постановлениях нарушали догматы. Я уверен, что бог всегда удерживает их на пути, ведущем к его целям, как бы они ни были преступны.
— Каким образом?
— Очень просто, если тут можно так выразиться. Когда папам надо что-то решить в делах веры, бог дарует им вдохновение, ниспосылает откровение.
— Зачем же он избирает для святой цели таких людей?
— Кто может знать намерения господа? — Гродзицкий минуту шел молча, потом продолжал: — Лев Тринадцатый открыл архив Ватикана для ученых всех стран, вероисповеданий и убеждений. Он заявил, что церковь не боится истины, и был прав. На свете не было и не будет столь великого, мудрого и смелого учреждения. Подумай, мой мальчик, сколько высокого смысла в непрерывности и единстве католической церкви. Ее не смогли поколебать разврат и алчность, властолюбие икровожадность — все злодеяния, какими отмечена ее история. Сколько возникало ересей, сколько сект, а католическая церковь среди этих дебрей твердо шла своим путем и ни на йоту не отступила от строгих канонов веры. Мне кажется, причина здесь в том, что церковь всегда имеет в себе определенный заряд святости, — и во времена Борджиа он был не меньше, чем во времена катакомб, только иначе распределен.
На обратном пути Теофиль шел с зажженным фонарем через темный лес, и ему мерещились катакомбы. Он был с ними не в ладах. В своем экземпляре «Quo vadis?» он вклеил страничку с пародией на ту сцену, где апостол Петр наблюдает въезд Нерона в Анциум. В пародии Теофиль описывал разнузданную процессию папы Александра VI, на которую смотрит Савонарола. Монах точно так же стоит на придорожном камне, взгляд его так же скрещивается со взглядом папы, и говорит он те же слова: «Боже, боже, кому ты дал власть над христианским миром!» Надо написать книгу о Нероне, где ввсе было бы по-другому: сожгли Рим христиане из ненависти к язычеству и чтобы ускорить пришествие знамений конца света, предсказанных в апокалипсисе. Конечно, о св. Петре в этой книге не говорилось бы — ведь он в Риме не бывал. Но вскоре Теофиль отказался от своего замысла, чувствуя, что с ним не справится.
Внезапно сверкнула молния, над лесом прокатился раскат грома. Другая молния осветила вспухшее от туч небо. Теофиль прибавил шагу, продолжая думать о своем — мысли разбегались в отчаянной скачке по всем волновавшим его вопросам. Чтобы их придержать, он повторял их вслух. Каждая из этих отрывистых фраз была кощунство, безумными, грешными словами Теофиль дразнил молнии, то и дело ударявшие вдали по ничем не повинным деревьям. Он испытывал бешеное наслаждение от происходившей в нем борьбы между дерзостью и страхом. Казалось, борьба неравная: разум говорил, что нет никакой связи между электрическим зарядом туч и высмеиванием старых легенд, столь же беспомощных (повторял он себе) в понимании космических законов, как и и в мифы,— и все же где-то на самом дне души, под этой великолепной бравадой разума, жалким червем npитаилась неуверенность. Стоило вниманию чуть ослабеть, и во внезапной минутной тишине между двумя мыслями сердце сжималось от пронзительной, леденящей тревоги. Тогда Теофиль внутренне сосредоточивался и, напрягшись, единым усилием ускользал от сгущавшегося в его душе мрака.
Дождь хлестал его по лицу, ботинки облепил мокрый песок, свеча в фонаре потрескивала от дождевых капель, задуваемых ветром в отверстие. Запыхавшийся, промокший до нитки, Теофиль вбежал в дом. Прислуга, увидев его, вскрикнула. Мать, уже в халате и ночном чепчике, стояла посреди прихожей. Она подняла вверх лампу, которую держала в левой руке, и в ее свете увидела лицо сына, искаженное, странно перекошенное, с горящими глазами; углы его рта дрожали, мучительно силясь изобразить улыбку. Бессознательным, инстинктивным движением защищаясь от нечистой силы, мать сотворила крестное знамение.
X
Когда советник получил наконец отпуск, Теофиль помогал ему перебираться на дачу. Он нес маленький легкий чемоданчик и выпрашивал еще дорожную сумку, которую отец перекладывал из одной руки в другую. Возле жандармерии им надо было сесть на трамвай.
— Поклонимся той даме, которая идет навстречу,— сказал отец.
— Кто это?
Отвечать было уже некогда. Теофиль, снимая фуражку, увидел на расстоянии шага могучую бабищу с красным, потным лицом, в немыслимой шляпе, на которой громоздились перья, цветы и даже стеклянные фрукты. Она резко повернулась к ним, как бы желая их остановить, но советник прошел мимо, сделав вид, что этого не заметил.
— Это пани Файт, — шепнул он.
Теофиль украдкой оглянулся. Пани Файт тяжело ступала, покачиваясь и придерживая рукой юбку, шлейф которой вздымал облачко пыли на тротуаре,
— Откуда ты ее знаешь?
— Встретил как-то у Паньци. Только Паньця способна приручать таких монстров. Разумеется, и Паньця не пригласит ее вместе с другими гостями, но у них там какие-то свои дела. Нет, нет, я не хочу о ней сказать ничего плохого, каждый таков, каким его создал бог.
В трамвае Теофиль помалкивал; высунувшись в окно, он смотрел на улицу. «Мать Алины». От сочетания этих двух слов ему стало страшно.
— Алина с Пекарскими в Любене, — сказал отец, когда они выходили у вокзала.
Теофиль принял эту весть равнодушно.
Весь день он провел с отцом, удивляясь тому, как приятно в их беседе переплетались его рассказы из школьной жизни с происшествиями в канцеляриях наместничества. Советник говорил с юморком, как обычно, когда позволял домашним глянуть в щелочку на его чиновничью жизнь, и Теофилю чудилась атмосфера некой школы для взрослых. Точно так же скрипели там перья, шелестели листы бумаги, склоненные над ними седоватые господа так же нетерпеливо поглядывали на часы, разворачивали бутерброды с ветчиной, сплетничали о начальстве или молчали, уставившись в открытые окна, где виднелись кроны каштанов на ясном небе. Небо было того же цвета, что генеральский мундир императора, — сравнение прямо напрашивалось; ведь близилась пора осенних повышений по службе. Отец разошелся, и Теофиль не давал ему остыть, расспрашивая о рангах; ему и в самом деле хотелось побольше узнать об этой таинственной лестнице, на две трети которой можно подняться с помощью талантов, труда и заслуг, а уж на самую верхушку забираются лишь те, у кого есть титулы, поместья и предки.
— Я нисколько не удивляюсь, что у тебя такие мысли, — сказал советник. — Это у тебя от деда, он-то бывал на самых верхних ступеньках, правда, лестницы каменщика.
На другой день около полудня вернулась мать, ездившая в Милятын поклониться чудотворному распятию. Она принесла с собою радостное возбуждение двух дней, проведенных в вагонной толчее, на трясущихся по каменистым дорогам крестьянских подводах, в корчмах, пахнущих анисовкой, в школьных зданиях, превращенных в гостиницы, где на разложенных на полу сенниках ночевало по нескольку десятков женщин, В ее оживленном голосе еще звучало эхо тысячных толп, после которых лужайки пород костелом приобретали вид свежевскопанной земли, на ее щеках еще не погас румянец экстаза, губы словно припухли от молитв и песнопений, лоб посмуглел на солнце. Она привезла несколько образков, четки, пряники в форме сердца. Выкладывая это на стол, мать вдруг умолкла и внимательно посмотрела на сына. Из всего, что она привезла в своей сумке, Теофиль взял только пряник и стал сцарапывать ножом узор из розовой глазури. У матери потемнело в глазах, она поняла, что бог не внял ее мольбе.
— Я надеюсь на тебя и верю, что ты не говорил с отцом, сам знаешь о чем, — сказала она, когда советник после обеда ушел к себе.
— Будь спокойна, мама.
Храня, по ее просьбе, тайну, он шел на серьезные уступки. Каждое воскресенье сопровождал родителей в сельский костел и лишь в последнюю минуту, уже у входа, позволял толпе оттеснить себя. Однако он дожидался конца службы в обществе пожилых мужчин, обмахивавшихся панамами, и их жен, примостившихся на нескольких узких скамейках, сплошь изрезанных любовными надписями. Из костела порою слышался голос ксендза; по поведению стоявших в дверях можно было догадаться о ходе обедни; наконец, звенел колокольчик служки, все доставали из карманов и сумочек носовые платки и расстилали их на колючем от хвои песке. Теофиль стоял; он видел над головами коленопреклоненных ксендза, подносившего чашу к желтым свечам, и как ни старался, не мог убедить себя, что этот светлый обряд — пережиток кровавых человеческих жертвоприношений в далекие варварские времена. Этот робкий бунт против рационализма мать сочла бы своей победой, — тем более что почти каждый раз она просила ксендза помолиться за Теофиля. Он не знал, что уже несколько недель его имя упоминается сразу же после имен папы и архиепископа: «Memento, Domine, famuli tui, Theophili», — произносил ксендз шепотом, который мог расслышать только бог, и не зная по какой причине заказана молитва, повторял обычную формулу: «Чья вера тебе известна и набожность ведома».
Прежней свободе Теофиля пришел конец. Поездки во Львов за новыми книгами прекратились, похоже было, что до конца каникул придется довольствоваться последней книгой, взятой в библиотеке. К счастью, она была из числа тех, какие читаются медленно, над каждой страницей надо было подумать. «Старая и новая вера» Давида-Фридриха Штрауса вносила некоторый порядок в страстные и хаотичные убеждения Теофиля. До недавнего времени он жил как бы среди руин, однако настолько сохранившихся, что из них можно было смастерить хоть лачужку для бунтарских его чувств; теперь пришло время убрать это старье окончательно. Штраус обо всем говорил с холодной рассудительностью, не возмущался, не бушевал, а просто выметал прочь старые, никчемные предрассудки.
Читал Теофиль украдкой, в часы, когда отец после обеда спал; мальчик уходил тогда подальше в сторону села, где нашел себе безопасное место у речушки, протекавшей среди зарослей ольхи и пустошей. По нескольку раз перечитывая каждое предложение, он размышлял над ними, пока его не отвлекала голубая стрекоза или трясогузка, которая прыгала по торчащим из воды камням. Насекомое, птица, вода представлялись ему частицами той тайны, что поглотила древний облик мира, созданного в шесть дней. Впрочем, было куда легче возмущаться наивной библейской космогонией, чем, отрекшись от творца, отдать его творение непостижимой власти случая. По оглавлению можно было догадаться, что Штраус постарается рассеять эту тревогу, но Теофиль честно читал главы по порядку, ничего не пропуская.
Досаждала ему зависимость от погоды, которая вдруг испортилась. Не успевал он пройти двух шагов, как дождь загонял его обратно в дом. Солнце же показывалось одновременно с отцом, — отдохнувший, в белых брюках и черном пиджаке из альпака, он протягивал Теофилю корзинку для грибов.
— Отличная штука эти брюховичские пески! — говорил советник, — Только что был ливень, и сразу сухо.
В воздухе пахло душистой лесной прелью, на иголках и листьях висели волшебно сверкающие капли, гонимые ветром тучи уходили в другую сторону неба. Для отдыха после сбора грибов советник всегда назначал один и тот же пригорок с красивой, пышной сосной и приветствовал его стихом Проперция.
— Pinus et incumbens latas circumdabat umbras.
На обратном пути отец и сын делали крюк — заходили на станцию за газетой. Однажды советник, быстро проглядев газету, задумался.
— Назавтра мне надо уложить вещи, Зося.
— Что случилось?
— По тому, что пишут, видно, ожидается большое наводнение. Думаю, что я понадоблюсь в наместничестве.
— Но у тебя же только начался отпуск. Кто-нибудь тебя там заменит.
— На это, дорогая, не рассчитывай.
Дальнейший разговор был тем самым прекращен. Последние слова советника, произнесенные отрывисто и сухо, показывали тот его облик, которого семья почти не знала, зато хорошо знали все, кому в приходилось с ним иметь дело в здании на Губернаторских валах. У этого человека были две натуры. Одна, строгая и аккуратная, служила ему вот уже двадцать лет в присутственные часы — тогда можно было восхищаться ею в самых различных обстоятельствах, требующих терпения, самообладания, решительности, достоинства в отношениях с начальством и ума в распоряжениях. Эту натуру советник оставлял в канцелярии и, выходя на улицу, отвечал на поклон швейцара улыбкой, принадлежавшей уже к атрибутам его приватного облика.
Он старался не приносить в дом никаких «служебных дрязг» и не посвящал свою семью в подробности этого аскетического, трудового быта, от которого в частной жизни он освобождался с завидной легкостью. Добродушный, шутливый, уступчивый в мелочах, он даже мог показаться тюфяком, когда, выйдя, например, из дому, останавливался на улице и начинал советоваться с женой — не лучше ли вернуться за зонтиком. Если, случалось, на него находил гнев, — после смерти его матери, ворчливой, надоедливой старушки, поводы для этого чаще всего давал сын, — то это бывали, как говорится, «вспышки»: советник громко, по-простецки кричал, щеки у него багровели, руки дрожали. Жена в таких случаях легко укрощала его, говоря спокойным, сдержанным тоном: «Перестань, Биня, ты себе повредишь». Дома никогда не видели того жесткого, холодного взгляда, которым советник за время своей службы не раз, как громом, поражал подчиненных.
На другой день Теофиль вместе с матерью провожал отца к самому раннему утреннему поезду. На прощанье милая, пухлая рука сжала его пальцы и быстро высвободилась, он даже не успел ее поцеловать — отец уже помогал матери войти в вагон. Она всегда заходила с ним в купе, чтобы там обнять его без свидетелей. Когда поезд тронулся, советник еще выглянул в окошко:
— Если вечером не вернусь, значит, я остался во Львове.
— Завтра я к тебе приеду, — сказала Гродзицкая, идя рядом с поездом.
— Хорошо. Если мне придется уехать, оставлю записку на столе.
Однако на следующий день в газетах уже сообщалось о мерах, принятых наместничеством в связи с наводнением, а также упоминалось о том, что старший советник Альбин Гродзицкий выехал инспектировать наиболее пострадавшие районы.
Теофиль воспринял это событие как начало периода свободы. Но его ожидал тяжелый удар. Со Штраубом произошло нечто ужасное. Томик, оставленный на несколько дней в дупле старой вербы, лежал даже не в воде, а в мерзкой, грязной каше из размокшего мха и трухи. Просушка на солнце ничего не дала. Переплет противно покоробился, страницы выпадали, разлезались под пальцами, были покрыты отвратительными пятнами плесени. Эта катастрофа означала для Теофиля утрату залога и доверия в библиотеке, а заодно лишала его книг на весь остаток каникул. С горечью швырнул он в речку бумажный труп. Книга упала на самое глубокое место, под мостом, вспугнув раков и произведя минутный переполох в комариной колонне, тянувшейся от воды к трухлявым бревнам моста.
Оставшись без руководителя, Теофиль гораздо меньше печалился о вселенной и снова, как в старину, с бездумным упоением предавался языческому поклонению земле. В старом мундирчике и затрапезных брюках он забирался в лес, в одному ему известные заросли молодых грабов, где пахло прошлогодними листьями, которые шуршали под ногами; или находил среди пушистых елочек пень давно срубленного старикана и сидел часами, пьянея от смолистого зноя, загипнотизированный суетой муравьев, или взбирался на высокую сосну и у самой ее верхушки усаживался на ветвях, как в кресле, колышимом порывами ветра.
К обеду Теофиль приходил голодный, с сосновым иголками в волосах, все более загорелый, от солнца, обжигавшего ему кожу, глаза его как будто становились еще лучистей. Выражался он очень странно:
— Надо помнить, что мы обитаем на небесном теле, которое вращается в мировом пространстве.
С этой фразой (своей или чужой?) он ежедневно садился за стол — сопляк, не признававший молитвы. «Разве может быть такой вид у мальчика, покинутого богом?» — думала мать, любуясь этой искрой огня живого и дивясь тому, что произвела ее на свет.
На ужин он обычно опаздывал. Ему не хотелось торопиться в таинственный сумеречный час, когда еще теплится последний свет угасшего дня, но все уже набухает мраком, холодным, терпким, влажным от росы. Тогда с лугов поднимается туман, а из печных труб — белесые струйки дыма, пахнущего сосной и можжевельником. Первые звезды тонут в душе юноши, как в горном озере.
XI
В гимназии словно завелись привидения — там слышались голоса, грохот опрокидываемых парт, поздно вечером в разных частях здания то загорались, то гасли огни. Это старый гимназический сторож Михал производил генеральную уборку, теряя ежедневно по два-три фунта жира, накопленного за каникулы. Еще больше доставалось двум его помощникам — как бесплотные тени, сновали они взад-вперед, подгоняемые вихрем его ругани. Отставной вахмистр, бравый служака, он шпынял их казарменными словечками будто кулаками, да и кулак порою пускал в ход.
Уборка совершалась в бурном темпе, то и дело что-нибудь падало, разбивалось: кафельная плитка из печной облицовки или цветочный горшок у алтаря (в классах целиком римско-католических стояли маленькие алтари, тогда как в классах смешанных — с украинцами и еврея — было только распятие). Порой звон разбитого стекла извещал о том, что опять упала одна из картин, — старший сторож отставлял ее в сторону, чтобы отдать починить, но потом об этом забывали, и с каждым годом сокровища античного искусства, которыми некогда, на заре своей карьеры, учитель Рудницкий украсил коридоры гимназии, все убывали. Кабинеты — физический, естественный, археологический — убирала супруга Михала, славившаяся своей легкой рукой. Чтобы славу эту не запятнать, пани Мотыка вела себя так, будто одно ее присутствие могло сдуть пыль, покрывшую серой шапкой голову Гомера, и уничтожить моль, уже доедавшую несколько экспонатов местной фауны.
После осенней уборки, несмотря на видимость бурного усердия, в гимназии оставалось ровно столько паутины и пыли, сколько нужно, чтобы «старая конура» предстала в знакомом, привычном виде. Учителя, входя в гимназию, нежным взглядом окидывали собрание старых, надежных вещей, — и точно так же, как их поразило бы новое расположение картин или иная окраска стен, они с досадой отвергли бы мысль о каких-либо изменениях в идеях и фактах, из которых состояла их наука.
Здание этой науки, воздвигнутое, как и гимназическое, в XIX веке, не подвергалось с той поры никаким переделкам — настолько солидной казалась она и достойной доверия. Она прочно стояла на земле, чье движение в пространстве подчинялось нерушимым законам механики и чья поверхность уже выдала почти все свои тайны путешественникам, кораблям и железным дорогам; подобно цементу, скрепляла эту науку материя, плотная и сжатая в своих неделимых атомах, расположенных в периодической таблице Менделеева, как ангелы, согласно строгой иерархии; в этой науке царили порядок и гармония, они свивали из туманностей солнечные системы и некогда толкнули первую клетку на путь жизни.
Здание гимназии по своей архитектуре было чем-то схоже с утвердившейся в его стенах наукой. Геометрически правильное расположение классов и коридоров, никаких темных закоулков, просторная, светлая, хорошо спланированная лестничная клетка, все искусно размещено в четырехугольном здании, которое кажется более высоким и монументальным, чем есть на самом деле; некий аристократизм чувствуется в том, что огражденные забором сад и гимнастическая площадка отделяют гимназию от соседних домов; глухие окна на двух углах, западном и восточном, откуда дуют самые злые сквозняки, — не правда ли, идеальная форма для духа, почивающего среди достигнутых побед?..
Теофиль этого сходства не замечал. Как и в прошлые годы, он пережил радостную, шумную встречу первого дня учебного года; придя за добрые четверть часа до того как открыли ворота, он приветствовал товарищей, а те с завистью, которую пытались скрыть шуточками, смотрели на его загорелое лицо, на пробивающиеся усики и почти мужскую твердость взгляда. Теофиль с удовольствием положил ладонь на перила лестницы, по которым съезжал когда-то, улыбнулся портретам польских королей; через открытые двери учительской потянуло табачным дымом, водопроводный кран в коридоре, как всегда, был не прикручен, и тоненькая струйка, звеня, лилась в раковину, неподвижно висел шнурок звонка. Все было таким, каким должно быть — знакомым и слегка забытым, старым и вечно новым, обросшим воспоминаниями и полным неожиданностей. Удивительное здание! После родного дома оно — второе в иерархии любви.
Если бы Теофиль искал для него сравнения, то уподобил бы его шкатулке с сюрпризами, в которой каждый год открывается новый тайник. Теофиль уже ознакомился с шестью и теперь с жадным любопытством ждал, каким окажется седьмой. Неужели там не будет ничего иного, кроме стопки учебников и тетрадей, двух свидетельств, скрипенья мела по доске, раннего вставанья и запаха лампы, погашенной перед сном? Чем же будут заполнены четверть миллиарда секунд, мчащихся средь осенних багрянцев и непогод, средь белых и серых зимних дней, теплых ветров ранней весны и душистого созревания лета? При мысли об этом шаги Теофиля замедлились, ступеньки как бы стали круче. Будущее легло бременем на его душу, он предчувствовал, что отныне оно зависит от него в большей степени, чем когда бы то ни было.
Седьмой класс «А» находился на третьем этаже, и Теофиль заметил, что опять стало вроде бы тесней. Класс был меньше прошлогоднего, хотя и тот в свое время не казался большим. Это понятно, число учеников с каждым годом уменьшается, теперь даже не верится, что когда-то, семь лет назад, он сидел среди девяноста товарищей. Из них осталось всего шестеро, и не те, кого бы ему хотелось удержать; еще столько же поступили позже; остальных Теофиль видел впервые за партами — второгодники или новички. Из-за них еще более чужим казалось это помещение, и без того не слишком радующее глаз. Вместо грифельной доски на подставках, почтенной древней рухляди, которая тряслась под нажимом мела и с грохотом опрокидывалась на каждой перемене, здесь была доска настенная, передвигавшаяся вверх и вниз, грозная и зловещая, как неведомое орудие пытки. Над нею висело распятие, а слева от него, ближе к окну, единственная картина — трехцветная олеография, изображавшая храм в Пестуме на фоне унылого пустынного пейзажа.
Теофиль сел на свое любимое место в третьем ряду, ближе к двери, но, заглянув под парту, увидел, что там лежит чья-то фуражка и общая тетрадь в клеенчатой обложке. Не раздумывая, он сдвинул эти вещи на другую сторону парты. Вскоре явился их хозяин, невысокий, худой паренек, и с деланным огорчением вздохнул:
— Не сидеть тебе, Себастьян, одесную!
Его так и звали Себастьян, а фамилия была Сивак, и пришел он из Хировской гимназии, Теофиль встретил его холодно. К хировцам он относился с презрением, которое во всех казенных гимназиях передавалось от одного поколения к другому.
— Меня оттуда выгнали, — похвалился Сивак.
Вошел классный наставник — продиктовать временное расписание на два дня. Теофиль вынул новенький блокнот с золотым обрезом и в кожаной обложке — подарок Паньци — и красивый карандаш, черный с красным наконечником, его купил он сам. Эти изысканные вещицы произвели впечатление.
— Твой старик где служит? — шепнул Сивак.
— Он советник наместничества.
— Почти как мой. Мой служит в краевом отделе.
Теофиль усмехнулся. Какую бы мину состроил отец, он ведь так презирает краевой отдел! Жаль, что он не слышит! Но отец в эту минуту слушал речи куда более приятные, и Теофиль мог пожалеть, что не видел его лица, когда за ним закрылись высокие, белые полированные двери с ручкой в виде орлиной лапы с золотой державой в когтях.
Выйдя от наместника, Альбин Гродзицкий не вернулся в канцелярию, — чуть не бегом спустился он по лестнице и оказался на улице, не успев сообразить, что он без шляпы. «Не беда!» Он засунул руки в карманы брюк, это дало ему ощущение легкости и свободы, как в прежние времена, когда он вот так же, бывало, «выскакивал на секунду» из канцелярии за папиросами. Свернув на Русскую улицу, он увидел вдали лавочку, где их покупал. Черные и желтые полосы на табачной лавке вызвали в нем нежность, как и все давно знакомые вывески вокруг, и позеленевшая бронза на портале Валахской церкви, и даже каменные плиты тротуара, неровные, стершиеся, разделенные щелями, — на всем отдыхал глаз, все трогало сердце, было частью единственного в мире сочетания предметов, образующих город, полный несказанной прелести.
Часы на ратуше метнули в ясное сентябрьское небо один глухой удар, на черном циферблате золотые от солнца стрелки показывали четверть десятого. Гродзицкий ускорил шаг, подумав, что жена, должно быть, уже возвращается домой.
Он и не помнил, когда последний раз был на рынке в эту пору, — наверно, еще мальчиком, с матерью. Здесь ничего не изменилось. На том же месте, у фонтана Дианы, стояли прилавки с горшками, так же пахли свежеиспеченным тестом ларьки булочников и порхали над мешками с крупой воробьи. В порядке, установленном, видно, с давних времен, расположился молочный ряд, он тянулся до фонтана Адониса, брезгливо отворачивавшегося от корзин с яйцами и бидонов с молоком. Жену Гродзицкий увидел в птичьем ряду, где кудахтали в клетках куры, висели на крюках откормленные утки и хозяйки поддували гусям перья на гузках, чтобы определить толщину жира.
Гродзицкий медленно шел вслед за женой. Наконец-то он будет присутствовать при священнодействии, о котором каждый день столько разговоров! Интересно, где же тут старый Юзеф из Сокольник, у которого масло всегда cвежее; или коварная Валентина из Новоселок, у которой в этом году уже не возьмут картофель на зиму. Но он видел перед собой только шумную толпу и с трудом сквозь нее протискивался.
Пани Зофья останавливалась у лавок, у лотков, отвечала на приветствия и поклоны. Иногда ее окликали, она оборачивалась и с улыбкой говорила несколько слов старым знакомым. Ее путь извивался прихотливыми меандрами, как путь пчелы, ищущей корма. Под аркадами она купила букет астр, зачерпнула в стоящей рядом корзине горсть садовой земли, просеяла ее между пальцами, спросила цену и пошла дальше. Гродзицкий любовался ее движениями, полными очарования и достоинства.
Вот она вошла в залив овощей, который многоцветной дугой окаймлял большую часть рынка. Тут Гродзицкий уже не мог за нею поспеть: пестрые волны, по которым она плыла так спокойно, сомкнулись вокруг него, подобно полярным льдам. Он натыкался на людей, сбросил с какого-то лотка пучки морковки, наступил на кочан капусты, заблудился среди куч разложенных на земле овощей и, вконец растерянный от упреков пострадавших торговок, с каждым шагом чинил все большие опустошения. Огород перед его глазами чудовищно разрастался, как во сне, — не пройти. Свекла, дыни, огурцы громоздились горами, под ними тянулись бесконечные зеленые валы яблок и груш.
«Вот в чем смысл жизни! «Beatus ille qui procul negotiis paterna rura bubus exercet suis…» Император Диоклетиан отрекся от власти и трона, чтобы выращивать капусту. Последователей у него, правда, маловато, но это вряд ли означает, что мир с того времени поумнел. Прогресс! Цивилизация! Изобретения! Покажите мне изобретение, которое можно сравнить с колосом пшеницы, и скажите, придуманы ли более мудрые слова с того дня, когда впервые было произнесено: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь»..
В этот миг Гродзицкий мысленно смахнул с земного шара все города, фабрики, железные дороги, пароходы, словно обтер пыль с желто-голубого глобуса, — и остановился взглянуть на него в немом восхищении. Еще миг — и вся суша была вспахана, засеяна, были сняты урожаи, по сравнению с которыми урожаи геродотовой Месопотамии показались бы скудными, все человечество было расселено в домах, подававших о себе знак только дымом из труб — так заросли они садами, джунгли и дремучие леса имели вид гигантских парков, Сахара превратилась в гимнастическую арену, по морям плыли парусники, а на берегу Тихого океана сидели задумчивые рыбаки с удочками. Одно полушарие знать не знало о другом и нисколько о нем не печалилось; не было ни газет, ни денег, ни законов, ни правительств; люди родились и умирали на лоне земли, которая наконец-то стала для них матерью.
Альбин Гродзицкий верил, что человек был вылеплен из глины земной, и плохую услугу оказал бы ему тот, кто убедил бы его, что он ошибается. Есть ли материал более благородный, более подходящий, чем эта таинственная субстанция, которая от века творит и творит чудеса, бесконечно более заманчивые, чем имперские чиновники с намечающимся брюшком и лысиной? Земля! Двух мнений тут быть не могло — она была у него «в костях», которые, несмотря на четверть века канцелярской службы, надежно держали его позвоночник. Конечно, износятся и кости, но он-то позаботится, чтобы их не замуровали в склепе, не станет смешить людей, как толстяк Пекарский, — тот уже обдумывает солидное убежище для своих ста килограммов живого веса. Нет, он будет лежать в земле, рыхлой, влажной, прохладной, в этой глинистой львовской земле, глядя на которую скажешь, что именно из нее господь бог слепил Адама, — даже цветом она напоминает человеческое тело, разумеется, здоровое, загорелое, мужицкое тело — такое, каким всегда гордился род Гродзицких, пока один из них не сменил плуг на мастерок.
Сколько полей покрыли бывшие кладбища! Сперва могилы размывал дождь, потом ветер разбрасывал по рытвинам белые кости, и они рассыпались в прах, давая жизнь вечной земле. В день воскресения из мертвых каким скучным и пошлым будет путь из окованного железом гроба, из-под мраморных плит, которые время не сдвинуло с места! То ли дело вихревое кружение праха человеческого, отделяющегося от цветов, трав, злаков, древесных корней! Чтобы воскресить род Гродзицких, потребуются бог весть какие перевороты в природе: исчезнут леса, перестанут цвести сады, на месте золотых нив останутся унылые и бесплодные пустоши, когда из них уйдут спавшие жизнетворным сном верные их стражи и кормильцы.
Так, на львовском рынке, под алыми хоругвями осени, упоенный счастьем Альбин Гродзицкий заключил союз между жизнью и смертью.
— Эй, господин, вы топчете мои груши! — крикнула возмущенная торговка.
Гродзицкий вежливо извинился, и окинул более трезвым взором весь этот строенный из камня мир, который он осудил было на уничтожение. Жена куда-то исчезла. Он нашел ее уже возле Нептуна. Она говорила со старой еврейкой, Гродзицкий узнал Торбу — посредницу по найму прислуги. Все служанки, сколько он их помнил, приходили от нее, хотя еще покойница мать не раз клялась навсегда порвать с этой «плутовкой». Теперь тоже рядом с ней стояли две девушки в клетчатых платках, с большими зонтами под мышкой — сразу видно, из породы недотеп, что все в доме переломают и перебьют. Заметив мужа, Гродзицкая попрощалась с Торбой.
— Уже полчаса хожу за тобой по всему рынку,— сказал он, целуя ей руку.
Пани Зофья взглянула на него внимательно, с оттенком страха в глазах — она пугалась любой неожиданности. Но, видя, что лицо у мужа веселое, разрумянившееся от солнца, только спросила, где его шляпа.
— Оставил в канцелярии. Хочу, кстати, купить себе новую.
Гродзицкая обернулась к прислуге:
— Купи еще зелень и ступай домой. Я скоро приду.
Советник выбрал себе у Кафки светло-серый котелок, под цвет пиджака, потом взял жену под руку.
— Что все это значит, Биня?
— Расскажу у Бисанца, если не откажешь мне в удовольствии вместе позавтракать.
Пани Зофья была поражена: неужто выиграли в лотерею, которая вот уже девять лет была в минуты хорошего настроения источником фантастических надежд? Но она не расспрашивала, ей была приятна эта радостная неуверенность.
— Так вот, дорогая, — и Гродзицкий отхлебнул глоток пильзенского пива, — не успел я зайти в кабинет, как появляется курьер и сообщает, что меня просит его превосходительство. В такой час! Ты понимаешь?..
Ах, в этом подробном рассказе, который дразнил любопытство, как будто перед тобой медленно развертывают дорогой подарок, укутанный в несколько слоев бумаги, право же, было что-то неправдоподобное.
— Возможно ли это, Виня?
Да, все правда. Альбин Гродзицкий произведен в надворные советники.
— Пятый ранг. Представляешь себе? Это первая генеральская степень. Ну не плачь, а то еще подумают, что тут семейная сцена.
Но в зале было в эту пору пусто, никто на них не смотрел. Кельнеры стояли у окна и глазели на отряд ландвера в шляпах с перьями, который маршировал с оркестром. Бравый ритм марша заставлял прохожих останавливаться, с соседних улиц сбежались ребятишки и, радостно крича, сопровождали оркестр. Известный всему Львову сумасшедший рыжий еврей важно шагал впереди оркестра, держа у плеча, как саблю, длинную, суковатую палку. Кроме Гродзицких, в ресторане была еще только одна компания — несколько мужчин за столиком, уставленным бутылками и чашками черного кофе. По измятым их лицам можно было догадаться, что ночь они провели не в одном веселом заведении. Говорить им уже не хотелось, они молчали, тупо глядя в пространство, будто ожидая чего-то, что никогда не произойдет.
Гродзицкий был благодарен жене за ее слезы, они и ему самому помогли лучше почувствовать выпавшее ему счастье. Да, немалая удача для сына бедного каменщика, для человека, учившегося азбуке в темной, сырой каморке, при свече, воткнутой в горлышко бутылки!
— Многие отправляются в будущее в карете четвериком, а возвращаются с посохом, — сказал он. — Я вышел пешком, в старых сапогах с заплатами.
Он начал шепотом развивать свои планы. Теперь они могут позволить себе жить свободней. В этом году у него не было отпуска, зато в будущем году они поедут в Аббацию. Именно так! Но прежде всего — квартира.
— Помилуй, Зося, мне уже осточертело ходить в уборную через весь двор. Это просто неприлично.
Рассуждая вслух, он перебирал улицы города и ни на одной не мог остановиться. На улице Лелевеля? На нее когда-то выходила Садовая улица, где у стариков Гродзицких в пору необъяснимого и кратковременного достатка была своя хибара. Нет, лучше подальше. Может быть, на Курковой, вблизи Высокого замка? Или возле Стрыйского парка? Пани Зофья недоумевала: зачем искать места возле садов, когда весь город — сад? Однако Альбин еще больше размечтался.
— Сбережения у нас невелики, но, если взять ссуду, можно бы и приобрести что-нибудь. Как ты думаешь?
— Думаю, — улыбнулась она, — что ты самый наивный надворный советник во всей империи.
— Знаю, боишься лишних хлопот. Но ты не понимаешь, что такое собственный участок земли, где можно вырастить свои яблоки и посадить капусту. Император Диоклетиан… Да не в этом дело! Может, ты и права, но надо на что-то решиться.
— Это так спешно?
— Ах, Зося, нельзя же тебе век обходиться без отдельной комнаты. Твоя спаленка рядом с кухней, без окна, — это конура.
— Я была в ней очень счастлива.
От волнения у него перехватило горло. Пятнадцать лет — кусок жизни! Гродзицкому представилось что-то вроде медовых сот, тяжелое, ароматное, сладкое!
— А помнишь, — сказала жена, — как сажали на нашей улице клены? Теперь они уже такие большие.
— И напротив нас еще не было каменного дома. Из гостиной видна была Цитадель.
Он накрыл ладонью ее лежавшую на столе руку.
— В нашем заседании нет кворума, поэтому отложим его на вечер.
— Теофилю так близко в гимназию, — сказала она и задумалась.
— Ему уже недолго туда ходить. Любопытно, кем он станет. Я хотел бы, чтобы он был агрономом.
Но пани Зофья не слышала этого странного желания, последнего плода рыночных размышлений. Теофиль! Взволнованная мыслями о всей своей жизни, она невольно вздрогнула при звуках этого имени. Вот самая подходящая минута, чтобы открыть мужу тайну. Возможно, она не так ужасна, как кажется. Он…
Гродзицкий глянул на часы и потряс рукой, будто обжег пальцы.
— Счет! — крикнул он кельнеру.
XII
Теофиль слушал учителя Шеремету, — шла речь ложно-классической поэзии, и он ожидал появления Мицкевича. Учитель приложил немало стараний, описывая упадок поэзии в этот период, ее скуку и бесплодность. Как всякий уважающий себя полонист, он был романтиком и стремился поскорее похоронить останки XVIII века, которые разлагались и отравляли воздух уже в течение нескольких уроков. Теофиль воспринимал его хорошо отработанные фразы без восторга, но с почтением — как многих других учеников, его покоряло красноречие Шереметы. Против Маевского Шеремета был орлом, причем белым орлом. Ни в чьих устах слово «Польша» не звучало так благородно, никто, кстати, не употреблял его так часто. Этим словом Шеремета умел пробуждать от спячки умы учеников, и, пожалуй, только с его помощью удавалось вдолбить в них какие-то сведения о Каетане Козьмяне.
Но за четверть часа до звонка уставший и охрипший учитель начал спрашивать. Тогда Теофиль вытащил из-под парты несколько листков; обернув их чистой бумагой, как конвертом, надписал адреса. На всех листках был один и тот же текст: «Сегодня. Высокий замок. В 4 часа». Закончив работу, он передал записки по партам.
Их было пятеро — заговорщиков. Нынче второй сбор; по совету Вайды, Теофиль назначил его в другом месте, не там, где был первый. Сам он явился еще до четырех. Опершись о ствол старого каштана, он смотрел на живую карту местности, раскинувшейся внизу далеко-далеко, до сизой гряды гор. Меж деревьями тянулись белые дороги, голубые речушки вились средь далей, темной эмалью отливали пруды, кое-где виднелись кучки серых домиков с красными крышами — людские муравейники среди необозримых просторов зелени. И ничего-то ты не знаешь об этом безымянном для тебя мире, по которому пробегают тени облаков и полосы света! Ни один голос не доносился оттуда; маленький, будто игрушечный, поезд прополз по лесной опушке и исчез за деревьями.
— О чем задумался, рабби?
Сивак был самым верным «учеником» Теофиля, как он сам скромно именовал себя. С первой серьезной беседы Теофиль его покорил. Часу не прошло, и Сивак уже так основательно избавился от веры, будто никогда ее не знал, — это даже задело Теофиля: он думал, что наткнется на корни, пни, набухшие соками побеги, а тут, оказывается, была одна труха, которая рассыпалась от первого толчка. Сивак привязался к нему, благо сидели на одной парте, и он-то сколотил эту пятерку, предложив Теофилю заманчивую роль главаря.
Совершенно неожиданно в их кружок вошел Костюк. Сивак стал его уговаривать как бы в шутку, но он без колебаний присоединился к ним, пришел на первую встречу — слушал, вздыхал и молчал. Участие двух остальных подразумевалось само собой. Левицкий, давнишний, еще по народной школе, соученик Теофиля, после недолгой размолвки в конце шестого класса прямо-таки преклонялся перед Теофилем — на переменках от него не отходил, забегал к нему домой, вытаскивал в кино и платил за двоих. А Вайда напросился, когда пронюхал их тайну. Смышленый, живой, пронырливый, он мог с одинаковым успехом стать когда-нибудь и конспиратором и шпиком. В его умственном багаже была дюжина социалистических брошюр, это сделало его невыносимо самоуверенным. Теофиль не любил Вайду, в его речах проглядывали отблески иного, чуждого мира, где бушевали пожары, и хаос.
Выбравшись из скопища нянек, детских колясок, солдат, детей, пожилых господ и юных пар, заполонивших главные аллеи, заговорщики устроились на скамье у спускавшейся вниз тропинки. Скамья будто повисла над заросшим буйной зеленью оврагом, места на ней хватило для четырех — Теофиль стоял, опершись о дерево.
Семнадцатилетний юнец, собирающийся излагать товарищам серьезные вопросы, легко может показаться смешным. Чтобы избежать этого, Теофиль говорил небрежным тоном, употреблял выражения попроще, в пределах обыденного языка. Заложив руки за спину, слегка раскачиваясь на левой ноге и глядя вниз, в заросли кустарника и молодых деревьев, он говорил ровно и тише, чем обычно, — это придавало его словам характер признания.
— Возьмите, например, Евангелие от Луки. Писал его грек, который о Палестине понятия не имел. Ему каэалось, что дорога из Капернаума в Иерусалим пролегает между Самарией и Галилеей. Это все равно как нам бы сейчас сказали, что из Львова в Вену надо ехать по дороге между Австрией и Швейцарией. Разумеется, тому, кто убежден, что Евангелие от Луки — книга богооткровенная, трудно будет втолковать, что святой дух не знает географии.
— Вот наворотили чепухи! — Вайда хлопнул себя по ляжке.
— Идиот! — возмутился Левицкий.
— А что такого? И слова сказать нельзя?
— Тихо, ты! — толкнул его Левицкий локтем. — Продолжай, Гродзицкий.
— Лука так же, как Марк, сам ничего не видел и только рассказывал то, что слышал от других.
— Но святой Матфей был апостолом, — вставил Сивак.
— Евангелие от Матфея написано не апостолом, а неизвестным автором, его тезкой.
— А святой Иоанн? — спросил Левицкий.
— Со святым Иоанном у церкви было больше всего хлопот. Много времени прошло, пока его книгу признали канонической. Еще святой Августин считал некоторые места в его Евангелии апокрифами.
— А что такое апокрифы?
— Подложные сочинения, которые приписывают апостолам.
В эту минуту из пересохшего горла и запекшихся уст Костюка вырвались слова, которых от него никак не ждали:
— Никто не видел… Никто не присутствовал… Ничего не произошло… Но как же это «ничего» могло изменить весь мир?
Три пары глаз, взглянув на пылавшее румянцем худое лицо Костюка, уставились на Теофиля.
— Ох! — вздохнул Теофиль. — Это проблема историческая, так же как буддизм или магометанство. Еще Дюпюи сказал, что вскоре Иисус станет для нас тем же, чем стали Геркулес, Озирис, Бахус.
— А кто был сей господин? — спросил Вайда.
— Он по твоему ведомству. Был членом конвента.
— Мое ведомство начинается только с Коммуны. Все же я готов оказать почтение гражданину Дюпюи при условии, что ты будешь лучше произносить его имя.
— Ну, скажи, Левицкий, разве не срам, что такой олух ходит на двух ногах? — вздохнул Сивак.
— Э, ты преувеличиваешь роль хождения на двух ногах. Но вернемся к теме — мне не совсем понятно, что этот тип, живший сто лет назад, разумел под словом «вскоре».
— Это значит «теперь», — сказал Сивак. — Ведь мы живем в последнийвек христианства, конечно, кроме Костюка: он-то живет в первом веке.
Теофиль посмотрел на Костюка. Да, ему только и слушать все эти вещи! На его скулах горел румянец, он сидел неподвижно, лишь изредка потирая свои большие, потные руки. У него был вид юноши, посвещаемого в тайны пола.
— Ничто не дает нам права, — начал Теофиль, подзадоренный его сверкающим, жадным взглядом, — смотреть на христианство как на что-то единственное в своем роде, исключительное. Оно было таким же историческим явлением, как всякое другое. Христос — если он существовал — был сильной личностью, из тех, что создают новые исторические движения. Однако их значение преувеличивают. Прошло уже двадцать веков, а человечество далеко еще не стало христианским. Если подсчитать точнее, эта религия живет завоеваниями средневековья. С того времени число новообращенных либо уменьшается, либо уравновешивается числом отступников. Ныне это великое течение иссякает, то, во что мы верили, становится всего лишь любопытным мифом. Не случилось это раньше лишь потому, что исторические исследования начались недавно. До восемнадцатого века христианин не знал об истоках своей религии ничего, кроме того, чему учила церковь. Теперь все проясняется колоссальными данными сравнительной истории религий. Вот, например, святой дух на арамейском языке, на котором говорил Иисус, называется Руха, и слово это женского рода. Появляется он в образе голубки. Это символ богини-матери, которую чтили еще в каменном веке. Это вавилонская Иштар, ханаанская Астарта, иранская Анаитис, греческая Афродита…
Теофиль наконец увлек своих строптивых слушателей. Говорил он с возрастающим воодушевлением, выкладывал все, что узнал в последние месяцы, чувствуя уверенность в своей памяти, отдаваясь свободно лившемуся потоку слов. Видно, это созрело за дни, проведенные в лесу, в одиночестве, которое он изведал впервые в жизни. Он обязан ему больше, чем предполагал. Преодолев обычную скованность, он говорил все громче, жестикулировал. Никто его не прерывал. Все четверо сидели, уставившись на него и робея. Магия устного слова усиливала доводы. Ярким впечатлением легче пленить юные умы, чем рассуждениями. Впрочем, историческая критика, волшебная флейта тех времен, побеждала самые непокорные души.
O последовательности Теофиль не думал, говорил обо всем сразу, воскрешал собственные сомнения, чтобы опять их уничтожить, воспроизводил стиль, а порой и буквальный текст прочитанных книг — их меткие формулировки, как зажигательные снаряды, воспламеняли мозг, так что он вмиг создавал им подобные и, увлеченный своими находками, становился все более напористым и гибким.
Теперь у Теофиля был еще один слушатель. Ксендз Грозд, привыкший после лечения в Карлсбаде к далеким прогулкам, свернул с главной аллеи и только собрался спуститься в овраг, как громкие речи Теофиля заставили его остановиться. Он даже испугался. За кустами сирени и жасмина он не мог видеть говорившего, но не сомневался, что это голос юноши, причем, как ему показалось, знакомый. Для духовной особы было неприлично слишком долго стоять у кустов в таком, достаточно людном месте, и при каждом шорохе приходилось делать вид, будто он прогуливается. Но он удалялся лишь на несколько шагов и с минуту стоял, облокотившись на балюстраду, — пусть прохожие думают, что он любуется видом расположенных внизу предместий, серых и унылых, похожих на застроенный какими-то сараями гигантский двор, где железнодорожные платформы и станции казались кучами металлического лома. Возвращаясь к кустам, ксендз Грозд слышал все тот же голос, страстно обрушивавшийся на устои церкви.
Осторожно отодвинув ветки тростью, ксендз разглядел четырех гимназистов, сидевших на скамье, и под деревом — святотатца. Но видел он все это как в тумане, он был близорук, лица расплывались белесыми, мутными пятнами. Грозд подумал с горечью, что вот у ксендза Скромного рысье зрение, а никакой пользы тому не приносит, и впервые в жизни он готов был пожалеть что столько вечеров просидел, портя себе глаза, за выписыванием цитат из церковной литературы. Подумал он об этом не только с горечью, но и с обидой, потому что юный, дерзкий голос сыпал цитатами, причем такими, каких ксендз Грозд и припомнить не мог.
Ему было все труднее отрываться от манящих кустов, и он догадался, стоя возле них, чертить концом трости фигуры на песке, как бы в рассеянности или в раздумье. Эта выдумка позволила ему беспрепятственно выслушать тираду о нелепости библейской космогонии.
С гораздо большим пылом, чем на Евангелие, Теофиль нападал на Ветхий завет. Текст он недавно перечитал, отлично помнил и издевался над ним с безудержной жестокостью. Он испытывал глубокое отвращение к этим книгам, где столько злодейств, коварства, книгам, где один из лучших, Давид, «муж угодный богу», и тот был жестоким, развратным, лицемерным деспотом.
— Разве не поразительно, что столько народов пали на колени перед божеством жалкого семитического племени? Какой глупец поверит, будто причина возникновения мира в том, чтобы, увеличить славу именно Иеговы? Ничто так не повредило христианству, как союз С Ветхим заветом. Если бы оно вовремя отреклось от него, мы, пожалуй, могли бы отнестись к этой религии с сочувствием. Какое унизительное и ненужное бремя — два тысячелетия влачить за собой мировоззрение полудикого народа!
— Гродзицкий, — спросил вдруг Костюк, — ты веришь в бога?
Ксендз Грозд вздрогнул.
— Прошу прощения, — сказал не без ехидства д-р Кос, довольный, что напугал законоучителя.
Ксендз не на шутку смутился. Буркнув что-то невнятное, он искоса бросил на учителя испытующий взгляд. Сомнений нет — Кос знает, почему он здесь стоит, и, возможно, наблюдает за ним уже некоторое время. Впрочем, Кос этого не скрывал.
— Ах, — вздохнул он, — как мы ошибаемся, думая, что молодежь ходит в парки только из эротических побуждений!
Ксендз уже овладел собой и, глядя учителю в глаза вернее, чуть ниже глаз — такая у него была привычка сказал:
— Не понимаю, как педагог может шутить в такую минуту.
Учитель спокойно встретил взгляд, пред которым трепетала вся гимназия. Выслушав с полдесятка фраз столь неожиданного содержания в этом месте, казалось, созданном для амурных похождений солдат и толстощеких нянек, и по голосу догадавшись, кто говорит (слуховая память у Коса была лучше, чем у Грозда), д-р Кос тотчас пришел в состояние умственного возбуждения и забыл об осторожности.
— Жаль, что мы не слышали ответа на этот занятный вопрос, — сказал он с усмешкой.
Но ответа вообще не было. Внезапное обращение Костюка перебило ход мыслей Теофиля, и он не сразу понял, о чем его спрашивают.
— Ш-ш-ш! — зашикал Вайда. — Тут шляется какой-то долгополый.
Превосходство Теофиля подавляло Вайду; не в силах усидеть спокойно, он уже несколько минут стоял, машинально поглядывая по сторонам, и заметил наверху тень сутаны.
— Разойдемся кто куда, — посоветовал он.
— Ладно, — сказал Теофиль. — Вы все идите вниз, а я минуты через две поднимусь наверх.
Ксендзу Грозду не столько хотелось узнать ответ на «занятный вопрос», сколько его мучило сомнение, верно ли он расслышал фамилию, — внезапное появление Коса прямо-таки оглушило его. Поэтому он не терял из виду тропинку, от которой Кос пытался его увести. Но было уже поздно. Из-за кустов появился Теофиль и, не замечая ничего вокруг, прошел с опущенной головой в двух шагах от ксендза.
— А вы уверены, что говорил именно он? — шепнул Кос.
Грозд снисходительно усмехнулся.
— И это говорите вы, преподаватель психологии! Если бы нас обманул слух, достаточно взглянуть на его лицо.
Лицо Теофиля горело. Ему было душно, он расстегнул высокий воротник, чтобы не давило шею. В изнеможении он остановился у балюстрады, прикрыл глаза и стал слушать, как стучит в висках пульс — гулко, будто в пустоте. Он и впрямь чувствовал в себе пустоту, абсолютную, страшную пустоту — как будто с потоком слов из него вылилась душа. Он дышал медленно, глубоко. Ноги у него дрожали. Он осмотрелся — в десятке шагов, у поворота аллеи, была свободная скамья. Теофиль с трудом до нее дотащился.
Когда разошлись мальчики, их забаву подхватили взрослые.
— Как знать, — сказал Кос, — может, это следствие изучения догматики? Религия — дело чувства, для чего же пытаться оправдывать аргументами разума то, в чем всегда приходится в конечном счете ссылаться на авторитет святого духа?
— Религиозная вера, — возразил ксендз, — заключает в себе самой убежденность, которая выше всякой логики доказательств.
— Но разве минуту назад мы не были свидетелями того, как непрочна эта убежденность? Нет, религию нельзя доказать, можно лишь приводить доводы, склоняющие нас признать ее истиной. В пределах науки или этики…
— Религию нельзя свести к науке или морали. Она в корне отличается от них, она подчеркивает бессилие и несовершенство человека.
— Возможно. Но ее голос становится все слабей. Дух современности по сути своей — научный.
— И это его погубит. Что дает наука, кроме неуверенности и смятения?
— Свободу.
— Сказано: «Истина сделает тебя свободным».
— Но в том же Евангелии задан вопрос: «Что есть истина?»
Законоучитель с интересом взглянул на своего коллегу.
— Сколь прискорбно, что вы, так хорошо зная Священное писание, делаете из этого такое дурное употребление. Вы ссылаетесь на человека, который, стоя перед лицом бога, накануне дня, преобразившего мир, даже не догадывался об этом.
— Я не осуждаю Пилата. Боюсь, что на его месте я вел бы себя точно так же.
— Пилат был человеком без воображения. Даже ваш Ренан осудил его.
Они все стояли на том же месте, увлекшись жарким спором. Более нервный д-р Кос порой отходил шага на два и тотчас возвращался, подбегал к ксендзу то с одной, то с другой стороны, а ксендз, опершись на трость, лишь слегка повертывался, подозрительно следя за ним, как бык за пикадором.
— Свобода! Ложная свобода. Свобода по отношен к Христу — это бунт рабов! Что она может вам дать, кроме разочарования? Ваша наука мертва, от нее смердит падалью.
Кос решил, что пора закурить.
— Почему же вы, — сказал он, затянувшись, — обращаетесь к науке за доказательствами и подтверждениями? Почему так поспешно подхватываете все, что может вам пригодиться в этих никчемных и жалких исследованиях?
— Да потому, что даже сатана славословит бога. Наша задача — показать, как нынешняя наука, против своей воли, служит промыслу божьему. Геолог находит в недрах земли следы потопа; френолог, изучая человеческий череп, подтверждает, что три сына Ноя разделили между собой землю. Как будто дух человеческий, расплачиваясь за какие-то давние кощунства, не может коснуться ни одной тайны, чтобы из нее не глянул на него бог.
Кос даже свистнул от удовольствия. Ксендз обернулся назад — ему и в голову не пришло, что доцент университета, преподаватель VIII ранга, мог засвистеть. Когда же он поднял глаза на Коса, лицо у того было серьезное и сосредоточенное.
— И все же я думаю, — сказал Кос, что мальчик был прав. Ветхий завет — это непростительная оплошность христианства. Если б оно его не поддержало, он превратился бы в памятник старины, как «Энума элиш», который, пожалуй, выше по силе поэтического видения. Приверженцами Ветхого завета осталась бы лишь кучка евреев — пускай бы себе коснели в понятиях неолитической эры, для красочности картины мира. За столько веков было немало удобных случаев избавиться от этого печального наследства, Последний упущенный случай — Тридентский собор. Были бы тогдашние доктора церкви лучше осведомлены об успехах естественных наук в шестнадцатом веке…
— Не забывайте, пожалуйста, — перебил его ксендз, — что в Священном писании прежде всего надо искать учение религиозное и нравственное. Это не трактаты по естествознанию или истории, однако религиозные и нравственные истины излагаются в Писании на фоне сведений из разных областей, причем в такой форме, в какой они были известны в эпоху, современную этим произведениям.
— Ого! — удивился Кос. — Отчего же церковь не придерживалась всегда такого взгляда? Насколько легче пришлось бы тогда экзегетике, это избавило бы ее от многих хлопот с первой главой Книги Бытия!
Но ксендз Грозд, не колеблясь, отверг это облегчение.
— Напрасно вы тревожитесь об экзегетике, — сказал он. — Она неплохо справляется с тем, что вызывает у вас такое презрение. Первую главу Книги Бытия нельзя ни в чем упрекнуть, даже с точки зрения вашей «современной науки». Библейская космогония — шедевр простоты и логики, совершенно поразительный для эпохи мифов. Ваш хваленый «Энума элиш» — это собрание кошмаров, привидевшихся в бреду.
— Не согласен. Мардук создавал мир в более разумном порядке, чем Элогим. Сперва он создал небо, потом небесные тела, землю, растения, животных, наконец человека. Кроме того, в вавилонской космогонии чувствуется дыхание космических просторов, это вам не наивный рассказ о шести днях творения, с утра до вечера.
— Никто никогда не сомневался, что гексамерон в Книге Бытия — это символическая неделя.
— Но, сдается мне, святые Иоанн Златоуст и Иероним…
Ксендз Грозд сделал жест, который показался д-ру Косу неуважительным по отношению к таким столпам церкви.
— Библейское описание сотворения мира не так уж тесно связано с гексамероном, как можно подумать при беглом чтении. Оно состоит из восьми творческих актов воли божьей, разделенных в шести местах, как бы рефреном, упоминаниями о том, что был вечер и было утро, день такой-то. Похоже, что в первоначальном рассказе этих дней вообще не было.
— Что еще за первоначальный рассказ?
— Предполагают, что космогонию Моисей взял из преданий, возможно, времен Авраама. Это были верования эпохи патриархов,
— Стало быть, вы допускаете в таком важном разделе Пятикнижия интерполяцию? — удивился Кос.
— Я не признаю этого термина, его вконец опозорили нелепые писания маловеров и протестантских богословов. Согласно гипотезе, которую предложила Библейская комиссия, Моисей не трудился лично над Пятикнижием а пользовался услугами «соферим», то есть писцов, получавших от него указания. Труд этот осуществлялся во время сорокалетнего странствия в пустыне, прошел не один год, пока было создано однородное целое.
— Очевидно, внушенное богом?
— Очевидно, да. И, возможно, в текст были внесены какие-то изменения, в него могли даже проникнуть толкования, вписанные на полях.
— Идея весьма увлекательная и лестная для постановки канцелярского дела у вождя кочевых племен. Но прошу не прогневаться за такой вопрос: нет ли в гипотезе о позднейшем включении шестидневной системы того, что церковь называет «opinio temeraria»?
— Ошибаетесь. «Opinio temeraria», — это если человек усвоит какой-то взгляд в вопросах религии или упорно его придерживается без надлежащего основания — «sine ratione sufficiente», и с пренебрежением к авторитету церкви — «cum contemptu auctoritatis». А то, что я вам изложил, ни в чем не отступает от официального мнения церкви, лишь поясняет его и дополняет.
Ксендз Грозд уже давно оставил оборонительную позу и, обретя естественную свободу движений, стал прохаживаться неспешным шагом, то и дело останавливаясь, чтобы плавным жестом обратить внимание собеседника на какой-либо оттенок своих доводов. Прежний неприязненный его тон исчез, уступив место благодушию. Он слушал себя с удовольствием и не сомневался, что Косу тоже приятно его слушать. Он почти огорчился, когда Кос, глянув на часы, сказал:
— Весьма сожалею, но мне пора возвращаться в город.
Это было сказано искренне. Беседа с ксендзом забавляла его, как иной раз статьи в «Церковной газете» или в «Катехизическом ежемесячнике», но была еще увлекательней, так как ее можно было направлять по своему желанию.
У трамвайной остановки ксендз Грозд простился с ним рукопожатием, пожалуй, даже сердечным, если вспомнить, что ксендз обычно протягивал руку мирянину с особым высокомерием духовного лица, ожидающего, что ее поднесут к губам.
XIII
Пустота, которую чувствовал в себе Теофиль, начала заполняться, но как-то странно. В ней еще не было ни понятий, ни слов, ни образов, а как бы звучала некая мелодия или ритм, усиливаясь и затихая равномерными волнами. Это осаждало его, как далекое воспоминание, которое сперва возвещает о себе запахом, цветом, пока не сгустится в образы предметов, в определенное пространство, в единственное и неповторимое мгновение. В памяти возникали клумбы с анютиными глазками, крылечки крестьянских хат, обросшие диким виноградом, куст пионов, мальвы вдоль старой, полусгнившей ограды, полоса цветущего льна, глядящая тысячеоким голубым взором, звонкое пение жаворонков в поле; скрипели ржавые петли окон с мутными, радужными разводами на стеклах, кудахтали куры, кружилась у будки собака и ловила мух. Образы возникали и исчезали под звуки все той же мелодии, далекой, таинственной и животворной, — казалось, она-то и порождает в воображении эти картины.
Неведомыми путями-дорогами, где каждый поворот на миг расцветал, чарующей красой, всплыл наконец в сознании пруд у мельницы, где меж двумя струями воды, шумевшей в шлюзах, плавали утки. От пруда шла тропинка посреди приземистых яблонь с беленными известью стволами и вела она к опрятному домику в глубине сада. В саду том росли лекарственные растения — шалфей, майоран, рута, мята, полынь; он окружал дом приходского священника запахами волнующей древности, напоминая сердцу о тех временах, когда на опушке лесов, еще населенных старыми богами, вот такой же домик, похожий на сундучок, был вместилищем и нового слова божьего, и аптечки для врачевания недугов.
Ксендз Пруссота не только по имени, но и по всему облику, казалось, сошел со страниц буллы папы Иннокентия, — ему бы бродить среди хаотически громоздящихся бревенчатых городов, окруженных частоколами, среди лесных сельбищ, среди лугов и полей, где по межам высились деревья, еще помнившие Пястов. То был добродушный великан, и если бы судьба разумней выбрала год его рождения, он бы охотился на туров, лосей и медведей, — но они уже перевелись, и потому он гонялся за дьяволом в глухой галицийской деревушке, где проживало несколько сот душ. Загрубелые эти души каждое воскресенье дрожмя дрожали от его громового голоса, который за четверть века изрядно расшатал стропила старенького деревянного костела. Во время прошлогодних каникул Теофиль дня не пропускал — разве в самую отчаянную непогоду, — чтобы не постоять у ограды сада, где вместе с вечерним солнцем появлялось, такое же круглое и красное, лицо ксендза Пруссоты.
Ксендз распевал Часослов или читал вслух молитвы, прилаживая ремни к цепу, который каждый день ломался в его ручищах, словно созданных для молотьбы у циклопов. Теофиль испытывал непонятное наслаждение, подглядывая за ксендзом и подслушивая, а тот, не считаясь с требником, переходил вдруг с латинского на родной польский язык и молился так, будто беседовал с богом. Разговор был мужицкий, хозяйственный, добрососедский, с шуточками, советами, вспышками гнева, иногда его прерывало оглушительное чихание, — это ксендз нюхал табак. Он брал из деревянной табакерки понюшку, которой другому хватило бы на целый день, доставал из кармана большой клетчатый платок и, возясь в саду, безудержно чихал. Через минуту платок был мокр, ксендз вешал его на заборе и возобновлял прерванную беседу с творцом, который, казалось, точно такие же платки поразвешивал на небе.
Ксендз Пруссота придерживался своей особой религии, религии, в которой даже бог трудится. Для него неделя творения не окончилась. Он представлял себе, как седобородый старец оттирает тучами руки, засмолившиеся от звезд, которые бог целехонький день лепил, как сырные лепешки, — или измазанные глиной после сотворения нового Адама на какой-нибудь другой земле, парящей в небесных просторах. Ему был непонятен бог, почиющий в недвижном ослепительном ореоле, и он полагал, что богу мало одного земного шара с жалким миллиардом человеков. Его бог все еще сажал деревья в раю, посылал ангелов с огненными мечами, являлся в пылающих кустах — где-то там, в звездных дебрях.
Из-за увитого настурциями забора Теофиль видел эту поразительную вселенную, которая возникала в гигантских и туманных очертаниях из громогласных монологов ксендза. С упоительным трепетом Теофиль думал, — а вдруг и в самом деле бог находится здесь близко, вдруг он посещает этого человека, который мог быть одним из тех, кто, срубая священные дубы, строил из них первые божьи храмы по приказу князя Мешко.
Второй персонаж святой троицы тоже не сидел без дела. Над новыми мирами ксендза Пруссоты, равно как и над нашим, тяготело проклятие греха, и они ждали искупления. Уловив отзвуки бесконечности из двух-трех астрономических книг, случайно попавших ему в руки, этот земной Титан заполнил бесконечность новыми Голгофами, и для него сын божий все еще рождался, поучал и умирал, уносимый вихрем таинственной космической спирали. Ксендз Пруссота никак не мог расстаться с евангельской драмой; если б он увидел в ней историю, которая больше уж не повторится, он, возможно, утратил бы веру в нее, а божественные слова Христа, если б они обратились всего лишь в священный текст, стали бы для него мертвыми, как камни. Но нет, слова бога сохраняли в глазах Пруссоты нетронутую свежесть, он был убежден, что в любую данную минуту уста господни произносят их над какой-нибудь неведомой юдолью плача. Наделенный памятью, которой позавидовали бы люди тех времен, когда еще не было книг, ксендз Пруссота мог часами читать наизусть Евангелие без единого пропуска или ошибки. И он читал его на склоне дня, в сумерках, — как будто тихонько рычал лев.
Теофиль наконец узнал мелодию, тревожившую его. То была музыка слов Христовых, которую он только что сам в себе пробудил, приведя друзьям несколько цитат. Теперь она вернулась к нему в пурпуре летних воспоминаний, пьянящая и властная, как июльская ночь.
Неужели можно согласиться с тем, что этот единственный в мире голос не вышел из чьих-то уст? Как же он сохранился, почему вот уже двадцать веков он звучит, все такой же чистый и неподдельный? Разве рядом с ним всякое другое человеческое слово не кажется вялым или сухим, пошлым или напыщенпым? Воистину, лишь оно одно несет в себе и запах земли, и жар огня, и прохладу воды, и легкость воздушных просторов. Сплав четырех стихий, оно, быть может, и есть то Слово, которое «стало плотью и жило среди нас»?
Стертое выражение, его так часто повторяет мать! И тут Теофилю привиделась она, возвращающаяся после вечерни с золотообрезной книжечкой в руке. Он сразу понял смысл видения: что бы он себе ни внушал, эти вещи никогда не будут ему безразличны. Самим актом крещения он, помимо своего ведома и воли, был вовлечен в область метафизики, и даже если все ее понятия выветрятся из его мозга, она будет в нем жить в тысячах мелочей. Строй его души раз навсегда определен, никакие встряски и перевороты не сотрут ее плана, — как в развалинах мертвых городов, над которыми пронеслись бури веков, узнают по врезавшимся в землю очертаниям форму уже не существующего храма.
«Подыми камень, и найдешь меня там; расколи дерево, я и там буду», — вспомнились ему удивительные слова одного из христианских апокрифов.
Оставшись в одиночестве, ксендз Грозд утратил благодушие. Он стал размышлять об этой истории с мальчиками и все больше убеждался, что дело не так просто, как ему сперва показалось. Конечно, это его ученики — вряд ли Гродзицкий стал бы искать себе слушателей в другой гимназии. Если на них донести, этим не предотвратить вопроса (выскажут ли его вслух или шепотом — безразлично): а кто, собственно, отвечает за их души, если не законоучитель? Все, в чем они повинны, относится полностью к его предмету. Как же мог он не заметить, что с ними происходит? Ведь такие перемены не свершаются мгновенно, для них нужно время, и, видно, времени было достаточно, судя по начитанности этого мальчишки.
Напрасно ксендз искал в своей памяти хоть малейшее подозрение. Вот Гродзицкий встает с третьей парты и без запинки отвечает на вопросы о первых христианских общинах. Отметка — отличная. Когда же это было? Нынче вторник… В субботу. Три дня тому назад!
Нет, он не знает, что на совести у его учеников. А как он может знать, если не исповедует их? В его уме промелькнула маленькая круглая фигурка ксендза Скромного и вмиг исчезла, словно спасаясь от злых чувств которые пробудила.
А может быть, умолчать об этом? Кос наверняка не выдаст… Нет. Нельзя. Кос не выдаст, но будет знать, а ксендзу Грозду было слишком хорошо известно, чего стоят подобные тайны.
Осаждаемый тягостными мыслями, он шел по красивому спуску Курковой улицы, залитой светом заходящего солнца, как по мрачному, холодному коридору.
Теофиля разморило от усталости и от солнца, которое теперь освещало его скамейку. Течение его мыслей навевало на него все более глубокий покой. Они расходились и сходились, как густые кроны деревьев при слабом ветерке. Теофиль прикрыл глаза и уснул.
Ксендз Грозд зашел в монастырь бернардинцев, где не был уже месяца три. Каждый из встречавшихся ему монахов сетовал на трудные времена и явный упадок благочестия. Вдоволь наслушавшись этих жалоб, ксендз Грозд робко постучался к настоятелю.
— Laudetur Jesus Christus.
Высокий костлявый старик ответил ему громким «Saecula!» и осведомился о здоровье. Ксендз вкратце рассказал о своих недугах и закинул словечко о дорогостоящем лечении в Карлсбаде.
— Вы, светское духовенство, любите себя холить, — махнул рукой бернардинец. — Но у нас бедность. Вот все, чем могу тебе услужить.
Он дал ксендзу сто крон и поминальный список. Это был длинный перечень имен с краткими пометками, по какому поводу поминать. Пробежав список опытным глазом, ксендз Грозд быстро прикинул, что плата будет самая ничтожная, много-много кроны по три. Список он, разумеется, взял, чтобы не обидеть вспыльчивого старика, но в душе пожалел, что не зашел сперва к иезуитам.
Теофиль пробудился от звуков голоса, который, как ему показалось, был связан с его сном. Но нет, это уже была явь: по аллее шла Алина с молодым человеком. Кавалер был гораздо выше ее и, разговаривая, наклонялся к ней, извиваясь всем туловищем и размахивая руками, будто собирался схватить ее в объятья и увлечь в танце. Впечатление это усиливалось еще и тем, что ноги незнакомца выделывали скользящие движения, напоминавшие Теофилю «лансады» учителя танцев Лефлера, у которого он, уступив желанию матери, год назад взял одия-единственный урок. «Если б я прошел весь курс, — подумал он, — у меня был бы такой же вид».
Однако Алине этот тип, видимо, нравился; чуть запрокинув личико, она смотрела на него, улыбаясь. Снова в глубине аллеи послышался ее голос.
— Невелика потеря, недолгие слезы, — прошептал Теофиль, когда косы Алины скрылись за деревьями.
Он встал со скамьи, стоявшей на слишком видном месте, и забрался в кустарник вдоль балюстрады, ограждавшей крутой спуск. Далеко внизу лежал город, жемчужно-серая сплошная масса домов, поглотившая улицы — виднелись только зеленые лоскуты садов и кое-где площади, зияющие в немом крике. Над этим окаменелым безмолвием кресты на костелах подавали один другому световые сигналы, то погасая, то вспыхивая в лучах заходящего солнца, по которому пробегали облака.
Небо было как гигантская карта, изображающая море и разбросанные по нему острова. Похоже на Малайский архипелаг — вон Ява, Суматра, Борнео, Целебес, видев даже крошка Вайгео, насаженный на экватор и скрючившийся, как червяк на булавке. Теофиль, зачарованный этим зрелищем, находил в красках облаков, от бледно-желтой до синей, цвета различных колоний, расположенных, правда, чуточку иначе, чем на самом деле, — как будто это была карта прошлых завоеваний или новых политических планов. С этой частью глобуса его связывала давняя дружба со времен увлечения марками и странствий по атласу, долгих часов раздумий и мечтаний, которые вдруг нахлынули на него порывом тоски. «Побываю ли я там когда-нибудь!» А почему бы нет? Человек — не дерево, он не обречен расти, жить и сгнивать на том же месте, где его посеяла судьба.
Между тем далекий ветер в поднебесье, неощутимый на земле, лепил из облаков новые материки, изрезанные светлыми заливами; появлялись горные хребты, в них лопались золотые жилы, и жидкий, желтый металл застывал большими кусками блестящей жести. Город внизу становился все более серым. Теофиль охватил его весь одним взглядом и, как маленький сверток, понес с собою во всепожирающее время.
На краю Иезуитского сада, под величавым пирамидальным тополем с двумя блестящими стволами, которые устремлялись ввысь, как две руки, воздетые в восторге или экстазе к вечернему пожару, сидел на складном стуле сгорбленный старик. Рядом, на клеенке, расстеленной на траве, он разложил картины собственного изделия. То были унылые пейзажи, в которых солнце не греет, деревья чудом держатся на плоской и безжизненной, как стол, земле, и небо блекло, словно для него не хватило лазури, Мимо таких произведений обычно проходишь с чувством меланхолии или сострадания — сколько в них похоронено надежд, безрассудных и мучительно жалких!
Однако ксендз Грозд остановился и даже, указывая тростью, спросил:
— Скользко это стоит?
Старичок вскочил, чтобы подать ксендзу вещь, привлекшую его внимание. Это была сколоченная из четырех дощечек рамка — с полным пренебрежением к коварным законам перспективы там были изобращены лес, серна и охотник в тирольской шляпе с пером, торчавшим рядом с верхушками сосен.
— Крону, — прошептал художник.
Ксендз дал ему три монетки по шесть крейцеров и ушел, не дожидаясь благодарности или протеста.
Ксендз Грозд коллекционировал рамки. Стены двух его комнат — кабинета и спальни — были увешаны картинами, картинками и картиночками. Они забирались в самые темные углы, висели даже над печью, прямо у потолка. Здесь были собраны рамки различных форм, из всевозможных материалов. Круглые, овальные и треугольные выделялись среди обычных квадратов и прямоугольников из дерева позолоченного, отделанного под красное или черное, покрытого зеленым или голубым лаком; были рамки из плюша, из ракушек, выпиленные лобзиком из фанеры. Ксендз Грозд покупал их где придется, даже в ларьках у собора, где, по его мнению, были особенно хороши маленькие рамки из четырех суковатых палочек.
Ценность картин для ксендза роли не играла, он их никогда не покупал. В его коллекции были картинки из религиозных проспектов, групповые фотографии, где ксендз Грозд сидел рядом с директором, положив руку на столик, а позади группы учителей раскрывался веер мальчишечьих физиономий; были и фотографии отдельных лиц, среди них несколько поблекших снимков родителей ксендза — почтенных крестьян из долины Сонча, и его самого в одежде семинариста; были портреты епископов, архиепископов, Льва XIII из каких-то памятных подарков. Но они меркли рядом с пестрым собранием пейзажей, цветных репродукций и каких-то совершенно загадочных картинок, похожих на иллюстрации неведомых книг.
Равнодушный к прекрасному, ксендз Грозд ценил только краски как таковые; если в картине они были недостаточно ярки, улучшал ee фоном разноцветной бумаги. Фон — это была его слабость, и тот день, когда он наклеил портрет императора Франца-Иосифа на голубую в золотых звездочках бумагу, принес ему мгновение глубокого блаженства.
Возвратившись домой, он снял сутану, надел белый халат и принялся за свою любимую работу. Еще по дороге он обдумал, какую картинку вставит в новую рамку. Она хранилась в старом клеенчатом портфеле вместе с дюжиной других, ожидавших своей очереди. Это была трехцветная репродукция «У реки» Аполлониуша Кендзерского — крестьянка, набрав воды в глиняный кувшин, выливает ее в стоящую рядом деревянную кадку. Лес в новой рамке как бы расширял пейзаж, а охотник и серна приглядывались к безыскусной сценке.
Ксендз вытащил из-за печки кусок стекла, обтер пыль, примерил к рамке и с проворством, говорившем о долгой практике, вырезал алмазом нужный прямоугольник. Засунув стекло в рамку, он приложил картинку и начал аккуратно вбивать гвоздики. Легкое постукивание молотка успокоило его. Но что с того — ксендз все равно не мог придумать, как ему поступить. Возясь с картинкой, он немного повеселел, и вся эта история с Гродзицким представлялась ему уже не в таком мрачном свете, но все же весьма туманно.
Вот забит последний гвоздик, и ксендз пошел на кухню с кастрюлькой, в которой разогревал рыбий клей.
— Вы только кашу там не отодвигайте, братец. Наказание господне с этим клеем!
Это сказала сестра ксендза Грозда, которую косоглазие, выпирающая челюсть с длинными желтыми зубами и сварливый нрав уберегли от потери невинности. Она вела хозяйство у брата, укрепляя его вот уже двадцать лет в христианских добродетелях, помогающих «нести свой крест» безропотно. Звали ее Анастазия, и порою ксендз Грозд с содроганием думал о заключенном в этом имени провозвестии воскресения из мертвых, — он даже бывал близок к еретической мысли, что бог, воскрешая покойников, мог бы сделать некоторые исключения. Гораздо тверже был убежден в этом их домохозяин — тот, не колеблясь, отказался бы от вечной жизни, если б пришлось делить ее с панной Грозд. Она же ревностно пеклась о спасении своей души, усердно посещая костелы и прислуживая брату, что, как она полагала, тоже ей зачтется. Впрочем, брат, по ее требованию, выплачивал ей жалованье, которое панна Грозд каждый месяц относила почти нетронутым в ссудо-сберегательную кассу — собирала себе вклад для монастыря.
Склонясь над горячей плитой, рядом с кипящей кашей, ксендз Грозд помешивал сосновой щепочкой клейкую массу, которая становилась все жиже. Громкие попреки Анастазии не доходили до его сознания, но когда они стихли, он с удивлением оглянулся на сестру.
— Что же это я хотела сказать? — почесала она себе голову. — Ах да! Ксендз Паливода тяжело болен.
Клей был готов. Не обращая внимания на протесты Анастазии, ксендз Грозд взял одну из тряпок, висевших на веревочке, и обернул ею пальцы, чтобы взять горячую кастрюльку. Весть о болезни каноника сильно его взволновала. Слабое здоровье этого семидесятилетнего старика пробуждало в нем надежды, рисовавшие приятные картины: были там красивые кресла в соборе, такие удобные и надежные, если имеешь право в них сидеть; были всякие заманчивые детали облачения и жизнь, свободная от забот и выпрашивания скудно оплачиваемых обеден. Овеваемый этими видениями, как облаками фимиама, он вошел в свою комнату с дымящейся кастрюлькой, которая даже сквозь тряпку обжигала пальцы. Ксендз левой рукой потянулся к стопке старых газет, чтобы поставит на них железный, закопченный сосуд.
И тут взгляд его упал на первую страницу «Львовской газеты» двухнедельной давности. Это была единственная газета, которую он читал постоянно; даже консервативное «Обозрение» пользовалось у него меньшим уважением, чем правительственный орган, столь же благочестивый, но более безошибочно и подробно сообщавший обо всем, что касалось властей и постановлений. Ксендз Грозд был обязан этой газете многими полезными сведениями. Но вот перед ним номер, несомненно побывавший у него в руках, ибо украшен крестиками, начертанными красным карандашом (так ксендз помечал прочитанное страницы, чтобы больше к ним нет возвращаться), и в самом начале «Правительственных сообщений» находится нечто, ускользнувшее от его внимания:
«Его Апостолическое величество Император и Король соизволил Высочайшим постановлением от 1-го сентября всемилостивейше пожаловать старшему советнику Наместничества Альбину Гродзицкому титул и звание Надворного Советника с освобождением от гербового сбора».
Клей остыл и опять затвердел, а ксендз Грозд все стоял, склонившись в раздумье над столом, будто продолжал читать эту важную новость, хотя сумерки уже засыпали серым пеплом пожелтевшую от солнца газету.
XIV
Выйдя из гимназии, учитель Роек простился с коллегами. Он знал, что они, как обычно после заседания, идут в ресторанчик напротив Политехнического. Сам-то он никогда с ними не ходил и удивился, когда Шеремета спросил его:
— А вы, пан Роек, не пойдете?
Роек внимательно посмотрел на него. Нет, Шеремета сказал это не в насмешку. Просто он был новичком и еще не знал привычек старого чудака. Таким же невинным был следующий водрос:
— Вы домой, пан Роек?
Роек кивнул и торопливо подал ему руку.
Слово «дом» влило струю затхлости в прозрачный сентябрьский вечерний воздух, в котором дневное тепло еще не остыло, а ночная прохлада едва возвещала о себе смутным предчувствием росы. На улице Уейского скрытый за деревом фонарь преобразил пушистую крону в фантастический куст, отливающий серебристой зеленью. Где-то в конце Технической, в темноте Иезуитского сада мандолины выпевали танго.
Старый филолог остановился, будто колеблясь, куда идти. Автоматизм его ходьбы был нарушен, Роек не узнавал привычной дороги, которая изо дня в день вела его в гимназию и обратно. Но разве улицы неотвратимо прикованы навсегда к одному месту? Разве не может у них случиться хмельная минутка, мгновение буйства, когда они вдруг покачнутся и станут поперек, перепутав все свои углы и перекрестки?
Учитель Роек очутился в незнакомой местности. Из крутой горы вырастал костел с венцом звезд вокруг темного креста; неотесанные глыбы камня напротив походили на ренессансный палаццо; по другую сторону, каменный куб, инкрустированный светящимися прямоугольниками, врезался в мрак, непроглядный и манящий, как бездна. Единственный просвет уходил вниз, плыл потоком в игре света и тени. Вдалеке двигался по этому потоку вверх корабль, на котором звенели звонки и вспыхивали на верхушках мачт зеленые искры. Роек направился в ту сторону.
Сделав несколько шагов, он опять остановился. Через незанавешенное окно видна была комната, слабо освещенная лампой с зеленым абажуром. Лампа стояла на письменном столе, за которым сидел школьный товарищ Роека, надворный советник Альбин Гродзицкий, и читал газету. Стоя на краю тротуара, Роек смотрел в светящееся окно, как на сцену, где разыгрывается отрывок неизвестной ему пьесы, сознавая, что может из пассивного зрителя превратиться в одно из действующих лиц. Он вдруг подошел к окну, встал на цыпочки и довольно громко постучал в стекло. Гродзицкий вскинул голову, поднялся. Учитель в это мгновение ощутил легкий страх н вместе с тем глубокую, успокоительную радость. Гродзицкий отворил окно, перегнулся наружу и, прищурив со свету глаза, стал вглядываться в темную фигуру.
— Это я, Роек. Не можешь ли ты впустить меня так, чтобы никто не видел? Я должен сказать тебе кое-что важное.
— Иди через ворота к парадному ходу.
Гродзицкий пошел открывать, но прежде заглянул в столовую.
— Зося, — шепнул он, — сейчас ко мне зайдет один знакомый. Ты не входи.
— А ужин?
— Я тогда скажу.
Присвечивая лампой, он проводил Роека в гостиную. С волнением смотрел Гродзицкий на сутулые плечи, на большую лысину в венчике седых волос, на усы, как бы присыпанные пеплом, на всю нескладную фигуру старого нелюдима, который, сняв свое пальтецо, продолжал держать его на руке.
— Положи это куда-нибудь.
Гродзицкому хотелось обнять гостя, но он сдержался; они даже за руку не поздоровались.
— Роек, — сказал Гродзицкий приглушенным голосом. — Вот неожиданность!
— Такие люди, как я, для всех неожиданность.
Гродзицкий слабо усмехнулся: шутка это или жалоба на судьбу? Он не знал, каким языком разговаривает теперь Роек.
Человек, который сидел перед ним и робко оглядывал комнату, был похож на старого трварища лишь чертами лица, и то — как далекий предок на своего потомка. Ноги Роека, обутые в старомодные штиблеты с вечными полосками пыли в изломах кожи, плоско и мертвенно покоились на ковре, и никто бы пе подумал, что когда-то можно было на этих ногах перескочить через ограду Ботанического сада. А Гродзицкому они представились сейчас в том прыжке, и он слышал свой голос: «Ноги себе сломаешь, сумасшедший!» Перегнувшись через ограду, на которой он тогда сидел, он увидал растрепавшиеся темные волосы и черную широкополую шляпу, приветственно качнувшуюся вдали. Еще мгновение, Роек скрылся за углом и с той поры будто в воду канул.
Для Гродзицкого это был последний день университета. Уладив все формальности, засунув в карман пачку бумаг, дававшкх ему право добиваться места референта в наместничестве, он решил выкурить первую в жизни сигару среди осенних гирлянд дикого винограда, которые облачили в королевскую мантию старую, обшарпанную ограду Ботанического сада. Роек уже сидел там и приветствовал его бредовой макаронической речью, где у греческих слов были латинские окончания, — смысл этой речи состоял лишь в том, что она выражала радость существования, которую при всем усердии не сумели подавить скучнейшие, почтенные наставники-филологи. Гродзицкий не помнил ни одной фразы из их тогдашнего разговора — вероятно, там и не было ничего, кроме бессмысленного хохота,— закончившегося этим сумасшедшим прыжком «за счастьем», как крикнул Роек, очутившись на земле по ту сторону ограды.
Гродзицкий молчал, не зная, как поступить: то ли поднять этого человека, как сухой лист, как память о давних, милых сердцу годах, то лидержаться в границах светской случайной встречи. Роек сам разрешил его сомнения.
— Я возвращаюсь с заседания, на котором шла речь в твоем сыне, — сказал он, и взглянул в окно.
— Мне кажется, Теофиль теперь учится гораздо лучше.
— Да. Это сегодня говорили все. Даже Ковальский. Ты, может, не знаешь его, это математик. Старый человек, через два года на пенсию. Он сегодня очень разошелся. Да кто только сегодня не Говорил! Подумай, даже Гамбургер!
Гродзицкий наморщил лоб:
— А, учитель гимнастики.
— Представь себе! — Роек машинально взял папиросу из пододвинутой ему коробки и так же безотчетно прикурил ее от огонька зажигалки, неведомо как и когда вспыхнувшего между пальцами Гродзицкого. Он чувствовал себя все свободней, тайная радость понемногу согревала его. — Представь себе! Гамбургер был когда-то спортсменом, у него даже медали и ленты есть. Он жаловался мне, что ему скучно на наших заседаниях, но Зубжицкий требует, чтобы он присутствовал. Зачем это нужно, никто, не понимает. И вот сегодня даже Гамбургер подал голос. Не думай, что он говорил о твоем мальчике что-нибудь лестное. Он, во всяком случае, не считал это лестным. «Этот ученик — сказал он, — сам себя губит, даже гантелей в руки не возьмет, если его не заставишь. Еще лапту кое-когда поиграет, да и то — глядеть тошно. А стоило бы ему захотеть, какой был бы мужчина!»
— Э, ерунда, — махнул рукой Гродзицкий. — Кто из нас придавал значение гимнастике!
Роек поспешно согласился с ним и, чтобы тем основательней опровергнуть мнение экс-спортсмена, сообщил восторженный отзыв учителя польского языка. Шеремета появился на заседании в форме «сокола», и Роек, подробно описывая его внешность, стал рассуждать о человеческих чудачествах вообще. Гродзицкий внимательно слушал, но воспринимал больше само звучание слов, а не смысл. Голос у Роека был скрипучий, временами прерывался — не мудрено, у него, верно, все внутри одеревенело от постоянного молчания. По рассказам сына, Гродзицкий хорошо знал и мог себе представить повседневный школьный язык филолога, у которого каждое слово было взвешено и сосчитано.
Папироса догорала, Роек притушил ее в пепельнице. Жилет его был усыпан пеплом, но в мозгу мелькала мысль, что он, кажется, ни разу даже не затянулся. От долгой речи в горле у него пересохло, и он внезапно умолк, как будто остановился механизм, испортившийся от неосторожного обращения. Гродзицкий, привыкший ужинать в определенное время, почувствовал голод, но боялся спугнуть гостя. Наконец он положил руку на колено Роека.
_ Знаешь что? Раз для тебя важно сохранить дело в тайне, перейдем на минутку в мою комнату, а тем временем нам тут подадут что-нибудь поесть. Нет, нет, никаких разговоров.
Он взял лампу, втолкнул Роека в свой кабинет, сказал: «Я сейчас», — и вышел в столовую. Когда он вернулся, Роек стоял на том же месте и потирал ладонью лысину. В гостиной кто-то суетился. Мысль о том, что это жена Гродзицкого, наполняла Роека необъяснимым трепетом. Гродзицкий, отмотав шнурок с гвоздя, спустил штору. Да, от этого шнурка зависело, будет ли Роек здесь сегодня или не появится никогда. Если бы штору опустили на полчаса раньше, никакая сила в мире не заставила бы учителя постучать в завешенное окно. Уяснив себе это, Роек ощутил щемящую тоску, — сколько лет уже ходит он по улицам, которые скрещиваются, соединяются, сливаются, чтобы выбросить его, как рыбу из сетей, на порог его дома. Этот оббитый, выщербленный посредине порог мог бы засвидетельствовать, с какой неохотой ступали на него ноги в старомодных штиблетах, которые разнесли по городу в мириадах пылинок изрядную часть сосновой его древесины.
Гродзицкий вынул из коробки на столе две сигары:
— Это мы выкурим после ужина.
Он ходил вокруг гостя с некоторой робостью. Но Роек не нуждался в его опеке. Теперь он прохаживался по комнате, разглядывая картины, но, погруженный в созерцание своих чувств, ничего не видел.
В дверь постучали.
— Готово, — обрадовался Гродзицкий и взял Роека за руку.
В гостиной зажгли висячую лампу и накрыли стол скатертью. Там были сардины, брынза, масло и тонкие, поджаристые холодные зразы — кулинарный секрет пани Гродзицкой, — которые летом обычно брали с собой, отправляясь в город. Гродзицкий принялся мастерить из двух сардинок, брынзы и масла бутерброд, щедро посыпая его паприкой.
— Ты, конечно, можешь есть сардины отдельно, но все же попробуй, как это вкусно.
Он налил в две рюмки домашней вишневки. Роек выпил, соорудил себе толстый бутерброд на ломтике черного хлеба — в тарелке осталась еще одна сардинка, утопавшая в масле. На лице Роека было какое-то тупое изумление, как будто перед ним претворялась в жизни сказка о скатерти-самобранке.
— Хлеб этот ржаной — отличный, не правда ли? — достает нам прислуга, отправляется за ним к Цитадели. Обходится он ей в двадцать четыре геллера и уж точно не знаю во сколько щипков, которые она героически терпит, дожидаясь у казармы. Правда, сдается мне, мы приплачиваем кое-что еще в виде шницелей, которые поедает некий ефрейтор, захаживающий к ней по воскресеньям.
Роек выпил вторую рюмку и продолжал есть молча, ничего не возражая, но и не разделяя веселья хозяина. Он вел себя как бедняк, которому судьба послала возможность утолить голод и который изо всех сил старается помочь судьбе. То и дело его рука с костлявыми, подагрическими пальцами тянулась за хлебом, и Гродзицкий заметил, что ногти у него безобразно обгрызены.
— Не обижайся, — сказал Гродзицкий, — но прошло столько лет… Как тебе живется?
Вилка Роека с кусочком зразы остановилась в воздухе.
— Неважно. — И, немного погодя, прибавил: — Это уж в природе вещей, все идет к худшему. Но ты, возможно, другого мнения?
Гродзицкий не чувствовал за собой права вступать в этот спор.
— Ты женат? — спросил он.
Роек утвердительно кивнул головой.
— А дети есть?
— Был один ребенок. Умер. Теперь ему было бы столько же, сколько твоему сыну.
— Что ж, на то воля провидения… — вздохнул Гродзицкий.
— Моя жизнь не внушила мне высокого мнения о провидении господнем.
Гродзицкий, огорчившись, что расстроил гостя своим любопытством, стал суетиться — подвигал Роеку мясо, хлеб, откупорил еще бутылку пива. Но Роек потерял аппетит. Он засмотрелся в окно, через которое был виден конец Клейновской улицы с горевшим на углу фонарем. Зеленоватый, унылый, холодный свет падал на черно-желтый почтовый ящик, что висел на стене углового дома. Печальные мысли Роека вились вокруг этого предмета, такого будничного и такого для него волнующего, — он смотрел на ящик так, будто видел его впервые в жизни. Он не помнил, когда приподнимал жестяную крышку, чтобы опустить письмо. Да писал ли он вообще когда-нибудь письма? Ведь на свете не было никого, кто ждал бы от него вестей.
— Ты говорил, что должен сообщить мне что-то важное,— напомнил Гродзицкий.
— Да, да.
— Это в связи с сегодняшним заседанием?
Роек потянулся за стаканом, который ему налил Гродзицкий.
— Ты, верно, догадываешься,— сказал он, вытирая салфеткой осевшую на губах пену, — что это заседание было необычным. Законоучитель наш постарался. Ты ксендза Грозда знаешь?
— Только по рассказам Теофиля.
Две глубокие складки, как бы скобки по сторонам рта, еще больше углубились и чуть сдвинулись — на изможденном лице обозначилась слабая усмешка. Гродзицкий даже не заметил бы ее, если бы Роек не сказал:
— Прости, но меня смешит это имя. Помнишь ли ты греческий еще настолько, чтобы понять его значение?
— Ну, разумеется. «Любезный богу». Что тут смешного?
— Именно это и было темой заседания — в какой мере имя твоего сына стало анахронизмом.
Гродзицкий пристально взглянул на гостя. Неужели живецкий портер в смеси со светлым львовским пивом мог оказать столь неожиданное действие на поведение человека?
— Не понимаю, — сказал он.
Роек снова обрел дар речи, утраченный во время еды, и подробно рассказал все, что сообщил ксендз Грозд учителям о своем приключении на Высоком замке.
— Очень жаль, — закончил он, — что нынче не было Коса, у него в эти же часы было в университете заседание. Ксендз ссылался на него. Еще неизвестно, как бы все это представил второй свидетель.
Гродзицкий сидел с опущенной головой и молча перебирал пальцами по столу, как по клавишам.
— Да ты не волнуйся. Как-нибудь все уладится. Твое положение… Сына надворного советника не выгонят так сразу. Впрочем, об этом и речи не было.
— И что же решили? — спросил Гродзицкий не своим голосом.
— Решение вынесли преглупое, на мой взгляд. Пока все держать в тайне, еще с неделю. Тем временем каждый из учителей должен присматриваться к ученикам и, если что-нибудь обнаружит или заметит, доносить директору. Загвоздка-то в том, что Грозд видел и слышал только твоего сына, а там как будто было еще несколько мальчиков. Грозд даже говорил о «целой банде».
— Кто внес такое предложение?
— Грозд. Надо тебе сказать, что остальных эта история не так уж встревожила. Но законоучитель должен делать вид, будто он крайне огорчен.
— Как это — делать вид?
— Ну, видишь ли, если бы он сегодня и вправду поднял большой шум, пришлось бы сразу что-то предпринять. Но он кричал не слишком громко. Видно, и он хочет выиграть время.
— Побойся бога! — воскликнул Гродзицкий. — Да ведь неделя тайной слежки — это для Теофиля погибель. Мальчик, как пить дать, ляпнет какую-нибудь чепуху, и тогда уж спасения не будет!
— Я тоже так подумал, потому пришел сюда. Я подумал, — добавил он тише, — как бы обернулось дело, будь это мой сын. Нет, со мной не стали бы церемониться. Выгнали бы его, а заодно и меня.
Гродзицкий сидел в задумчивости. Часы пробили девять. Роек, покрутив в руке недопитый стакан, поставил его на стол. Потом поднялся, чтобы проститься. Гродзицкий его не удерживал.
— Забыли про них,— сказал Гродзицкий, взглянув наа лежавшие на столе сигары.— Может, возьмешь на дорогу?
Роек, уже в пальто, сунул сигары в карман. Гродзицкий стиснул ему руку.
— Спасибо тебе, большое спасибо. Заходи, в любое время.
Учитель молча кивнул.
В гостиной Гродзицкий застал жену. Заметив по его лицу, что муж чем-то удручен, она испугалась. Он взял ее за руку и усадил рядом с собой на кушетку. Слушая его, пани Зофья была в ужасном смятении, — когда муж закончил, она не смогла бы даже сказать, что сделал Теофиль, что ему угрожает и за кого, собственно, он должна страшиться, — за сына, который укладывается спать, или за мужа, который, обняв ее, прильнул к ее плечу, дак бы ища опоры.
— Больней всего для меня не то, — говорил он почти шепотом,— что Теофиль по своей глупости попал в беду, и не то, что мне теперь придется краснеть за него и кланяться директору. Это неприятно, но это мелочь. А невыносима для меня мысль, что сын, может вдруг стать таким чужим человеком. Мне чудится, здесь был не Роек, а сатана, который явился забрать Теофиля и оставил у нас в доме вместо него какого-то незнакомца, только внешне похожего на моего сына. Даже не знаю, как я смогу теперь с ним разговаривать.
— Ах, Биня! — воскликнула Гродзицкая и, всхлипывая, призналась, что уже давно все это знает.
— Побойся бога! Почему же ты мне не сказала?
— Не решалась. Откладывала со дня на день. Думала, что обойдется.
Своим носовым платком он утер ей слезы. Потом встал, прошелся по комнате.
— Да, тяжело, но, может быть, это к лучшему. Кто знает, как бы я поступил, не вызвал ли бы в нем сопротивления, с которым мы бы уже не могли сладить. Теперь он увидит, что натворил, и, может, быть, сам опомнится.
Гродзицкий утешал жену, но самому-то ему эти слова не принесли облегчения. Дом, спасительное убежище, где он всегда обретал покой и безмятежность, вдруг как бы очутился на одиноком утесе, во власти вихрей и бурь.
— Ничего ему не говори. Скажи только, чтобы завтра в гимназии был поосторожней.
Во время вечерней молитвы бог заглянул Гродзицкому в глаза. Скрытый в старом, унаследованном от матери молитвеннике, в таком же старом образке, висевшем над кроватью, настолько знакомом и привычном, что даже забываешь о нем, в нательной ладанке, в множестве автоматически исполняемых обрядов, — бог неожиданно вырос в нечто огромное, неохватное, подавляющее мир своим присутствием. Гродзицкий долго и мучительно не мог заснуть, ему виделся сын, занесший тонкую, как стебелек, руку, словно желая столкнуть ту огромную тень с ночного небосвода. А когда сон уже стал одолевать, ему все еще чудилось пламенеющее звездным светом око, — из бездонной тьмы оно глядело на землю, на эту крохотную точку, где стоял его дом, глядело в извечном, леденящем кровь ожидании.
XV
На другой день Гродзицкий встал поздно и заперся у себя в комнате, пока Теофиль не ушел в гимназию. Тогда он поднял шторы, окинул жадным взглядом повисший над улицей лазурный холст неба, посмотрел на термометр, который показывал десять градусов тепла, и открыл окно.
Рассеянно поглядывая в окно, он восстанавливал в памяти события прошедшего дня, чтобы занести их в свою хронику. День этот, как и все другие, он начал с описания неба, которое было до вечера безоблачным, потом в двух-трех коротких предложениях изложил мелкие происшествия. На миг карандаш остановился. Но тотчас побежал дальше, и те же простые слова, из которых вот уже двенадцать лет складывалась история дома Гродзицких, подчинили себе столь необычные события вчерашнего вечера, чтобы через год напомнить о них в этой сжатой, четкой форме.
Через год! Сложив руки на книге с записями, Гродзицкий откинулся на спинку стула и уставился в какую-то точку на противоположной стене. Сидел он, правда, недолго, и когда пани Зофья решилась наконец открыть дверь кабинета, он уже шел ей навстречу. Одна его улыбка разогнала ночные страхи, которые притаились в ее обведенных кругами глазах.
В канцелярии Гродзицкий провел часа два, покончил с самыми неотложными делами и не спеша, как бы прогуливаясь, отправился в гимназию. По дороге он зашел к Мусяловичу, съел порядочный ломоть хлеба со свежей, ароматной ветчиной и выпил пильзенского пива. Подходя к воротам гимназии, он отнюдь не напоминал озабоченного отца. Старший сторож, помогавший жене собирать со стойки посуду после большой перемены, бросил все и, насколько позволяла ему тучность, поспешил навстречу посетителю.
— Я хотел бы видеть директора, — сказал Гродзицкий, подавая визитную карточку.
Бывший вахмистр Михал Мотыка заколебался — не пригласить ли этого важного господина в актовый зал,— но все же оставил его в коридоре под большим слепком праксителева Гермеса. Михал не мог читать без очков и не разбирался в штатских чинах. Правда, сюртук, серый котелок, золотая цепочка часов, да и весь облик этого господина, от которого по-барски пахло одеколоном, произвели на Михала впечатление, однако он никак не мог предположить, что перед ним особа в чине генерала. Только увидав, как поспешно директор, взглянув на визитную карточку, бросился к дверям, Михал на миг пожалел, что нет каких-нибудь более надежных примет, по которым можно было бы узнать ранг чиновников, не носящих мундира.
Зубжицкий был в сильном замешательстве. Поглаживая пышную седую шевелюру, он повторял: «Польщен, весьма польщен…» — и суетился вокруг гостя. Гродзицкий, уклоняясь от него, тщетно пытался немного отойти в сторону, чтобы посмотреть на директора с некоторого отдаления: он не любил начинать разговор, не изучив физиономию собеседника. Глядя на них, можно было подумать, что один убегает, а другой преследует, причем оба двигались с удивительной ловкостью и самообладанием. Продолжалось это несколько секунд, наконец Гродзицкий сел в кресло у стола, сел и директор.
— Очень уютный кабинет,— заметил Гродзицкий.
Директор улыбнулся и склонил голову, как бы с благодарностью — и то, и другое было неискренне. Сидя на своем привычном месте за столом, Зубжицкий, однако, не чувствовал уверенности и спокойствия. Он смущенно складывал разбросанные по столу бумаги, словно опасаясь, что Гродзицкому может попасться на глаза что-то такое, что следовало бы от него скрыть. Но гость смотрел на предмет вполне невинный и безобидный, какой не часто встретишь в окружении печатей, чернильных подушечек и сургуча.
Это был кусок янтаря, найденный в земле при закладке фундамента гимназии, «каковой фундамент, — как повествует хроника этого заведения — проходит через дилювиальные пески, окрашенные лимонитом, и через третичные формации до темно-серых отложений мелового периода». При прежнем директоре янтарь лежал на пюпитре, где меж двумя свечами стояло распятие, и у приносивших присягу новых учителей был перед глазами блестящий, медово-золотистый осколок глубокой древности, который в этом ритуальном уголке казался неким священным фетишем. Только ксендз Грозд обратил внимание на неуместность в соседстве распятия каких-либо предметов, способных нарушить акт сосредоточения и абсолютного духовного покоя.
— Какая прелесть! — с восторгом сказал Гродзицкий.
В золотистой массе был виден мотылек, который пятьдесят миллионов лет тому назад запутался в паутине и вместе с нею утонул в прозрачной, как оливковое масло, смоле.
— Откуда это у вас?
Зубжицкий нескладно рассказал о том, как был найден янтарь; в каждой его фразе чувствовалось, что он почти оправился от испуга, овладевшего им при этом неожиданном визите, «Отлично», — подумал Гродзицкий и, отложив янтарь, внезапно сказал:
— Вас, наверно, удивляет мой приход?
— Нет… то есть… собственно…
— Ну, разумеется. Когда сын учится в гимназии, надо время от времени наведаться, узнать, какого там о нем мнения. Сожалею, что до сих пор я пренебрегал этой обязанностью.
— Помилуйте, пан надворный советник, кто бы посмел вас тревожить… Я имел честь несколько раз беседовать с вашей уважаемой супругой…
— Совершенно верно. Моя жена обычно сообщала мне хорошие новости, да и свидетельство в конце года было удовлетворительным, правда, не настолько, как мне хотелось бы. Однако седьмой класс — это не шутка. Всего один шаг до выпускных экзаменов. Как вы полагаете, пан советник, не преподнесет ли нам мой сын каких-либо сюрпризов в этот ответственный период?
Зубжицкий покраснел. Не находя ответа, он потянулся в карман за сигарой и вынул две.
— Простите, что я так подаю вам. Не желаете ли закурить, пан надворный советник?
— Благодарю вас. До обеда я предпочитаю папиросы.
Они церемонно поспорили из-за спички, Гродзицкий в конце концов отнял ее у директора, но она уже догорела, и искорка упала на ковер. Гродзицкий затоптал ее. Во второй раз они эту игру не повторили. Гродзицкий вынул зажигалку, и Зубжицкий мог спокойно зажечь сигару своей собственной спичкой. Дым порториканского табака, всегда такой приятный, нынче разъедал нёбо отвратительной горечью.
— Я затрудняюсь ответить на ваш вопрос, — уклончиво ответил директор.
— Можете со мной говорить открыто. Мне известен в подробностях ход вчерашнего заседания.
Директор поднес ладонь к уху, как будто эти слова его оглушили.
— Я понимаю ваше удивление. — Гродзицкий удобнее уселся в кресле. — Но и не такие тайны выходят наружу. Таков уж естественный недостаток секретов — они становятся известны самыми неожиданными путями. Но часто в этом также их большое преимущество. Ваш секрет — из числа тех, которые становятся опасными, если продержатся двадцать четыре часа. Это типичный результат долгой, беспорядочной дискуссии, когда мозги переутомлены и желудок требует пищи. Между семью и восемью вечера — роковой час. В это время выносятся самые никчемные решения на всех заседаниях, если в них участвуют люди, у которых позади трудовой день. И наутро они встают с отвратительным бременем, от которого непонятно как избавиться.
Жалкая папироска, раз-другой затянешься, и конец — дала этому человеку спокойствие, которого он, Зубжицкий, не мог обрести в клубах дыма, столь густых и пышных, как если бы он курил наргиле. И директор вынул изо рта сигару, несправедливо приписывая ей противное ощущение, переполнявшее его, — на самом-то деле источником были горькие его мысли. Гродзицкий говорил как ясновидец, и директор непроизвольно оперся лбом на руку, прикрывая, глаза, точно опасался, что гость, так много в них прочитавший, дочитает до конца позорную повесть его души. Он думал о своей неисправимой слабости характера и отсутствии воли, о том, что, видно, суждено ему всегда поддаваться, уступать, покорно принимая все двусмысленные положения, в которые кому-либо вздумается его поставить. При таких мыслях трудно найти разумный ответ, но и молчать было неприлично.
— Допустим, что так, — сказал он, усилием распрямляя плечи. — Но ваш сын совершил поступок, заслуживающий порицания, и вынудил нас подумать о наказании, какого требует гимназический устав.
Надворный советник, однако, был с уставами и законами в более интимных отношениях, нежели директор, посвятивший лучшие годы конфликтам между синусами и тангенсами. Закон — вещь священная. Гродзицкий искренне это признавал, но опыт научил его, что закон, подобно фтору, нельзя применять в чистом виде. Если его вводят в состав действительности, к нему надо добавлять примеси своеволия и настойчивости, чтобы его эфирная природа могла перенести условия материального мира. Это никогда бы не пришло на ум Зубжицкому, считавшему, что он воздвиг невесть какую неприступную крепость из «гимназического устава».
Гродзицкий нетерпеливо махнул рукой:
— Не будем об этом говорить! Я пришел сюда, чтобы избавить вас от затруднения. То, что вы намерены делать, — неразумно. Вы хотите наблюдать, следить, подслушивать… Берегитесь! Вы предадите опасной огласке поступок по сути ребяческий. Подобные дела во всех канцеляриях прячут под сукно, пан советник.
Зубжнцкий был слишком стар, чтобы смело выдержать гневный, пронзительный взгляд человека, который мог быть его начальником, да и вел себя соответственно. Но все же он чувствовал, что не пристало ему сидеть сгорбившись, устремив глаза на стеклянную чернильницу и молчать. Об этом свидетельствовали горячие волны крови, которая закипела в нем и покрыла лицо белыми и красными пятнами. Оскорбленная гордость, жажда власти и злобное чувство, что вот опять кто-то приходит отнять ее у него, врожденная вспыльчивость, — много там было всяких пороховых зарядов, готовых в любую минуту взорваться. Гродзицкий украдкой следил за ним, прошло несколько секунд тяжелого, так свинец, молчания. Однако все кончилось ничем — директор развел руками.
— Пан надворный советник,— сказал он, — это зависит не от меня. В таких делах, как вы понимаете, решающий голос имеет законоучитель.
Гродзицкий понял все, что скрывалось за этими словами, и ему стало жаль человека, который явно тратит попусту добрые качества своего сердца и ума на нелепые дрязги.
— Не могу ли я с ним побеседовать? — спросил он.
— Разумеется.
Зубжнцкий поднялся взглянуть на расписание, висевшее на стене в основательной деревянной раме.
— Так. Ксендз Грозд как раз заканчивает урок в восьмом классе. Я велю его позвать.
Он нажал белую кнопку на столе, Резкий звук колокольчика над директорской дверью всполошил пана Мотыку, задремавшего на скамье у актового зала.
— Попросите сюда, Михал, ксендза Грозда, я хотел бы его видеть после урока.
Когда сторож вышел, Зубжицкий искоса глянул на часы.
— К сожалению, — сказал он, — мне надо к часу быть в Школьном совете.
— Тогда мы с ним побеседуем в другом помещении.
— Нет, нет, пан надворный советник. Здесь удобней всего.
Гродзицкий закурил вторую папиросу, директор взялся снова за еще тлеющую сигару, и они даже не заметили, как после нескольких беглых фраз приплыли к берегам своей юности. Оказалось, что оба учились в одной гимназии, но директор был несколькими годами старше. Начали вспоминать учителей, гимназическую программу, свои страхи перед выпускными экзаменами, которые были «не то, что теперь».
За такой беседой их застал ксендз Грозд. Директор представил ему Гродзицкого, попрощался и вышел.
Ксендз сел в кресло директора, положил сплетенные пальцы на край стола — он ждал. Глаза его были прикрыты, бледное лицо бесстрастно, как будто он собирался выслушать обычную исповедь.
Все здание гудело — шла переменка. На лестницах, в коридорах стоял гул от топота сотен бегущих ног, с оглушительным стуком хлопали двери, где-то наверху повалилось что-то тяжелое, даже потолок задрожал. «Кафедру опрокинули», — подумал Гродзицкий и с усилием оторвался от картин молодости, которые предстали перед ним в разговоре с директором.
— Благодаря счастливому стечению обстоятельств я узнал о вчерашнем заседании… — начал он и на миг запнулся, подыскивая нужные слова. Краткую паузу заполнил глухой голос ксендза:
— То, что вы, пан надворный советник, называете «счастливым стечением обстоятельств», — для нас происшествие весьма прискорбное. Можно ли удивляться, что молодежь распущенна, если среди учителей дисциплина столь слаба, что они не могут сохранить тайну, как велят им честь и долг?
Это было сказано гладко и совершенно спокойно, как будто ксендз читал по написанному — признак завидного самообладания. Появление Гродзицкого в этих стенах удивило ксендза не меньше, чем директора. Зубжицкий не успел предупредить его ни единым словом, но только, прежде чем выйти, стоя за спиной Гродзицкого, сделал жест, означавший, что он не понимает, с чего бы этот человек очутился здесь. Итак, ксендз тоже был удивлен, но иначе, чем его простодушный начальник. Даже в caмых смелых своих мечтах он не надеялся так скоро увидеть перед собой человека, которого хотел вовлечь в круг своих интересов. Можно ли это назвать волей провидения? Хотя цель свою он считал богоугодной, но не был уверен, одобрит ли бог средства, намеченные для ее достижения.
— Не надо судить так строго, — возразил Гродзицкий. — Если бы вы, пан ксендз, знали, какому удивительному случаю я обязан этими сведениями… Нет, право же тут не было ничего похожего на предательство. Но оставим это и поговорим о деле. Главный виновник — мой сын…
— Вот этого мы как раз и не знаем, и я намеревался выяснить, не кроется ли тут кто-то другой.
— Это безразлично. Я знаю своего сына и убежден, что он взял бы всю вину на себя. Он мальчик самолюбивый…
— Следовало бы сказать: гордый. Гордыня, пан надворный советник, — вот путь, которым дьявол легче всего проникает в юную душу. Когда я его слушал, слушал, какие страшные вещи он говорит, у меня было чувство, будто я слышу голос духа тьмы.
Гродзицкий вздрогнул и нахмурился:
— Что вы говорите, пан ксендз! Это просто выходка несозревшего юнца, ничего больше! В его возрасте все увлекаются чем-то недозволенным: любовью, приключениями или вот такой идеей.
Ксендз покачал головой:
— У пана надворного советника только один сын и воспоминания о своей собственной юности, которая, не сомневаюсь, была добродетельной. А я уже двадцать лет имею дело с молодежью, я знал их тысячи. И уверяю вас, такая история встречается мне впервые.
Его прервал резкий звук школьного звонка, после чего опять пошел гул от хлопающих дверей, а несколько минут спустя наступила та густая тишина, в какую погружается школа с началом уроков.
— Сомнения, кризисы, — продолжал ксендз, — даже глубокий упадок духа — это, увы, частое явление. Оно есть результат новейшей системы обучения, которая допускает, чтобы в том самом классе, где ксендз объясняет божественные таинства, другие учителя на уроках, если не прямо сокрушали церковь, то, во всяком случае, распространяли взгляды, явно ей враждебные. Пока это не изменится, юным душам грозит величайшая опасность, а церковь может прийти им на помощь только в последнюю минуту. Впрочем, кто знает, не помешают ли ей и в этом.
Последние слова пробудили в Гродзицком государственного деятели.
— Школа является частью общественного организма и не должна подчиняться иной власти, кроме той, которая управляет всей жизнью общества.
Ксендз заломил руки, как бы прощаясь с последней надеждой:
— Ах, значит, и вы поражены недугом нашего злосчастного века! Отдаете ли вы себе отчет в том, что человек, восстающий против власти церкви под нелепым предлогом, что она вмешивается в дела государства, ограничивает власть истины? Нет, об этом, вы не подумали. А дело обстоит именно так. Школу ныне подтачивает дух разложения. Она отдана в руки людей, которые не обязаны служить истине. Все, что от них требуют, изложено в книгах, осужденных церковью, или таких, которые лишь по недосмотру избежали ее приговора. Чего же удивляться, если воспитание у нас перестало руководствоваться принципом, что лучший педагог — это тот, кто глубже всего постиг основы католической веры?
Глядя на бледное лицо, которое даже в пылу спора не окрасилось румянцем, Гродзицкий подумал, что не хотел бы его увидеть перед собой в трибунале святой инквизиции, если бы таковой еще существовал. Ксендз минуту сидел, скрестив руки на груди, словно ожидая обвинений, на которые придется возражать. Но, не дождавшись, снова подвинулся к столу,
— Я говорю об этом лишь затем, чтобы показать вам, насколько в поведении вашего сына повинна сама школа. Это она — источник беспокойства, внутреннего разлада, которому подвержены молодые люди, пока созревший разум не возвратит их на пути веры. Но я был бы несправедлив к школе, если бы взвалил на нее всю ответственность.
Гродзицкому надоели эти частые отступления.
— Итак, что же вы намерены делать, пан ксендз?
Грозд не обратил внимания на вопрос, заданный, по его мнению, слишком рано.
— Минуту назад вы сказали: я знаю своего сына. Знаете ли вы его настолько, чтобы все происшедшее также не было для вас тайной?
— Как? Неужели вы допускаете…
— Нет, не допускаю. Именно это я и хотел вам сказать. Прошу вас вдуматься. Вы — отец мальчика, который на ваших глазах переживает ужасную трагедию, и вы ничего об этом не знаете. Этот мальчик достает и читает книжки, которым никогда не следовало бы попасть в его руки, и вы об этом ничего не знаете. Наконец, он не ограничивается тем, что губит свою душу, он посягает на чужие души, чтобы отдать их на погибель. И все это сваливается на вас, как гром среди ясного неба. Можно ли после этого утверждать, что вы знаете своего сына?
Гродзицкий молчал. Ксендз разбередил его вчерашнюю рану — это раздражало его и печалило. Законоучитель облокотился на стол и, нагнувшись к Гродзицкому, внушительно сказал:
— Он мальчик скрытный, умеющий нести бремя одиночества и тайны. Такие черты придают характеру большую силу как в добре, так и в зле. Раз он выбрал зло, надо быть начеку.
— Что вы подразумеваете?
— Я — слуга церкви. Церковь охраняет права бога на человека и со всей беспощадностью следит, чтобы человек исполнял свои обязанности по отношению к богу.
Гродзицкий был уже сыт по горло.
— Дело сложное, — сказал он, вставая. — Поступайте, пан ксендз, как сочтете нужным.
Трость и шляпа лежали на стуле у окна. От того места, где стоял Гродзицкий, до двери было всего несколько шагов. Ксендз Грозд преградил ему дорогу на середине.
— Если пан надворный советник позволит, я только возьму пальто в актовом зале, и мы выйдем вместе.
Была половина первого. В гимназии стояла мертвая тишина, как обычно перед концом последнего урока. Гродзицкий оглядел пустые коридоры и поднял глаза к ведущей на третий этаж лестнице, где в полосе света, которая падала из южных окон, плясали проворные пылинки. Ему был знаком вкус этой поры дня, сухой и терпкий, как мел, был знаком ее металлический запах, вроде бы чернильный, он чувствовал ее на ощупь, — все кажется каким-то шероховатым, пальцы нетерпеливо дергают под партой ремень, которым через минуту обвяжешь книги и тетради, чтобы нести их домой. Сердце у него сжалось при мысли, что для Теофиля это, возможно, последний час в этих стенах, и он решил спасти мальчика любой ценой.
— Прощу извинить мою горячность, — сказал он ксендзу, когда они вышли на улицу.— Это самый тяжкий день в моей жизни.
Ксендз вздохнул. То был вздох облегчения — ему уже казалось, что он перегнул палку, но Гродзицкий принял его вздох за выражение сочувствия.
— Не удивительно, что вы, пан ксендз, так строго смотрите на это дело. Я сам — верующий католик, и, хоть это мой сын, я не посмел бы просить за него, если б не был уверен, что это больше не повторится. Надо дать ему время, пусть остынет. Чересчур суровая кара вызвала бы его на бунт, раздражила его, погубила. Наша церковь своим умением прощать не однажды возвращала неверующих на путь истины.
Ксендз слушал с удовольствием. «Духовное звание,— думал он, — требует многих жертв, но также дает большие преимущества. Своей сутане я обязан тем, что этот важный чиновник разговаривает со мной так смиренно». Он чувствовал в себе сладостную склонность к прощению. Строгость и непреклонность он оставил в директорском кабинете, стены которого сумеют запомнить их и оценить. Дело в том, что, проходя в актовый зал, он встретил поблизости от дверей кабинета старого математика Ковальского, друга директора, который, несмотря на свои годы, сохранил чрезвычайно острый слух.
— Я просил бы дать мне время на размышление, — сказал ксендз. — Сейчас я иду проведать каноника Паливоду, он тяжко болен. Бог послал ему великие страдания, не не лишил ясности ума. Я спрошу у него совета. Человеку, который скоро войдет во врата небесные, лучше ведомы пути господни.
Улица Бадени, как всякая другая, удобна для такой беседы. Живут на ней люди состоятельные, ведущие размеренный образ жизни — в этот час они садятся за стол, на улице нет ненужных свидетелей. Но она коротка, идет под уклон, так что ноги шагают слишком быстро. Ксендз не мог больше терять времени. Он остановился на секунду.
— Ксендз Паливода, — сказал он, — много лет был мне отцом и вчера, прощаясь со мной, сказал: «Я желал бы, чтобы ты занял мое место». Разумеется, об этом нечего и думать. Кто обратит внимание архиепископа на неизвестного законоучителя?
— Мне кажется, — прошептал, подумав, Гродзицкий, — это мог бы сделать наместник.
— Вы правы, — так же тихо ответил ксендз Грозд.
Этот шепот, больше чем сами слова, придал разговору особую значительность. На углу улицы Матейко они подали друг другу руки. Направляясь к своему дому, Гродзицкий оглянулся: ксендз медленно и осторожно спускался по крутой дорожке в глубину Иезуитского сада.
XVI
— Теперь ты знаешь, чем это пахнет, — заключил Гродзицкий свою нотацию, в которой изложил сыну вкратце события последних восемнадцати часов, утаив, разумеется, условия договора, заключенного с ксендзом.
Они сидели за столом, над которым разносился запах риса с яблоками. Пани Зофья, едва воткнув нож в пышный, дымящийся круг, отдернула руку при первых словах мужа, — все время, пока он говорил, ее встревоженные глаза перебегали с одного лица, на другое. Теофиль сидел неподвижно и смотрел в свою пустую тарелку, только легкий румянец на щеках выдавал волнение, произведенное словами отца. А тот говорил медленно, убедительно, не горячась, избегая каких-либо сентиментальных комментариев. Он совершенно не касался убеждений Теофиля, чем лишал все происшествие возвышенного характера,— оставалась только нелепая история, из которой молокосос выпутался с помощью взрослого, рассудительного человека.
— Ну, Зося, дай нам рису, пока совсем не остыл.
Он один съел свою порцию с аппетитом. Гродзицкая себе даже не доложила. Теофиль все раскрошил по тарелке и концом вилки выковыривал кусочки яблока. Вдруг он почувствовал, что ему сжали плечо, — это отец наклонялся к нему.
— Положи вилку и дай мне руку. Думаю, ты уже не ребенок и можешь мне сказать, ошибся ли я, уверяя ксендза, что подобные вещи больше не повторятся.
Теофиль мог обещать это с чистой совестью. После того часа на Высоком закке он потерял желание устраивать сходки. Как сам он для себя определил, он тогда «выкачал из себя» все, до капли. Выложил им все, что знал, остались только жалкие крохи, ради которых нет смысла собирать друзей в садах. Не лучше ли, чтобы товарищи сохранили в памяти эти четверть часа, когда он действительно был в их глазах чем-то, и чтобы они считали его способным дать еще больше? Зачем показывать, что он уже себя исчерпал?
Впрочем, они вдруг стали ему неприятны. Вайда — наглый тип, только ждет случая его высмеять; Левицкий — болван; Сивак — бездушная тварь. Один Костюк стоит того, чтобы завоевать его верное, искреннее сердце. Но он-то и озадачил Теофиля вопросом, на который не получил ответа.
— Неслыханная история!
Теофиль был ошеломлен, — какой узел событий стянулся вокруг него и распутался, прежде чем он успел догадаться, что происходит что-то! Удивляясь, он был благодарен жизни. Он и не подозревал, что упорядоченная череда часов, которую он до сих пор называл жизнью, способна на такие причуды. Роек в их доме! Притаившийся и подслушивающий ксендз! Тайное заседание! Кос! Сколько тут загадок! Все было странно, как сон, и вот наступила досадная, отрезвляющая минута пробуждения. Ведь он был на волосок от величайшего несчастья: исключения из гимназии. Да, все это похоже на сон. Однажды ему приснилось, что он тонет, и в тот миг, когда уже не надеялся на спасение и вода залила открытый в крике рот, его вытащила чья-то сильная, надежная рука. И не было на свете другой такой руки, кроме той, что сейчас сжимала его плечо.
Несколько следующих дней Теофиль возвращался из гимназии с чувством разочарования. Все шло по-старому, как будто дух этого заведения уже успел проглотить его тайну и теперь переваривает ее вместе со старыми документами, журналами, тетрадями. На самом деле было не так. Ксендз Грозд, сперва заподозривший директора, что тот, пораженный визитом надворного советника, сам проболтался, вскоре отверг эту догадку и вместе с директором стал обсуждать, каким образом весть о заседании дошла до Гродзицкого уже через несколько часов. Они перебрали всех учителей, но ни один как будто не поддерживал отношения с Гродзицким. О том же, чтобы его мог предупредить кто-то им незнакомый, нечего было и думать. А фамилия Роека им в голову не пришла.
— Я уже знаю, — сказал ксендз, входя к директору на третий день. — После заседания учителя пошли в ресторан, и, наверное, говорили там достаточно громко. Гродзицкий мог там же оказаться и все услышать. Это согласуется с тем, что он сам мне сказал: он, мол, узнал обо всем благодаря удивительной случайности.
— Разумеется! Иначе быть не могло! — обрадованно вскричал Зубжицкий. Он страдал от мысли, что кто-то из учителей не заслуживает доверия.
Это опять-таки не устраивало ксендза. Слова директора встревожили его. Если история разнесется по городу, ему никакой пользы от нее уже не будет. А вдруг вслух дойдет до высших чиновников Школьного совета! Но нет, все это не так страшно. Среди высших школьных властей есть, конечно, ревностные защитники веры, но все же не такие фанатики, чтобы преследовать сына надворного советника. А если это попадет в прессу? О прессе у ксендза было весьма туманное представление. Он полагал, что, кроме «Обозрения» и «Львовской газеты», все прочие газеты радикальные или вовсе социалистические. Так что не в их интересах осуждать юного безбожника. Напротив, они могут изобразить все это как триумф свободной мысли, могут вступиться за бунтовщика, выдумать, что его преследуют. Отсюда один шаг до запроса в рейхрат. Дашинский небось только ждет такого случая. Ксендз Грозд содрогнулся от этого дьявольского имени. Не так давно оно каждую неделю повторялось в «Церковной газете» в связи с нашумевшим запросом по делу конфискации кощунственных «Легенд» Анджея Немоевского. О, это было бы ужасно! Замешанный в газетный скандал, осмеянный, опороченный, он вынужден был бы распрощаться с мечтами о месте каноника.
Неделя прошла для ксендза в тревоге, он каждую минуту ждал катастрофы. Однако ничего не произошло, об этом деле стали понемногу забывать. Временами кое-кто из учителей пытался заговорить о нем с ксендзом, но, не встречая поддержки, переходил на другую тему. Зубжицкий, который через Ковальского узнал, с каким мужеством в его кабинете защищались «права бога на человека», удовлетворился кратким сообщением ксендза: «Надворный советник дал мне слово, что это больше никогда не повторится». Только Кос, выслушав все подробности, пробурчал Шеремете:
— Либо они испугались, либо как-то ухитрились замять скандал.
Он был рад, что все так закончилось. Из-за своей неисправимой болтливости он вмешался в жизнь мальчишки, который мог и его втянуть в беду. Ведь Кос его совсем не знал, — как же можно рассчитывать, что юный Гродзицкий, если его станут допрашивать, от волнения или пытаясь защититься, не упомянет случайно его имени? Д-р Кос, в спорах такой отважный, в делах житейских не был лишен здравого смысла. И он стал избегать Теофиля, что оказалось совеем нетрудно, так как преподавание его предмета не слишком-то благоприятствовало коротким отношениям с учениками.
Логике был отведен один час в неделю, иказалось, все праздники, все тезоименитства и прочие торжества вступили в сговор, чтобы вытеснить из учебной программы именно этот час. До сих пор д-р Кос всего раз или два появился в классе VII «А». При виде его Теофиль задрожал и побледнел, он ждал, что произойдет что-то необычайное. Но ждал напрасно. Голос, который запомнился Теофилю с таким богатством оттенков иронии, энтузиазма, страсти, звучал теперь спокойно, — вначале речь шла об этимологии слова «логика», об определении понятия и о месте логики среди других философских наук. В изложении истории логики д-р Кос остановился на Аристотеле. Дойдя до привлекательного образа стагирита, он в немногих ярких чертах рассказал о его жизни, полной труда и чудачеств, о его привычках нелюдима. Два-три анекдота, почерпнутых у Диогена Лаэртского, развеселили класс. Прозвенел звонок, и учитель, уже со шляпой в руке, заключил урок словами: «После смерти Аристотеля в его жилище нашли множество гончарных сосудов различных размеров и форм, и никто уже нам не расскажет, для чего он их собирал и хранил». Из-за этих сосудов класс прозвал его «гончаром» и с приятным нетерпением ждал следующего урока.
Несколько недель д-р Кос не показывался. Теофиль встречал его в коридорах, когда он шел в восьмой класс на урок психологии, и кланялся Косу, размашисто шаркнув ногами по каменному полу, на что тот отвечал еле заметным кивком и таким взглядом, будто Теофиль был прозрачным и невидимым на фоне стены, по которой на больших фотографиях мчалась вереница парфенонских эфебов.
Таков уж, видно, закон жизни, ее колдовской силы, с которой Теофиль столкнулся впервые. Она подменила Коса — предмет его поклонения, сделала Коса совсем чужим и извлекла из тьмы Роека. Старый филолог, который раньше был для Теофиля докучливым призраком, преобразился в человека мыслящего, чувствующего и обладающего памятью.
Между кафедрой, где стоял Роек, сутулясь над раскрытой книгой, оглаживая лысину и неуклюже покачиваясь на одной ноге, и третьей партой у двери протянулась нить симпатии, тонкая, легкая и трепетная, как паутина бабьего лета, еще мелькавшая за окном. Учитель и ученик смотрели друг на друга. Но если быстрые глаза мальчика могли разглядеть все морщины на лице филолога, то Роек через плохо протертые стекла очков различал лишь очертания бровей, белый лоб под темной волной волос, красное пятно рта, и даже память не могла ему помочь соединить эти разрозненные черты в знакомое целое. Он никогда не видел Теофиля вблизи. Теперь ему приходили на ум самые неожиданные предлоги, чтобы вызвать Теофиля к доске, но он тут же отбрасывал их, опасаясь, что не сумеет воспользоваться случаем и все равно ни разу не взглянет на мальчика. Зато он мог слышать его голос. Стоило лишь назвать фамилию, которую он до недавнего времени так упорно избегал произносить, и над партой приподнималась стройной тростинкой мальчишеская фигура и на минуту освежала сухой воздух своим мелодичным голосом. Словно то был любимый музыкальный инструмент, перед которым невозможно устоять, — Роек по десять раз за урок вызывал Теофиля.
В унылой пустыне, какой был урок греческого языка, мысли ученика и учителя встречались и издалека приветствовали друг друга:
«Кто ты, старый чудак, приходящий ночью, чтобы возмутить покой дома и уберечь его от других, худших беспокойств?»
«Откуда ты здесь появился, мальчик, который воюет с богом и приводит нелюдимов под дружеский кров?»
«Должен ли я ценить в тебе лишь воспоминание о молодости моего отца или нечто большее?»
«Туманное видение, появившееся на свет в тот день, когда меня навсегда покинул мой сын, не повстречалось ли ты с ним в пути, сходя на землю?»
Так беседовали две души среди пчелиного жужжанья класса, среди треска греческих слов, лопавшихся, как скорлупа ореха, чтобы открыть крепкое свое ядро, вылущенное из суффиксов, префиксов и союзов.
Эти слова и были единственным предметом слышимого всеми разговора учителя с учеником. Трудный гомеровский оборот, глагол, как кокон, притаившийся в неправильной форме, какой-нибудь завиток синтаксиса — сновали по классу, раздражая и нагоняя скуку, пока Теофиль не выпускал их на волю. Уверенность, с какой Роек поручал ему объяснение трудных мест, ставивших остальных в тупик, пробудила в Теофиле желание никогда не подводить учителя. Это требовало большого внимания и немалого труда, в котором Теофиль находил удовольствие. Он собирал греческие слова, как прежде марки, радовался, что его коллекция растет и что eмy все легче узнавать слова в измененных формах. Есть такая игра — зажимаешь марку в руке, чтобы из-под большого пальца был виден маленький ее краешек; по зубчикам полей, по цвету, по ничтожным зачаткам рисунка надо угадать ее происхождение. Теофиль достиг в этом большого искусства и никогда бы не спутал Египет с Хайдарабадом. Теперь он точно так же играл с учителем в слова.
Ах, сколько чувств можно выразить утвердительным кивком! Как красноречивы морщинки у глаз! Как многозначителен жест внезапно приподнявшейся руки, когда кончики пальцев поглаживают усы! Приятнее всех отметок были для Теофиля эти безмолвные знаки одобрения которыми учитель награждал его ответ. Иногда между ними завязывался короткий спор. Роек, взволнованно потирая лысину, протяжным голосом повторял одно и то же выражение, будто заклинал его духа, который никак не хотел появиться. А Теофиль бросал слово за словом, все ближе, все точнее, пока наконец единственно нужное не попадало в круг греческого понятия. На несколько секунд учителя и ученика охватывало немое волнение, будто над ними пролетел сверкающий метеор.
В окружении этих слов Одиссей возвращался в Итаку. По вымощенной аористами дорога он сошел на пристань, ступил на корабль феаков и уснул. Корабль, отчалив от берега сравнением с четверкой коней, отплывал под сильное и ровное дыхание имперфектов, и за ним бежала большая пурпурная волна многошумного моря. Божественный скиталец спал, забыв, о пережитых невзгодах, которые проносились над ним в четверти стиха величавым плюсквамперфектом, звучащим как частица вечности.
Роек безжалостно лишил своих учеников чудесного утра, которое застало Одиссея спящим на родном острове, вблизи от грота нимф; он опустил две с половиной песни, словно не мог дождаться возвращения Телемаха. За несколько минут до звонка Теофиль привел своего ровесника в свите гекзаметров, открывающих песнь шестнадцатую. Он читал ее четко, без ошибок, ничего пока не понимая, — лишь отдельные слова мимолетными искрами немного разгоняли мрак вокруг себя. Учитель не смотрел в книжку, он слушал. Стихи, настолько стершиеся от ежегодного повторения, что утратили всякий смысл, кроме того, который можно изложить в грамматических терминах, стихи, изглоданные временем и пространством, как и та книжка, которую он отложил в сторону и которая сопровождала его в странствиях по всем гимназиям от Тарнополя до Перемышля, стихи эти вдруг засияли ярким светом.
В этом утреннем свете голос мальчика создал хижину, пылающий очаг, собак, выбежавших на дорогу без лая, шум приближающихся шагов. Когда Телемах наконец встал в дверях, двумя стопами переступив порог гекзаметра, а третий дактиль повис перед цезурой как приподнятая для приветствия рука, — раздался звонок на переменку. Колокольчик сильно дернули три раза, и по всему зданию рассыпались хаотически дребезжащие звуки. Но ухо Роека, завороженное тишиной, объявшей в эту минуту сердце Одиссея, преобразило металлический лязг в нежное пенье церковного колокольчика. Он раскачивался где-то в небесной вышине, далекий и хрупкий — робкое напоминание о том, что чудесный мир, возникший из десятка стихов, лежит за пределами времени. Теофиль давно закрыл книжку, но все еще стоял, словно его приковали к месту мысли, старого человека, который смотрел на него и видел в нем лучистый образ у дверей жалкой пастушеской хижины. Роек смотрел на него молча, смотрел так же, как тот отец смотрел на сына, которого не знал.
В один из следующих дней Роек пришел в класс с картой. Чувствуя позади себя удивление учеников, взрывающееся то здесь, то там приглушенным возгласом или смешком, он дрожащими руками развернул карту на доске, потом вернулся к своей книжке и занялся привычным «ковырянием» в словах, как будто забыл о карте. Полчаса висел над классом большой лист Греции, похожий на те листы, что за окном облетали с кленов, и солнце, выглянув из-за туч, осветило лазурные воды Эгейского моря. Но когда Вайда, искусно маневрируя раскрытой грамматикой и спрятанным под ней романчиком, возился с четырьмя вопросами Телемаха и, приближаясь к догадке, что последний из них содержит acсusativus cum infinitivо, собирался перевести древнюю остроту, что в Итаку нельзя прийти пешком, — учитель вызвал Гродзицкого. Короткой фразой, трижды запнувшись на самых простых словах, он велел Теофилю подойти к карте и отыскать остров Одиссея. Теофиль, ослепленный, как ночная бабочка, лучами бедного польского солнца, которое вздумало согреть Эгейский архипелаг, начал метаться среди золотистых обломков древнего средиземноморского континента, от Тасоса до Крита и от Саламина до Самоса. По пути он нашел Трою, открыл Делос, на миг задержался у мыса Малеа, откуда Борей отбросил Одиссея страну лотофагов. Роек стоял рядом. Он смотрел на тонкую руку, бронзовый загар которой еще пел хвалы лету, на длинные, прямые пальцы, под которыми меридианы дрожали как струны, на изгиб локтя, напоминавший о рычаге Архимеда и его мечте сдвинуть землю с орбиты. Внезапно, где-то между Родосом и Кипром, все исчезло: Теофиль отдернул руку, она беспомощно повисла вдоль тела. Роек остался один в этих коварных водах, откуда вулкан острова Феры поглядывал на него прищуренным глазом хищного зверя.
Среди всех старых филологов ни у одного, пожалуй, сердце не билось так сильно у карты страны, породившей язык, который дает им приличный заработок. Зачем же тогда полвека носить в себе сердце, если б оно не было открыто для неожиданностей, если б не умело считать мгновения настороженной тишины? Под градом быстротечных секунд Роек стоял сгорбившись, полный тревоги, как будто дело шло не о том, чтобы найти маленькое коричневое пятнышко на карте, но сам остров должен был тут же, на его глазах, появиться из моря среди бушующих волн.
Теофиль протянул руку. Указательный палец остановился на дюйм от Итаки, будто и впрямь создавая ее этим жестом, которым на фреске Микеланджело бог подымает Адама с девственной земли. Роек повернул голову. Наконец-то перед ним было лицо, увидеть которое он старался так долго и безуспешно. Он даже удивился, что оно именно такое, каким он его воображал. Впервые в жизни действительность не обманула и — нет, это уже не сон, — смотрела на него парой больших темных глаз, чей необычный блеск оттеняли длинные, распахнутые веером ресницы.
Картой дело не ограничилось, С той поры Роек стал являться в класс с картинами, с книгами. Учителю Рудницкому, заведовавшему кабинетом археологии, не было теперь покоя. Роек часами рыскал в библиотеке, просил настенные таблицы Зееманна, гипсовые слепки, откопал в каком-то углу валявшуюся много лет модель гомеровского корабля. Похоже было, будто он первый проникся недавними распоряжениями министерства, которые настойчиво подчеркивали, что «греческий язык должен открыть молодежи глаза на прекрасный, светлый мир эллинизма». Каждую свою находку Роек ставил, разворачивал, развешивал в классе с помощью Теофиля. Их руки соприкасались на толстом томе Баумейстера или у мачты игрушечного кораблика, на котором в одну из счастливых минут в жизни учителя они совершили путешествие между классным журналом и чернильницей. Хотя «Одиссея» уже не давала повода для этого, они разглядывали изображения древнегреческого оружия на цветных таблицах. Потом возвратились под Трою, которую оставили в прошлом году, — чтобы вновь отстроить лагерь ахейцев и вступить в сражение у вытащенных на берег лодок. Роек, неистощимый в военных терминах, громоздил перед Теофилем целый арсенал щитов, наколенников, панцырей, мечей, боевых колесниц, будто осыпал его игрушками, и, блуждая среди этих звенящих металлом слов, играл в войну с мальчиком, который уже перерос забавы с оловянными и картонными солдатиками.
Постепенно Роек припоминал, что Греция создала вещи даже более совершенные, чем adiectivum verbalе. В классе начали появляться репродукции скульптур, фотографии храмов, которые не всегда возвращались в археологический кабинет. Ученики сами потихоньку умножали эту коллекцию, нанося ущерб стенам лестничной клетки; Костюк, всегда таскавший при себе разные хозяйственные вещи, приносил гвозди. Голые желтые стены прикрыла белая нагота греческих мраморных статуй. Распятие скрылось в их толпе, как некогда в атриуме Александра Севера, где Христос стоял чуть ли не последним среди сотни богов, соперничавших за власть над миром.
Казалось, Роек окончательно отрекся от грамматики и до конца дней останется иерофантом. Он покинул свой одинокий помост, где стоял десятки лет, как в пустыне, и, словно уже «исполнились времена», вел урок, расхаживая между партами. Класс теперь сидел под сенью гигантского дерева генеалогии богов, на которое Теофиль взбирался с помощью учителя. Не раз у него кружилась голова, когда Роек оставлял его одного на какой-нибудь высокой верхушке, где буйно разрослось потомство Зевса, образовав запутанный узел ветвей.
Тем временем Одиссей напрасно ждал, когда же Евмей выйдет из хижины, чтобы он мог открыться Телемаху. О нем забыли. Роеку словно надоело слушать царя Итаки, с которым он прожил полжизни, — теперь он хотел говорить сам. Он рассказывал сказки, для которых прежде не находилось места в его мире незавершенных снов и несбывшихся надежд. Став возле Теофиля и положив ему руку на плечо, как будто не давая мальчику встать со скамьи, он называл несколько мифологических имен. Внешне это выглядело, как напоминание о прошлом уроке, на самом же деле было тайной попыткой выведать, о чем бы хотелось мальчику услышать. Но Теофиль не подавал ему никакого знака и никогда бы не догадался, как долго накануне ночью колебался учитель между калидонским вепрем и походом аргонавтов, ворочаясь на своем затхлом, жестком сенном матрасе.
Роек рассказывал старые трогательные сказки, в которые некогда свято верили. Он и сам готов был в них уверовать — ведь они вернули ему молодость. Они вернули ему все туманные и солнечные, дождливые и снежные дни, которые он просидел в университетских аудиториях и библиотеках, гоняясь за призраками среди груды книг. Мозговые извилины, которые бесплодно прожитое время затянуло паутиной, обрели память, когда-то столь закаленную в суровом климате немецкой науки. Целыми разделами вспоминалась огромная «Götterlehre» Велькерa, воскресал богомольный Узенер, жаждавший, чтобы все религии возносили хвалу монотеизму, Форхгаммер, героически пренебрегавший насмешкой, которая подстерегала каждую его мысль, Преллер, обновлявшийся и толстевший с каждым изданием, и десятки других.
Когда-то Роек жил там, жил в этом мире обжор, для которых сотня прочитанных томов была лишь закуской перед роскошным пиршеством, именуемым «литературой предмета»; жил среди неистовых дервишей, без передышки кружащих всю жизнь вокруг одной идеи до тех пор, пока ничто в реальной жизни уже не может заинтересовать их ум; среди исступленных ересиархов, сокрушающих все святыни чужой веры, даже сокрушенные уже, даже последние следы, даже тени следов, — а спугнутые божества витают над ними как нетопыри, как кошмарные привидения их трудовых ночей.
Теперь Роек все это вытащил наружу, немного слежавшееся и запыленное, но занятное, как содержимое старого сундука, который — не будь этого мальчика с задумчивыми глазами — простоял бы на чердаке до переезда хозяина на последнюю квартиру. Рассказав миф, Роек тут же словно возводил его во вторую степень, давая ему научное объяснение, которое было новым мифом, еще более сложным. Так Елена из царицы Спарты превращалась в луну, Парис покидал свои стада на горе Ида, чтобы взойти на небе в виде солнца, Троянская война оказывалась зимней борьбой стихии. Это было зрелище увлекательное и удивительное, но вскоре блеск его померк, когда выяснилось, что таким же манером можно преобразить любой миф.
Поход аргонавтов повествовал с большой фантазией о повседневной истории небес от зари доч сумерек, Одиссей также превращался в солнце и, странствуя по Итаке в нищенских лохмотьях, символизировал зиму, а Пенелопа ждала его в облике луны, окруженная сто восемнадцатью женихами, — число зимних дней в этом южном краю. Теофиля начинало раздражать, что в конце каждого мифа появлялись только солнца и луны и что небо мифологий превращалось в беспрерывную процессию небесных тел, чересчур многочисленных и однообразно расположенных. Еще больше злило его, что некоторые персонажи никак не могли решиться, кем собственно они хотят быть. Одиссей становился соперником Посейдона и, как бог моря, одновременно и плавал по его волнам и сам же возмущал его против себя, а Ахиллес, словно капризный щеголь, примерял все новые наряды — то он был богем реки, то богом света, наконец, посягал на луну — ах, и он тоже! — на луну, казалось бы, предназначенную лишь для особ женского пола.
Похоже было, что Роек, плененный мифологией, будет отныне служить ей так же верно, как до сих пор — вокабулам и грамматике. Класс наслаждался этой переменой. Можно было сидеть, ничего не делая, не боясь неожиданных атак, и, подремывая, глядеть, как старый сухарь подрезает крылья легендам. Однако он докопался в своей памяти до новых залежей. Некогда это был толстый слой аккуратно сложенных карточек, на которых он несколько лет с жаром и терпением собирал материалы о культе Диониса. С этим радостным богом он связывал надежды о научной карьере, университете, славе. Возможно, у него еще сохранились эти бумаги и, более прочные, чем надежды, плесневели в бездонных шкафах, которые четверть века назад поглотили добро, накопленное в счастливой молодости, — девичьи платья, фрак, свадебный букет, приданое ребенка и множество других вещей, прибитых морозом судьбы, — в этих шкафах, которые яростно противились руке человека, прищемляя пальцы ящиками, царапая колючими, как когти, замками, а по ночам пугали стонами и скрипом, будто их душили кошмары. Роек не отважился бы в них заглянуть и даже не думал об этом, стоя возле Теофиля, чье присутствие сумело пробудить его память.
Теперь из нее появлялись на свет божий опечатанные храмы, древние идолы, увешанные медовыми сотами, загадочные обряды над пустой колыбелью, песни, которые пелись на берегу моря и прерывались мистическими паузами, как бы в ожидании, когда же наконец разверзнется лоно волн и родит громы, процессии с корзинами, в которые запрещалось заглядывать, ночные сборища в горах и пляски в лесных чащах, серебрящихся в лунном свете и обрызганных алой кровью разрываемых живьем животных. И хотя слово учителя было не в силах охватить могучий хор этих призраков, они сами прокладывали себе дорогу и врывались в притихший класс, наполняя его тем космическим гулом, от которого трепещут вакханки Эврипида, услыхав предсказание, что «вскоре вся земля пустится в пляс».
Снова появилась на доске карта Греции, напоминавшая большой лист, сочный, разлапистый, пышный, будто воплотились в нем души всех листьев, которые тем временем уже погибли от ночных заморозков, и Роек с Теофилем совершали дерзкие походы в поисках мест, где Дионис собирал своих приверженцев на молитву. Из этих паломничеств они возвращались овеянные ароматом виноградников и захмелевшие от звучных названий, как от молодого вина. Теофиля поражала глубина и страстность религии, которую он до сих пор, судя по своим учебникам, считал какой-то странной причудой и думал, что христианство пришло как раз вовремя, чтобы избавить древний мир от этого прискорбного и слишком затянувшегося буйства.
— Роек спятил, — сказал на переменке Сивак. — На кой черт он морочит нам голову этим древним идолопоклонством. Ведь доказано, что человечество с развитием цивилизации переходит от политеизма к монотеизму.
— Будь это так, — возразил Теофиль, — тогда бы Палестина была более просвещенной, чем Греция, а нынешняя Япония — темной и дикой в сравнении с Турцией.
— Банзай! — гаркнул Вайда, обрадовавшись спору.
— А я верю в аллаха и прошу не оскорблять моих религиозных чувств, — вмешался верзила Запоточный и, раскрыв объятья, завопил: — Гурии, гурии ждут меня и на том, и на этом свете!
Сивак оттащил Теофиля в сторону.
— Не слушай этого шута. Но ты все-таки скажи мне: ведь многобожие нелогично, правда? Как допустить, что народ интеллигентный, с высокой цивилизацией, придерживается веры, противоречащей разуму?
— Ты мог бы не задавать этого вопроса, — снова вмешался Вайда. — Ведь мы когда-то уже говорили тебе, — тут он насмешливо покосился на Теофиля, — что таково свойство человека — верить в вещи, опровергаемые разумом. Правда, здорово сказано? И Гродзицкий лучше не сумеет.
Теофиль молчал. Тут подошел Левицкий.
— Ого, — засмеялся Сивак, — не хватает Костюка, и был бы Высокий замок.
— В самом деле, — сказал Левицкий. — почему ты с нами больше не ведешь бесед?
— Я отвечу тебе за него, — толкнул его локтем Вайда. — Он — антиобщественная личность. Индивидуалист! Был у него такой каприз, но теперь это прошло. А мы для него — толпа.
— Эх, дурень ты! — пожал плечами Теофиль.
Но даже Вайду удивила глубокая морщина, появившаяся между красиво изогнутыми бровями Теофиля.
«У меня такое чувство, будто я обманул их доверие, — записал Теофиль в своей тетрадке. — Но я и дальше буду молчать, чего бы это мне ни стоило».
И ниже приписал:
«Из слов Роека следует, что монотеизм обедняет духовную жизнь, сушит воображение. Разве какой-либо из греческих богов был бы способен пролить кровь тысяч людей из-за одного слова, одного слога?..»
После уроков греческого в классе стоял угар язычества, и ксендзу Грозду всякий раз, когда его урок следовал за уроком Роека, было не по себе среди этих густо населенных богами стен, — они словно насмехались над его рассуждениями. Поэтому он спешил разделаться с угасающей античностью, которая в эпоху гуннов и готов еще бушевала в распрях греческой диалектики, когда соборы обращали животворящее слово Евангелия в невесомую пыль, создавая из нее догматы столь же эфемерные и чуждые действительности, какими были некогда идеи элеатов. Ксендз пропускал целые страницы истории церкви, стремясь к средневековью. Но и оно тащилось слишком медленно и слишком долго не желало расставаться с романскими соборами.
В нетерпении ждал ксендз Грозд готики, это было как-то связано с его мыслями, витавшими вокруг львовского собора. Ксендз Паливода был тяжело болен, но еще не принял последнего причастия. Тут была своя хорошая сторона — законоучитель имел больше времени, чтобы тщательно обдумать предлоги для многих нужных визитов. Но Теофиль вызывал в нем непрестанное беспокойство. С урока на урок ксендз все откладывал, не решался назвать фамилию Теофиля и обходил его парту, как будто там был спрятан страшный снаряд, готовый взорваться при первом прикосновении. В то самое время, когда Роек изучал черты лица, в котором для него воскрес его сын, ксендз Грозд чуть ли вовсе не забыл, как выглядит Теофиль Гродзицкий.
XVII
В подъезде происходило что-то необычное. Когда Теофиль, перепрыгнув через три ступеньки, отделявшие входную дверь от ворот, очутился в этом трапециевидном закоулке, продырявленном дверьми и служившем проходом между двумя квартирами, клозетами, подвалом, двором и лестницей, сотрясавшейся над ним своими не знающими покоя, истертыми и разбитыми ступенями, — в подъезде, где клубящиеся вихри мрака пытались загасить тусклую закопченную лампочку, кто-то громогласно расправлялся с христианской эсхатологией.
— А разве мир наград и кар можно назвать нравственным? Тот, для кого необходима вера в посмертную награду, иначе он станет бандитом, — тот понятия не имеет об этике. И кого же вы спасаете? Загнали в ад все человечество, жившее до Христа, сулите то же самое всем язычникам, евреям, магометанам, еретикам, биллионам людей, которые не успеют, не могут, не властны обратиться!
Подняв голову, Теофиль увидел профессора Калину, жильца со второго этажа. Он сжимал обеими руками перила и, перегнувшись, подставлял свою седую бороду жалким, чахоточным лучикам керосиновой лампочки, которые перебегали по ней желтыми бликами. На нижней ступеньке стоял отец, застигнутый этим властным голосом на пути к своему жилищу, куда ему хотелось поскорей убежать, и охваченный необычной, для него нерешительностью.
— Помилуйте, пан профессор. Если кто-то не по своей вине не знает истинной религии, он не будет осужден…
Калина ударил кулаком по перилам — даже ступеньки затряслись и скрипнули.
— Это вы сами себе внушаете, а вот попробуйте сказать это на исповеди! Да любой ксендз объяснит вам, что вне церкви нет спасения. Так же полагают православные и протестанты, которые опять-таки вас пошлют к черту. Только Цвингли…
На всех этажах раскрывались двери; какая-то девушка, несшая со двора воду в кувшине, остановилась на полпути и, разинув рот, глядела в потревоженную тьму лестницы, откуда на нее обрушивался град жестких, как камни, слов; шум спугнул дворника из уборной, и он, на ходу застегивая брюки, спешил не упустить возможности покричать, кому-то помочь или кого-то поколотить. Наконец и Гродзицкая выглянула из кухни. Тогда надворный советник проскользнул в приоткрытые двери, чуть не упав в ее объятия. Теофиль вошел минутой позже, когда вслед за глумливым скрипением и кряхтением лестницы раздался на втором этаже стук захлопнувшейся за астрономом двери.
Отца Теофиль застал в столовой, — держа рука в карманах, он ходил по комнате и рассказывал о своем приключении. К этому моменту уже отшумело бурное вступление, в котором Гродзицкий с большой горячностью заявит, что дальше жить в этом доме невозможно.
— Поводом была Домбровская, — говорил он несколько спокойней. — Конечно, судьба обидела ее. Бедняжка не может двигаться, тяжело смотреть на ее руки в подагрических шишках, даже пальцев не видно. И вот я говорю ей то, что обычно в таких случаях говорят больным: что бог посылает испытание, но помнит, что если кто здесь, на земле… ну, в общем, сама знаешь. И тут принесла нелегкая этого астронома. Он тоже явился уплатить за квартиру и еще в прихожей услышал какую-то мою фразу да как налетит! Сперва я не отвечал. Но потом будто что-то меня ужалило, и я ему сказал, что механистический материализм — а он развивал именно такие взгляды, противен мне, как арифметика, и что его мир безнравствен. С той минуты, как ты, сама видела, он меня уже не отпускал. Ты, Зося, легче бы с ним договорилась, ведь ты не веришь в ад.
В столовой было темно. На улице еще не зажгли фонари, немощные ноябрьские сумерки угасали в грязной постели туч, роняя последние капли света, как мутную, клейкую жидкость, некую солнечную микстуру, которая могла еще на миг продлить их жизнь. Гродзицкая, рассеянно выслушав рассказ мужа, побежала на кухню, где новорожденный пирог заявлял о себе на весь дом резким запахом шафрана.
— Боже мой, как это распространяется, — прошептал Гродзицкий.
Теофиль стоял, опершись о косяк двери своей комнаты. Прохаживаясь взад и вперед, отец неожиданно натолкнулся на него, кашлянул и, лишь отойдя на несколько шагов, заговорил:
— Для каждого его вера священна, и надо ее уважать. А лезть в чужую душу, рыться в ней, как в своем сундуке, — это наглость. Хуже того, это пахнет преступлением. Прежде чем отнимать у человека то, что ему всего дороже, надо сперва подумать; можешь ли предложить ему что-то лучшее.
Теофиль проглотил слюну.
— Что ты сказал? — спросил отец.
— Есть люди, которые принесли присягу знамени истины, и они считают своим долгом служить ему и сохранять верность всегда и всюду!
Эта пышная фраза вырвалась у него так неожиданно, что на секунду он словно оглох, как артиллерист после выстрела. В комнате стало совсем темно. Гродзицкий остановился и, точно расстояние между ним и невидимым сыном внезапно увеличилось, повысил голос:
— Ты не о себе ли говоришь?
— О себе, — отвечал далекий, как эхо, голос.
Гродзицкий направился в ту сторону, ориентируясь по краю стола, — покрытый белой клеенкой, стол один-одинешенек выделялся среди прочей мебели, окончательно поглощенной мраком. Так он достиг границ территории Теофиля и смог увидеть его глаза — два предостерегающих огонька в опасном проливе, полном рифов и подводных камней.
— Знамя истины! А где ты ее найдешь, эту истину?
— В науке.
Гродзицкий пожая плечами и тут же подумал, что в темноте бессмысленно выражать свои чувства жестами.
— Как будто у науки есть готовая истина! Не думаю, что ты много выиграешь, если будешь верить не в авторитет церкви, а таким господам, как наш сосед сверху. Он из тех, кто предпочтет сто заблуждений, придуманных людьми, одной истине, идущей от бога.
Теофиль скрылся в темноте и в молчании. Даже глаза его исчезли. Гродзицкий остро ощутил свое одиночество. Он начал медленное отступление, встречая по дороге одни лишь мертвые предметы, — стулья, ребра буфета, — которые выскальзывали из-под ладони, мимоходом дохнув на нее холодом небытия.
Внезапно ворвался с улицы свет фонаря и, как неотесанный бродяга, принялся шастать по комнате. Гродзицкий, радуясь, что среди этих глыб мрака и каменных мыслей наконец появилось нечто, чему хотя бы фигурально можно дать название живого, принял нахала ласково и вместе с ним сел за снежно-белый стол.
— Не знаю, что ты там думаешь, — произнес Гродзицкий, не глядя в сторону Теофиля. — Да и откуда я могу знать? Ты не оказал мне доверия, не пришел поделиться. Это было неразумно. Неужели тебе легче было носить в себе эту тайну, и ты ни разу не подумал, что, может, стоило бы обсудить ее с тем человеком, который когда-то учил тебя первой молитве?
— Я знал, что ты как человек верующий…
— ...стану тебя убеждать, и ты боялся, как бы это мне не удалось. Ты это хочешь сказать?
Теофиль отрицательно замотал головой. Отец видел его сквозь полосу зеленоватого света — будто сквозь стеклянный колпак, опущенный на дно моря. Впечатление это Гродзицкий воспринял как то, чем оно и было по сути: как предостережение, что его отделяет от сына чуждая и враждебная стихия.
— Неужели твои новые убеждения казались тебе настолько уж прочными? Прости, я не хочу тебя обидеть, но мне трудно в это пбверить. По тому, что мне говорила мать и о чем я сам мог догадаться, можно заключить, что ты утратил веру из-за книг, истинность которых не способен оценить. Но ты должен был хотя бы спросить себя: а может, на эти, книги дан ответ, может, их опровергли, и как объяснить, что еще есть люди, которых они не лишили покоя?
— Это мне как раз трудней всего понять.
— Вот видишь!
Гродзицкий встал и смешался с толпою теней, которыми наполнил комнату фонари. Какие-то головы скользили по потолку, какие-то руки непонятно зачем тянулись к стенам и, сползая по ним, исчезали в черноте углов.
— Вот видишь! — повторил Гродзицкий. — Потому что религия — это нечто совсем иное, чем содержание нескольких книг, к которым можно придраться с той или другой стороны. Люди не очень-то обращают внимание на документы, и они правы. Представь себе, что я, к примеру, вынужден на многое закрывать глаза и не слишком вникать в подробности, но что бы я выиграл, если бы из педантичности пожертвовал большой суммой ради двух-трех крейцеров, в которых мне не удалось отчитаться?
Чуткий к искусным поворотам мысли, Теофиль взглянул на отца с одобрением. А тот дал себя увлечь обманчивой надежде, которая пробудила в нем новый пыл.
— Вот ты мне говоришь о науке. Отлично. Она тоже помогает человеку чувствовать себя в мире менее одиноким. Только этого еще чертовски мало. Людям нужно больше, им нужно объяснение жизни, полное, без недомолвок и ссылок на будущее!
- Какое же это объяснение, если его надо защищать от здравого смысла!
— От здравого смысла надо защищать многое. Например, утверждение, что земля вертится.
— Но тут можно привести убедительные доказательства.
— Сила доказательств зависит от нашей доброй или злой воли в гораздо большей степени, чем это с виду кажется. Ты сам можешь служить примером. Ты по доброй воле внял доказательствам против католической воры и сразу же дал себя убедить.
— О, это мне далось не так легко!
Обернувшись, Гродзицкий уже не нашел сына на прежнем месте. Теофиль теперь стоял на распутье, между светом и тьмой, в центре креста, которым распласталась по полу тень оконной рамы. Гродзицкий невольно подошел ближе к мальчику, чтобы увести его от этого символического знака. Рука Теофиля, когда он к ней прикоснулся, задрожала. Но он сжал ее еще крепче, и оба в молчании прошлись по комнате. Когда Гродзицкий наконец заговорил, слова его звучали как продолжение чего-то, начавшегося еще в минуту молчания.
— Подумай, ведь не случайно все наше существо ищет бога и стремится к нему. Назовем это теотропизмом, термином, сходным с тем, которым обозначают стремление растений к солнцу. Неужто из всех наших инстинктов — а это несомненно инстинкт — только ему одному, следует отказать в реальной цели?..
Теофиль позволил отцу водить себя по комнате, и пока они не спеша прохаживались взад и вперед, вслушивался в его голос. Это еще не был шепот, но в замирающих концовках уже чувствовалось, что еще минута, и слова утратят весомость, станут легкими как вздох. Все труднее было их понимать в вихре собственных мыслей.
«Бог-бог-бог!» — раздавалось в глубине души, как стук дятла в лесу. Пахнуло смолистым ароматом, тьма, расступившись, открыла кусок голубого неба, миг внутренней тишины принес воспоминание о мягком мхе и грезах, уносящихся за скитальцем-облаком выше самых высоких верхушек деревьев.
«Бог-бог-бог!» — гремел черный молот по раскаленному железу, сыпались жаркие искры, клубы дыма окутывали душу. С каждым ударом проступала на огненной болванке часть неведомой формы — не то якоря, не то сердца.
«Бог-бог-бог!» — грохотал могучий поршень, тонна металла, неутомимо снующая туда-сюда. Вот вынырнула из пучины стальная грудь, вспыхнули красные глаза, ураган скрежета, лязга, грохота мчался во тьме.
«Бог-бог-бог!» — все оглушительней топот, звезды проносились мимо, как огни городов, разверзались темные пасти космических целиков, кометы мелькали как сигналы тревоги, путь терялся в снежной вьюге туманностей, и ужасающая пустыня мрака снова смыкалась своим сводом над неумолимой поступью.
«Бог?!»
С далекой земли знакомый голос пытался пробиться сквозь бурю… До Теофиля донесся зародыш слова, звучавший вроде «куда?». Он остановился и вспомнил, где находится. Отец смотрел на него молча. Лицо сына казалось ему холодным, строгим, ожесточенным. Он выпустил руку Теофиля и, сделав круг по комнате, остановился у стола, принялся зажигать висячую лампу. Пани Зофья возвратилась из кухни.
— Биня, мы же собирались идти к Паньце.
— А который теперь час? — Он вынул часы.— Уже шестой?
Пани Зофья с тревогой взглянула на стоявшего у окна Теофиля, потом на мужа.
— А мы тут беседовали, — сказал Гродзицкий, движением руки призывая в свидетели стулья, которые рассыпались в разные стороны, будто на них минуту назад сидела сварливая компания.
— Теофиль пойдет с нами? — спросила пани Зофья, не найдя ничего лучшего, чтобы унять страх, вызванный мыслями об этой беседе.
— Нет, мама. — Теофиль отвернулся от окна. — Я еще не приготовил уроки.
«Рубеж», — подумал он, вспомнив, как однажды вот так же остался дома один в первый день пасхи, незабываемый день, когда началось его странствие.
Пани Зофья прошла в свою спаленку, открыла шкаф, но, услыхав голос мужа, застыла на месте.
— Скажи мне, что ты намерен делать дальше?
— Я должен… — Теофиль заколебался, подыскивая слова, — должен все продумать… изучить...
— Разумеется, по книгам? Откуда ты их возьмешь?
Теофиль потупил глаза, чтобы не смотреть на отца,— что-то пошлое и отвратительное послышалось ему в этом намеке на его материальную зависимость. Гродзицкий это почувствовал.
— Я не могу ссужать тебя деньгами на то, что противоречит моей совести.
— Я этого не требую. Я только прошу, чтобы ты мне не мешал.
В дверях показалась пани Зофья. Теофиль ее не заметил, он уже направлялся в свою комнату. Гродзицкий на ее умоляющий взгляд нетерпеливо махнул рукой.
— Погоди, еще одно слово. Что ты сделал со своим медальоном?
— Ничего. Он лежит в ящике.
— Отдай его, пожалуйста, мне.
Гродзицкая скрылась в спальню, чтобы не видеть этого.
Медальон с изображением богоматери она надела сыну на шею, когда ему было три месяца. Освящал медальон настоятель костела св. Николая, благочестивый ксендз Гораздовский. Возвращая его пани Зофье, он поднес медальон к губам и сказал: «Это щит. Он отразит пулю, недуг, огонь и самое худшее — укус змия адова». По мере, того как, Теофиль подрастал, серебряная пластинка будто уменьшалась. Каждые два года Гродзицкая покупала новый шелковый шнурок, все более длинный, а старые складывала туда, где хранила первые волосы сына, светлые, как лен. От шнурков пахло его телом. С годами серебро почернело, словно впитало в себя все отравы и яды, угрожавшие телу. Ведь медальон всегда был на нем — вместе с ним пылал в горячке, верным стражем хранил грудь, испещренную пятнами кори, задыхающуюся в раскаленных клещах коклюша, хватающую последний глоток воздуха, когда десятилетнего Теофиля выловили полумертвого из камышей и водорослей Верешицы.
Через стену она услышала, как Теофиль вернулся из своей комнаты, затем шаги мужа, стук выдвигающегося ящика письменного стола, щелкание ключика в замке, — и слезы залили ее лицо,
— Не знаю, правильно ли ты поступил, — сказала она, когда они вышли на улицу.
— Почему ты не говоришь прямо? Ты, конечно, считаешь, что я поступил неправильно. Но кто меня научит, что делают в таких случаях? С тех пор как мир стоит, ни один Гродзицкий не оказывался в моем положении. Случись со мною то, что с Теофилем, отец попросту выдрал бы меня ремнем, которым опоясывался. Всыпал бы мне по мягким частям, и ему в голову бы не пришло, что он оскорбляет господа бога, полагая, будто этим путем можно убедить в его существовании.
— Ах, как все это ужасно!
— Согласен. Я прожил пятьдесят два года, половину из них я боролся с жизнью, во второй половине научился ею управлять. По крайней мере, так мне казалось до сих пор. Но теперь я вижу, что я глупец, беспомощный глупец. Сопливый мальчишка задал мне задачу, и я не знаю, как за нее взяться. Я чувствую себя как человек, захлопувший клетку, когда птица уже улетела.
— Боже мой, чем это кончится!
Эти вздохи рассердили Гродзицкого.
— Ты выбрала себе лучшую роль. Вздыхаешь, плачешь, боишься, а в душе надеешься, что как-нибудь все обойдется. Но ты подумай, чего стоят родители, которые сумели вызволить ребенка из всех бед и опасностей, угрожавших его телу, и стоят сложа руки, когда душа этого ребенка близка к погибели?
Уличный шум прервал их разговор. Гродзицкие с трудом проталкивались сквозь толпу, устремлявшуюся с Сикстуской улицы на улицу Карла-Людвига и к Гетманским валам, где трамваи, неистово трезвоня, умоляли дать им дорогу. Толпа эта также была приведена в движение вопросами метафизики, вернее, ржавчиной или плесенью метафизики, гноящимися струпьями суеверий. Мальчишки продавали брошюру со свидетельством ксендза Пранайтиса по делу ритуального убийства. Куратор туркестанского диоцеза, цитируя Талмуд и историю, откапывая давно погребенные легенды и, ссылаясь на анонимные хроники, во имя тысячелетней ненависти требовал мести за труп маленького Ющинского, что, покрытый четырнадцатью ранами (дважды семь!), повис тяжелым, кровавым кошмаром над киевским судом. Этот голос из глубин Азии, праматери волшебства и демонов, раздавался у Венского кафе, заглушая вальсы и марши полкового оркестра тирольских стрелков и горяча кровь почтенных мещан, которые вдруг начали хищно коситься на цилиндры старых евреев, испытанных своих приятелей по всяким делам и сплетням у памятника Собескому.
Поглощенный своими мыслями, Гродзицкий не замечал возбуждения толпы — вероятно, она казалась ему обычным вечерним сборищем гуляющих. Проходя по Мариацкой площади, он снял шляпу перед статуей богоматери, сверкавшей гирляндами лампочек.
— Просто удивительно, — сказал он, — как повседневные заботы заглушают в нас все это! Кажется, читаешь молитву утром и вечером, по воскресеньям посещаешь костел, раз в год ходишь к исповеди — и ты в расчете с богом. А тут является такой вот молокосос и дает тебе понять, что ты ничего не смыслишь в самом важном, что есть на свете. Надо ему отдать должное: его это действительно волнует. Он знает, что от этого зависит все и что нет такого вопроса, который стоил бы нашего внимания, если тот, единственный, ты не рассмотрел со всех сторон.
— Помилуй, Биня, бог вовсе не требует, чтобы каждый католик был теологом.
— А что ты ему ответишь, когда он тебя спросит, как ты старалась обратить своего сына? Почему ты была нема, когда сын отрицал его существование? Почему твоя вера не подсказала тебе других слов, кроме фраз из школьного катехизиса, и почему ты не доросла до сомнений твоего сына? Отчего я могу высмеять этого мальчика, когда он вздумает сунуться со своим жалкиммнением в дела, касающиеся законов и власти, и стою дурак дураком, когда он требует, чтобы я обосновал свою веру? Надеюсь, ты не скажешь, что бумажный хлам, составляющий мою жизнь, важней Евангелия? Или что человек умен, когда он умеет оправдать существование вот этого здания, но не способен выразить, в чем необходимость вон того, другого, с крестом наверху?
И он указал на наместничество, мимо которого они проходили, а затем — на костел кармелитов.
Два мира — преходящий и вечный — стояли рядом, представляя разительный контраст.
Строгий корпус наместничества, чью мрачную черноту не нарушало ни одно освещенное окно, давил землю, плотно окованную плитами, которые глухо вторили мерному шагу часового. Дух этих стен, очевидно, с полной серьезностью воспринимал пространство и время и полагал, что они также будут относиться к нему с почтением. Черный двуглавый орел на золотом щите нисколько его не окрылял, — отягощенный золотой державой и мечом, орел этот отказывался от полета, он желал вечно пребывать на той земле, которую сто лет назад захватил и ограбил.
Костел же, напротив, пренебрегал землей, а она устремлялась к нему ступенями, террасами, всем холмом, тянущимися в экстазе к небу деревьями, чьи кроны мечтали поравняться с крестом. Но две башенки от них ускользнули; на темную от древности медь упала откуда-то искорка света, как будто в робкой улыбке явилась миру душа, которая после свадьбы в Кане Галилейской пережила все чудеса, а после нагорной проповеди прониклась всеми горестями человеческими; которая видела, как в огне соборов лопаются слова, рассыпаясь на слоги, а из тех вылетают отдельные буквы и, уносимые ветром, разносят пожар по всему миру; которая запомнила все ночи Фиваиды в немыслимой тишине пустыни, и пурпурные римские вечера, и набухшие от ядовитого солнца тяжкие полдни; когда чума душила людей, а кучки безумцев кружились в демоническом танце, и рассветы девственных стран, где в испарениях болот вставал день для первых миссионеров; которая читала Священное писание в катакомбах при масляной лампадке, и в готических соборах при сиянии свеч, и на городских площадях при пылающих кострах, и при луне в монастырских кельях в часы экстаза; которая упивалась мыслью, добираясь до дна абсурда, и трезвела, чтобы вновь искать помрачения в диспутах схоластиков, в видениях мистиков; душа, которая умела вместить в себе смирение и гордыню, мудрость и глупость, вдохновение и пошлость, жалость и насилие, — таинственная, дерзкая, жадная до людских сердец и презирающая мир душа.
Внезапно со стороны Таможенной площади, оглушительно грохоча, вылетела повозка пожарной команды, за ней вторая, третья. Могучие вороные лошади стучали копытами, высекая искры из мостовой, зловеще дудели трубы, шлемы пожарников ловили на лету все световые блики. Тродзицкие остановились; пани Зофья сотворила крестное знамение, сердце у нее замерло. Но адские колесницы повернули к монастырю доминиканцев; та сторона неба, под которой остался ее сын, была вне опасности. Пани Зофья верила только в зло, исходящее от земли, ее созданий и ее стихий.
В молчании они дошли до дома Паньци. Гродзицкий, задумавшись, вместо того чтобы позвонить, вынул из кармана собственные ключи; в этом машинальном жесте он бессознательно выразил, насколько близким, родным и дружественным был ему этот дом. Входить надо было через кухню. Пани Зофья всегда с удовольствием оглядывала четыре светлые стены, увешанные кастрюлями, сковородками, зеркально блестящими котелками, безупречно чистый желтый пол, кровать прислуги, застланную белоснежным одеялом.
Здороваясь с Гродзицкими, Паньця таинственно подмигнула:
— А у меня для вас сюрприз
Сюрпризом был ксендз Грозд. Предупрежденный заранее, кого он увидит, ксендз с невозмутимым спокойствием протянул руку Гродзицкому, который не сумел скрыть удивления. Еще хуже повела себя пани Зофья. Она покраснела по уши и стала зачем-то снимать перчатки, что ей никак не удавалось и было комично, ибо ксендз все стоял перед ней с протянутой рукой.
Еще до ужина Гродзицкому удалось поймать Паньцю в полутемном чулане рядом с кухней.
— Откуда он у вас?
— О, это мой старый знакомый. По Трускавцу. До сих пор он у меня не бывал, но сегодня я встретила его возле собора и пригласила. Вы что, о нем дурного мнения?
— Боже упаси! Это верный солдат воинствующей церкви. Было бы у него сердце помягче…
Но Паньця уже была занята другим делом. Она вынула из шкафа несколько бутылок и, нагруженная, побежала к гостям.
Гродзицкий напрасно заподозрил подвох: Паньця говорила правду. Три года назад она в Трускавце сидела на скамейке невдалеке от источника, со своим неизменным зонтом, серым в красную полоску, и вдруг увидела ксендза, который медленно шел, обмахиваясь черной соломенной шляпой. «Добрый день, преподобный отец, —обратилась она к нему с той непосредственностью, с какой приглашала конных полицейских, проезжавших под ее балконом, зайти в воскресенье выпить чарочку. — Ужасная сегодня жара». Ксендз поклонился и сказал, что все же может пойти дождь и осмотрительность велит ему совершить предписанную прогулку. «Тогда прошу ко мне вечерком на преферанс». Он поблагодарил, спросил адрес и ушел, забыв представиться. Но когда он появился вечером, Паньця знала о нем все, что можно было узнать тут же, на курорте. Самым важным сведением было то, что ксендз преподавал в гимназии Теофиля. Именно это она и вспомнила сегодня, встретив ксендза у собора после вечерней службы.
Ксендз Грозд был ярым преферансистом. Наряду с экзегетикой и рамками то была его третья страсть. К сожалению, в этот вечер ему не пришлось ее удовлетворить. Кроме Гродзицких, у Паньци была еще капитанша Секерская, и единственной игрой, которая могла объединить всех пятерых, был «лабет». Ксендз Грозд покорно принялся тасовать карты.
— Играем по четыре крейцера, — сказал Гродзицкий.
Ксендза это испугало, и он удвоил свою врожденную осторожность: не полагался на одиночные козыри, при ставке покрупней шептал «пас» и клал карты на стол, прикрывая их руками. А Гродзицкий играл азартно, вызывая у капитанши изумленные возгласы. Он раз за разом ставил на валета самую предательскую карту, и часто выигрывал вопреки всем зловещим пророчествам. Ведь валет — это был его мальчик, собственный его сын! И он ставил на валета, споря с судьбой, с дурными предчувствиями, с черными своими мыслями, и выигрывал в борьбе против хмурых пиковых дам, против тузов, символизировавших для него нечто, чему он не решался дать точного определения, но из-за чего игра преображалась в поединок Иакова с тем, кто не желал открыть свое имя.
Настроение у него стало превосходное. Грозд, глядя на это шумное веселье, совершенно пал духом и начал проигрывать самым жалким образом: делал ставки в игре, от которой тут же трусливо уклонялся.
— А знаете ли вы, пан ксендз, — шутливо сказал надворный советник, — что родина этой игры — Франция, а правильное ее название «l'abbè», то есть «аббат». Придумали ее в восемнадцатом веке, и она стала любимой игрой в тех кругах, где светские и весьма общительные аббаты получили фамильярное прозвище «аббатики». На картинах и гравюрах того времени мы их видим среди красивых, веселых дам с весьма смелыми декольте…
— Полно, Биня! — поморщилась папи Зофья.
— К сожалению, милостивая пани, — обратился к ней ксендз,— это правда. Нравы духовенства в те времена были весьма предосудительными, и это повлекло за собой тогдашний упадок веры. Безбожие, распространявшееся сочинениями Вольтера и других, не встречало со стороны церкви никакого отпора, ибо служители ее не умели хранить свое достоинство. Ныне...
Тут ксендз умолк — при раздаче карт ему достался туз, первый туз, заглянувший к нему в этот вечер.
— Может, уж теперь вы, пан ксендз, возьмете прикуп? — предложил Гродзицкий.
— Пожалуй.
Однако, глянув на свои карты, ксендз, струхнул: он сбросил все, прикупил опять-таки одну мелюзгу и, вконец растерявшись, пошел с козырного туза.
— Кто же так делает! — ужаснулась Паньця.
Ксендз проиграл, а Гродзицкий забрал последнюю взятку, когда никто уже этого не ожидал — взял на валета бубен, на своего мальчика!
— Паньця! — вскричал он. — Подарите мне, пожалуйста, эту колоду. Я сберегу ее на память.
Паньця ласково ему улыбнулась, радуясь, что ее «зеленяк» так славно развеселил гостей. Ксендз Грозд посидел еще с четверть часа, пока не закончили пульку,— сплошные его проигрыши! — и затем встал, чтобы попрощаться.
Гродзицкий, улучив минуту, когда возле них двоих никого не было, вполголоса спросил:
— Как здоровье ксендза Паливоды?
— Сегодня он принял последнее причастие.
— Вот как! — Гродзицкий задумался. — На следующей неделе возвращается наместник. Пожалуй, будет самое время.
Ксендз чуть заметно кивнул.
XVIII
Хотя карты пророчили удачу, Гродзицкий со своим партнером-невидимкой проиграл. В тот самый час, когда Паньця разложила ломберный столик, Теофиль сидел, поджав ноги под стул, напротив профессора Калины. Седобородый, румяный, в алой атласной ермолке, профессор был точь-в-точь бубновый король — единственная карта, за целый вечер ни разу не попавшая в руки Гродзицкому.
Мысль зайти к профессору блеснула у мальчика внезапно, за тарелкой яичницы, которую он поедал в печали и одиночестве, переваривая слова отца. Он страдал от своего унижения, проходя всю шкалу этого чувства — от горькой обиды до сознания, что ты смешон. Катастрофа, постигшая Штрауса в дупле брюховичской вербы, лишила Теофиля библиотеки; он предпочел потерять свой залог и больше там не показываться, чем пытаться снискать прощение, придумав какую-нибудь историю. Что же предпринять, когда в кармане всегда одна мелочь? Хотя для штурма небес требуется меньше затрат, чем для любого сражения на земле, здесь тоже можно потерпеть неудачу из-за неблагоприятных экономических условий. Но оказалось, тут же рядом, в соседней державе, его ждал могучий союзник. Теофиль прокрался к нему под покровом темноты — преступник, изгой, предатель!
— Стало быть, ты сын надворного советника? — спросил великолепный бас из недр обширного кресла. — А твоя мать — это такая высокая дама? Да, да, я имел удовольствие… Весьма интересная особа!
Комплимент относился не столько к самой Гродзицкой, сколько к ее брошке. Профессор, сохранивший отличное зрение, заметил на ней однажды при случайной встрече у владелицы их дома красивую старинную брошь. Это был бриллиант в золотой оправе, и вокруг него жемчужины, сверху и снизу составленные так, что образовывали по четыре полукружия, расположенных одно над другим, а справа и слева по пяти коротких лучика, все в целом напоминало насекомое с растопыренными лапками, но, на взгляд астронома, вызывало в уме совсем иное сравнение. Эта брошь, по его мнению, в точности повторяла форму кристаллов медного купороса, снятых по методу Лоу. Когда рентгеновские лучи, падая перпендикулярно к одной из трех осей кристалла, выявляют расположение атомов, получается именно такая фигура. Удивительная брошь не раз смущала мысли профессора, и с той поры он кланялся Гродзицкой с особой учтивостью.
— Ты, пожалуй, больше похож на мать. Только у нее глаза серые. Правда?
Теофиль утвердительно кивнул и покраснел: в это мгновение он вдруг заметил тонкую белую тесемку, которая, проскользнув между двумя верхними пуговицами брюк профессора, свисала чуть ли не на целый локоть и раскачивалась при каждом его движении. Калина был уже в том возрасте, когда отдельные части туалета обретают присущее им ехидство и пользуются твоей рассеянностью, спешкой или неловкостью, чтобы досадить. Коварнее всех была вот эта тесемка — или «штрафлик», как ее называют повсеместно в Галиции и на Львовщине, — которой завязывают кальсоны у пояса. Длинная тонкая полотняная ленточка ухитрялась обмануть пальцы профессора и нахально вылезала из своего убежища в самые неподходящие минуты. Например, во время последнего приезда императора, когда ученый совет академии…
— Чего ты улыбаешься, мой мальчик?
Теофиль солгал, будто ему вспомнилась сцена на лестнице, и пододвинул свой стул так, чтобы не видеть упрямую тесемку, которая всячески старалась его рассмешить.
— Да, у твоего отца немного устарелые взгляды. Мы с ним поспорили. Я в этих вопросах не умею держать язык за зубами.
Последняя фраза содержала вкратце всю историю университетской карьеры профессора Калины. Его предшественником был немец Фридрих Доле, который занял кафедру физики «с включением космографии» в период онемечивания, а когда обстоятельства переменились, сам ополячился. Человек порядочный, но мямля, Доле благодушно терпел выходки своих студентов, которые не меньше пяти раз в семестр вешали на доску в аудитории дохлую галку. Доле осторожно снимал с доски этот своеобразный тотем, отворял окно и выбрасывал птицу. При этом он напевал куплет из старинной оперетки про Йозефа, укравшего галку, который услыхал и запомнил в счастливые времена жизни в Вене.
Нелепые слова и дискант профессора вызывали в аудитории бешеное веселье. Так во Львове уменьшалось число галок, носящихся тучами над Оссолинеумом, причем Ботанический сад, в те времена крайне запущенный, получал толику удобрения в виде мелкой падали, а двум десяткам молодых людей было легче сносить «Новые взгляды на молекулярную теорию», бессмертный курс, рукопись которого спас от пожара в 1848 году героический, незабвенный Козьма, вынося физические коллекции.
В области астрономии Доле прославился открытием, что в ночь с 24 на 25 декабря 12 года нашей эры над Вифлеемом появилась комета Галлея и была видна в тех краях до середины января следующего года, — полвека спустя это повторил Вестберг в своей «Biblische Chronologie», не ссылаясь на автора открытия. Когда во Львов после занятий за границей приехал молодой доцент д-р Юзеф Калина и начал читать курс (в феврале 1870 года, в одну из суровейших зим, когда стояли тридцатиградусные морозы и мертвые галки так и сыпались с деревьев), казалось, что наконец появился тот самый загадочный «Йозеф» из куплетов. Уже тогда он неумел «держать язык за зубами» и заявлял, что Доле больше ценит у Ньютона комментарии к апокалипсису, чем закон всемирного тяготения. Однажды при случае он спросил старика, не полагает ли тот, что после дня, когда Иисус Навин остановил солнце, наступила в Греции та самая вдвое болев длинная ночь, в которую Зевс и Алкмена зачинали Геракла. Шутка облетела весь город.
Борьба профессора с доцентом длилась несколько лет, возбуждала страсти у молодежи, была наказанием для властей. Кафедру Калина получил лишь после смерти Доле. С тех пор он прочно сидел на ней, славясь своими познаниями, издеваясь над всеми недругами, которых умел приобретать с невероятной легкостью. Ректором он, впрочем, не стал. Но зато когда ему перевалило за семьдесят, никто не сумел, воспрепятствовать присуждению ему звания «почетного» профессора, что случилось как раз в этом году. Студенты устроили ему овацию.
— Я никогда не скрывал своих убеждений, — сказал профессор. — Ни при каких обстоятельствах. И не считаю это геройством. Мои взгляды ясны и очевидны, как таблица умножения. Разве кто-нибудь постесняется заявить, что знает, сколько будет пятью пять? Ты скажешь, мой мальчик, что за таблицу умножения никогда никого не преследовали? Возможно. Я недостаточно хорошо знаю историю. Но если это не случилось, ничто не дает нам оснований считать, что это не случится в будущем. Итак, воспользуемся минутной свободой и открыто провозгласим таблицу, умножения. Воспользуемся также еще одной, тоже минутной, но менее широкой свободой, которая позволяет нам смотреть на вселенную глазами разума. Время для нас драгоценно. Человечество развивается скачками, в просветах между периодами фанатизма и невежества. Того, что удастся сделать в такую пору спокойствия, как наша, возможно, хватит на несколько веков. Так поспешим — быть может, эта пора уже кончается? Быть может, поколение, которое рождается сейчас, вернет из изгнания все суеверия и предрассудки и снова пойдет к ним в рабство?
Пышущее здоровьем лицо старика светилось благодушием, противоречившим его грустным пророчествам. Поглаживая длинную седую бороду, он с любопытством смотрел на мальчика, который не сводил с него взгляда, — пара темных и пара голубых глаз вели дружескую беседу при мягком свете лампы.
— Видишь ли, мой дорогой, — усмехнулся Калина. — Мы с твоим отцом поспорили о нравственном устройстве мира. Как чаще всего случается, между нами не было существенных разногласий. Твой отец признает совершенно ту же этику, что и я, только над ним тяготеет ненужное бремя чужих убеждений, которое он приучился считать своими собственными. Заставляет же его нести это бремя покорность суровейшему из тиранов, которого человек сам себе выдумал. Отец твой верит в бессмертное существо, создавшее мир после бесчисленных эонов одиночества. Это был неосторожный поступок, и бессмертное существо поплатилось своей независимостью. Для него начались времена тревог, гнева, разочарований и сожалений; довольно долго его преследовала мысль, что надо бы уничтожить свое творение. Изо дня в день имея дело с новым мыслящим существом, то есть с человеком, бессмертное существо решило создать этику. Для существа, столь долго пребывавшего в абсолютном одиночестве, это оказалось трудной и мучительной задачей. Решена она была не менее торопливо и небрежно, чем сотворение мира. Подобно тому как по непонятной скупости или еще более непонятной забывчивости демиург не позаботился об особой пище для всех видов животных и заставил их пожирать друг друга, так и первая нравственность, которую он навязал миру, походила на приказания самодура-вождя дикого племени кочевников, и кары, положенные за самые ничтожные провинности, соответствовали своеволию и всемогуществу карающего, но не слабости и беззащитности провинившегося.
Теофиль сидел, не шевелясь. С ним происходило то же, что с куском железа рядом с магнитом: в нем еще была какая-то сила сопротивления, но она все уменьшалась из-за колебаний, сожалений и желания подчиниться. Калина простер руку, и Теофиль вздрогнул, будто испугавшись, что профессор хочет к нему приблизиться. Но тот потянулся к лежавшим на столе книгам. Взяв самую верхнюю, профессор начал медленно листать ее. Вскоре он нашел место, которое искал, заложил указательный палец в середину книги и, держа ее наготове, сказал:
— Сегодня мы с твоим отцом разыграли сцену богословского диспута, смешную, безобидную сцену, Но, вернувшись домой, я взял вот эту книжечку. Это сочинения Ванини. Тут есть такое простое рассуждение: «Мир таков, каким бог его задумал; если бы он хотел, чтобы мир был лучшим, то мир был бы лучшим. Если существует грех, значит, так хочет бог; ибо написано, что он может сделать все, что хочет. Если же он не хочет, а грех, несмотря на это существует, следует назвать бога либо не умеющим предвидеть, либо бессильным, либо жестоким, поскольку он либо не осознал своей воли, либо сумел ее исполнить, либо ею пренебрег». Так писал Ванини. Его сожгли на костре — никак нельзя было ему доказать, что его рассуждение ошибочпо. Заметь, это произошло в тысяча шестьсот девятнадцатом году, то есть уже триста лет назад вопрос был разрешен простым и доступным для любого способом. Но ты сам знаешь, что миллионы людей живут сегодня так, словно Ванини не существовало. Вот тебе печальный пример того, как часто гибнут зря мысли человеческие.
Книга, которую он держал, выскользнула из его руки. Теофиль вскочил со стула, чтобы поднять ее, но и профессор нагнулся и в это мгновение увидел злополучный «штрафлик», болтающийся между коленями. Он смущенно рассмеялся:
— Вот что значит старость. Она превращает человека в неряху и болтуна. Ты сидишь здесь уже добрых четверть часа, а я до сих пор не дал тебе слово сказать и не спросил, чего ты хочешь.
Профессор, говорил это, повернувшись лицом к стене, он отошел в сторону, чтобы привести в порядок свою одежду. Лишь теперь Теофиль заметил, как он высок ростом и крепок — прямо атлет.
Опершись обеими руками на край стола, старик смотрел на Теофиля. Мальчик встал — ему неловко было говорить с таким человеком сидя.
— С вашего позволения, пан профессор,— начал Теофиль, — уже во второй раз мне случается слышать такие речи, и вообще у меня впечатление, будто что-то толкает на мой путь людей…
Калина протянул к нему руку, как бы желая остановить:
— Ты сказал: «что-то»? Никогда не употребляй неопределенных слов. Они родились в эпоху магии, и в них звучит страх, отец суеверий.
— Согласен. Но в последнее время со мной происходят приключения…
— Ты сам их создаешь, — снова перебил его Калина. — Они возникают вот тут. — И он так внезапно ткнул пальцем в лоб Теофиля, что мальчик испуганно откинул голову.
— Может быть. Да, пожалуй. Но это не важно, — нетерпеливо махнул рукой Теофиль. — Дело в том, что слова вроде тех, что я сейчас от вас слышал, приносят мне либо облегчение, либо тревогу… Видите ли, пан профессор, я готов расстаться с миром понятий, в котором вырос, я понимаю, что он ни на что не годен, как старое ржавое железо…
— Отлично сказано! — Калина затряс бородой в знак горячего одобрения. — Вот именно! Железо, разъеденное ржавчиной до такой степени, что не годится даже на переплавку.
Теофиль взглянул на него с упреком. Калина понял.
— Прошу прощения, — сказал он, — говори дальше.
— Для меня важно, что атеизм…
Астроном замахал руками, и его тень на стене попыталась взлететь, как гигантская птица.
— Вечно это глупейшее словечко! Атеизм! Оно как бы внушает человеку, что теизм есть нечто само собой разумеющееся.
Теофиль сел: он устал ждать, когда же порывистый старик позволит ему высказать свои мысли, с которыми ему и без того нелегко было справиться.
Профессор добродушно расхохотался:
— Полвека преподавания — это полвека монологов. Но мне и так ясно, что тебя волнует. Да, мой мальчик, — большая, тяжелая ладонь легла на плечо Теофиля, — я не ошибаюсь. Ты — человек, на которого можно положиться. В твоем возрасте девять мальчиков из десяти переживают подобный кризис, но многие ли относятся к этому серьезно? Что-то там в них побурлит, подымит, а потом все остывает, и не успеешь оглянуться, как они снова оказываются в родном доме и плетут старые бредни сопливым малышам, которые когда-нибудь повторят их подленький бунт и так же, как они, закончат все молитвой.
Калина прошелся по комнате, затем остановился у одного из шкафов, открыл его и сказал:
— Тебе вот это нужно, не так ли?
Теофиль кивнул.
— Вот видишь, мы отлично понимаем друг друга,
Из раскрытого шкафа повеяло тем особым запахом, какой издают книги, хранящиеся взаперти: для носов заурядных это обычная затхлость, но для юношей, ищущих нового миропонимания, — дурманящий гашиш. Книги стояли плотными рядами, и чувствовалось, что позади такая же теснота; на каждое свободное местечко протискивались брошюры, журналы.
— Порядка тут нет, — сокрушенно сказал Калина, — я даже не могу тебе дать никаких указаний. Сам я пользуюсь только теми книгами, что стоят спереди. А там, в глубине, — джунгли. Но, смелей, юноша! Можешь приходить сюда, когда захочешь, и брать все, что понравится.
Он просунул палец меж книгами и взял одну: «Теодицею» Лейбница.
— Ужасный беспорядок! Такой вертопрах забрался на почетное место! Ему следует стоять подальше от людских глаз.
Профессор перевернул несколько страниц и покачал головой.
— Вот тебе еще пример умственного хаоса. Эту книгу написал ученый, который одарил человечество дифференциальным исчислением и в то же время тратил силы своего гения на оправдание библейского бога. Он говорит, что существование зла в мире не должно нас удивлять, — бога, мол, ограничивает некий разум, заключенный в самих вещах, и вследствие этого разума некоторые комбинации вещей исключены и абсолютное добро невозможно. Бог — рассуждает он дальше — сперва мысленно обозрел все миры, какие мог бы создать, и выбрал наш, наилучший из всех возможных. Так учил Лейбниц, и за это им восхищались княгини и любили его, а монархи осыпали его титулами. Ты, наверно, слыхал о нем. Его имя упоминается во всех учебниках догматики. По крайней мере, так было в мои времена, и, по-моему, не видно, чтобы догматика на протяжении века изменила своим правилам. Имя Лейбница дорого всем, кто благодарит бога за то, что он создал мир, и восхваляет его за то, что он создал еще другой мир, где будут исправлены ошибки нашего. Но мы этого Лейбница забросим подальше!
Астроном в самом деле засунул «Теодицею» на самую нижнюю полку, где старые, пыльные бутылки из-под чернил встретили ее испуганным бренчанием. Потом он вытащил книгу без переплета с неразрезанными страницами.
— Возьми это для начала, — сказал Калина. — Это книга моего старого друга. Умная голова, что бы там ни говорили о нем враги. Разумеется, у него есть свои недостатки. Например, он не может примириться с мыслью, что ему придется уйти в небытие, оставив на земле несколько неразгаданных тайн. Но зачем заранее рассказывать? Сам читай и думай.
Он сунула книгу Теофилю под мышку, потом обнял мальчика за плечи и, с восхищением глянув на него, вскричал:
— Юноша, ты отправляешься в великолепное путешествие! Ни один человек из тех, кто первым видел следы своих ног на снегу Монблана, ни один из тех, кто когда-нибудь увидит их на Эвересте, не имеют понятия о paдости, ожидающей тебя там, где ты откажешься вскоре. Ты будешь обозревать горизонты бесконечности свободными от страха глазами, и тебе будет казаться, что ты — первый человек на только что остывшей Земле. Поторопись же!
Получив такое благословение, Теофиль сбежал по лестнице и, как вихрь, промчался через кухню, к удивлению прислуги. Вмиг смахнул он со стола книги и тетради и раскрыл взятый у профессора том. Это был «Очерк монистической философии» Эрнста Геккеля. На следующей после обложки странице была надпись, сделанная размашистым, нервным почерком:
«Дорогому другу д-ру Юзефу Калине на память о чудесных днях в Иене посылаю эту книгу, которая для меня как бы привет с его родины.
Эрнст Геккель
Иена, 3 октября 1904»
Геккель, бывший восемью годами старше, познакомился с Калиной в Иене; двадцатидвухлетний великан делал там себе карьеру в среде буршей, которые его обожали и которым он через день «полосовал физии» в прелестной рощице над Заалем, где Болеслав Храбрый некогда вбивал пограничные столбы. Геккель в это время получив «veniam legendi» благодаря статье пo систематике корненожек, работал над своей знаменитой монографией о радиоляриях. Калина проводил у него часок-другой, когда не представлялось более веселого занятия, и Геккель, не имея времени для беседы, развлекал гостя микроскопом.
Там были видны шлемы различнейших форм, круглые щиты, копья, кольчуги — целый арсенал оружия гномов; гербы, эмблемы, невиданные на земле ордена; корзинки, сплетенные из серебра руками духов, миски, жбаны, вазы, более невесомые, чудилось, чем воздух; наконец — звезды, разнообразные, как снежинки. Самые крупные из этих диковинных штук занимали пространство в полмиллиметра. Все они были из кремнезема, того самого, что превращается в горный хрусталь. Создала же их радиолярия, которая, по законам таинственной алхимии, поглощает кремнезем из морской воды и, благодаря еще более таинственной деятельности единственной своей клетки, превращает его в некий плот, который носит эту крохотную капельку слизни по океану. Миллионы лет несколько тысяч видов, подобно мастерским скульптора, творят микроскопические шедевры — каждый вид согласно собственному унаследованному образцу, непревзойденному по совершенству; творят на краткий миг своей жизни, не думая тешить чей-то глаз, а после их смерти все это падает на дно морское, и там, в иле, образуются целые музеи и галереи этих сокровищ, охраняемых слепыми рыбами.
По вечерам за стаканом лихтенгайнера, закусывая тюрингской колбасой, Геккель рассказывал, как охотился за радиоляриями в Мессинском заливе, в водах Сциллы и Харибды, и как эти существа свечением своим превращают ночь на море в волшебную сказку. В описании этого удивительного сияния не хватало одного слова, употреблять которое тогда было еще рано, — слова «заря». То была заря жизни: одноклеточные радиолярии вновь воспроизводили своим существованием зарю органического мира. Два друга придумывали для них названия. Возникали непривычные сочетания из слов греческих и латинских, друзья, как сетью, ловили стихами разные виды радиолярий, вспоминали древние мифы, — так общим вдохновением были рождены названия, вроде Nausicaa Phaeacum или Melusina Formosa.
Вот что подразумевалось под «чудесными днями в Иене», о которых полвека спустя напоминало посвящение на польском переводе «Welträtsel».
Теофиль глядел на эту надпись с благоговейным изумлением. Впервые в жизни была у него в руках книга, полученная не от обычных, безымянных людей, книга, которую один ученый с улыбкой и вздохом протягивал другому, не считаясь с пространством и временем. Запустив пальцы в волосы и наморщив лоб, Теофиль принялся читать. Он читал слово за словом с невероятным напряжением, будто за пропущенную запятую его ожидало наказание. Так он досконально изучил предисловие, в котором автор представлялся читателю, не утаивая своих заслуг, и обещал дать всеведение, хоть и не говорил прямо, что сам этим всеведением обладает. Пробежав содержание разделов, Теофиль готов был поверить Геккелю на слово и не сомневался, что автор решит все семь загадок бытия, которые поставил перед наукой малодушный Дюбуа-Реймон.
Лампа потухла. Теофиль посмотрел на часы и удивился — одиннадцать! Три часа просидел он над книгой и тетрадью, в которую записывал то, что хотелось запомнить. В голове у него мутилось, ноги одеревенели. Он распахнул окно. На улице было темно и пусто, почти все фонари уже были погашены.
В небе, как дым, клубились тучи. Пожар пожирал тайну лазурных высей. Огонь, разожженный в день пасхи рукой бывшего семинариста и получавший все новую пищу, объял небесные своды. Уже сгорели в нем сны и грезы, витавшие над колыбелью, унаследованные от деда-прадеда, навеянные долгими молитвами на скамьях костела, у сумеречных окон, на завалинках хижин, нашептанные матерями, бабками, прабабками, — сны, что выросли на упирающемся в небо родовом древе, чьи корни уходят в пепелища таинственных предков, умерших еще при древних богах. Хрустальный небосвод, златые чертоги, луга и рощи рая, ступени головокружительной лестницы, ведущие к светозарным высотам, обратились в ничто и увлекли за собою в бездну чины ангельские, все эти непонятные Престолы, Силы, хоры многокрылых серафимов. В опустевшей вселенной не стало места для престола Извечного, и сам Он, бездомный странник, искал убежища, уносясь, все выше и выше, в вихрях туманностей, под ливнями млечных путей, более одинокий, чем король Лир, и, казалось, вот-вот окончательно исчезнет в недрах мрака.
Теофиль вздрогнул, будто на него упал чей-то взгляд. В просвете меж тучами блестела одна-единственная, на диво яркая звезда. С замиранием сердца смотрел Теофиль на это «око ночи», наделяя его могуществом, чувствами гнева и обиды. То был Сириус, находящийся на расстоянии восьми световых лет, — он видел Теофиля еще в детской кроватке, с разметавшимися по подушке локонами, под изображением ангела-хранителя.
XIX
Ксендз каноник Паливода, приняв последнее соборование, стал поправляться. Как только он немного пришел в себя, первыми его словами было:
— Больше не пускай ко мне этого ксендза! Приходит сюда каждый божий день, высматривает, скоро ли я закрою глаза.
Старушка Сабина, уложившая было свои пожитки, чтобы искать приюта у св. Лазаря, расплакалась от счастья; только теперь она всерьез поверила, что опасность прошла. На ее взгляд, самым бесспорным признаком тяжкой болезни каноника была покорность, с какой он терпел эти ежедневные визиты, — он, изгонявший назойливых посетителей чубуком своей трубки. Однако за четверть века службы у духовной особы она привыкла относиться ко всякой сутане с почтением, и оно не позволило ей исполнить приказ так, как того желало бы преданное сердце: когда ксендз Грозд явился снова (даже раньше обычного), она, став на пороге и лишь еле приоткрыв дверь, сказала:
— Ксендзу канонику лучше, но ему нужен покой.
— О, благодарение богу! — прошептал законоучитель. — Нынче я отслужил молебен о его здравии.
Это была ложь. Ксендз Грозд в этот день отправил последнюю службу по списку настоятеля бернардинцев и только по странной случайности имя покойника, за которого он молился, звучало так же, как имя ксендза Паливоды: Каетан.
В римском бумажнике ксендза Грозда лежал отчет, своего рода квитанция, обо всех отслуженных обеднях с указанием дат. Под длинным, перечнем было написано: «Я, нижеподписавшийся, подтверждаю под присягой пред лицом господа, что все вышеуказанные обедни отслужил добросовестно и по правилам». Далее следовали дата и подпись, широкий росчерк которой говорил, что у ксендза Грозда было утром отличное настроение. Документ был в заклеенном конверте, ксендз Грозд намеревался отослать его по почте, надеясь, что в будущем уже не придется прибегать к подобным заработкам. Однако от ксендза Паливоды он направился к бернардинцам.
Церковь учит, что внезапное, выздоровление, связанное с целительным воздействием таинства последнего миропомазания, происходит тогда, когда такая перемена не противоречит замыслам божьим. В данном случае было очевидно, что провидение больше заботится о сохранении прежнего порядка в королевско-императорском наместничестве, чем о том, чтобы ксендз Грозд получил далматику и красный пояс. Еще неизвестно, чем бы дело кончилось, если бы надворный советник Гродзицкий в такую вот минуту обратился к наместнику с просьбой составить протекцию у архиепископа. Нет, теперь не время рисковать.
Его превосходительство вернулся из Вены ошеломленный, упоенный, счастливый. Полуторачасовая аудиенция у императора вызвала сенсацию в политических кругах и в прессе всей империи. Речь шла о сеймовой избирательной реформе, и наместнику удалось навести тень озаренности на сияющее, добродушное лицо потомка рыцарей из Ястребиного замка, описывая озлобление партий, в особенности партии украинцев. Было мгновение, когда император даже вздрогнул: при упоминании об Анджее Потоцком. В тот день эта была уже вторая неприятность; еще утром старая, испытанная газета «Фремденблатт» привела почти дословно речь депутата Карои в венгерском парламенте, где, между прочим, была такая фраза: «Председатель кабинета министров, по мнению оппозиции, это главарь банды разбойников!» Наместник, однако, воспользовался этим мгновением, чтобы внезапно перейти от горького к сладкому и выразить в самых горячих словах надежду, что, несомненно, эта реформа пройдет гладко. Император, которого давно уже потчевали самыми мрачными мнениями, задержал наместника еще на полчаса, рассыпаясь в похвалах прекрасной, трудолюбивой Галиции.
Пожалование бывшему министру финансов Залескому графского титула было событием последних дней, о котором еще говорили и писали; от наместника не скрыли, что и он может питать надежды на подобную милость. Разумеется, он их питал и за всю дорогу от Вены до Львова не сомкнул глаз. В Кракове, на рассвете, он вызвал к себе в вагон начальника станции и передал тому для отправки телеграмму, в которой просил маршала Голуховского созвать на вечер заседание сановных членов сейма.
— Дорогой пан Альбин, — сказал он, здороваясь с Гродзицким, — я целиком полагаюсь на вас. Мне сейчас недосуг заниматься всеми вопросами, и в то же время я должен срочно составить себе подробное мнение о важнейших текущих делах. Возьмите для начала вот это.
И он подал Гродзицкому пачку бумаг в зеленой картонной папке.
В другое время этот знак доверия растрогал бы верноподданное чиновничье сердце Гродзицкого, но в последние дни он охладел к будничным делам, составляющим внешнюю оболочку жизни. Вернувшись в свой кабинет, он отложил папку в сторону и достал из ящика книгу.
То был второй том «Защиты католической религи», из апологетической серии, публикуемой издательством Перемышльского диоцеза. Гродзицкий выбрал этот том из двух, предложенных ему в книжном магазине. Том первый, содержавший труд епископа Пельчара «О том, сколь великим сокровищем является католическая религия и почему у нее в наше время так много противников», отпугнул многословным названием, объемом и ценой. Том второй, напротив, сразу же показался привлекательным. Название звучало скромно и пристойно: «Существует ли бог и каков он», — и обещало разрешить этот вопрос за две кроны шестьдесят геллеров.
Автор также заслуживал доверия — ксендз д-р Казимеж Вайс, профессор университета; Гродзицкий видел его несколько раз на приемах в наместничестве. Высокий, почтенного вида ксендз был из числа немногих гостей, о которых можно было сказать с уверенностью, что они, уходя, не набьют себе карманы конфетами, мандаринами и сигарами.
Однако, читая его труд, Гродзицкий убедился — примерно с шестнадцатой страницы, — что ксендз Вайс вовсе не так покладист, как можно было предположить. Начав с внушительного обзора философов и ученых, веривших в бога, — длинная их вереница наполняла сердце приятным чувством уверенности, — ксендз Вайс открывал огонь по позитивистам и агностикам, не приводя данных о численности противника. А дальше из-за каждой страницы уже выглядывал новый враг — фидеисты, онтологисты, Кант, — и ученый теолог, безжалостно их сокрушая, становился столь же беспощадным к читателю.
Дважды прочитав раздел о «вещи в себе», Гродзицкий устрашился слова «бытие»; потом он чуть ли не с тоской высматривал это безобидное словечко, когда стал тонуть в рассуждениях о тождестве и достаточном основании. Однако все, что он делал, он делал основательно (эту роковую черту унаследовал от него Теофиль), а потому не разрешал себе что-либо пропустить, — впрочем, он просто боялся, что если стремительный ксендз хоть раз от него ускользнет, потом его уже не догонишь. Он читал даже примечания, где мысль автора становилась еще насыщенней и где были ссылки на другие книги. Самые интересные названия Гродзицкий помечал тем же красным карандашом, которым в протоколах и циркулярах указывал своим подчиненным места, требующие особого знания. Так, он с трудом одолел первую главу, а в начале второй с огорчением прочитал, что «умственно развитый человек легко и как бы непосредственно приходит к познанию бога».
Когда надворный советник спрятал книгу и взялся наконец за зеленую папку, чтобы уделить толику внимания этой частице вселенной, в которой ему до сих пор жилось так беспечно, он был в полном смятении; вопреки своим правилам, он, не просмотрев с обычной тщательностью десяток документов с планами, чертежами и цифрами, написал на последнем: «Полностью удовлетворить», позвонил курьеру и распорядился отнести папку его превосходительству. Этой минутной рассеянности Львов обязан ссудой на работы по канализации, которую город получил из правительственных фондов в размере трехсот двадцати пяти тысяч крон в то самое время, когда после долгих ходатайств, каждый год сокращая смету, городские власти уже не рассчитывали больше чем, на треть этой суммы. То было, одно из скромных чудес, которых catholicissima urbs (так Сикст V назвал эту столицу трех архиепископств) повидал немало за свою героическую историю.
Во второй главе ксендз Вайс воззвал к воображению Гродзицкого.
Всю ночь висела над городом густая мгла, но утро занялось ясное, с морозцем, — осевшая на деревьях влага превратилась в иней. Гродзицкий собирался сесть в трамвай, но в последнюю секунду раздумал и пошел пешком, восхищенный прелестью окружающего мира, который из-за обычного процесса замерзания воды преобразился в сказку, сотканную из белизны, лазури и золота. Из окон своей канцелярии он мог смотреть на липы и каштаны, чьи голые ветви расцвели хрусталем, алмазами, звездами.
В это время ксендз Вайс и начал свою лекцию: «Вид величественного неба и бесчисленных земных созданий, их неисчерпаемое разнообразие, дивная красота и поразительный порядок…»
Надворный советник с жадностью впитывал то, в чем вовсе не нуждался, — доказательства существования бога. Каждый день он приходил домой, нагруженный всякой всячиной, заранее радуясь, что это будет сюрпризом. Между супом и жарким он понемногу выкладывал свое добро. Был там и поезд с бесконечным числом вагонов, который, стоя среди вечности, ждет локомотива, и часы без пружины, и цепь причин и разная другая утварь в том же роде, которую можно раздобыть у апологетов,— старая, подержанная, но все еще привлекательная в глазах новичков. Необычность, однако, была в том, что новичком оказался пятидесятилетний надворный советник, а безусый юнец поглядывал на него с ласковой снисходительностью.
— Целесообразность в природе, — говорил Теофиль,— внушает удивление, но не подтверждает таких выводов. Ты, отец, рассматриваешь ее как аналогию человеческих отношений. Аналогия — не доказательство.
— Погоди, погоди, голубчик, ты только, вдумайся…
Гродзицкий теперь «вдумывался» во все, даже, к примеру, в щепотку соли, которой посыпал мясо из супа. И в самом деле — натрий, являющийся металлом, и хлор, этот вонючий, ядовитый газ, образуют такое безобидное и полезное соединение!
— Опыт отнюдь не доказывает нам, что все имеет причину, — поучал его Теофиль, — атолько то, что всякое изменение имеет свою причину. Это большая разница!
Гродзицкий подмигнул жене, кивком головы указывая на мальчика, словно она тоже знала, что Теофиль повторил возражения Джона Стюарта Милля, о котором в энциклопедии Оргельбранда говорилось, будто в возрасте семи лет он читал Платона в оригинале. Подавляя волнение, вызванное находчивостью сына, Гродзицкий строго его осадил, пустив в ход «независимую и безотносительную причину», а также «необходимое само в себе бытие» — два мощных снаряда, наносивших в сочинении ксендза Вайса страшное опустошение врагам.
У Теофиля было на выбор несколько вариантов поведения в споре, каждый из них имел целью поставить противника в тупик. Остановился он на самом мирном — на так называемой флегматичности. Облокотись на стол, он выкладывал в кружок хлебные крошки и говорил как бы нехотя:
— Возможно. Но это, собственно, ничего нам не объясняет, так как не дает ответа на основной вопрос: какова цель самого мироздания?
Надворный советник в простоте душевной повторил любимое выражение ксендза Вайса:
— Человек — вершина и венец творения.
Но тут же пожалел об этом и даже слегка смутился.
— Чем же это позвоночное млекопитающее заслужило такое отличие? — усмехнулся усердный читатель Геккеля.
Гродзицкий, ожидавший более ехидного возражения, мгновенно успокоился.
— Ага, значит и ты стоишь за обезьяну?
Юность его проходила во времена наибольшей популярности Дарвина, изо дня в день статьи, карикатуры, куплеты высмеивали «обезьянью генеалогию», и в зрелый возраст Гродзицкий вошел с убеждением, что теория эволюции раз навсегда уничтожена смехом. Теофиль строго взглянул на него,
— Я стою не только за обезьяну, но и за то, что наша земля не дает нам представления о вселенной. Ты, отец, торопишься возвести человека на трон, а ведь мы еще не можем со всей уверенностью заявить, что человек — единственное мыслящее существо в космосе. Так могли думать в те времена, когда считали, что звезды это только фонарики для украшения ночного неба. Но теперь астрономия открывает перед нами великолепную космологическую перспективу…
— Великолепную перспективу! Ты, верно, имеешь в виду печальное мнение, что земля — это ничтожная пылинка, а человек — животное, от которого останется лишь щепоть праха? Воображаю, нелегко было тебе привыкнуть к подобным мыслям!
При такого рода беседах коренья и акриды с диким медом были бы, разумеется, более подходящей едой, чем свинина с капустой. Надворный советник очень плохо усваивал пищу, когда за обедом его ум не отдыхал, да и чувство своего поражения, с которым он вставал из-за стола, нарушало процесс пищеварения. Часы послеобеденного отдыха уходили на продолжение спора, который он уже вел сам с собой, часто не замечая, что говорит, вслух.
Пани Зофья была в отчаянье. Она заходила к сыну и говорила ему:
— Ты мог бы все же уступить отцу!
А мужу говорила:
— Ты мог бы все же быть помягче с ребенком!
Тут она умоляюще складывала руки, там простирала их, убеждая. Все напрасно. Гродзицкий не хотел отказаться от надежды вернуть себе сына, готов был за него бороться, жаждал его покорить, разбить строй его мыслей сомнением, пробудить в нем ощущение бессилия.
К досаде курьеров и заспанных канцеляристов, надворный советник являлся на службу раньше всех, что никак не подобало его высокому рангу. Шушукаясь по углам, его стали обвинять в карьеризме — дескать, из кожи лезет ради чинов и орденов. А он спешил к заветному ящику, где тайный союзник, ксендз Вайс, ждал его, чтобы утешить и укрепить. Но с каждым разом ксендз все менее преуспевал в этом. Многословный и драчливый, он не обращал внимания на вопросы, с которыми подступал к нему Гродзицкий. Увлеченный разгромом врагов, которых он заранее обезоружил, упоенный победой, которую, по сути, одержал еще до сражения, он сокрушал презрительным молчанием робкие заметки на полях, где Гродзицкий честно записывал возражения Теофиля. Невозможно было добиться у теолога, какова цель существования мира.
А Теофиль опять, спрашивал:
— Что же должен делать всемогущий бог и в чем проявляется его власть, если она ограничена законами природы, основанными на принципе причинности?
Жалко было смотреть, с какими негодными средствами шел ксендз Вайс на подмогу Гродзицкому-старшему. Протягивая ему два пальца с высокого берега, держась подальше от предательской пучины, точно боялся замочить подол сутаны, ксендз наставлял, что надо помнить о возможности чуда. Но Гродзицкий, избегая этого опасного словечка, взялся за защиту веры собственными силами.
— Причину вы связываете (Теофиль уже был включен в это «вы», что ему льстило) с законами природы, закон природы выводите из сил природы, а их уже оставляете без объяснения. У вас все движется без начала и конца. Перпетуум-мобиле, который вам не удалось построить на земле, вы перенесли в бесконечность.
— Все подчиняется определенным законам. Некоторых законов мы еще не знаем. В этих двух простых утверждениях вся суть науки. В них нет места случайностям, которые зависят от высшей воли.
Тут вмешалась пани Зофья с Милятыном и Лурдом, улучив наконец минуту, чтобы напомнить о своем существовании. Теофиль сдержался и не вымолвил слов, вертевшихся на языке, — невежество матери внушало ему куда больше уважения, чем познания отца.
Надворный советник выбрал несколько книг из числа упомянутых в примечаниях ксендза Вайса (Циммерман: «Без границ и конца», Шанц: «Защита христианства»; Рольфеc: «Истина веры» и заказал их в Вене на адрес наместничества. Никогда еще не получали в этих стенах подобной посылки. Расписываясь на квитанции и отсчитывая почтальону деньги (книги были высланы наложенным платежом), Гродзицкий не мог скрыть легкого замешательства, и присутствовавший при этом бывший учитель Маевский, который принес какие-то протоколы Школьного совета, по свойственной ему склонности заподозрил, что там находятся «тайные» издания.
В новых книгах на каждой странице встречались старые знакомые: первопричина; вещь в себе; достаточное основание; почтенное общество понятий, напоминавших не то пасторов, не то ксендзов в цивильной одежде; те же образы и сравнения — травы, цветы, птицы, совершенство глаза, движение планет — доказывали дивный порядок мироздания; точно так же читателя вели по дороге спокойных размышлений и ясной логики, под сенью тенистых слов.
Но, увы, мир в этих книгах представал ничуть не изменившимся с того дня, когда в праздник сбора винограда Октавий уселся с друзьями на берегу моря близ Остии и, глядя на ребятишек, пускающих кораблики по волнам, принялся обращать безбожника Цецилия. Приятный, наивный диалог Минуция Феликса породил бесчисленное потомство.
Питаясь столетня одной и той же пищей, к которой ничего не добавлялось, немецкая апологетическая литература размножалась путем деления, наподобие простейших, и была, как они, плодовита. Каждая мысль, некогда свежая, юная, сильная, неизбежно дряхлела в бесконечном ряду все более избитых воплощений. Слова проникались горечью, вечно встречаясь друг с другом в одних и тех же фразах и находя лишь одно развлечение — ничтожные изменения синтаксиса, где далекое подлежащее тщетно силится выловить свое потонувшее в пучине слов сказуемое.
Кто сосчитает (и для чего?) авторов, которые с горстью отвлеченных понятий, с десятком силлогизмов, якобы преображающих акт веры в деятельность разума, — упорно в страстно трудились, чтобы доказать бытие существа, ничуть не нуждавшегося в их доказательствах? Эти трудолюбивые термиты слепо шли своим путем, пожирая все, что им подбрасывало время, — новую систему мироздания, открытия, изобретения, — но не удерживали в своем организме ничего, кроме самых дрянных отбросов, а производимое ими потомство, с крепкими челюстями и безжалостное, шло дальше, расправившись сперва с предками, которых оно поглотило и переварило.
Гродзицкий, жертва языческого преклонения перед немецкой наукой, забросил единственную, любезную его сердцу книгу «Вечера над Леманом» и углубился в этот хаотический мир с отвагой обреченного героя. Каждый день он уходил из наместничества с листочками бумаги, где у него были выписаны вкратце доказательства, аргументы, возражения. Он крепко сжимал листок в кармане и на поклоны швейцаров отвечал кивком головы, не решаясь даже на миг выпустить из руки свою шпаргалку, словно то был заряд динамита.
Таким поведением он вредил себе в глазах окружающих. «Honores mutant mores», — шушукались канцелярские служащие.
Домой он возвращался на трамвае, чтобы успеть раз-другой перечитать записи. Но мнимый динамит не взрывался, только слегка попыхивал — отчего начинали бренчать тарелки, вилки, стаканы и чуть погромче хлопала дверь, когда надворный советник после обеда уходил из столовой в свою комнату.
Был бы Теофиль раза в два старше, он, возможно, сумел бы сжалиться и промолчать в этой удивительной борьбе, где ставкой была его душа, а полем сражения — хаотический мир понятий. Но Теофиль был молод и жесток.
— Я понимаю, — говорил он, — веру в бога, в таинственное существо, на котором зиждется мир. Понимаю, что можно прийти к такой вере, если не находишь удовлетворительного объяснения в научных, теориях. Но чего я никак не пойму — это как можно применять все средства логики и философии для того, чтобы сохранить одного из восточных богов, которого лишь странное стечение обстоятельств спасло от забвения.
Пани Зофья, грешившая любопытством, спросила, какой же это бог.
— Ялдабаоф, — вполне серьезно ответил Теофиль.
— Совсем с ума посходили, — сказала мать, собирая тарелки. Она сердилась на мужа, что он так горячится из-за этой —как бишь ее назвал Теофиль? — семитической персонификации грома.
Гродзицкий упрекал сына, что он «мнит себя Вольтером», что слишком узко смотрит на Священное писание.
— Ты не чувствуешь этой глубокой поэзии. Не понимаешь аллегории.
— Ах, вот до чего мы дошли? Аллегория! Разве это понятие здесь уместно? Религия не желает быть аллегорией, религия желает быть буквально истинной. Религия заставляет лингвиста отказаться от исследований о происхождении языков и — как сказал Роек — верить, что они возникли под сенью вавилонской башни.
— Роек? — поразился Гродзицкий. — Когда это он вам говорил такие вещи?
— Не вам, а мне одному. Неделю тому назад, сидя на том самом стуле, на котором сидишь ты.
— Что ты мелешь? — ужаснулась пани Зофья.
— Да не смотрите на меня, как на идиота. Роек в самом деле был здесь, только, кроме меня, никого не застал. Это было в день открытия памятника Смольке.
— Вот как!
День тогда выдался особенно суматошный. Гродзицкий продрог на утренних торжествах, после чего выпил лишнего у маршала Голуховского и, возвратившись домой, долго спал — едва осталось полчаса на то, чтобы одеться к обеду у наместника. Он устроил настоящий погром в шкафах, сломал запонки, порезал палец и наконец выбежал из дому, забыв запереть дверь и оставив в замке ключи, чего с ним никогда еще не случалось. В десять часов он приехал за женой в фиакре, чтобы повезти ее на раут к бургомистру. Всю дорогу они ссорились, потом ему пришлось ждать у гардеробной, пока жена пудрилась, чтобы скрыть следы слез. А теперь, — только этого не хватало! — он узнает, что в этот же день черт еще принес сюда Роека морочить голову его сыну вавилонской башней.
Людей не поймешь. Никогда неизвестно, какой пустяк нарушит их душевное равновесие, добрые намерения, благородные замыслы. Гродзицкого подкосила вавилонская башня. Он вдруг почувствовал тщетность своих усилий, понял, что смешон, что на протяжении месяца изо дня в день терял авторитет в глазах сына. Как если бы на старости лет ему вздумалось завоевать любовь сына уменьем подбрасывать и ловить пять шариков сразу; шарики выскальзывали из его рук, и бедный, запыхавшийся безумец ползал за ними на четвереньках по полу. Вот напасть! Вавилонская башня!
На другой день он собственноручно, со свойственной ему аккуратностью упаковал все книги, которыми в последнее время загромоздил кабинет, приложил к сургучу печать со своими инициалами и велел курьеру отнести эту пачку в читальню Общества народной школы. Через пять минут он спохватился, что надо бы сперва стереть пометки на полях. Но потом махнул рукой и принялся за свои служебные бумаги.
Так добрый Роек спас для государственных дел эту выдающуюся чиновничью голову, отдав свою во власть ураганов судьбы. Ибо в тот день, когда, после тяжкой борьбы со своей робостью, он решился во второй раз посетить старого товарища и, появившись в самый подходящий, по его мнению, час — после ужина, — застал Теофиля одного (надворный советник уже уехал в наместничество, а пани Зофья еще не вернулась из парикмахерской) и утешил свое одинокое сердце беседой с мальчиком, — ксендз Грозд заметил, как он выходил из ворот. Законоучитель давно знал, что здесь живет Гродзицкий, и мгновенно его осенила мысль, что именно Роек сообщил об учительском заседании в гимназии.
Он сразу возненавидел филолога, к которому до сих пор был безразличен. Захваченный этим чувством, он даже на секунду приостановился. Как будто разом открыли шлюз, который уже с месяц сдерживал в тайных и безмолвных заводях души злобу, горечь, задетое тщеславие, груды рухнувших, едва не осуществившихся планов — весь этот ядовитый поток вышел из берегов и затопил сознание ксендза Грозда, увлекая его в своем беге к новым целям, новой деятельности, которая и в зле и в добре — закон жизни всякой твари, будь то скорпион или человек.
Как все дары природы, снег не разбирает меж людьми, и он тихо поскрипывал под большими ступнями ксендза Грозда, а его брат, иней, мерцал в воздухе серебряными иголками. На горе над Высоким замком горели костры в честь господина с знаменитыми усами, который в венгерке и коротком бронзовом жупане стоял теперь на гранитном цоколе и с важностью глядел в глубь Ягеллонской улицы, точно колеблясь, не отправиться ли к Мусяловичу выпить чарочку горячего крупника. Эта мысль прямо-таки носилась в воздухе, в чудесном морозном воздухе, и Роек невольно поддался ей. «Пьяница», — с отвращением прошептал ксендз Грозд, шедший параллельно Роеку по другой стороне улицы.
На следующий день законоучитель навестил своего верного союзника Маевского в Школьном совете.
Бывший учитель, назначенный на должность государственного чиновника (приказ от 13 мая 1913, 5081—III), сидел в небольшой комнатке с окном во двор — одной из тех темных, сырых каморок, откуда, получив повышение, человек выходит с ревматизмом. Маевский имел еще слишком мало веса, чтобы быть полезным нуждающемуся в помощи, но он мог пригодиться там, где надо было навредить. Ссылаясь на свой долг пастыря, ксендз Грозд высказал сомнения — «прискорбные и удручающие» сомнения, — может ли учитель, чьи научные и педагогические таланты весьма скромны, а домашняя жизнь далеко не образцовая, учитель, который к тому же в последнее время стал прикладываться к рюмке, преподавать в одной из лучших гимназий, в столице края. Маевский охотно разделил эти сомнения.
Ксендз Грозд еще не дошел до Валахской церкви, как у ретивого молодого чиновника был готов конспект докладной, и он принялся его переписывать каллиграфическим почерком с желтой бумаги для черновиков на гладкий, блестящий лист канцелярской бумаги с голубоватым отливом. Это была артистическая работа, шедевр по расположению начальных букв, абзацев, полей, один из тех приятных документов, которые никакой начальник не откажется подписать.
XX
Слово Теофиля должно было служить вступлением ко второй части программы, поэтому ему пришлось ждать целый час, который он провел в коридоре, в какой-то темной комнатушке и на лестнице, ведущей в гардероб. Наверху одевались и шумели гимназисты, готовясь представить «Совет» из «Пана Тадеуша». Шеремета, разгоряченный своей речью на открытии вечера, бродил из угла в угол, пачкая в пыли свой сюртук, в поисках чего-то, а чего — он никак не мог вспомнить. Натыкаясь на Теофиля, он каждый раз хватал его за руку:
— Ты готов? Помни — коротко и с чувством.
Учитель польского (друг-сокол) знал толк в «чувстве». Четверть часа назад Теофиль слышал его баритон, который перекатываясь по битком набитому залу, врывался за кулисы и даже здесь в коридоре — как птица, утомленная долгим перелетом, — замирая звучал в патетических, потрясающих, пророческих фразах. Теофиль страдал от мысли, что не может с ним тягаться, и странички, которые были у него в кармане, шелестели под его пальцами, как увядшие листья. Он держал их при себе «на всякий случай», из страха перед черной бездной, в которую он провалится, если изменит память.
Охваченный приступом страха, он принимался шепотом повторять свой текст, но никак не мог выбраться из первой фразы, потому что все вокруг бурлило и поминутно что-то случалось. Вот грянули аплодисменты после декламации «Грустно мне, боже»; вот из глубокой тишины выплыло соло скрипки; вот зашумел ураган оркестра под управлением грозного Бранда, который с начала года проводил репетиции со своими воспитанниками, два раза в неделю разжигая бушующий пожар звуков в гимназическом здании, притихшем и пустом в послеполуденные часы. Через минуту Шеремета опять хватал Теофиля за руку или какой-нибудь фигляр в кунтуше слетал с лестницы, и Теофиль отшатывался в сторону, опасаясь за свою прическу и выутюженный костюм.
Никогда еще он не был так тщательно одет. Новый мундир, совсем темные, почти черные брюки, под воротом мундира накрахмаленный воротничок, достаточно высокий, чтобы виден был белый край, даже волосы мать слегка ему подвила щипцами. На груди красовался роскошный бело-красный бант. Были и перчатки — белые, лайковые. Купили их днем, и они все еще были завернуты в тонкую бумажную обертку. Теофиль держал их в руке, чтобы надеть в последнюю минуту.
Когда же, когда?
Но никто и не думал спешить, а меньше всего декламатор, как раз начавший «Песнь вайделота». В коридоре слова не были слышны, лишь голос то поднимался, то опускался через равные промежутки. Теофиль в раздражении убежал в темную комнатку, где сразу же опрокинул стойку с гимнастическими шестами, несколько шестов стуча покатились по полу. Ощупью найдя стул, он сел, — ноги подкашивались.
Тут он услыхал свою фамилию. Пронзительным голосом звал его Шеремета.
— Бог мой, я уже думал, что ты куда-то запропастился! Сейчас твой выход! — кричал он над ухом Теофиля чтобы перекрыть поднявшийся в коридоре шум.
Начался десятиминутный антракт. Оркестр, солисты, знакомые, родственники, ученики из разных классов— все вдруг высыпали из зала. Шеремета, стоя на лестнице, преграждал дорогу в гардероб и отгонял самых нахальных.
— Жди за: кулисами! — крикнул он Теофилю.
Мальчик осторожно протиснулся в узкие, низкие двери. Тут был полумрак, виднелись сколоченные крест-на-крест доски, части декораций; колченогие стулья, разная рухлядь, сваленная в кучу. Пахло как на чердаке: сосновым деревом, пылью, паутиной. Высоко поднимая ноги, чтобы не споткнуться, Теофиль медленно подошел к щели, через которую падал луч света. Это были двери из тонкой фанеры, они вели на сцену. Там, над подмостками, горели две сильные лампы, придавая блеск и красоту декорациям — фону для вечера в честь трех гениев — Мицкевича, Словацкого и Красинского. Огромный размалеванный холст представлял жалкую копию занавеса Городского театра. Под весенним небом простирался «общий вид» Львова, но без собора св. Юра — то ли места не хватило, то ли решили, что шедевр полковника де Витте может произвести политически нежелательное впечатление. Над картиной висел круглый красный щит с белым орлом.
— Посторонись!
Теофиль отскочил как ошпаренный. Швейцар из «Сокола» нес на сцену небольшой круглый столик — для него. Со всех сторон грянули звонки, за кулисы прибежал Шеремета.
— Сейчас начнешь, — задыхаясь, шепнул он Теофилю — Стой здесь, а когда поднимут занавес, выйдешь.
Теофиль достал перчатки и развернул обертку. Руки были потные, он вытер их носовым платком. Четыре пальца правой руки вошли довольно легко, но для пятого словно не было места — как ни растягивал Теофиль нежную шелковистую кожу, — вот-вот, казалось, лопнет. Он пока оставил правую — авось, сама растянется, — и занялся левой рукой. Но тяжелый оранжевый занавес уже раздвигался с резким шелестом. Теофиль сдернул с пальцев ненатянутые до конца перчатки и швырнул их в угол, даже не глянув в ту сторону.
Когда же он стал за столик и оперся на него покрасневшими руками, то сразу успокоился, протрезвел, как будто сотни глаз, смотревших из зала, обдали его холодным душем. Он услыхал свой голос и, чувствуя, что, начал слишком тихо, заговорил громче. Удалось справиться и с нервной торопливостью: третье, довольно длинное предложение он произнес на одном дыхании, четко акцентируя каждое слово.
Теофиль смотрел в зал и уже начал кое-что различать. Родители сидят в первом ряду, там же вице-председатель Школьного совета, директор, законоучители. Ксендз Грозд сложил руки на коленях и прикрыл глаза; ксендз Скромный засунул руки в рукава сутаны и слушает, слегка запрокинув голову и приоткрыв рот. Во втором ряду, среди учителей, Теофиль увидел Роека. Но дальше уже шло скопление женских и мужских голов, усы, бороды, шляпы с перьями, а еще дальше — плотная толпа стоящих гимназистов. В зале было душно, старые, плохонькие электрические лампочки давали желтый, слабый свет.
С каждой фразой Теофиль чувствовал себя бодрей, он дышал полной грудью, наслаждаясь тем, что с такой свободой управляет притихшим большим залом. И вдруг под потоком слов, который ровно и непрерывно лился из памяти, пробилась мысль о ничтожности этого мгновения. Назойливая, упорная, она становилась все явственней. Кто он такой? Школьник, повторяющий избитые фразы, которые вызубрил на память! Эта мысль трепыхалась где-то в крошечном участке мозга, распространяться ей было некуда — то и дело ее оттесняли, придавливали слова, которые, придя в движение, не могли, не должны были остановиться. И все же как сильна такая вот искорка, вспыхнувшая в мозговой клетке!
Ксендз Грозд не шевелился, будто заснул. Теофиль, раз-другой скользнув по нему взглядом, ощутил пронзительный укол ненависти. Ударить бы по этому спокойствию неожиданным словом, растоптать этот беспечный сон как червя! Но струя слов заливала вспышку ярости, и Теофиль отдавался их течению с невольным удовольствием.
Он говорил о культе трех гениев. Между банальностями, за которыe он не отвечал, так как они брались прямо из воздуха, из удивительной магнетической атмосферы тех лет, расцветавшей при каждом дуновении бело-красными полярными сполохами, между привычными и священными, как литургия, фразами, без которых нельзя было представить себе народный Праздник поминок,— в сочинении Теофиля попадались выражения глубоко прочувствованные, настолько свои, что казались неуклюжими. Их подсказала жажда веры, преклонения, обожания, которая мучила Теофиля с тех пор, как он очутился под опустевшим небом. Эти выражения радовали его и возбуждали. Он старайся их выделить собой интонацией и приходил в отчаяние, когда они проносились мимо, оставляя его среди пустыни пошлых фраз.
Нельзя безнаказанно говорить одно, а думать прямо противоположное, хотя бы твои мысли совершали эти скачки в ничтожные доли секунды. Один из таких скачков нарушил равновесие Теофиля. Случилось это в минуту наибольшей уверенности в себе, когда он, словно бы стоя посреди своего текста и с удивительной четкостью видя его весь целиком, разрешил себе поднять взор к новой мысли, которая, как ястреб, парила в вышине, готовая упасть камнем на намеченное место. О, дурманящая, упоительная минута! И вот какая фраза возникла в уме Теофиля — даже дух захватило: «Воспитанные в унылом идолопоклонстве, приученные преклонять колени и обнажать головы пред символами чуждыми нашей земле, когда же мы наконец установим религию, созвучную нашему сердцу, и преклоним чело пред святыней, которой уже и разум у нас не отнимет, и чувство наше не устыдится?»
Теофиль издали видел два предложения, меж которыми надо было вставить это третье, только что родившееся, вибрирующее, как готовая взорваться бомба. И вдруг он очутился в густом тумане, память соскочила с рельсов, в голове раздался беспорядочный грохот, в котором перепутавшиеся слова превращались в какое-то месиво. Это продолжалось несколько секунд. Теофиль судорожно ухватился за край столика, его легкие сжались, не смея набрать воздух. Отчаянным усилием воли он приказал себе успокоиться, еще секунду его кидало то в жар, то в холод, и наконец эта вечность адова миновала. Перед мысленным взором появилась страница, исписанная крупным, красивым почерком. Теофиль поспешно и жадно схватил ее.
В зале были восхищены. Внезапную паузу, озадачившую многих (даже ксендз Грозд открыл глаза), истолковали как прием — все были убеждены, что оратор хотел этим кратким молчанием придать значительность последующему. Теофиль заметил в глазах матери слезы; вице-председатель Школьного совета наклонился к его отцу и что-то шепнул; отец с улыбкой кивнул головой. Один лишь Роек тревожно вертелся на месте и дергал свои усы, словно о чем-то догадывался.
Теофиль обрел спокойствие, но окончательно потерял уважение к себе. Подавляя неприятный осадок, он продолжал свою речь, — как ему казалось, коряво и неуклюже, а на самом деле не упуская ни одного эффекта. Когда он кончил, зал что называется «потрясла буря рукоплесканий». Не вполне сознавая, что хлопают ему, Теофиль смутился, покраснел и ушел, ни разу не поклонившись. За кулисами на него накинулся Шеремета — стиснул руку, потом обнял и расцеловал.
Теофиль не хотел ждать конца вечера, который должна была заключить сцена «Совета». Ему нужны были свежий воздух и движение.
На улице стояла оттепель. Теофиль расстегнул воротник шинели, чтобы чувствовать влажное прикосновение ночи.
— Гродзицкий!
Он обернулся, остановился. Поравнявшись с ним, Юркин запросто взял его под руку.
— Ужасная воль в зале, — сказал Юркин. — Эти малявки не умеют вести себя прилично. Впрочем, после твоего выступления там уже ничего интересного не будет.
Похвала восьмиклассника приятно пощекотала самолюбие — Теофиль молчал, надеясь услышать еще что-нибудь.
— Курить охота, — вздохнул Юркин. — Если ты никуда не спешишь, станем на той улочке, там нас никто не увидит.
Это был тупик, поделенный между бондарем и столяром; кругом валялись отходы их ремесла — худые бочки, разбитые ящички, кучи стружек.
Юркин достал две папиросы «Спорт».
— Куришь?
Теофиль взял папиросу, не колеблясь. С этим сортом папирос было связано воспоминание о жандарме в Любеке, из далекой поры детства. Блюститель порядка, рослый детина с густыми, подкрученными кверху усами, в полном обмундировании, со сверкающей каской на голове (точно такай же фигура красовалась на загадочной для мальчика рекламе презервативов), заходил каждое воскресенье в дом войта, где жили Гродзицкие, и получал из рук пани Зофьи пачку «Спорта» за какие-то услуги. Но приятная картина детства сразу же расплылась в едком дыму, только будто издалека виднелся парк Любеньской лечебницы, где от сточных серных вод воняло, как из отхожего места. Два товарища стали на шаг от помойной ямы.
— Очень здорово ты говорил сегодня, — сказал Юркин. — И мне показалось, что ты не только говоришь, но и думаешь и чувствуешь то же самое. Поэтому я хотел у тебя кое-что спросить.
Юркин с прошлого года изменил «стиль». Он уже не изображал из себя франта, держался просто, не носил перчаток, говорил спокойно, глядя прямо в глаза.
— Слушай, Гродзицкий. Думаешь ли ты, что мы еще сто лет будем так жить? По вечерам собираться в честь трех гениев или конституции Третьего мая, а днем ходить в королевско-императорскую гимназию или в королевско-императорскую контору?
— Ну и что?
— Вот я тебя и спрашиваю, достаточно ли тебе того, что епископ Бандурский раз в год, во время говенья, сулит тебе воскресение Польши, не указывая срока?
— Можно подумать, что ты готовишь восстание…
— Прежде всего брось папиросу, я вижу, она тебе не нравится. Вот так. А затем: не произноси сторяча слов, которые достойны чего-то большего, чем глупая болтовня.
Теофиль запахнул шинель, по всему телу вдруг пошел озноб. Неужели это возможно?..
Нет. У Юркина, видно, что-то другое на уме, более сложное, трудное, чего нельзя так сразу вместить в одно красивое слово, — его серые глаза долго не отрывались от лица Теофиля, наконец он снова заговорил.
— Мы с тобой, собственно, никогда не дружили, но я тебя хорошо знаю. В тебе нельзя ошибиться. И я уже давно хотел с тобой поговорить.
Теофиль засунул руки в карманы и крепко сжал кулаки, чтобы совладать с дрожью, напавшей на него от этой необычной беседы в темном, смрадном закоулке. Разгоряченный мозг подсовывал ему безумные картины — вот внезапный выстрел разрывает вечернюю тишину, по улицам скачут лошади, толпа с криком бежит по городу. Юркин держал папиросу двумя пальцами, и красный, огонек светился в его ладони, как фонарик.
— Ты помнишь, как в январе читали в классе постановление Школьного совета о том, что «юношеству» запрещается вступать в стрелецкие дружины и союзы?
Теофиль не помнил. Может, его тогда не было в гимназии. Он сказал это в свое оправдание, хотя был уверен, что в ту пору не пропустил ни одного урока. Вероятно, это событие прошло мимо него, как многие другие, на которые он не обращал внимания, если они не касались его лично. Однако он чувствовал, что его не одобрят, если он в этом признается.
— Так вот, знай, есть такие союзы, к которым мы принадлежим несмотря на запреты, и тебе тоже надо вступить в них. Это дело серьезное, ты должен хорош подумать. Положение твоего отца может тебе в этом помешать — предупреждаю заранее.
— Но что это такое?
Юркин наклонился к его уху.
— Армия.
Теофиль глянул на Юркина с недоверием. Это простое слово вызвало в его уме смутный, двоящийся образ — не то обычный отряд солдат, марширующих с барабаном и трубой в такт нелепой австрийской мелодии, не то яркие развевающиеся флюгера и султаны, да темно-красные мундиры и лошади, с топотом скачущие под аккорды мазурки Домбровского.
Юркин тряхнул его за руку:
- Проснись. Я знаю, что ты умней других, но, право же, иногда ты ведешь себя так, будто не понимаешь самых простых вещей. Что с тобой происходит? Влюблен ты, что ли?
Теофиль нахмурился и резко шагнул вперед, что сразу же привело его к конфликту с каким-то ящиком, который двумя острыми гвоздями вцепился в его шинель.
— Пойдем отсюда, — сухо сказал Теофиль.
— Да ты не спеши, — говорил Юркин, идя следом. — Сейчас простимся. Я живу за Польной.
Теофиль замедлил шаг и минуту спустя вдруг обернулся, остановил Юркина, схватил за лацкан шинели:
— Скажи мне все, Юркин!
Он был очень хорош в этот миг, его красивые глаза ярко сверкали.
— Ну, прямо красна девица! — усмехнулся Юркин. — Я это говорю не для того, чтобы тебя обидеть… Но в тебе есть что-то такое, непонятно только, к чему это приведет — к поцелуям или к ненависти до гроба.
Теофиль его не отпускал.
— Не шути, Юркин. Только что ты сказал, что знаешь меня и что во мне нельзя ошибиться…
— Я действительно так думал.
— Нет, нет, Юркин. Это правда. Скажи мне все...
Товарищ покровительственно положил ему руку плечо.
— Успокойся. Сейчас для этого не время и не место. Приходи ко мне. Только, когда увидимся в гимназии, предупреди заранее.
Сухой, холодной рукой он сжал горячую, вспотевшую руку Теофиля и пошел прочь. Пройдя несколько шагов, он оглянулся и, видя, что Теофиль все еще стоит, указал да двухэтажный каменный дом рядом с незастроенным участком, потом махнул на прощанье рукой и скрылся в воротах.
Хотя Гродзицкие досидели до конца гимназического вечера, им пришлось довольно долго ждать Теофиля в ресторане. Они уже успели выпить по рюмочке водки и закусить бутербродами; надворный советник внимательно изучал меню.
— Есть заяц, — сказал он.
Старенький толстый Юзеф, помнивший Теофиля еще первоклассником с одной серебряной полоской на воротнике, сулил ему «королевский» кусочек филе. Теофиль равнодушно кивнул, он хмурился и молчал.
— Глядя на тебя, никто бы не догадался, что ты сегодня произвел такой фурор, — сказал отец.
— Я вел себя как идиот!
— Побойся бога! Что ты болтаешь! — ахнула мать.
— Погоди, Зося. Пусть молодой человек выскажется.
Выражение «молодой человек» задело Теофиля, он вспылил;
— Идиот, да, идиот! Я не сказал того, что думаю, смелости не хватило. Воспитание, дисциплина, привычки — в общем, все, что нас сдерживает, отняло у меня смелость. А мне хотелось, — усмехнулся он со злостью, — сказать одно такое словечко, от которого в зале стало бы жарко.
- Жарко было и без того, — пошутил надворный советник. — Но ты, кажется, жалеешь, что не ляпнул какой-нибудь глупости?
— Это было бы единственно умное из всего, что я мое сказать.
— Говори тише, на нас обращают внимание, — шепнула пани Зофья.
Даже здесь ей не давали посидеть спокойно. Она любила ресторан, любила пойти «людей посмотреть». А их здесь было порядочно, и самых разных. Многих она часто видела, знала их вкусы и привычки. Вон старичок в рыжем парике опять раздраженно требует свой любимый струдель с маком; вон седой генерал, как всегда, сердится, что ему не подали лимон к венскому шницелю. Ее интересовали женщины, чьи истории рассказывал, убирая тарелки, Юзеф в виде коротких, беззлобных анекдотов. Бурный разговор мужа с сыном мешал ей смотреть на публику.
— Я более или менее догадываюсь, — говорил Гродзицкий, — что ты хотел сказать, и подагаю, что, кроме всего, тебя сдерживало данное мне обещание. Но можешь утешиться. В какой-то мере ты достиг своей цели. Вице-председатель Школьного совета, прощаясь, сказал мне: «Ваш сын чтит родину, как бога».
Заяц примирил спорщиков. Вместе с жарким Юзеф принес две кружки пильзенского — пенные шапки, высокие, как тиары ассирийских царей, были шедевром кельнерского искусства. Довольно долго мысли всех троих путались в змеином клубке макарон и были заняты лишь теми проблемами, которые порождает достославный союз мяса, соуса, картофеля, свеклы и скользкого, извивающегося теста. Прикончив свою порцию, надворный советник сделал богатырский глоток пива, опорожнив кружку до половины. Затем вытер салфеткой осевшую на усах пену, вынул из кожаного футлярчика сигару, тщательно ее обрезал и закурил. Он был готов продолжать спор.
— Представь себе, что твоя речь и мне не очень-то поправилась. Тебе это должно быть приятно, раз ты ее так осуждаешь. Это была одна из тех речей, каких я в своей жизни слышал тысячи. Уже полвека мы ни о чем не говорим, только о Польше. Говорим за всех, кто живет в трех частях разделенной Польши, — у жителей двух других частей рот на замке. Но скажи мне, мой мальчик, — избавившись от метафизики, Гродзицкий вернулся к прежним пропорциям, — что ты собственно думаешь о Польше?
Теофиль, в ссоре со всем миром и с самим собой, злобно возразил:
— По-моему, здесь не место для таких признаний!
— О, этот невольный порыв стоит обстоятельного ответа. Тебе кажется неприличным говорить о Польше в кабаке, — Польша, существующая в твоей голове, это нечто настолько нематериальное, что ты боишься ее спугнуть стуком вилки о тарелку. Но ведь и этот презренный кабак окажется в Польше, если только Польше суждено когда-либо существовать на деле, а не фигурально, В том-то и суть, что все мы, мечтатели, не способны задать себе самых простых вопросов, например: как она возникнет? Чем должна быть, если возникнет, — королевством или республикой? Какие будут границы? Какая армия и учреждения? Держу пари с каждым из вас, что, мечтая о Польше, вы не предвидите в ней таких, к примеру, личностей, как я или вон тот финансовый советник, который уже съел три бутерброда с икрой и пьет дорогое вино, причем я ума не приложу, откуда у него на все это деньги за неделю до первого числа. А чтобы в этой Польше мог быть полицейский или, не дай боже, тюрьма, — да кто посмеет подумать, что «Христос народов» возьмет с собой в рай такой сброд!
У пани Зофьи кровь прилила к лицу:
— Смилуйся, Биня! Стыдно тебя слушать!
Гродзицкий тут же замолчал и как будто смутился.
Под строгими взорами жены и сына он потупил глаза. А когда поднял их снова, в них было странное выражение — смесь задумчивости, грусти и страха. На мгновенье они встретились с глазами Теофиля. И тут мальчику вспомнились слова отца, сказанные в великую субботу: «Родина — это страшная штука, страшная, разумеется, в тех условиях, в каких мы живем». И непонятная жалость стеснила его сердце. Как мало он знал об этом человеке! Как несправедливо третировал его!
— Папочка, — уже много лет он так не обращался к отцу, — скажи мне, пожалуйста…
Нервы, которые целый день были у Теофиля напряжены, а во время чтения натянулись как струны и перенесли два удара — первый, когда он едва не опозорился перед всей публикой, и второй, когда на пустынной улице перед ним замаячил призрак чего-то ужасного и чарующего, — не выдержали наконец. В горле стал судорожный ком, слова замерли на устах.
— Боже! — прошептала Гродзицкая. — Что с ним? Чего он так побледнел? Идемте домой!
— Сейчас, — сказал Гродзицкий, сдвигая брови.
Он потянулся через стол и взял руку сына. Теофиль улыбнулся ему какой-то давнишней детской улыбкой.
— Тебе уже лучше?
Мальчик кивнул, губы у него еще дрожали. Гродзицкий позвал кельнера, чтобы расплатиться. В эту минуту в зале появился сборщик пожертвований Общества народной школы и, встряхивая бело-красной кружкой, начал обходить столики.
Седой старичок в выцветшей венгерке, с конфедераткой под мышкой, добродушно улыбаясь, протягивал руку за милостыней для народа, которому некогда хотел отдать жизнь. Участник восстания 1863 года, он с самого утра, в дождь, снег и вьюгу, обходил все кондитерские, кафе, рестораны, собирая медь и никель на оружие совсем иного рода, чем то, которое он оставил в литовских лесах. Звяканье его кружки раздавалось у шумных столов пьянчуг и в темном углу, где притаилась влюбленная парочка, смешивалось с хлопаньем пробок шампанского, с деловитым стуком вилок в дешевых харчевнях, с мыслями одиноких посетителей, дремлющих над газетой. Скольким людям напоминал он в течение дня, что где-то над их жизнью, полной разочарований или мотовства, честного труда или хищничества, существует таинственное, магическое, далекое от их будней слово: Родина!
Подходя к столику генерала, сборщик еще издали ему поклонился; генерал улыбнулся в ответ и махнул рукой, державшей заранее приготовленную монету. Так, каждый вечер два старика, никогда не обмолвившиеся словом, разыгрывали сценку деликатной дипломатии: сборщик выказывал почтение нейтральности мундира, а мундир нарушал привычный порядок, поддаваясь чувству неодолимой симпатии, которую седой ветеран казарм, парадов и «экзерцирплацов» питал к своему ровеснику, в прошлом храброму воину. В иные дни при обходе зала в кружку падала одна-единственная монета, и та из руки захватчика.
Когда старик остановился у их столика, Гродзицкий сгреб всю сдачу, только что полученную от Юзефа,— около двух крон, по мнению пани Зофьи, — и бросил ее в кружку.
XXI
Юркин напрасно прождал Теофиля. Ради него не пошел на каток, уклонился от кружка польской литературы, нагрубил сестре, выпроводив ее из дому, и в конце концов в мрачном, свирепом молчании провел битый час над учебником истории литературы, рассеянно и без интереса следя за путями польского мессианизма, который, по мнению автора, брал истоки в веселой усадьбе Миколая Рея.
— Обезьяна! — стукнул он кулаком по столу.
Это было самое мягкое слово из всех, какими следовало бы заклеймить Теофиля. И Юркин им бы не ограничился, если бы увидел, как в эту самую минуту Теофиль, упершись рукой в бедро, слегка склонив голову набок, стоял возле профессора Калины и с увлечением разглядывал иллюстрацию, которую тот ему показывал в раскрытой перед ним книге. Изображала она карту звездного неба XII века. Обращенные в христианство древние созвездия несколько изменили свой облик: Близнецы стали Адамом и Евой, Андромеда облачилась в столу, Венера надела монашеское платье, между сферами парили ангелы, а на самом верху бог благословлял свое творение с таким благодушным выражением лица, как будто все еще «видел, что это хорошо».
— Ангелы здесь не для украшения,— объяснял астроном. — Они — движители сфер. Вопрос о том, кто управляет небом Венеры — Господства или Престолы,— был тогда предметом серьезных споров. От ответа на этот вопрос зависел физический и нравственный порядок мироздания. Достаточно взглянуть на эту страницу и убедиться, насколько естественным делом была в ту пору религия. Ограниченная картина вселенной была оплотом и поддержкой для воображения и ни в одной мелочи не противоречила обиходной вере. Такими гравюрами украшали Библию. Кто из теологов отважился бы на это теперь? А между тем ни один честный человек не может отрицать, что лишь такая карта неба полностью и без оговороксогласуется со Священным писанием. Под таким небом Фома Аквинский писал свою «Сумму», живя во вселенной, построенной на манер собора.
Ради карты неба XII века Теофиль забыл о будущей карте Польши, о которой собирался говорить с Юркиным. Забыл так основательно, что, когда вернулся от Калины домой и глянул на часы, он, хоть убей, не мог прочитать по их равнодушным стрелкам, что было назначено на то время, которое они показывали.
— Ну, так как же Гродзицкий? — спросил с порога толстый, румяный Шольц, далекий потомок Вольфганга Шольца, который при Сигизмунде Старом, произведя на свет со своей супругой из семьи Хазе дюжину сыновей, стал основателем одной из самых многочисленных Львовских фамилий: в течение двух веков, за весами и локтем, а равно у пушек и мушкетов, Шольцы создавали и укрепляли величие и свободу Львова.
— Не говори мне об этом говнюке! — закричал Юркин. — Он просто не пришел.
— Сам пожалеет, — ответил Шольц, скорбя о погибшем для них товарище.
А Теофиль и впрямь погиб. Интеллектуальные страсти испепелили его, он отрекся от мира и оставил ему лишь наружную свою оболочку, которая покорно сносила течение дней и событий.
По-прежнему эту оболочку видели в гимназии, но она была чужда всему происходившему вокруг нее. Когда Запоточный громко исповедовался в своих любовных забавах со служанкой, которую он сильно идеализировал, желая скрыть, что его предмет — немолодая уже грязнуха с могучей грудыо и толстым животом, пахнущая кухонным тряпками и пригоревшим салом; когда бледный от волнения Сивак будто нехотя выслушивал указания Цитроненблата, как пройти на Медовую улицу да как отличить бордель по цветным стеклам в воротах и по сидящему у дверей швейцару, который подмигивает прохожим; когда от отчаяния невинные мальчики наперебой похвалялись знанием женского тела и утонченных приемов соблазнителей, — Теофиль этого не слышал. Левицкий, сидевший на парте в другом конце класса, засыпал его письмами с жалобами на равнодушие, но не получал ответа. Так же глух был Теофиль к призывам разных кружков, переплетной мастерской, экскурсий, спорта; во время переменок он набрасывал шинель и выходил на улицу. В общем, он вел себя как чудак, чтобы избежать встречи с Юркиным, хотя тот и не думал его искать.
Если бы не Сивак, всегда подсовывавший в нужный момент свою книгу, на парте у Теофиля никогда бы не оказалось ни Цицерона, ни «Германа и Доротеи», ни «Пана Тадеуша» — теперь он вечно забывал то одно, то другое. Трудно понять, каким образом он справлялся у доски, где стоявший под иксами в квадратах пример
a + b = (a + bi) + (a - bi) = a + a = a + b
пробуждал невольное сожаление, что ты в свое время позволил склонить себя к изучению азбуки; так и осталось тайной, из каких закоулков памяти он извлекал крохи знаний, которые могли удовлетворить старика Ковальского по части колебаний маятника или формул, поясняющих механизм полиспаста; казалось невероятным, что эта порожняя облочка исполняла все нудные требования десятка взрослых, которых Теофиль когда-то неосторожно приучил к ответам по учебнику. Возможно, что ее вело посреди ловушек школьной науки некое тайное чутье, подобное тому, которое позволяет лунатикам удерживать равновесие на крышах и карнизах высоких зданий.
Один лишь Роек мог еще рассчитывать на внимание Теофиля, но и тому он порой отказывал в послушании, и старый филолог, остановившись в самой середине длиннейшего периода Демосфена, тщетно дожидался, когда же рассеянный ученик соединит два члена условного придаточного, которые, как пара влюбленных в романе искали друг друга, преодолевая препятствия и окольные пути.
Если в гимназии Теофиль сохранял видимость присутствия, то дома он только существовал, и факт его cуществования, явный и несомненный, оказывался совершенно излишним в строе действительности. Все дела проходили мимо Теофиля, а за это время их накопилось немало.
Изо дня в день за обеденным столом и в комнате отца шли долгие разговоры о том, что старые знакомые Гродзицких упрекают их в «чванстве» и «спеси». Файты, мол не решаются переступить через их «высокий порог», Пекарские, Секерские держатся поодаль, Бенек за неделю до праздников прислал поздравление, выдержанное в тоне напыщенной почтительности. Всем кололо глаза возвышение надворного советника, вызывали зависть недоступные для прочих приемы, на которые приглашали его с женой; дамы сплетничали о новых туалетах пани Зофьи.
Бог свидетель, что эти туалеты, которые ей пришлось приобрести из-за перемены положения, не давали ей счастья. Ну что за радость раза два в месяц сидеть на кушетке с чашкой чая, которая только мешает, в гостиной вице-председателя королевско-императорской дирекции казначейства или директора железной дороги и три четверти часа молчать в обществе дам, таких же как она, чужих в этом доме? Альбин всякий раз обещал не бросать ее на произвол судьбы, чтобы она не чувствовала себя одинокой, и всякий раз покидал ее чуть ли не на пороге: чьи-то руки сразу отрывали его от нее, и он весь вечер просиживал в углу гостиной или в соседней комнате, где, утопая в клубах сигарного дыма, важные чиновники шумно обсуждали свои дела.
Созданная для жизни скромной, папи Зофья находила радость в самых неприхотливых развлечениях: раз в неделю баня, куда знакомые дамы приносили изделия своей кухни и после мытья потчевали друг дружку в холле перед кабинами, среди веселой болтовни, шуток и сплетен; по временам ресторан (летом его заменяли сады Снопкова, Лычакова, Погулянки), изредка театр, небольшие домашние вечеринки у себя или у друзей с простой, по ее вкусу, сервировкой. Теперь она с грустью видела, что прежний ее мир рассыпается в прах, уступая место новому; она ощущала то же, что человек, глядящий на свой старый, почтенный дом, уже на две трети опустошенный, — разрисованные уродливыми узорами стены бесстыдно оголены, здесь и там видны безобразные следы, оставшиеся после снятых картин, и в местах, где стояли шкафы, кровати, оттоманки, безжалостно изгнанные с насаженных мест.
К счастью, ей не пришло в голову поделиться своими печалями с Теофилем. Он, пожалуй, не удержался бы — хлестнул бы смехом по этим добрым серым глазам, которые покорно и молча следили за ним, когда он, пообедав, с оскорбительной поспешностью швырял на стол, как деньги, свое «спасибо» и возвращался к себе, чтобы не показываться до ужина. Конечно, он бы расхохотался, неужто он стал бы оплакивать развалины какой-то хатенки, он, у которого руки горели от напряженного созидания мира.
Он созидал мир, следуя безупречным теориям, покорившим девятнадцатый век и крепко еще державшимся на своих механистических основах.
Извлеченная гипотезой Канта-Лапласа из первичной туманности, словно из кокона, солнечная система миллиарды лет назад пришла в движение, планеты постепенно остывали и твердели. На окрепшей земной коре появилась первая капля воды — роса, предвещавшая зарю жизни. Атомы углерода, соединяясь с другими элементами, в некий день чуда — если позволительно употребить это слово в описании процессов естественных и неизбежных — образовали зародыш плазмы, живое ядрышко, которое, размножаясь делением, покрывало землю все более многочисленным семейством простейших.
Теофиль колебался между теориями самозарождения и панспермии; первая казалась проще, вторая — привлекательней. Мысль, что вся вселенная в какой-то мере наделена жизнью, была ему симпатичней из-за подсознательного воспоминания о ксендзе Пруссоте, а картина носящихся в мировом пространстве органических частиц, которые мчатся к земле под действием лучей света, пленяла его своей красотой. Откладывая на потом окончательный выбор, он пока довольствовался праклеткой, а дальше все уже шло без помех.
Клетки объединялись в сообщества; первые многоклеточные, гастреи и губки, образовали первый слой древа жизни. Под смутный гул времени оно развивалось, и с самой высокой его ветви человек мог видеть своих предков: человекообразную обезьяну, лемура, кенгуру, утконоса, ящерицу, саламандру, миногу и, наконец, ланцетника, который, извиваясь, плавал вдоль границы царства позвоночных.
В спокойном свете лампы, затененной молочно-бельм абажуром, профессор Калина в шлафроке и красной атласной ермолке, ветеран научных сражений и побед с улыбкой вспоминал старину:
— К концу восемнадцатого века из недр земных стали появляться чудовища. То были останки мастодонтов и мегатериев, их находили и прежде, но принимали их за кости падших ангелов. Однако скелет первого ихтиозавра поразил всех. У этого существа, бесспорно, никогда не было крыльев, и к хорам ангельским оно не принадлежало. Но было ли оно в раю и почему исчезло? Неужели только потому, что не поместилось в ковчеге? Ответ был иной: ихтиозавры, мегатерии, мамонты относятся к самым ранним творениям, еще до Адама. Люди научились читать между строк Библии и, пользуясь этим приемом, раскрыли прежде незамеченные зашифрованные намеки на то, что жизнь на земле была сотворена несколько раз — всякий раз со своей особой фауной и флорой. Искусней всех умел читать эти темные тексты Кювье. Он открыл несколько прамиров и доказал, что они погибали вследствие катастроф — в огне или от потопа. Кювье был француз, в юности он пережил великую революцию, и она осталась у него в крови; он не верил ни в какие изменения, кроме насильственных, и в своих трудах опустошал, уничтожал, сжигал земной шар, как санкюлот, распевающий «Са ira!». От этого нового террора спас геологию англичанин Лайель, выросший под сенью старинной, умеренной конституции; он сумел нас убедить, что мир изменяется постепенно, под воздействием скрытых эволюционных сил. Его книгу и взял с собой молодой Чарльз Дарвин в кругосветное плаванье. И еще взял «Потерянный рай» Мильтона. Был бы у слова «ворожба» какой-то смысл, я бы его употребил в этом случае — ведь Дарвин утратил рай, если не ошибаюсь, где-то невдалеке от Патагонии.
— Надобно тебе знать, — тут астроном коснулся груди Теофиля концом своей длинной трубки, которую он по старинке называл «чубуком», — надобно тебе знать, что в свое время рай искали и на Огненной Земле. Нет такого места на земном шаре и даже вне его, где бы не искали следов Адама. Рай помещали и на третьем небе, и на четвертом, и на луне, и на горе, находящейся по соседству с лунным небом, и под землей, и на полюсе, и в Татарии, и на берегах Каспийского моря, близ Ганга, на Цейлоне, в Китае, в Африке… Помню — было мне тогда двенадцать лет, — как я расплакался, когда с экватора от Ливингстона пришла весть, что он «вне всяких сомнений» открыл там рай. Дарвин верил в рай и, как все англичане, читал Библию, пока не обнаружил в Южной Америке вымерший вид броненосцев.
Калина взял из ящика горсть табака, набил трубку, зажег, и большущий клуб дыма поплыл ввысь, как жертва духам, рой которых вылетел из его воспоминаний в эту минуту задумчивости.
— Агассис! Агассис! — вполголоса произнес он, будто некромант, который вглядывается в появляющийся из темноты призрак. Потом рассмеялся. — Это был человек, какого в наше время и вообразить невозможно. Страстный ихтиолог, отличный исследователь ледников — он родился во Фрибурском кантоне,— с закалкой, характером, верой и стойкостью тех швейцарцев, что уже триста лет стоят в красно-желтых мундирах у входа в Ватикан с алебардой в руке. С таким примерно оружием он сражался против Дарвина. Неуязвимый для шуток и насмешек, он утверждал, что палеонтология открывает перед нами мастерскую скульптора, где мы видим извечного художника, непрестанно совершенствующего свои творения и отбрасывающего менее удачные формы.
Теофиль смеялся и недоумевал. Геккель внушил ему веру в теорию эволюции, а также фанатизм пылкого приверженца и непреклонность догматика. Что-то родственное связывало упрямого подростка и старого биолога, который до двадцати лет был верующим, да, собственно, и позже не переставал возиться с богом. Магическое это слово постоянно звучало в его книгах, и одна из самых знаменитых, «Естественная история мироздания», была как бы ответом на Библию. «Устаревшее представление о боге как личности потеряет вещий смысл в научной философии еще до конца этого века», — предсказывал он в 1892 году, лелея тайную надежду, что вскоре можно будет опустить в этой фразе выражение «в научной философии». Однако ему так и не удалось избавиться от слова «Gott», от этих четырех букв, которыми в немецком языке верховное существо обозначено в одном слоге, кратком резком, как громовой удар. Он желал сохранить это слово — хотя бы как наименование «бесконечной суммы всех сил природы».
Теофиль в подобной конструкции бога не нуждался. Он создал себе новое кредо, примерно такое, какое исповедовал XIX век до последних своих дней.
Вселенная вечна и бесконечна. Ею управляют два главных закона — сохранения материи и сохранения энергии. Все возникает из комбинаций элементов, число которых точно определено. Они образовались из одного праэлемента — в недалеком будущем он будет открыт, и тогда осуществятся мечты алхимиков о превращении элементов. Мельчайшей частицей материи является атом — шарообразный, твердый, неделимый, неизменяющийся. Из бесконечного числа этих шариков состоит Космос, единый по своему устройству, находящийся в непрестанном движении, благодаря которому в разных местах безграничного мирового пространства ежеминутно загораются новые солнца, а старые надолго, быть может, навеки.
Теофиль, перевоплощаясь в байронова Каина, которого прочитал в этом году с меланхолическим упоением, повторял вновь странствия печального сына Адама по небесным океанам. Но Каин повидал лишь укромный космос конца XVIII века и его проводник Люцифер знал лишь те звезды, которые значились в каталоге Бредли. Взору же Теофиля представала бесконечность, измеряемая миллионами световых лет, и мириады блестящих точек, которыми гигантские телескопы с неугомонной расточительностью засевали небосвод.
Огромность звезд, неимоверная их температура, ошеломительная скорость вращения и движения по орбите подвергали воображение Теофиля тяжелому испытанию. Небо представлялось ему похожим на те карты, где пунктиром обозначены морские пути, то пересекающиеся, то сходящиеся в густые пучки, то вьющиеся полукругами и параболами. Или еще точнее: на сеть железных дорог, где каждую секунду бесконечное количество поездов отправляется с бесконечного количества станций.
Осаждаемый этими образами, он засыпал на своем темном, маленьком земном шаре, как стрелочник в будке рядом с рельсами дальней, всеми забытой «кукушки», и среди ночи вскакивал с постели, разбуженный оглушительным грохотом космических экспрессов, которые сталкивались и неудержимо низвергались в бездну. Тишина спавшего дома словно насмехалась над ним, а порой, лежа с открытыми, устремленными в потолок главами, он слышал наверху стук отодвигаемого стула или шаги, — это профессор Калина спокойно и терпеливо сравнивает и сопоставляет фотографии Млечного Пути, присланные из американских обсерваторий, загадочные черные листы, каждый из которых, охватывая шестьдесят пять квадратных градусов неба, содержит более двух миллионов звезд!
Мысли о бесконечности изнуряли Теофиля. Подавленный числами, где единицы, как взбесившиеся куры, без устали откладывали нули, превращая вселенную в какой-то чудовищный инкубатор, заполненный этими бесплодными эллипсоидами, — он иногда жалел, что позволил лишить себя пространства, скроенного по мерке человека. Он жаждал предела, границы, какой-нибудь осязаемой вогнутости, по которой можно было бы постучать пальцем, как по прозрачной стенке стеклянного колпака.
Между тем старик Калина, неподкупный хранитель космических сокровищ, с каждым разом все более скупо отпускал ему материал на кровлю для пространства. Вчера еще у Теофиля захватывало дух от вида несметных богатств, а ныне — отчаявшийся бедняк! — он стоял перед мертвой, темной, холодной пустыней, где бесконечное число звезд исчезало бесследпо, как горсть песка. И среди тревожных снов в душе Теофиля вновь пробивалась мысль о боге…
Ничего тут нельзя было поделать: ночью у Теофиля просыпалась душа, хотя днем он старался превратить ее в психоплазму или вообще в сумму деятельности нервных клеток и волокон. С помощью этого сложного устройства он дивился беспечности людей, которые осваиваются с новой картиной мира, как с электрической лампочкой. «Им это легко, — думал он, — потому что они ничего не понимают. А чтоб еще легче было, они ввертывают электрическую лампочку в старую, керосиновую, только чуть переделанную».
XXII
Сравнение с лампочкой возникло у Теофиля не случайно. Оно было отголоском бесед за семейным столом. Теофиль в них участия не принимал, но все же они оставляли след в его сознании. Если б он уделил им хоть чуточку внимания, то узнал бы, что Дитмар предлагает, переделать все керосиновые лампы в их доме на электрические за весьма доступную цену. Прейскурант Дитмара, уже с неделю появлявшийся на обеденном столе и неустанно изучавшийся, потерял свою первоначальную свежесть — измятый, в жирных пятнах, он походил на беднягу-мастерового, измученного капризным заказчиком.
Надвигались большие перемены. Надворный советник, несмотря на просьбы и пассивное сопротивление пани Зофьи, снял новую квартиру. Вопреки установившемуся обычаю и здравому смыслу, он решил переехать еще до весны. Старуха Домбровская, когда он, принеся плату и поздравив с Новым годом, сообщил ей об этом, очень была расстроена. С отъездом Гродзицких из ее убогой жизни уходили люди, к которым она привыкла, квартиранты, аккуратно вносившие деньги и уже пятнадцать лет производившие почти весь ремонт за свой счет; наконец, она теряла плату за несколько месяцев: вряд ли найдутся так скоро охотники на эту квартиру, где — чего уж от себя-то скрывать! — полным-полно всяких изъянов. А когда старуха вдобавок подумала, что, может, упаси бог, придется снизить плату, она расплакалась. Гродзицкий, тронутый ее слезами, поцеловал то, что некогда было рукой и из-за ревматизма превратилось в какое-то подобие корня мандрагоры, и утешил старушку, что они останутся под ее кровом до февраля. При этом слове Домбровская тяжко вздохнула — еще утром дворник, явившийся с поздравлением и раздосадованный скудными чаевыми, заявил, что, если и дальше будет такой снег, дырявая крыша не выдержит.
Пани Зофья умоляла мужа подумать о сажени дров, — отличных буковых бревен, распиленных под ее наблюдением на четыре части и поколотых на прекрасные мелкие поленья, которые не «портили печек», о недавно початой бочке капусты, об огурцах и картошке, обо всех запасах в погребе, которые просто смешно среди зимы «тащить по городу» в повозке с мебелью и на телегах.
Надворный советник был непреклонен: насмешками, гневом, мрачным молчанием он в конце концов заставил жену покориться.
— Будто нечистый нас гонит отсюда! — с горечью прошептала пани Зофья.
Если нечистый может принять облик старого, седобородого профессора, который при встрече приветствует вас иронической усмешкой и преувеличенно вежливым поклоном, догадка пани Зофьи была верна. Надворный советник не желал жить дольше под одной крышей с Калиной; он проведал о тайных встречах сына с профессором, и с той поры ему опостылел дом, в котором он провел немало счастливых лет. Об этом он, впрочем, никому не говорил, так же как скрывал свою обиду на сына.
Новая квартира помещалась на Панской улице. Второй этаж, пять комнат с балконом, отдельный клозет. Ванной не было, но об этом никто не печалился — Гродзицкие были фанатичными приверженцами банного заведения св. Анны. Войдя в пустое, холодное жилье, пани Зофья заломила руки. Обшарпанные, грязные стены, разбитые полы, в кухне потрескавшийся кафель и ржавая плита имели зловещий вид — дикий зверь, которого бог весть как долго и c каким трудом придется приручать; в печах наверняка притаились злобные духи угара и дыма.
— Ужас, сколько тут дров уйдет!
— Зато снизу не дует, — заметил Гродзицкий.
Жена только пожала плечами — внизу несколько лавчонок, какое уж от них тепло, да арка, а это еще хуже погреба.
Две вещи ей понравились: балкон и крыльцо. На балконе она посадит вьюнок или дикий виноград, а крыльцо, выходящее на уютный, светлый дворик и отгороженное с двух сторон выступами стены, — совершенно отдельное, на нем очень будет удобно сушить кухонные тряпочки и всякую мелочь после небольших стирок. Но она постаралась погасить в себе эти искры оптимизма и вышла к мужу нахмуренная, молчаливая, грустная.
В устройство нового жилища она не вмешивалась. Гродзицкий хозяйничал сам, и довольно плохо. Каждый день после службы заходил туда, минутку с наслаждением вдыхал запах сырой известки или свежих стружек, но вскоре голод начинал его подгонять, ему хотелось поскорей очутиться дома, он выслушивал пятое через десятое требования, жалобы, объяснения рабочих и убегал с пачкой новых счетов в кармане.
Главным его мучителем был маляр Гилета. Пять комнат в середине зимы — это была улыбка судьбы, а судьба в последнее время не жаловала Гилету улыбками. И он «разбил шатры для продолжительной осады» — с похвальным, впрочем, намерением вдохнуть в эти стены, с которых он соскреб несколько слоев прежней мазни, все свое искусство, всю свою фантазию и выдумку, некогда создавшие ему добрую славу.
Он был мастеровым старого закала, привык работать основательно и презирал молодых портачей, этих шалопаев, которые разводят краски водой. Ему нужно было молоко. Оно появлялось в счетах в таком количестве, что надворный советник скрывал их от жены, но на деле молоко, по крайней мере, на две трети ежедневно заменялось спиртным — сказывалось роковое соседство с ресторанчиком на углу Зеленой улицы. Нигде так славно не готовили «фальшивого зайца» — только что вынутый из формы, еще дымящийся, он был украшением буфета, в котором, кроме того, была уйма других лакомых блюд. Там-то за рюмочкой водки и рождались прекраснейшие замыслы, из которых новое жилище Гродзицких вырисовывалось с величавой медлительностью.
Работа была закончена только в начале февраля.
— Позвольте, — сказал мастер Гилета, словно кто-то ему бурно возражал, — позвольте, пан надворный советник! Прошу вас пока ничего не говорить.
И, ступая на цыпочках, он повел Гродзицкого из комнаты в комнату.
Это были знакомые, исстари привычные узоры — на зеленом, розовом или белом фоне цветы, ветки, листья в неизменно повторяющихся комбинациях. Но стены — это так, над стенами трудились подмастерья; гений мастера Гилеты сказался в разрисовке потолков. В условиях почти столь же трудных, как у Микеланджело, населявшего потолок Сикстинской капеллы, Гилета разбросал по белым плоскостям неимоверное обилие красочных пятен, составляя из них букеты, гирлянды, корзины цветов. Он пользовался трафаретами, но ни одного не закралшивал полностью, а соединял их по два, по три, иногда брал только середину или угол — и создавал узоры странные, причудливые: местами зеленый стебель тщетно искал свои листья, которые в другой комнате переливались всеми цветами радуги, не имея ни малейшей опоры, ни крошечной веточки.
Убедившись, что надворный советник уже в достаточной мере покорен, мастер повел его в столовую.
— Гм! — удивленно хмыкнул Гродзицкий.
Столовая была разрисована под дерево. Стены как бы обшиты светло-желтыми досками, и сучки на них намечены более темной, почти коричневой краской. Мнимым доскам полагалось бы прикрывать стены от пола до потолка, на котором, по-видимому, также следовало изобразить некое подобие балок и стропил, но Гилета всю жизнь отличался непоследовательностью: в приступе нетерпения он обрубил доски наверху широкой синей полосой, а потолок оставил белым и доверил подмастерьям, которые за один час замалевали его флорой с еще не использованных трафаретов.
Пани Зофья вошла в квартиру лишь в день переезда. В воротах и на лестнице ей встретились две девушки с полными ведрами, — хорошая примета (в большой тайне инсценированная и оплаченная мужем). Комнаты, которые полтора месяца назад отпугнули пани Зофью ледяным холодом, теперь приняли радушно и тепло — в двух печках еще с утра горел огонь. В творениях мастера Гилеты она увидела тот стиль, с которым сжилась с детских лет, а некоторые странности приняла за причуды современной моды. Пришел представиться дворник, поцеловал ей руку, потолковал о водопроводе, чердаке, погребе и попрощался, предложив свои услуги и пожелав счастья.
Оставшись одна, пани Зофья облокотилась на подоконник. Сквозь заиндевевшие окна, будто сквозь кружевную занавеску, она глядела на улицу и пыталась прочитать этот мелькающий текст. Движение было большое — звенели трамваи, тарахтели телеги, кричали извозчики, прокладывая себе дорогу; за две-три минуты можно было насчитать больше прохожих, чем на Верхней Сикстуской за полчаса. Ряд магазинов объявлял о себе вывесками — самые многословные были две, висевшие по обе стороны входа в лавку спиртных напитков, а склад скобяных изделий, как надменный бирюк, не удостоил сообщить о себе ничем, кроме короткого названия старой, известной фирмы. Были там и писчебумажный магазин, и рамочная мастерская, и зеленная лавка, и даже кондитерская, куда вели три ступеньки.
Пани Зофья отвела глаза от улицы и взглянула на дома напротив. Все, кроме одного, были трехэтажные. Больше ничего нельзя было о них сказать; окна, поблескивавшие на гладкой стене или украшенные лепными карнизами, глядели мертвыми, холодными бельмами. Пани Зофья задумалась...
Это была четвертая квартира в ее жизни. Первая, в которой она появилась на свет и откуда выходила замуж, была на Коральницкой улице: три темных комнатки, где отец, судейский чиновник, двадцать пять лет предавался упорным и неразумным мечтам о повышении по службе и о прибавке жалованья. Гимназии он не закончил, в университете не учился и, конечно, не мог ни на что рассчитывать — так и умер, заработав для вдовы и сирот право на пенсию в 86 крон, за которыми юная Зофья ходила каждый месяц в Финансовую дирекцию, — там, у входа, ее приветствовал улыбкой роскошный швейцар в голубой шинели с золотыми галунами. Мать между тем суетилась на кухне, так как надпись на картонной табличке, вывешенной в одном из окон, призывала голодных следующими словами:
«Домашняя кухня,
Дешево, вкусно».
Стишок этот, написанный большими красными печатными буквами, был произведением младшей сестры, Марии, девушки решительной, шумной, немного взбалмошной, которая быстро нашла мужа себе нод стать и исчезла из их жизни, а через несколько лет прислала письмо из Америки. Однажды, в июле, молодой чиновник наместничества, отвезя своих родителей в Любень, — ездили тогда за город, в наемном ландо с бесплатным обратным проездом, — вышел из шумного экипажа на Хоронжевской и задумался, где бы пристроиться столоваться на время отсутствия матери. Выбор его пал на известную молочную, хозяйка которой, пани Комуницкая, своими пирожками, клецками, рисовым пудингом кормила добрую половину чиновничьей молодежи. Однако, проходя по Коральницкой улице, он заметил стишок бойкой Манюси и сразу же ему доверился. В середине августа, расплачиваясь за последние десять обедов (по 30 крейцеров), он уже был помолвлен с Зофьей.
Второе жилище ее было там, где в тот июльский день остановилось ландо, то есть совсем рядом, не пришлось даже нанимать пролетку — сундучок с вещами перенес дворник. Но этот старый дом через несколько лет снесли, чтобы освободить место для большого нового здания, и пани Зофья, подталкивая колясочку с маленьким Теофилем, быстрехонько пробежала до Сикстуской улицы, радуясь, что ее не захватил дождь, первый в том году весенний дождь, который полил как из ведра, едва она вошла в ворота…
На цыпочках подошел Гродзицкий. Она не обернулась, не испугалась — знала, что это он.
— Ты почему плачешь?
Она не ответила, даже не пошевельнулась. Ее молчание смутило Альбина, он сразу притих и покорно стал смотреть в окно. Вскоре он отыскал ее мысли в кружевном узоре инея — теперь они думали вместе. Думали с тревогой, что вот пробил час, с которого начинаешь обратный счет времени, и отныне трудно уже будет заполнить жизнь чем-то иным, кроме размышлений о честном и достойном памяти прошлом.
Так их застала прислуга.
— Пожалуйте, пани, воз едет! — крикнула она, став на пороге.
С неделю еще была суета, пока все привели в порядок. Пани Зофья по вечерам «ног под собой не чувствовала» от усталости.
Теперь у нее с мужем была общая спальня — впервые в жизни. Пока они жили в отдельных комнатах, их любовь была обречена на неожиданности и не имела пристанища — ни разу не провели они вместе ни одной ночи. Можно им простить, что свою любовь они называли «цыганской». И когда в первую ночь они оказались в спальне, где наконец-то их ореховые кровати, ночной столик, комод и шкаф собрались вместе, как семья после разлуки; когда загорелась маленькая лампочка под розовым абажуром — обоим стало стыдно. Они принялись жаловаться на утомительный день и, издали пожелав друг другу спокойной ночи, улеглись каждый в свою постель. Старые доски, наспех сколоченные час назад, еще не сели как следует в пазы и немилосердно скрипели. Альбин и Зофья притаились, не смели шевельнуться, притворялись, что спят, и, раздраженные этим неожиданным неудобством, полночи провели без сна, стараясь лежать тихо.
Когда был вбит последний гвоздь и прислуга в последний раз стерла на навощенном паркете следы дворницких сапог, пани Зофья, опершись на метелку для пыли, как на трость, и пан Альбин, скрестив руки на груди, молча предались созерцанию своего нового гнезда. Они сами не знали, что о нем сказать — они питали привязанность к старой своей мебели и в то же время понимали, что на новом месте она имеет жалкий вид.
Мебель Гродзицких была непривычна к яркому свету и простору; казалось, что столы, стулья и другие предметы, оробевшие, недоверчивые, устрашенные, словно бы сгорбились, поджали ноги, отвернулись к стенам. В гостиной кушетка, полдюжины стульев и круглый стол сгрудились тесной испуганной кучкой, как потерпевшие кораблекрушение на острове, которым здесь служил плюшевый ковер; ни на дюйм не переступали они за его края, залитые со всех сторон пустынной, скользкой, блестящей гладью паркета. Они не узнавали себя в зеркале, которое, сверкая, надменно отражало их униженный, смиренный вид, внезапно став настолько чужим, что они не признали бы в нем старого мечтателя с вечно затуманенным взором, если б не та же самая резная рама, та же консоль с мраморной плитой и стоящее под стеклянным колпаком распятие из величской соли. Далеко-далеко, на неведомом берегу, тосковал их старый, испытанный товарищ — гипсовая подставка, прикрытая голубым плюшем, служившая подножьем гипсовому амуру, и столик, на котором стояла пальма, а уж картины, те разбежались во все концы, словно многолетняя дружба — это ничто.
Почти все картины переменили место. У Теофиля забрали ангела-хранителя и вифлеемские ясли, а вместо них повесили портрет матери, на котором в светлой гостиной слишком, явными стали все изъяны: лицо, опухшее с одной стороны, как от флюса, нелепый румянец, грязные, темные полосы, разъевшие, будто проказой, лиловую блузку в белый горошек. Портрет сына в пятилетием возрасте, сделанный, как и портрет матери, с фотографии, перекочевал в кабинет отца, изгнав оттуда большую репродукцию «Присяги пруссов». В гостиной остался толко папа Лев XIII, вышитый на шелке в огромной раме из зеленого плюша, а по обе его стороны — старики Гродзицкие в кричаще дорогих рамах, кичившихся своей позолотой перед простотой их одежды и лиц, в которых застыло мгновение тревоги и робости, объявшей стариков, когда они, боясь вздохнуть, сидели против фотографического аппарата.
Альбину и Зофье, выросшим в тесноте, среди всяческой рухляди, среди стен болтливых, как старые тетки, переполненные воспоминаниями о вещах и людях, было не по себе в этой квартире, где изо всех углов глядела зияющая пустота. И снова, как много лет назад, они стали бродить по аукционам, по мебельным лавкам. Старые торговцы узнавали своих давнишних покупателей и, вытаскивая заплесневевшие книги, читали им лаконичный истории стола, оттоманки или стульев, приобретенных ими в таком-то году за такую-то цену.
Они ходили под руку, задерживались у витрин, останавливались у входа в магазин, чтобы еще раз посоветоваться, вспоминали старые адреса и удивлялись, что некоторых фирм уже нет, блуждали по далеким кварталам, ссорились — и были счастливы.
Из мартовской оттепели, расплавлявшей снег, из влажного тумана выходил к ним город в коричневой рясе. Увешанный четками фонарей, почтенный бернардинский монах, готовый пошутить с молодежью на Академической, зайти выпить стаканчик вина к Штадтмюллеру, исповедать чью-нибудь одинокую душу в Армянском переулке, растолкать сонного звонаря в соборе св. Николая, чтобы он (всегда последний) протрезвонил к вечерне своим старым, дребезжащим колокольчиком. Как хороши улицы, когда ходишь по ним без цели или когда цель так определенна, что случай приводит к ней вернее, чем расчет. Можно зайти куда угодно, можно никуда не заходить и, обойдя полгорода, вдруг спохватиться: «А что же собственно мы собирались сделать?» И город, весело глядя на эту пару, шутливо грозился колонной блаженного Яна из Дукли, как указательным пальцем, и хлюпающие под ногами лужи ворчали на пятидесятилетних чудаков, забывающих про галоши.
Из-за этих странствий ужин часто остывал в духовке, а прислуга Евка, привыкшая за год к размеренной жизни и подробным распоряжениям, не знала, за что браться и до полуночи спала на стуле, как часовой, которого забыли снять с поста. Гродзицкие возвращались поздно, хорошо смазанные замки и петли не скрипели, Теофиль только слышал иногда, как в кабинете отца открывается шкафчик умывальника, но в сонном мозгу плеск воды превращался в журчанье дождевых струй по водосточной трубе.
XXIII
Задумавшись, Теофиль быстро прошел привычную дорогу от гимназии, вбежал в ворота, хлопнул дверью в прихожей и остановился лишь перед запертой дверью в кухню. Тут он вспомнил, что отныне его дом на Панской улице.
В новую квартиру он явился уже под вечер, и первое, что ему бросилось в глаза, была только что подвешенная люстра в столовой. Из этой старой знакомой вещи, чванливо бренчащей цепочками, отливающей красной эмалью, струился яркий свет электрической лампочки, которую вставили в отверстие, куда прежде наливали керосин. При этом зрелище Теофиль громко рассмеялся, отчего родители встревожились, а монтер с удивлением уставился на молодого человека и не сводил с него глаз, пока Теофиль не скрылся за дверью. Очутившись в своей комнате, где все уже было расставлено по местам, Теофиль бросил шинель и фуражку на стул и положил на полку книгу, которую принес из гимназии с послеобеденного урока истории Польши. Так переехал в новую квартиру Теофиль Гродзицкий.
Его комната была рядом со столовой и тоже выходила во двор. Мастер Гилета сделал стены розовыми и пустил по ним снежные россыпи мелких белых цветочков. Kpoме портрета матери, на стенах ничего не было, но Теофиль едва ли это заметил, а то, что его покинул ангел-хранитель, даже доставило ему облегчение. Стыдясь признаться самому себе, он все же пожалел о керосиновой лампе, о ее запахе, тепле, свете, и когда вольфрамовая нить в стеклянном баллоне накалилась и залила стол резким, холодным светом, Теофиль с книгой отодвинулся как мог дальше.
В дверь заглянул отец.
— Не сиди поздно, — сказал он. — Теперь тебе надо раньше вставать. Но, может, мне удастся еще в этом полугодии перевести тебя в третью гимназию. До нее отсюда два шага.
Ах, об этом Теофиль и не подумал. Жаль будет расстаться со старой конурой! Отныне, выходя из гимназии, он всякий раз оглядывался, словно не надеясь увидеть ее завтра.
Его тревожили смутные опасения, что в новой гимназии жизнь его станет сложней. Разве будет там второй ксендз Грозд, который, правда, снует возле его парты и не спускает с него цепкого взгляда, но в конце концов оставляет его в покое? Разве есть на свете второй ксендз Скромный, который, отягощая грехом собственную совесть, берет у него билетик без исповеди? Разве можно будет в другом месте скрыть, что он не ходит к причастию?
Сменив веру, Теофиль жаждал найти в новой все то, что утратил со старой. В его усилиях было немало ребячливого, но также и возвышенного. Лишь тот, кто сам это испытал, знает, как дрожит рука, как пульсирует в висках кровь, какая злобная радость (с примесью страха!) вливается в душу, когда впервые пишешь «бог» с маленькой буквы. Скажете — глупость? Значит, вы никогда не знали, что такое вера, и вам никогда не приходилось ее терять. Заменить священное имя обычным словом, уравнять его со всеми прочими — да это все равно, что повергнуть его в прах! Слышите удары молота? Это вчера лишь обращенный монах-неофит, ревнитель новой веры, сбивает голову со статуи Юпитера. То же самое происходит и тогда, когда перо, годами привыкшее выводить большое «Б», опускается вниз, а потом чертит жалкий верхний завиток, оголенный, как высохший стебель.
Теофиль избегал упоминать бога даже в ничего не значащих фразах. Удивляясь, вздыхая, он говорил: «О, боги!» Снимал фуражку перед памятником Мицкевича, чтобы показать небу, под которым на высокой колонне пылало бронзовое пламя, что отныне он будет предметы поклонения искать на земле. Избавившись от легкомысленного «Клянусь богом!», Теофиль стал фанатиком «слова». Он не давал слово попусту, не лгал. Он хотел доказать себе и миру, что «этика может обойтись без заповедей, провозглашенных средь громов». Это он записал в своей заветной тетради.
Новая вера! Трудно, пожалуй, назвать ее иначе, как не этим извечным словом, которое никогда не перестанет сопровождать человека в его пути к познанию мира. После многих месяцев внутреннего смятения Теофиль снова верил, и снова у него был запас священных слов, с которыми он себя укреплял. Субстанция, энергия, причинность, эволюция, атом — таковы теперь были, наподобие древнеримских «индигитамента», имена божеств, обитавших в частицах времени или в частицах пространства. И среди них одно, окруженное особым ореолом, волшебный, мистический «арретон» новой науки, для которого ни одно слово не звучало достаточно осторожно, о котором надлежало бы думать с подозрительностью древних римлян: sive mas sive femina, sive deus sive dea — Эфир.
Эфир (seu alio nomine appelari vis) заполняет всю вселенную и все промежутки между атомами. Сам он не состоит из атомов и не обладает никакими химическими свойствами. Для него характерно особое состояние, отличное от состояний всех прочих веществ. Он — не газ и не твердое тело. Он невесом. Он бесконечен и неизмерим, как пространство, им заполненное. Он находится в постоянном движении, которое и есть конечная причина всех явлений.
Ум, приученный с детства к постижению непостижимого, радостно приветствовал новую догму. Да ведь это опять тайна транссубстанции, и в неожиданно привлекательной форме, которая не возмущает разум, но, напротив, прельщает всеми соблазнами науки: математическими выкладками, молчаливым согласием фактов, мнением авторитетов. Теофиль влюбился в этого серафима вселенной и пришел бы в отчаяние, если б ему сказали, что дни эфира сочтены.
Мир ничего не потерял оттого, что его перестали опекать святые. Вместо рыбаков, не умеющих отличать сна от яви, вместо анахоретов, бесплодно влачащих дни в обществе грифов и шакалов, вместо одержимых теологов, готовых растерзать друг друга из-за нескольких букв, вместо отроков, пронзенных стрелами, и дев, у которых вырывали груди, вместо монахов, стиравших древние верования в памяти людей, чтобы превратить ее в палимпсест, вместо людей, которых легенда, случай, ошибка, соперничество племен наделяли ореолом святости, — Теофиль ныне чтил науку и гений. Они воплощались в фигурах, которые, несмотря на все усилия кисти или резца, обычно сохраняли облик старомодно одетых господ из семейного альбома. Их жизнь не была украшена легендами, никакая драма не наполняла событиями фон, на котором вырисовывались их черты; будничное их величие обходилось без органной музыки, кадильниц, латинских песнопений. Встречая в книгах эти лица, Теофиль читал на их челе, в морщинах, в глазах, устах историю жизни мыслителя, историю часов молчания, минут немого восторга и, создав себе о них представление, где не было места человеческим слабостям, поклонялся этой веренице беспорочных духов, поклонялся страстно, с языческим пылом.
Ньютон, первым отправившийся в космос, чтобы его измерить и взвесить, Рёмер, расчетами догнавший световой луч, Фраунгофер, который ловил звезды диффракционной решеткой и низводил их на землю, Вольта и Гальвани, которые, подобно магам, вызвали из мрака электрический ток, существующий от века, Пристли, Уатт, Бультон, которые, подобно чернокнижникам, посещали друг друга ночью, в полнолуние, чтобы сообщить о свершавшихся их руками первых чудесах химии… Обремененный величием и славой человеческого гения, Теофиль брел за этой вереницей имен, не видя ей конца, — брел изумленно и смиренно. И он даже не заметил, как однажды в пути заснул, чувствуя в сердце покой и доверие, убежденный, что тень, которая его осеняет, отбрасывается величественным зданием, а не грудой камней, собранных для постройки фундамента.
С Калиной Теофиль не попрощался. Старый профессор в часы обычных визитов своего юного друга вставал из-за стола и подходил к дверям — прислушаться, не идет ли кто. Засунув большой палец меж двумя пуговицами жилета, он барабанил пальцами по животу и, оттопырив нижнюю губу, задумчиво созерцал свою тень, застывшую на стене. Вот и ему довелось ждать, ждать так же напрасно, как Роеку, которого Теофиль вдруг покинул на рубеже шестого и пятого веков, впрекраснейшую пору греческой скульптуры, уже приближавшейся к золотому веку, — покинул, как Юркина, как своего отца, который не мог дождаться, когда же сын попросит его закончить свою исповедь о Польше.
— Не приходил ко мне этот, из седьмого класса? — спросил Калина, приоткрыв дверь в кухню.
Прислуга всплеснула руками:
— Да что вы, пан профессор! Уже недели две, как они съехали.
Теофиль был свободен. После кропотливого распутывания узлов (ни одного узла он не разрубил; так же и отец никогда не портил веревок, но терпеливо и упорно, ломая ногти, разбирал путаные клубки), после тревог и терзаний, после долгих дней холодной подозрительности и боязни стать жертвой обмана — он не мог надивиться своей свободе, которая ворвалась в него как шумный вихрь…
Был стеклянно звонкий день — гололед и белое солнце; мартовский каприз украсил крыши домов гирляндами искрящихся сосулек, на улицах звенели бубенцами сани. Теофиль с пачкой книг под мышкой бежал в гимназию, скользя по длинным ледовым полоскам, очищенным от корявых наростов замерзшей грязи подошвами мальчишек. Он насвистывал.
— С чего это вы нынче так веселы?
— Вайда! — воскликнул Теофиль и взял его под руку. — Прости, что я разрешил себе минутку веселья, хотя мир еще же достиг совершенства. Дай мне один этот день, запиши его в счет многих лет счастливого будущего, которое ты нам создашь.
— Слова, достойные сытого поросенка!
— Что ты имеешь против поросенка? Из поросенка будет свинья, а из свиньи ветчина. Ты же любишь ветчинy, по твоему оттопыренному карману я вижу, что ты опять несешь граммов сто.
Вайда оттолкнул Теофиля, который схватил его за шинель. С озорным видом Гродзицкий уперся рукой в его грудь и, глядя исподлобья, гнусаво гаркнул:
— Кому дать леща?
Это было так неожиданно, что Вайда расхохотался.
— Граждане! — закричал он, когда оба вошли в класс. — Видите, кто со мной пришел?
Несколько мальчиков нехотя обернулись в его сторону.
— Тише, друзья! — крикнул кто-то. — Вайда намерен сострить!
— Не позволю! Я еще не позавтракал!
— Сокровище мое! — подбежал к Вайде Запоточный, схватил его в объятия и закружился, вальсируя по классу, сбрасывая перья, ножики, чернильницы. Потом вдруг отпустил Вайду, толкнул его в угол и стал перед Теофилем.
— В какой мере ваша милость ответственна за состояние ума будущего светоча социализма и революции?
— Друзья! Товарищи! Братья! — возопил Теофиль голосом нищего на паперти. — Смилуйтесь...
Всеобщий рев заглушил его слова.
— Вот чудеса!
Все повскдкалн с парт, принялись его рассматривать, вертеть, ощупывать.
— Пустите меня, я вам что-то скажу.
— Нет, нет! Это было бы слишком прекрасно.
Запоточный обнял его.
— Гродзицкий, я тебя люблю. Взгляни на меня. Я схожу с ума. На первой же переменке ты должен мне доказать, что ты не барышня.
Вошел Шеремета со стопкой тетрадей, в классе еще гремел хохот.
— Что случилось?
— Гродзицкий вернулся.
Учитель нахмурился.
— Прекратите шутки! Левицкий!
Левицкий роздал тетради. Шеремета продиктовал тему сочинения: «Лирическое начало в "Марии" Антония Мальчевского».
Теофиль наклоняется к Сиваку.
— Какое сегодня число?
Воспитанник хировской гимназии показывает Теофилю кончиком пера на дату, только что им написанную наверху страницы: 10 марта 1914.
«Полгода», — думает Теофиль. Ровно полгода потребовалось ему, чтобы найти ответ на вопрос, заданный под старым кленом, который за это время успел пожелтеть сбросить листья, а через две-три недели начнет выпускать новые.
Теофиль оборачивается назад. На пятой парте одно место пустует. Где Костюк?
Костюк умирал. Еще в середине февраля он пришел в гимназию — после трехмесячного отсутствия. Сидел на своей парте, молчаливый и по обыкновению серьезный; уроки у него были тщательно выучены. Все утверждали, что он исхудал, но он никогда не был толстяком. Волосы у него сильно поредели. Раньше он зачесывал их назад, и его густая, рыжая шевелюра напоминала учителям только вскрытую коробку курительного табака. Теперь от волос осталась половина, они были взлохмачены и потускнели. Костюк не кашлял.
— Немного еще хриплю, — говорил он. — Да это чепуха.
Через неделю он опять перестал ходить в гимназию, но Теофиль лишь теперь узнал, что дела Костюка плохи.
Жил Костюк на улице св. Терезы, на пансионе у почтенной супружеской четы по фамилии Тымура; его хозяева, не имея своих детей, привязались, к мальчику, и им даже в голову не приходило поместить его в больницу. Когда он захворал, его кровать перенесли из кухни, где она простояла шесть лет, в комнату, единственную комнату, служившую Тымурам супружеской спальней и гостиной. Большую часть дня Костюк проводил в одиночестве — лежал, подремывал, прислушивался к возне хозяйки на кухне и смотрел в окно.
А смотреть было, в общем-то, не на что. Дом стоял в том месте улицы св. Терезы, где она образует колено, через нисколько шагов распрямляющееся и выходящее на шумную и нарядную улицу Льва Сапеги. Из окна первого этажа была видна только высокая красная ограда сада при воспитательном заведении св. Терезы да купа черных, голых акаций, которые из года в год на короткое время волшебным своим цветением изгоняли из этого глухого закоулка запахи плесени и гнили. И еще была видна непросыхающая, топкая грязь мостовой.
Эта грязь доставляла Костюку приятные минуты. В ней увязали проезжавшие возы, мужики в бараньих кожухах, размахивая кнутами, кричали: «Но! Пошел! Но!», соскакивали на землю, подпирали кренившийся воз, ругались, снимали шапки и вытирали пот со лба. Костюку чудилось, что сквозь двойные рамы он слышит запах людей и животных, запах мокрой земли, прелой соломы, старой ременной упряжи. Многие возы он узнавал уже издали по скрипу колес и бренчанию железа; появлялись знакомые лица, знакомые лошади — сивки, гнедки, вороные, каурые; он угадывал их возраст, когда они, дергаясь в натянутых постромках, развевали пасть и показывали зубы, и запомнил даже несколько имен, которыми мужики называли своих меринов и кобыл.
Когда Теофиль пришел его навестить, стояли сумерки. В кухне сидел Тымура и парил ноги в горячей воде. Его жена на вопрос Теофиля ответила:
— Он спит. Может, вы минутку подождете?
Она подала Теофилю стул, смахнув с сиденья пыль краем передника.
— Пан студент, — вдруг обратился к нему Тымура, — а сколько километров имеет земля в окружности?
— На экваторе? Около сорока тысяч.
— Я тоже так думал. Поверите ли, пан студент, эти ноги уже обошли вокруг земли и теперь второй круг вышагивают, только, кажись, до конца его не пройдут.
— Перекрестись, что ты болтаешь! — крикнула жена.
Тымура пропусти это мимо ушей и продолжал:
— Так я подсчитал. Да вот смешно сказать — столько исходил, а дальше Холодной Воды но бывал. Знаете, я почтальон.
Об этом свидетельствовали атрибуты его профессии: лежавшая на кровати сумка, куртка, которую он повесил на спинку стула, и бачки в стиле Франца-Иосифа — нигде не встречалось сколько двойников императора, как среди мелких почтовых служащий.
— И опять же вон там, — он указал пальцем на закрытую дверь, — лежит малый с золотым сердцем, а через неделю будет он гнить в земле. Скажите, пан студент, какой смысл во всем этом? — выкрикнул он вдруг.
— Помолчи, Шимон. Ты его разбудишь,
— А зачем ему спать? Успеет, выспится, когда черви ему глаза выедят.
— Тихо, — шепнула жена, прислушиваясь.
Больной закашлял. Женщина приоткрыла дверь.
— Ты не спишь, Стефик? Тут товарищ к тебе пришел. Сейчас я вам свет зажгу.
Она зажгла лампу, которая осветила комнатушку, такую маленькую, что Теофиль даже не успел оправиться от страха, охватившего его при виде Костюка. Он едва сделал три шага, как прямо перед ним появилось изъеденное смертью лицо. Чтобы на него не смотреть, Теофиль стал разглядывать комнату.
— Правда, здесь хорошо? — сказал больной.
За семь лет он еще не освоился с этими стенами, на которых повторяющийся узор из трех голубков — летящего, сидящего на ветке и клюющего зерно — разрастался в какую-то бесконечность особых птичьих мирков. Высокая хозяйская кровать, где под плюшевым покрывалом угадывалось обилие перин, одеял, подушек, коврик с ланью в зимнем лесу, шкафы, накрытый бордовой скатертью стол, яркие, блестящие лаком картины, — все это добро, накопленное за долгие годы честной, бережливой жизни бездетной четы, изо дня в день рассказывало крестьянскому сыну повесть о богатстве, довольстве и утехах городской жизни.
— Спасибо, что пришел. Нет, нет, руку не подавай. У меня руки гадкие, мокрые. Притронешься раз и, чего доброго, больше не придешь. А мне очень хочется, чтобы ты еще пришел, я все время ждал тебя.
Костюк улыбнулся. Это было новостью, Теофиль не мог припомнить улыбки на его лице, она явилась слишком поздно — цветок среди жестокой зимы.
— Мы так давно не видались! Правда, я был в гимназии недели две тому назад. Но это не в счет. Мне все кажется, что в последний раз мы виделись на Высоком замке, — помнишь, мы тогда разошлись, не попрощавшись. Я спрятал на память листок с того клена, под которым тогда стоял. Он лежит где-то между страницами «Физики».
Костюк повернул лицо к полочке красного дерева, где лежали его книги. Это была его собственность, подарок хозяев, полученный два года назад на именины.
— На листочке еще не было ни одного желтого пятнышка,— сказал он, немного помолчав.
Хозяйка принесла больному кружку горячего молока, поправила подушки и вышла.
— А помнишь, Теофиль, какой вопрос я тебе тогда задал?
Гродзицкий утвердительно кивнул, волнение мешало ему говорить. Костюк назвал его по имени — не по фамилии, как было принято между гимназистами. Но Костюк уже расставался с обычаями школы и жизни, теперь ему были ближе обычаи другого мира, где знают только имя человека: обычай мира умерших и тех, кто за них молится.
— Ты мне тогда не ответил. И я счастлив, что этот вопрос остался нерешенным. Теперь я сам иду искать ответ и могу еще надеяться, что он будет таким, какого я жду.
Он повернулся лицом к окну — закрытое бельмами сумерек, оно тускло отражало темную пустоту улицы.
— По глазам твоим вижу, — сказал он тихо, — что ты ответил бы мне сегодня. Спасибо, что молчишь. Обломок человека, вроде меня, должен благодарить даже за молчание.
Несколько секунд молчание стояло меж ними, как стена. Прервал его Костюк:
— Каково мне было бы ложиться в землю без бога? Атеизм — это вера живых, здоровых и сильных, вера людей, которые в глубине души убеждены, что никогда не умрут.
Лоб больного покрылся потом. Увеличенный залысиной, высокий лоб с выдающимися черепными костями был совсем непохож на прежнюю узкую, смуглую полоску меж линией бровей и волос, которая простодушно морщилась от движения ленивых мыслей этого заурядного мальчика.
— Разное приходит мне в голову, — Костюк опять обратил к гостю свои черные глаза, пылающие, подобно углям, в глубоких глазницах. — Лежу я вот так дни и ночи и вижу мир покойников. Вернее — чувствую. Тьма покойников — земле уже не под силу их нести. Есть там гении, есть и маленькие люди, вроде меня; схоронены там великие умы, страстные надежды, благородные чувства, прекрасные намерения, огромные знания, но также и обычная, повседневная глупость. И столько там всего, что мудрости этой хватило бы, чтобы сотворить мир, а глупости — чтобы уничтожить его. Вот и скажи мне, Теофиль, куда же все это девается? Неужели для всего этого нет места? Неужели оно должно исчезнуть бесследно?
Он закашлялся. Теофиль подал ему кружку с молоком. На блестящей глазури был портрет Франца-Иосифа, и румяное лицо молодцеватого старика противно усмехалось под бескровными губами чахоточного. «Как помочь человеческому отчаянию? — спрашивал себя Теофиль. А тот, другой, спрашивал шепотом, тенью голоса, за которой уже не ощущалось тела:
— Зачем же с таким пылом защищать ничто? Стоит ли по руинам веры, в безумном восторге, как будто к высшему блаженству, стремиться к небытию?
Костюк прикрыл глаза рукой, лицо с запавшими щеками вздрагивало, по лбу пробегами мелкие морщинки.
«О, Стефан, — с удивлением взывала душа Теофиля, — твой ум, как растение в теплице, созрел и расцвел в предсмертном жару. Теперь он воздает тебе за все унижения, которые ты перенес, когда стоял у доски и крошил пальцами мел, оглушенный хороводом тригонометрических знаков, и когда ты тщетно старался приспособить свое доброе крестьянское горло к немецким словам, и когда ускользал от тебя смысл «Дзядов», затопляя потоком стихов!»
— Ты, может, будешь смеяться, — Костюк провел по лбу рукой, будто из паутины сотканной, — но мне кажется, что люди, по крайней мере, некоторые люди, не признают бога из зависти. Они завидуют ему, не могут ему простить его бессмертия, покоя, счастья… Подумай сам, — он внезапно повысил голос, почти закричал, — если бы наша жизнь не имела конца, и не ведала страданий, разве кто-нибудь стал бы задаваться вопросом, зачем существует мир?
В комнату вбежала хозяйка:
— Побойся бога, Стефик! Чего ты кричишь? Ох, а какой потный! Тебе нельзя так много говорить. Твой приятель придет в другой раз,
— Ты еще придешь? — прошептал Костюк.
Теофиль вышел на цыпочках, ему показалось, что больной мгновенно уснул.
«Вот самый глубокий источник веры, — думал Теофиль по дороге, — страх перед небытием, жажда индивидуума продлить свое существование. Бедняга хочет жить после смерти, хочет жить, сохранив свою личность и сознание, а не в какой-либо иной форме, не так, чтобы ему должны были доказывать, что он в ней действительно, существует».
«Но это же абсурдно, — тут же спохватился он, — абсурдно полагать, что существование, имеющее начало, не должно иметь конца!»
Спускаясь по улице Коперника, он глянул на небо; там, вдали, виднелись два креста, — на соборе и на доминиканском костеле,— два знака сложения неземной алгебры, решающей задачу «человек и мир» в безумном уравнении с одними неизвестными.
«И все же это волнует, протест смертного против смерти, бунт духа против материи, жажда подчинить ее хотя бы властью бога, с которым можно заключить союз на самых тяжких, но не безнадежных условиях».
Так много можно было бы сказать! И Теофилю стало стыдно, что за все свидание с Костюком он не вымолвил ни слова. «Пойду к нему завтра!»
Но утром в гимназии уже стало известно, что Костюк в эту ночь скончался. На уроке латинского в класс вошел Мотыка с директорской книгой, и учитель Рудницкий зачитал распоряжение о похоронах. «Прекрасные качества его юной души, — писал, в своем послании директор Зубжицкий, — снискали ему всеобщую любовь,— и во время тяжкого недуга, с которым он боролся, как герой, до последней минуты не забывая о своих обязанностях, его окружало глубочайшее сочувствие товарищей и друзей».
За гробом шел весь их класс, и из других классов несколько второгодников, знавших Костюка. Были и учителя, в том числе Роек. Распорядителем похорон был ксендз Скромный — это он приветствовал каждого ученика, впервые приходившего в гимназию, напутствовал при вручении аттестата и провожал к могилу, если так судил господь. В старой, потертой ризе он мелкими шажками семенил во главе процессии, не стыдясь своих слез, которые утирал рукою, когда они мешали ему читать молитвы. Кроме него, плакала только пани Тымура, а у отца умершего, высокого плечистого крестьянина в бараньем кожухе, глаза были сухими, и он не сводил их с длинного узкого гроба, колыхавшегося на ухабах Яновской улицы.
Ксендз произнес речь — несколько фраз, которые он сочинил четверть века тому назад и с тех пор повторял как молитву. «Non omnis moriar» — цитировал он Горация, и это звучало в его устах, как отрывок из псалма. Потом словами литургии он говорил о вере в воскресение из мертвых. Теофиль вторым, после старого Костюка, бросил в выкопанную могилу комок влажной земли. Он один из всех тут собравшихся не надеялся когда-либо увидеть беднягу Стефана. Даже Вайда, даже Сивак таили в душе тень надежды — а кто знает, что там растет под такой тенью! Но Теофиль не чувствовал ничего. Принеся в жертву своей новой вере бессмертие души, он думал о том, что отныне ничем уже не владеет, и это была горькая мысль.
ХХIV
Старички, родившиеся до Весны народов, говорят: «До Святого духа не снимай кожуха», — и делают все, чтобы соблюсти это правило. Однако мир с тех пор стал на несколько недель моложе; новое, более легкомысленное поколение охотно верит соблазнам апреля: облакам, зарумянившимся от солнца, как пасхальные куличи, обильному и короткому дождю, теплому ветерку. Спешно распахиваются окна. Выковыряли из них ватные валики, соскребли полоски бумаги, которыми были заклеены все щели, вынули лежавшие меж рамами слои ваты, обсыпанные, будто маком, дохлыми мухами. Шпингалеты артачатся, царапают пальцы, люди воюют с ними и выталкивают створки окон на улицу, словно хотят сбросить их на мостовую.
В семье Гродзицких нет ни деда, ни бабки, а значит, некому поднимать шум из-за сквозняков; зато есть молодой человек, который первым выбегает на балкон. Во всех домах девушки со свекольно-красными ногами моют окна, а солнце заливает стекла золотом. Перины, одеяла, подушки теснятся без малейшего стыда — словно это не Панская улица — к открытым окнам и дышат на город зимним сном, сном долгих, затхлых ночей с привидениями и кошмарами, сном душным, тяжким, мрачным. Но весна шутя управляется с такими делами — неужто в слое атмосферы толщиной в сто километров не развеются кучки блох и частицы человеческих испарений?
Вот и дождь. Маленькая, неуклюжая тучка, ослепленная солнцем, споткнулась на пути и пролила несколько капель из своего кувшина. Но разве стоит из-за этого убегать с балкона да еще захлопывать за собой дверь? Так думает Теофиль, удивляется и ждет минуту-другую. Дождь перестал, но балкон в доме напротив больше не ожил. Там даже опустили занавески, теперь и не увидишь, смотрит ли кто на тебя из глубины незнакомой комнаты.
— А знаете, — говорит Теофиль, входя в столовую, — мне кажется, что напротив живут Файты.
— С чего это ты взял? — спрашивает мать.
— Да я видел одного из братьев, — бормочет Теофиль. Но врать ему стыдно, и он прибавляет уже погромче: — Может, мне показалось.
— Знаешь, Зося, это вполне вероятно, — отзывается из свого кабинета отец. — У пани Файт где-то в этих местах собственный дом. Паньця говорила…
Однако Теофиль скрывается в своей комнате, будто его это вовсе не касается. За ужином речь идет о других вещах. Надворный советник пристально разглядывает сына; у него такое чувство, будто он Теофиля давно не видел.
— Бог ты мой! Или это тень так надает тебе на лицо, или у тебя и вправду борода пробивается?
Пани Зофья окидывает Теофиля быстрым, испуганным взглядом. Ну конечно! За последние недели, которые она провела так славно, в их доме появился еще один мужчина. Она подпирает голову рукой, задумывается, и по какой-то лишь ей известной причине на ее щеках вспыхивает румянец. К счастью, на нее никто не смотрит. Старший мужчина говорит младшему:
— Завтра я тебе покажу, как обращаться с бритвой.
И, конечно, вспоминает, как однажды маленький Теофиль забрался к нему в стол, вытащил бритву и исполосовал себе лицо — факт известный и популярный благодаря хронике, которая каждый год повествует об этом в сентябре или в октябре.
На другой день Теофиль выходит из дому с двумя шрамами на лице — гордый, будто дрался на дуэли. Его окликает знакомый голос.
— Вы что, давно здесь живете?
Теофиль оборачивается, снимает фуражку и одновременно протягивает руку, чтобы поздороваться. Но два эти движения никак нельзя совершить беспрепятственно — книги, которые Теофиль нес под мышкой, падают на землю. И понятно, что когда внезапно нагибаешься, к лицу приливает кровь.
— Мы? — говорит Теофиль. — Месяц, а может, и больше. Вот неожиданность!
Алина тоже несет книги и тетради, но у нее они в кожаном портфеле. Первое, о чем надо бы попросить отца, — чтобы купил ему такой портфель.
— Дай, помогу тебе нести.
— Не надо. Портфель совсем легкий.
Ну, ясно. Какая там наука в женской гимназии? Впрочем, оказывается, что не легче, чем у мальчиков. На сегодня им тоже задан «Змей» Словацкого.
— А по греческому? — вдруг спрашивает Теофиль, надеясь услышать имя старика Геродота.
— Сейчас читаем «Антигону».
Вот тебе раз! А Роек, как назло, выбрал «Эдипа».
— У меня еще есть время, — говорит Алина. — Могу тебя немного проводить.
Солнце играет на крышах, как на золотых цимбалах. Теофиль не пробирается боковыми улицами, — как обычно, чтобы сократить путь, — а направляется к Академической. Разумеется, в такой час, когда у ворот стоят дворники с метлами, служанки идут на рынок, а чиновники спешат на службу, в этом нет большого смысла, но все же Теофиль полагает, что прогулка с хорошенькой барышней не может остаться незамеченной. Жаль только, что они на «ты», люди подумают, что это его сестра. Однако сестра не сказала бы ему так:
— Мы ведь уже целый год не виделись.
— Да. Но я тебя видел в последний раз в сентябре.
— Где?
— На Высоком замке.— И он хмуро смотрит на нее.
Алина не помнит. Дуги бровей сдвигаются, на переносице появляется морщинка.
— Я сидел на скамейке, ты не могла меня видеть. С тобой шел какой-то молодой человек.
— А, такой кривоногий! Это мой знакомый по танцклассу.
Кривых ног Теофиль не заметил, но ничего не имел бы против того, чтобы этот франт и вовсе переломал их.
На углу улицы Зиморовича Алина останавливается.
— Мне пора возвращаться.
Они прощаются за руку.
— Ты все еще ходишь на уроки английского?
— Нет. Теперь мы живем так далеко, что я бы не поспел туда после обеда.
— Вот как! Ну, будь здоров.
Теофиль, кланяется, идет дальше, засовывает руку в карман и, сжав ее в кулак, держит там всю дорогу, словно боясь, что из нее улетучится тепло той руки, мягкой, нежной, как птичье перышко.
Но в конце концов пришлось вынуть руку из кармана и, того хуже, взять ею кусок мела. Теофиль стоял у доски в физическом кабинете. Учитель Ковальский, уткнув подбородок в широкий, старомодный воротничок, объяснял ему вкратце задание. Требовалось написать одну из тех формул, в которых начальные буквы латинских слов, обозначающих скорость, время и массу, складываются в символический шифр.
— Итак, прошу/
Теофиль написал формулу.
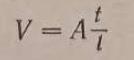
Учитель, пораженный тем, что за его спиной мел скрипит по доске с необычайной скоростью, повернулся на стуле, поправил очки и снова удивился:
— Право же, Гродзицкий, с тобой все труднее договориться. Откуда ты взял «А»? А что означает «I»?
Теофиль молчал. Формула, в которой память подменила буквы, обозначающие силу и массу, заворожила его своим метафизическим смыслом. Он расшифровывал ее так:

Все ясно. И он, улыбаясь, смотрел на учителя, который, так и не дождавшись ответа, пожал плечами.
— Садись на место, Гродзицкий. Ты сегодня невозможно рассеян.
Теофиль очнулся только на последнем уроке.
О, как таинствен рассветный час!
Ночь умирает, но, тускнея блеском,
Еще поблекший месяц не угас,
На севере мерцают звезды ясно,
Но, предвещая день, зардел восток.
Черный цвет поблек,
Созвездий лики
Гаснут, гаснут,
Шиповник дикий
Сверкает перлами росы…
Вот какие слова произносит Янота — у него красивый голос, и он, наверно, будет актером. Сердце Теофиля замирает от восторга. Ритм стихов колышется в нем волнами, как трава на ветру. Чу, слышен шорох, дрогнули ветки от прикосновения чьей-то руки, головки цветов склоняются, примятые легкой стопой, — в этой строфе шаги Алины.
Алина в это время слушала учителя Черника.
— Фактом, достойным сожаления, — говорил он, — непоправимой потерей было то, что молодые пароды усвоили цивилизацию Рима, который уже несколько веков был трупом. Вместо того чтобы жить собственной субстанцией, полной самобытных соков, они питались прогнившей мертвечиной. Они отреклись от своих богов и песен, разучились строить, как прежде, свои жилища, в которых тысячу лет обитало их рыцарское прошлое, позабыли древние обычаи, исказили свой язык и вместо того чтобы его развивать, заимствовали для своей письменности испорченную латынь. Как прекрасна была бы Европа, не соверши она этой роковой ошибки! Насколько раньше наступило бы Возрождение — не то, искусственное, питавшееся античными цитатами, но полное свежести, воистину новое, пробившееся из самой сердцевины могучих кельтских, германских, славянских племен!
Так, заламывая тонкие, белые пальцы, учитель Черник тосковал по раннему средневековью, которое уже не вернешь. Какие-то его крохи Черник сохранял в своей внешности — он носил длинные, светлые, опущенные книзу усы и челку, закрывавшую половину лба, благодаря чему — так ему казалось,— он походил на праславянский, прапольский тип времен «капищ» и «витязей». Барышни его обожали. Нюся Пекарская, соседка Алины по парте, записывала самые звучные фразы.
— «Жить собственной субстанцией, полной самобытных соков», — шепнула она Алине. — Правда, чудесно?
— Пфф! — презрительно фыркнула Алина.
Нюся с огорчением взглянула на подругу. Сама она была влюблена в Черника — однажды даже подсунула ему в книжке письмо, к которому он не притронулся. По сути, это был человек робкий, отец, троих детей, под башмаком у жены, и только из своей историософии он черпал стойкость в этом классе, душном от девических вздохов и ленивых, сонных мыслей. Он защищался от них, надевая кольчугу, шлем с забралом, укрываясь в первозданных пущах, в непроходимых топях, спасаясь бегством с повозками кочевников в бескрайние степи, и, лишь опьянив себя свободой доисторических времен, решался взглянуть в эти двадцать пар глаз — голубых, черных, серых, карих, которые с восхищением впивались в него.
— Ну, признайся... — говорит после урока Нюся.
— Ах, оставь меня, сумасшедшая! — дергает плечами Алина и выходит из класса, не слушая Нюсиных слов, — все это она уже знает наизусть.
Теофиль возвращается домой. По улице Коперника течет вдоль тротуара ручеек, на его поверхности кружится перышко — вот налетел воробей, схватил перышко и был таков. Вспугнутые собственным карканьем вороны срываются с деревьев на откосе Цитадели и громко галдят. На углу улицы Оссолинских звенит фонтан. Ого! И нет следа от льда и снега, которыми был заполнен зимой каменный бассейн. Сквер на площади Домбровского обнесен низкой оградой из железных прутьев, прикрепленных к чугунным столбикам,— на каждом столбике маленькая круглая головка; Теофиль нагибается, чтобы обхватить ладонью одну из этих головок — она теплая от солнца. Он проходит мимо ворот, видит висящую на шнурке ручку звонка, длинную, гладкую, соблазнительную, как плод неведомого дерева. Не раздумывая, он подбегает и дергает ее. И вдруг ворота открываются — дворник с укоризной смотрит на Теофиля.
— Я хотел спросить, проживает ли здесь… — говорит Теофиль, давясь от смеха, и удирает прочь со всех ног.
На бегу он скорей догадывается, чем слышит брань дворника:
— Уже усы у парня, а такие фокусы выкидывает!..
«Эй, дворник! Страж! Привратник! Отвори улицу, раздвинь дома, освободи мне дорогу, чтобы я мог идти скорей! Дай мие ключ от подземелья, куда ты на ночь запираешь солнце!»
После обеда Теофиль выходит на балкон. Через минуту в доме напротив приоткрывается окно, и русая головка вспыхивает на солнце золотом.
Она говорит с ним, хотя не произносит ни слова. Ну, и что?
«Взор говорит. Я на него отвечу! — так сказал Ромео под балконом Джульетты.
Теофиль и Алина встречаются на углу. Она держит книжку — дурной признак!
— Я иду на урок французского.
Зеленая улица в этот миг становится недостойной такого названия — это просто скучный коридор, который неотвратимо ведет в классы. Не успел Теофиль рта раскрыть, как уже показалась железная ограда, а за нею — гимназия Алины. Но девушка переходит на другую сторону и идет дальше, не оглядываясь. Улица спускается все ниже и ниже, она как ущелье средь гор, — еще минута, и увидишь звезды на дневном небе. Потом снова идет в гору, становится легкой, воздушной, реет на ветру, как лента, а конец ее горит в солнечных лучах, скручивается и падает горстью пепла на пригородные домишки, где обитают дети и собаки.
Алина и Теофиль вышли на Погулянку. Глядя на березы, на их молодые листочки, дрожащие под мимолетным облаком, на белые стволы, залитые румянцем, словно не закат сейчас, а утренняя заря, — Теофиль чувствует под веками слезы. Он знает их — это те самые слезы, которые он не выплакал в пасхальную ночь, это частица детской души, готовой снова вступить в сладостный и пугающий мир. Глаза, впрочем, остаются сухими. Эта весна принадлежит уже только земле — небо достойно лишь жалости, ради вечности не стоит пальцем шевельнуть.
Со скамеек, из-за деревьев глядят люди. То один, то другой сворачивает со своей дороги, идет за юной парой, и его тень, бегущая впереди, ластится к ногам этих двух счастливых существ. Ветер меняет направление, чтобы их сопровождать и ловить их слова. Ничего особенного они не говорят — обычная школьная болтовня, от которой отдает чернилами да мелом…
К отчаянию и погибели Теофиля расписание его уроков не совпадало с расписанием Алины. Если, например, во вторник у него были греческий, польский, математика, история, закон божий и гимнастика, то у нее, кроме истории, все уроки другие. Ни единого дня не было в неделе, когда б они могли встретиться в окружении одних и тех же слов, предметов, мыслей. И в учебниках им не удавалось сойтись вместе — либо Теофиль шел на несколько страниц впереди, либо Алина его обгоняла. Иногда, в порыве безотчетного бунта, он, придя в гимназию, воображал, будто они поменялись книгами. Раскладывая учебники на парте, он думал: «Сейчас она рассказывает содержание «Орлеанской девы». А сейчас вычисляет логарифмы». И он тосковал по ней и принимался писать письмо, которое тут же рвал на мелкие клочки.
О портфеле он позабыл. Впрочем, скоро и ремешки будут ненужны — каждый день убывает какой-нибудь учебник. Рубин, Штанд, Бодек, Игель, Кёлер — все букинисты с улицы Батория хорошо знают красивого мальчика, который им приносит чистенькие, аккуратно обернутые бумагой учебники, «совсем как новые», и, не глядя сколько монет ему кладут на ладонь, нетерпеливо вертится, выглядывает за дверь и, наконец, убегает с тем, чтобы завтра прийти снова. Стоят букинисты на пороге своих лавок, засунув руки в карманы, где бренчат монеты, и провожают взглядом сбитую на затылок высокую гимназическую фуражку: «Неужели это тот самый мальчик, который всего месяц назад мерз у наших витрин и прижимал нос к стеклу, и становился на цыпочки, чтобы прочесть названия книг в самом дальнем углу?..»
Театр и кино пожирали все деньги, вырученные за учебники. Эх, было о чем жалеть! Так, математика превратилась в «Девичьи клятвы» Фредро, и из букв, изведенных попусту в этом пухлом учебнике, складывался иной, новый текст.
«Верь мне, есть души, созданные друг для друга…» — говорил Густав, и Теофиль трепетал от радости, что Алина это слышит. За «Древнюю историю» и «Историю Польши» они увидели, как Пер Гюнт пускался в странствия по свету, и верная Сольвейг пела им трогательную колыбельную. «Физика» со славой закончила свои дни в зале «Аполлона», пленив обоих чарующим разделом оптики. «История церкви» взволновала сердце Теофиля видом набожного епископа из «Отверженных» Виктора Гюго в длинном, узком зале кинематографа «Пассаж». Одна лишь «Логика» пропала без толку, подобно лицемерной дружбе д-ра Винцентия Коса,— в дрянном кинематографе на улице Шайнохи, где показывали старый, выцветший фильм.
Случалось, что, притаившись в углу, они просиживали два сеанса подряд и после трех-четырех часов сменявшихся мрака и света выходили на сумеречные улицы как одурманенные. В их головах бесновались людские толпы, извивались горные дороги, мчались вслепую паровозы, мелькали лодки на озере, пальмы в пустыне, здания, постели, любовь, кровь. Сколько раз Теофиль чувствовал, как рука Алины хватает его руку! Сколько раз видел ее откинутую назад голову и полуоткрытые, будто для крика, уста! Теперь, только теперь магическое полотно экрана начало щедро осыпать Теофиля своими колдовскими сокровищами!
Даже тот, кто сидит на галерке, имеет право наслаждаться всеми прелестями театра — к его услугам мраморные лестницы, позолота, картины и статуи, никто не запретит ему любоваться светящимся кратером лама и красного плюша, который с последним звонком скрывается в пурпурном мраке, да и на плафоне Станислава Рейхана отсюда гораздо лучше разглядывать «Триумф Славы», видно, как кружатся музы возле люстры, будто стремясь войти в этот хрустальный дворец. И для каждого открывается фойе в антрактах, и каждый может наслаждаться из лоджий прекраснейшими видами ночного Львова.
Действительность, простирающаяся перед взором, как бы подражает иллюзорному зрелищу, которое вы только что видели. Темным багрянцем горят клумбы, красующиеся, будто в корзинах, в железном плетений оград, напоминая пылающие цветы в «Фаусте», которые вспыхивают пурпурным огнем при появлении Мефистофеля и гаснут, когда Маргарита изливает над ними в песне свою мелодичную тревогу. Скрытый меж каштанами Гетман в морозоустойчивой зелени бронзовых одежд только и ждет, кажется, подходящей реплики, чтобы выйти на сцену, — осколок добропочтенной старины или призрак великих времен? Ян Собеский, чей конь в неподвижном беге топчет бунчук и разбитое колесо, призывает поднятой ввысь булавою все, что вокруг него живет в камне или металле,— от крылатых аллегорических фигур на здании театра до нагих богов на доме Гаузнера, — и, до смешного верный истории, охраняет Венское кафе, где кутит компания финансовых советников.
Четыре часа. Тихая, чудесная пора — улицы пустынны, лошади спят в дышлах пролеток, трамваи не трезвонят, подолгу стоят на остановках и лениво отправляются дальше, будто размеренные дремотой. На валах стоит полицейский — блестящий полумесяц, обрамляющий его шею, делает его похожим на персонаж из забавной сказки. Все вокруг неправдоподобное, веселое, прекрасное. Теофиль делает вдох поглубже, будто вздыхая, и его волнует вкус воздуха, который еще хранит запах промчавшегося в полдень дождя, и слушает признания деревьев, радующихся своей молодой листве.
Эти упоительные часы пополудни (давали «Пигмалиона» Шоу) Теофиль получил за «Демосфена», уже ненужного, за «Цицерона», совершенно необходимого, и «Софокла», исчезновение которого огорчит беднягу Роека.
Впрочем, Роек…
Тымура, перешагнув в этот день меридиан, проходящей через мыс Доброй НадеЖды, постучался в квартиру учителя, с трудом разобрав его фамилию на старой визитной карточке, которая еле держалась на ржавых кнопках и так пожелтела, словно решила приобрести защитную окраску на фоне дверей, некогда покрытых коричневатым лаком. Торопившийся в гимназию Роек взял письмо, расписался на квитанции и, только дойдя до угла, в удивлении остановился. Долго вертел он в руках серый казенный конверт, прежде чем решился его вскрыть. На небольшом листке, выглянувшем из конверта, было всего десятка два-три слов, смысл которых поверг филолога в глубокую задумчивость.
— Какое божество остановило вас в пути и что оно шепчет вам на ухо? Если оно еще не улетучилось, спросите-ка поскорей, подлинны ли письма Платона.
Доктор Кос, на голову выше Роека, подавлял его вдобавок своей усмешкой, новым светлым костюмом, красной гвоздикой в петлице — словом, некоей атмосферой успеха, которую неудачники чувствуют мгновенно. И как будто этого было мало, д-р Кос сказал:
— Глядя на вас, никто бы не догадался, что перед ним эллинист. Греция обязывает улыбаться и радоваться жизни.
— Ошибаетесь, пан Кос, — возразил Роек, — греки были людьми печальными и разочарованными. Мудрость мешала им чувствовать счастье. Они энали, что мир приходит в упадок, что золотой век уже позади.
— В цаше время это заблуждение опровергнуто. Мы верим, что человечество идет вперед и когда-нибудь достигнет совершенства.
Доктор Кос, фанатик прогресса, ныне верит в него сильней, чем когда бы то ни было, ибо получил приятные вести из Кракова — несколько благоволящих к нему тамошних профессоров пробудили в нем надежду на кафедру истории философии, которую прежде занимал ксендз Павлицкий.
— Человечество! — встрепенулся Роек. — Неужели вы тоже относитесь к числу людей, которые, произнося это нелепое, имя существительное, забывают о том, что оно означает скопление существ, достойных жалости или презрения?
— Говорите тише, нас слушают потомки.
«Потомки», вырвавшись из классов, шумным водопадом мчались по лестницам и коридорам. Уступая ему дорогу, оба учителя разошлись в разные стороны.
Когда прозвучал последний звонок, Роек, впервые за много лет, поспешил домой — сегодня он уже не околачивался в учительской, откуда Мотыка каждый день выметал его вместе с клубами пыли. Войдя в квартиру, Роек еще в дверях закричал:
— Мы переезжаем в Броды!
— Что стряслось?
Разговор с женой сразу же перешел в монолог. Пани Роек не давала мужу слова сказать, да он, впрочем, и не пытался. Он слушал почти с любопытством. Это была история их двадцатилетнего супружества, история событий их жизни в таком новом освещении, что Роек точно впервые о них слышал. Как ни странно, он играл в них выдающуюся роль, о чем никогда не подозревал. Его наделяли чертами характера, которые хоть и были дурными, льстили его самолюбию. Оказалось, что он жестокий, безжалостный, деспотичный, неуступчивый человек, он не думает о других, ни с кем не считается, убивает медленно и расчетливо, как паук — попавшую в паутину муху.
Кастрюли, покинутые наедине с раскаленной плитой, бушевали в кухне, свекольно-капустное варево извергало клубы пара, которые, врываясь в открытую дверь, наполняли комнату кислой вонью. Роек помнил в далеком прошлом осыпанные утренней росой поля свеклы с багровыми, пылающими листьями, помнил и грядки капусты, которая в своих кудрявых кочнах будто прячет свет лунной ночи. Помнил он также цвет разрезанной свеклы — великолепный пурпур, достойный королевской мантии. Но уже много лет эти земные дары взывали к нему только пошлым криком своих запахов, как вот эта сварливая женщина, которая, размахивая почерневшим от кислоты жестяным уполовником, стоит сейчас перед ним — страшное в последней своей метаморфозе создание жизни.
Роек сидел против зеркала — сквозь слой пыли и бесчисленные мушиные точки стекло отразило его лицо, словно желая дать ему союзника. Филолог с благодарностью приветствовал немой призрак, ласково на него глядевший. Они были хорошо знакомы, не скрывали друг от друга седеющих усов, морщин, испорченных и отсутствующих зубов. Они были выше этого, они умели разглядеть друг в друге душу, наслаждаться ее спокойствием и глубиной, сострадать ее одиночеству и скорби. За мутными стеклами очков они видели глаза, которые — наперекор всему — остались голубыми.
Внезапно Роек вздрогнул. В туманных далях зеркала появилась еще одна фигура. Она сидела спиной к нему, показывая лысый череп с клочками седых, неподстриженных волос и согнутые дугой плечи, униженные, жалкие плечи состарившегося, смертельно усталого носильщика. Кто ее сюда прислал? Роек оглянулся. Ну да, конечно. Это зеркальный шкаф, собственность жены, дикая и злобная тварь, заклятый его враг, спешил на помощь своей хозяйке и позорил его так же, как ее речи.
Роек, уже давно не обращавший внимания на крики жены, очнулся от задумчивости как раз вовремя, чтобы услышать:
— Можешь убираться, куда хочешь, слепой черт! Но запомни — я остаюсь здесь.
Сдерживая вздох облегчения, Роек взял шляпу и вышел из дому, забыв про обед, который уже наполовину испарился, как жертва богам — второразрядным, довольствующимся чем попало.
Непривычный к резким переменам судьбы, он не ждал от нее уже ничего, кроме новых пинков, и вдруг на него обрушилась надежда на освобождение. Он шел будто в тумане — улицы сами подталкивали его, одна передавала другой этот ошметок человека, и наконец какая-то из них выбросила его в Иезуитский сад, между деревьев и цветов. Он упал на скамью у большого газона. Невдалеке человек с косой подвигался шаг за шагом, срезая траву плавными, мерными движениями. Роек облокотился на спинку скамьи и, опершись подбородком на руки, смотрел на сверканье стального лезвия и машинально считал шелестящие взмахи. Где-то на пятом десятке он сбился и закрыл глаза.
Сон, брат смерти, слетел вороном на этот череп, похожий на камень-голыш, округленный течением реки, которая, сменив русло, оставила его на суше.
Алина отодвинула тарелку.
— Ты опять ничего не ешь, — огорчилась пани Файт.
— Годова болит.
Алина встала и пошла в свою комнату. Там она прилегла, забыв снять с постели покрывало, что всегда очень сердило мать. Хорошо еще что ботинки сняла, — они валялись в другом конце комнаты, у двери, как будто их швырнули со злостью.
Когда она вышла, один из братьев, Станислав, оглядевшись, шепнул матери:
— Я мог бы сообщить тебе новость, — она стоит десять крон, но я уступлю за пять, потому что до первого еще далеко.
Старший брат, у которого размах был шире, избрал бескорыстие:
— Я знаю то же, что и ты: Алина гуляет с молодым Гродзицким.
— Ну и что? Ведь он еще сопляк.
— Это ты, мама, к нему не пригляделась.
Пани Файт велела прислуге убрать со стола, а сама надела передник и отправилась на кухню замесить тесто. Создавая из муки, яиц, масла, воды новое вещество, она черпала в этой работе покой и чувству уверенности. Под ее толстыми руками смешивались разные элементы, она могла придать им форму, какую хотела, и, видя их покорность, утверждалась в своем величии хозяйки дома и матери. В бесхитростной ее душе родилась уверенность, что она сумеет вот так же вылепить будущее своей семнадцатилетней дочери.
Помыв под водопроводным краном руки и обтерев их передником, она проследовала в комнату дочери. Алина спала. Пани Файт остановилась на пороге: сон — как хлеб, его негоже ни у кого отнимать. Она только нагнулась и подняла лежавшие на полу ботинки. Потом пошла к себе, швырнула их в шкаф и заперла его на ключ.
Алину разбудил голос Теофиля. Она вскочила с постели. Уже стемнело, она кинулась искать ботинки. Их не было. Она услыхала, как старший брат говорит:
— Ей нездоровится. Она лежит. Что ей передать?
— Я принес панне Алине комментарии.
— Спасибо.
— До свиданья.
Скрипнула дверь.
Алина в чулках вбегала в гостиную. Там уже никего не было. В комнате братьев раздавался громкий смех.
Пани Файт пришла с вечерней службы. В комнате дочери горел свет — мать вошла.
— Дитя мое… — начала она, решительно и вдруг запнулась.
Алина приближалась к ней медленно, шаг за шагом, и как будто становилась все выше, росла на глазах, а ее вытянутая вперед рука казалась испуганной матери чудовищно огромной. В этой руке сверкала что-то острое, длинное, невероятно длинное. Пани Файт не могла пошевелиться, слова не могла вымолвить, как в страшном, гнетущем сне.
Алина стояла рядом: черные глаза горят, из уст пламя — сатана, да и только!
— Если ты еще раз посмеешь... — прошептала дочь сдавленным голосом. — Я, я вот этой шпилькой глаза тебе выколю!..
Ах, видел бы ее в эту минуту Теофиль!..
Теофиль не знал Алины. Ни ее лица не знал, ни волос, ни рук, ни ног, не говоря уж обо всем прочем, о чем вообще не думал. Он так и не выяснил, какого цвета у нее глаза, ему в них виделась небесная лазурь; темная шатенка казалась ему златокудрой, и он, одурманенный любовью, готов был поклясться, что ее волосы падают на плечи двумя косами, хотя Алина уже давно носила прическу, как взрослые девицы. Губы нарисовало ему раз навсегда воспоминание об их первом поцелуе: маленькие, мягкие, нежные, будто лепестки розы, — ничего общего с красивыми, без сомнения, но мясистыми и твердыми губами Алины.
Зато она изучила его на память.
Надевая фуражку, он имел обыкновение откидывать голову назад, чтобы поправить волосы, выбивавшиеся длинными прядями, и тогда на миг открывалась снежно-белая полоска на лбу у линии волос; когда он резким движением выбрасывал руку вперед, рукав куртки собирался к локтю и выглядывал смешной и не всегда чистый манжет сорочки с простой стальной запонкой, но рука была сильная, густо покрытая темными волосками; когда он, сидя, клал ногу на ногу, можно было заметить, что носки подвязаны на щиколотке тесемкой от кальсон. Сотню подобных мелочей примечала Алина у своего Теофиля — даже чернильное пятнышко на брюках, у самого пояса.
И она могла бы в любую минуту сказать, за что его любит — без помощи иллюзий. За лоб и за брови, за глаза и ресницы, за рот и нос, за все его лицо, мальчишеская красота которого превратилась за год в мужскую; за руки с длинными, тонкими пальцами; за быстрый шаг — еле поспеешь; за внимание, с каким он ее слушал, слегка наклоняясь в ее сторону; и за рассеянность, с которой он на полуслове забывал о ней, вдруг поднимая глаза к небу; за то, что он говорит, за то, что молчит, за то, что он существует.
Она могла бы это сказать кому угодно, если б унизилась до оправданий. Могла бы это сказать и подругам, а не стоять в классе, прислонясь к печке, скрестив руки на груди и сжав губы, не слыша насмешек этих глупых девчонок, которые обожают плешивых учителей и мечтают о незнакомых офицерах.
Год, который Теофиль и Алина провели врозь, воспитал их по-разному.
Теофиль возмужал среди слов, понятий, абстракций в ходе одиноких дней и тоскливых ночей — это была его «пора пустыни». Целые месяцы жил он наедине с богом, словно под кустом огненным, — пока тот сгорел дотла, не оставив даже горсти пепла. И в углах у него еще звенела глубокая тишина, наставшая в день, когда, оглянувшись назад, он увидел лишь собственную тень на бесконечной дороге. Небесный пилигрим двигался по земле неуклюже, он как бы постоянно ощущал под ногами округлость маленького шарика, который столько раз исчезал из его глаз в миражах бесконечности.
Алину меж тем воспитывала земля. Воспитывала в своих древних, здоровых правилах, благодаря которым она веками оставалась в центре вселенной — плоская, гладкая, омываемая горизонтами, как океанским течением. На ее надежной поверхности не могла закружиться голова. Алину мало трогало, что земле, по словам учительницы физики, панны Вериго, старой выдры с искусственными зубами и увядшими грудями, уже много миллиардов лет. В глазах девушки земля из пригожего подростка превращалась в соблазнительную женщину с золотистым телом и знойными запахами, с бесстыжим, громким смехом, в котором слышались гортанные стоны плотского, плодотворящего наслаждения; потом она рожала в багряном шуме осени, потом стояла у помутневших окон — с бледным лицом и страдальческими устами, тщетно дожидаясь покинувшего ее возлюбленного; наконец, одинокая и тоскующая, старилась, дряхлела, одевалась сединой и внезапно, в чудесном превращении, вновь являлась со стыдливо потупленными ресницами, с девичьим румянцем на анемичных щеках, сжимая колени, трепеща, вздрагивая, всего пугаясь, словно каждое дуновение ветра грозило ей насилием.
О природе вещей Алина знала и желала знать лишь то, что сказано в первых двадцати пяти стихах поэмы Лукреция, и, окажись эта книга у нее в руках, она не стала бы читать дальше. А Теофиль, который полгода как бы переживал комментарий ко всем шести книгам, пропустил это вступление и лишь теперь начинал разбирать его по складам.
Черт побери! Не век же оставаться ему школьником и зубрить, сидя на гимназической скамье!
Та скамья, на которой он сидит сейчас, совсем другая. Из сосновых досок сколоченная, с такой отлогой спинкой, что кажется, будто сидишь в кресле-качалке, она стоит на склоне холма, среди елей, притягивающих вечерние сумерки. Внизу видны и слышны аллеи Стрыйского парка, блестит краешек пруда, деревья на противоположном холме алеют в лучах заката.
Алина только что ушла. Так у них теперь бывает каждый день — по ее желанию. Они уже не гуляют по улицам, а встречаются по уговору, каждый раз в другом месте, и домой возвращаются порознь. Это придает их любви очарование тайны, страха и преступности. Все эти новые ощущения открыла Алина. Без нее Теофиль также не сумел бы разобраться в городе, в котором родился, а стоял бы перед ним в недоумении, как приготовишка перед немой картой. Это Алина находила под каштанами Лычаковского парка, среди кладбищенских зарослей на Папаровке, в Императорской роще и в Медовых пещерах чудесные места, уединенные, нехоженые, словно она сама их создала к приходу Теофиля. Она всегда являлась первая, и ее короткий возглас «Филя!», подобно крику птицы в чаще, указывал ему дорогу.
Алина только что ушла.
— Ты можешь уйти не раньше, чем через четверть часа, — сказала она.
Можно подумать, что ему велено после занятий приготовить уроки. Ладно, будем сидеть и учиться.
В расселине меж деревьями висит лоскут темного неба — аспидная доска. Высокая ель вздымает свой тонкий шпиль, будто заостренный грифель. Появляется звезда, первая белая точка на черной таблице, как будто чья-то рука, приготовившаяся писать, не знает, с какой бы ей начать буквы.
Ну, конечно, с первой. С той самой, что родилась некогда из изображения головы быка и, обточенная временем, приобрела резкость и четкость геометрической фигуры, — с той самой, что состоит из двух частей: верхнего треугольника, символа законченности и замкнутости, и из двух расходящихся линий, устремленных к неведомой судьбе, — с той самой, что, подобно шатру с откинутой полостью входа, высится среди звездной ночи.
«А». Сколько простора в этом звуке! Как широко он раздвигает легкие! Он подлетает бесшумным мотыльком и приносит на краешке крыльев легкий аромат жасмина.
Теофиль глядит на висящую в вышине аспидную доску и видит — рядом с первой белой точкой появилась вторая. Нет, хватит на сегодня и — навсегда. Второй букве алфавита он посвятил столько времени, сколько требовалось, и не намерен терять его дальше.
Они встречаются ежедневно, в несколько минут сообщают о событиях прошедшего дня, а затем молчание заковывает их в свои цепи.
— Скажи, Алина, — говорит однажды Теофиль, — что бы мы делали, если бы были первыми людьми на земле?
— То же, что и они. Я бы сорвала яблоко, ты бы его съел, и мы узнали бы, что мы — голые.
И она разражается безудержным, прерывистым хохотом, от которого Теофиля бросает в дрожь.
Они идут молча, под ногами хрустит песок. Теофиль думает о белом песчаном береге, о горячих скалах, о море, которого он не видел.
— Послезавтра мы уезжаем.
Из далей долгой-долгой тишины доносится задыхающийся голос девушки:
— Я сделаю все, чтобы быть там, где ты.
Тогда он внезапно оборачивается и хватает ее за руки.
Еще достаточно светло, и он может разглядеть, что глаза, которые на него смотрят, вовсе не голубые, а серые — и он любит эти глаза; что с лица, искаженного страдальческой гримасой, исчезла красота — и он любит это лицо; что волосы у Алины не золотые — и он любит эти темные волосы, темные, как наступающая ночь, и погружает в них пальцы.
— Что ты делаешь? — шепчет Алина, и волосы, освободившись от шпилек, падают ей на плечи.
— Русалка! Чаровница! Лесная фея! — взывает он, жарко дыша.
Он борется за нee c мраком, накрывающим ее своей сетью, борется за нее с запахом лип, заглушающим аромат ее тела.
Алина дрожит, холодный пот проступает на ее лбу. Сердце перестает биться. Смерть. В последнем порыве жизни она стискивает зубы и разгрызает ими что-то жгуче-сладкое и упоительно горькое, что-то пунцовое и мягкое. Это губа Теофиля. Сознание заливает до краев пустоту ее души, шумя, как вода, хлынувшая из шлюза.
Эта боль — от пальцев Теофиля, впившихся в ее плечо. Земля под ногами плывет, как туман; единственное спасение — опереться об это живое дерево, которое оплело ее своими ветвями и чью тайную жизнь она чувствует своим телом, постигает, как будто уже вросла в его сердцевину.
— Филя!
От этого птичьего вскрика очнулась июньская ночь, едва не отдавшаяся безумию.
XXVI
— Помилуйте, дорогой пан Альбин, вы преувеличиваете!
Его превосходительство ласково поглаживал голову бронзового льва, который со времен Агенора Голуховского служил всем наместникам прессом для бумаг и под их сановными руками утратил часть своей позолоты.
— Меня удивляет только одно,—возразил Гродзицкий, — совещание графа Берхтольда с военным министром и бароном фон Гетцендорфом…
— Ну, допустим. Но вы подумайте, когда оно состоялось: прошла уже неделя! Нет, пан Альбин, бояться нечего, даже смены имперского министра финансов. Им останется Билинский, как вам известно.
Наместник полагал, что история с убийством в Сараеве уже улажена — ведь он в последних днях июня принимал соболезнования от властей и частных лиц, всюду висят приспущенные флаги, и сам архиепископ Бильчевский отслужил траурный молебен.
— Нечего бояться, раз император вернулся в Ишль, — улыбнулся он на прощанье. — Желаю вам приятного отдыха!
Так, через два дня после возвращения императора в Ишль надворный советник Альбин Гродзицкий отправился с женой и сыном в Аббацию. За две сигары и пять крон, умело розданных железнодорожным служащим, он обеспечил себе купе второго класса и безраздельно владел им до самой Вены. Больше, чем слова наместника, успокаивал его вид станций и начальников в красных фуражках, которые мелькали перед глазами, как маки среди созревающих полей, В открытое до половины окно врывался теплый, душистый летний ветер. Пани Зофья раскладывала на салфетке жареных цыплят, в термосе был чай, откупорили бутылку вина.
Теофиль сидел неподвижно в своем углу и не сводил глаз с букета роз, лежавшего на сетке. Принесла розы Алина, ее появление на вокзале было блестящей проделкой.
— Вот неожиданность! — воскликнула она, будто случайно наткнувшись на пани Зофью, которая стояла у чемоданов и смотрела в окно вагона, где Альбин с помощью носильщика искал свободное купе. — Вы уезжаете? Куда? Прошу вас, возьмите эти розы. Я принесла их подруге, но эта соплячка обойдется и без цветов.
— Как поживаешь? — обратилась Алина к Теофилю и за спиной пани Зофьи поднесла палец к губам, чтобы он молчал. — Завидую, что ты едешь в Аббацию. Я никогда не бывала у моря. Пришлешь мне открыточку, да?
Мать с букетом в руке, ошеломленная этим потоком слов, поворачивалась то направо, то налево, чтобы видеть Алину, — девушка ни секунды не стояла на месте. Наконец Алина поцеловала руку у пани Зофьи, крепко тряхнула руку Теофиля, кивнула издали Гродзицкому, появившемуся в дверях вагона, и побежала «искать свою девицу». Четверть часа спустя, когда поезд тронулся, один лишь Теофиль видел Алину, которая, спрятавшись за газетным киоском, посылала ему воздушные поцелуи.
Теперь ему хотелось взять эти цветы и зарыться в них лицом. Ведь они принадлежат ему, зачем он разрешил класть на них сумку и зонтик! Но он не шевелился, храня обет молчания, который наложила на него Алина своим заговорщическим знаком.
Его молчание никого не волновало. Родители ели, попивали вино из алюминиевых кружечек, разговаривали вполголоса, как будто там, в углу, сидел не их сын, а кто-то чужой. Мать, правда, то и дело поглядывала на него, знаками спрашивая, не съест ли он чего-нибудь; отец же словно вовсе о нем забыл.
Теофиль расстегнул воротник, на котором блестели четыре золотых полоски. То, что для другого могло быть гордостью, обернулось для Теофиля позором — он не имел права на это роскошное украшение. «Три двойки — как из пушки», по образному выражению отца, маячили в журнале, когда надворный советник, движимый инстинктивной тревогой, появился в кабинете директора Зубжицкого. Каким чудом они превратились в тройки — этого ему, наверно, никогда не узнать. Но ему это было безразлично. Разве не смешно рядить человека в гимназический мундирчик, когда его сердце возмужало и кровоточит, а душе — тысяча лет?
Зато родители молодели с каждым часом. Они опустили окно, пытались читать названия мелькавших мимо станций, предавались связанными с этими местами воспоминаниям, которые возвращали им молодость. За Перемышлем пани Зофья встала, облокотилась на окно, муж держал ее за поясок платья, как девочку, ветер трепал ее волосы. У Сана кончился знакомый ей мир, никогда в жизни она не ездила дальше, и хотя поля были такие же и такие же крытые соломой хаты, она утверждала, что тут все по-другому. Теофиль, пожав плечами, ушел в коридор.
Он смотрел в сторону противоположную движению поезда, и ему чудилось, будто он убегает от погони. Но странное дело — ему хотелось, чтобы его поймали. Он с надеждой глядел на леса, наискосок перебегавшие ему дорогу, на реки, бросавшие ему вслед свои серебряные петли, на выраставшие будто из-под земли города и проклинал тучные, запыхавшиеся от бега поля, которые всегда где-то вдали спотыкались и опрокидывались прямо на него из дуги горизонта.
Вместе с пространством исчезало время. На дорожных столбиках, как на черточках и цифрах огромного циферблата, еще раз проносились вспять недели, проведенные с Алиной, вечера бесед с профессором Калиной, месяцы одинокой борьбы, скрипучим голосом отбивал свой час Роек с трогательной покорностью старого механизма, которому на мгновение возвратили жизнь, даже Кос отозвался вдали, как дремотные куранты перед рассветом. Высокое волнение объяло Теофиля. Душа его была полна, как налившийся колос, он ощущал пылкий восторг и жгучую печаль, которые придают зрелости сладость и горечь одновременно.
Шум, грохот, суета Северного вокзала поразили всех троих, но особенно пани Зофью. Она одна искренне и простодушно восхищалась Веной. Ей нравились и корзины с цветами на фонарных столбах, и то, что здесь поливают улицы, и нарядные витрины, и здешние рестораны. Однако надворный советник, имевший представление о доходах монархии и об их распределении между ее областями, смотрел на венское благополучие хмурым оком, — и вкус отменного «Schweinscarre» ему портили цифры вывоза галицийских свиней. Собор св. Стефана разочаровал его, архитектура домов показалась заурядной и однообразной, в их темно-сером цвете ему чудился оттенок сажи, памятники он находил претенциозными, Пратер — похожим на ярмарку. Высказывая вслух эти замечания, он чувствовал в глубине души совсем иное, и это было унизительно. Он избегал встречаться глазами с Теофилем, — мальчик молча шел рядом и время от времени посматривал на отца с любопытством. Надворный советник завидовал сыну: тот ничем не обязан императору и может со спокойной совестью любоваться красивыми аллеями Шейбрунна. Возвращались они оттуда в фиакре, который, по сравнению со львовскими, казался элегантным собственным экипажем. Упитанный кучер с холеными бакенбардами, в блестящем цилиндре, щелкал кнутом и ежеминутно оборачивался, с достоинством и юмором давая объяснения на малопонятном диалекте. По заведенной традиции, которой венские извозчики обязаны своим достатком, он вез чужестранцев дальним, кружным путем.
На Грабене его задержала толпа, двигавшаяся плотной колонной. То и дело слышались возгласы, которые тут же подхватывались всеми, лица наливались кровью, вскидывались вверх сжатые кулаки. Это была манифестация против Сербии и России. Из слов кучера можно было заключить, что толпа направляется к зданию царского посольства. Преобладали в ней люди пожилые, хорошо одетые — они, наверно, пожертвовали партией шахмат или домино, чтобы исполнить свой долг по отношению к уязвленному, оскорбленному отечеству.
Теофиль приметил среди них гимназиста с тремя золотыми полосками на воротничке и сразу догадался, что в его оттопыренных карманах спрятаны камни. На секунду глаза их встретились. Теофиль вздрогнул. Высунувшись из экипажа, поставив ногу на ступеньку, он следил взглядом за сдвинутой на затылок фуражкой, пока она не скрылась в толпе.
Прискакал отряд конной полиции, манифестанты сдвинулись к середине мостовой и, убавив шаг, запели имперский гимн. Гродзицкий, обмахиваясь шляпой, задумчиво, смотрел на процессию. «Наместник прав, — думал он.— Войны не будет. Только безумец может полагать что эти господа способны на героические подвиги!»
Однако пани Зофья, хватая его за руку, ежеминутно спрашивала:
— Биня, что они кричат?
Гродзицкий терпеливо объяснял ей причину взрывов австрийского патриотизма и шепотом успокаивал:
— Это местное явление. Ни во Львове, откуда мы едем, ни в Триесте, где будем завтра, никого это не волнует. Империя наша — вроде зала ожидания на большом вокзале. Собралось в ней десятка полтора народов, сидят и ждут. Одни больше, другие меньше, но каждому приходится ждать достаточно долго, так что он может отыскать себе спокойный угол, расположиться поудобней и тихонько вздремнуть. Никто, конечно, не забыл, что впереди дорога, но всем хотелось бы о ней не думать. Пока не войдет дежурный, объявляющий часы отправления поездов…
На мостовой остались только разрозненные кучки крикунов; возница причмокнул на лошадей и экипаж тронулся. Заглушая стук колес, раздался голос Теофиля:
— Если ты намерен продолжать, отец, не забудь, что когда-нибудь пробьет и наш час.
Надворный советник молчал. Пани Зофья глядела на улицы, заполнявшиеся обычной городской суетой, и понемногу успокаивалась. Откинув голову назад, она прикрыла глаза и, вслушиваясь в себя, ждала признаков жизни нового существа. Поздним вечером Гродзицкие отправились дальше. Почти все купе были пусты, и это встревожило надворного советника. Но кондуктор ему объяснил — пассажиры предпочитают дневные поезда, чтобы любоваться видом гор.
Пани Зофья легла, вторую полку Гродзицкий раздвинул так, чтобы поместиться на ней вместе с сыном. Теофиль, засыпая, слышал приглушенные голоса родителей и наконец погрузился в сон под скрежет и лязг металла.
Из недр ночи его окликнул Юркин. В чудном наряде, — солдатском, но непохожем на те, которые Теофиль обычно видел, — не то в серой, не то в серо-голубой шинели, стоял он, опершись на винтовку. Он смотрел прямо в глаза Теофилю и взглядом этим взывал к нему, будто криком. В нескольких шагах позади Юркина, на воткнутом в землю древке, реяло темно-красное знамя с белым орлом посреди. Воздух дрожал от непрестанного грохота.
Из зари, пламеневшей в окне, из стука колес, эхом отражавшегося в горах, из стужи альпийской ночи таинственные, дремлющие в человеке силы соткали вещее видение. Очнувшись от сна, Теофиль увидел лица отца и матери, — они безмятежно спали, хотя и над ними нависло зарево. Они его не видели, не чувствовали.
Страж Времени, отпирая врата новому эону, прошел мимо этих двух простодушных существ, спавших сном рыбарей под Масличной горою, и остановился над душой Теофиля, полной тревоги, ожидания и надежды.
1934—1936 гг.
Перевод с польского Е. Лысенко.

Последние комментарии
15 часов 34 минут назад
1 день 26 минут назад
1 день 28 минут назад
3 дней 6 часов назад
3 дней 11 часов назад
3 дней 12 часов назад