В дни войны: Семейная хроника [Римма Ивановна Нератова] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
В дни войны: Семейная хроника
Сыну Сашеньке (Александру Анатольевичу Нератову) и в память о моих друзьях, погибших на фронте, во время осады Ленинграда и за 4 года войны
Жизнь в Ленинградской блокаде
Глава первая
НАЧАЛО ВОЙНЫ
22 июня 1941 года. С раннего утра, чуть только рассвело, и все в доме еще спали, я начала готовиться к экзамену по марксизму-ленинизму. Все предыдущие, очень серьезные экзамены весенней сессии были успешно сданы, оставался только этот, последний. Заканчивался второй год моего обучения в 1-м Ленинградском медицинском институте. Еще будучи в средней школе, мы не особенно готовились к экзаменам по марксизму, не считая этот «предмет» достойным изучения, и научились с большим совершенством готовить к экзамену шпаргалки — крохотные книжечки, сшитые нитками — зажмешь в ладони — и не видно; в эти пухлые книжечки мы записывали кратко главные события, даты по истории ВКП/б и цитаты вождей. Очень помогало успешно сдавать экзамены. Наш школьный приятель Толик Эрастов заучивал наизусть содержание карманов, прохаживаясь по классу перед экзаменом: «революция — левый карман», «коллективизация — правый карман», «съезды — левый карман на груди», «цитаты — правый на груди» — и все это сопровождалось хлопком ладошки по соответствующему карману. Мы смеялись, и только наш другой друг — светлоглазый Вива Великанов — «прирожденный историк», как мы его называли — неодобрительно покачивал головой с русыми кудрями: сам он прекрасно помнил и даты, и все события и по выражению озорного Димы Луппола «засорил голову ненужным хламом», но был к нашему легкомыслию всегда снисходителен и очень хорошо умел подсказывать. Я и в институте «марксизмом» не занималась и нужные даты и изречения вождей просто вносила в спасительную книжечку. На третьем курсе марксизма-ленинизма в программе больше не значилось! Через два дня — после сдачи экзамена можно уезжать из города на все лето! Утро было теплое, солнечное, тихое — воскресное. Все окна широко открыты. По радио передавали спокойную музыку, на столе — раскрытые учебники, тетради; работалось очень хорошо… Неожиданно музыка оборвалась и диктор три раза повторил: «Экстренное сообщение, экстренное сообщение, экстренное сообщение!» — и — пауза — сжалось сердце, казалось, все вокруг, весь город — замер. И после паузы — опять голос диктора, его почти торжественные слова о том, что «вероломный враг переступил границы Советской Социалистической Республики и вторгся на ее территорию!..» Война!! — Еще рванулась душа назад, туда, где только что было все хорошо и спокойно, но тут же обжигающее чувство — возврата нет, — дверь захлопнулась — мы вступили в войну! И к войне, и неизбежному я внутренне повернулась лицом. Разбудила родителей и сообщила им ужасную новость… Диктор сказал, что в 12 ч. дня по радио будет говорить Молотов. Может быть, есть еще какая-нибудь надежда, что договорятся, что не все еще потеряно, что еще не так все страшно? Но папа сказал, что такого не бывает — что война началась и мы теперь будем воевать… Молотов подтвердил в своем обращении к населению, что мы вступили в войну! С агрессорами — Германией и Финляндией. И, оказывается, мы воюем уже (на нашей территории!) более двенадцати часов! А нам, гражданам Советского Союза, не один десяток лет твердили, что на «нашей территории» никогда никто воевать не будет, что «мы этого не допустим»! И мы верили! — А часть Алика у самой границы… После выступления Молотова каждые полчаса передавались инструкции ПВХО (противохимической обороны) о том, как себя вести во время вражеских налетов. Началось врастание наше в новую — военную — жизнь… Сразу после сообщения Молотова мы семьей вышли на улицу. Хотелось самим участвовать со всем городом во всем происходящем, а не сидеть дома, одним, слушая радио. Вместе легче переносить беду. Вид нашей улицы совершенно преобразился: она как закипела — было очень много людей, и все они в тревоге торопились, некоторые бежали, как будто всех охватила лихорадка. Многие заспешили к продуктовым магазинам, перед которыми образовались очереди, жадно старались покупать все съедобное, все, что только можно было схватить и унести с собою домой, и возвращались обратно в те же очереди. Гастрономы осаждались толпами взволнованных жителей, очереди делались огромными. Остановить подобную реакцию людей на объявление войны было трудно: все еще прекрасно помнили войну с маленькой Финляндией, которая в газетах называлась «финская кампания», когда сразу же сделалось так трудно с продуктами в Ленинграде. Заметила, что многие жители, проходившие мимо нас с озабоченными лицами, надели на себя серо-зеленые мешки с противогазами, как на учении ПВХО. А у нас не было противогазов — не запасли! Вернулась домой слушать радио и старалась заставить себя продолжать готовиться к экзамену, это вдруг приобрело совсем другой смысл — позволяло себя уговорить и давало надежду, что, быть может, несмотря на войну, все-таки будет продолжаться какая-то часть привычной мирной жизни: жизнь института, лекции, клиники… По радио все повторяют разные инструкции о поведении жителей в обстановке войны и во время налетов вражеских самолетов на город. Все должны до вечера приготовить полное затемнение всех окон. Все лампочки на лестницах, подворотнях должны быть заменены синими лампочками, которые будто бы издалека, с аэроплана, не видны. Уличные фонари потухли — надолго. Все это мы знали очень хорошо, имея за собой опыт недавней финской войны, когда город погрузился сразу же в темноту. По радио повторяли, что жители должны иметь при себе противогаз и при воздушной тревоге немедленно спускаться в бомбоубежище. А у нас — ни противогазов, ни бомбоубежища в доме: никто не позаботился оборудовать бомбоубежище! Во время войны с Финляндией воздушных налетов на Ленинград не было, хотя были тревоги, особенно в начале войны, это всех, очевидно, усыпило. И теперь когда началась война с Германией, в случае налетов бежать нам было некуда… И хотя с первых классов школы мы знали из уроков обществоведения, что неизбежно будет «столкновение двух систем» — социалистической (нашей) и капиталистической (вражеской) — и все всегда знали, что СССР непрерывно укреплял свою «военную мощь» в предвидении этого, последнего, столкновения, которое разрушит «прогнивший» капиталистический мир и установит «коммунистическую справедливость» во всем мире, все-таки война, которой, конечно, все не хотели и страшились, пришла для населения неожиданно. Никто не знал тогда, что и для Сталина это было такой же неожиданностью: он твердо верил, что подписав пакт о ненападении, его «друг Гитлер» никогда не подумает с ним воевать и даже не догадывается, что Сталин готовится его, Гитлера, громить… Но германский фюрер перехитрил нашего вождя. И конечно, никто даже не подумал заранее, что нужно строить бомбоубежища — это выглядело бы неверием в мирные намерения СССР и в мирный договор между СССР и Германией, недавно заключенный, а в масштабах местных городских выглядело бы паникой и провокацией, за которую пришлось бы жестоко расплачиваться… Мои родители, наши друзья, студенты моего института о воздушных налетах поначалу не беспокоились, не могли себе представить, чтобы что-нибудь подобное тому, что нам приходилось видеть в кинохронике, в сводках из Испании времен гражданской войны, сделанных советским кинооператором Р. Карменом в Испании, случилось бы с нами. Нам это казалось далеким, невозможным для нас ужасом: разрушенные города, дым взрывов, дети-сироты, беспросветное горе войны… Кармена по возвращении из театра военных действий в Испании вскоре арестовали — как и многих, посланных партией участвовать и помогать воевать против генерала Франко. Они оказались «опасными», с точки зрения большевиков, свидетелями победы «фашистов» над прокоммунистической частью испанского народа. А испанских детей-сирот «борцов за коммунистическую свободу» в большом количестве привезли жить в СССР. Сначала с ними возились, некоторых отправляли в «Артек» (самый привилегированный пионерский лагерь в СССР на Черном море, куда попадали на отдых только самые «избранные» пионеры и дети коммунистов из западноевропейских стран). Слова Сталина «жить стало лучше, товарищи, жить стало веселее» в наших газетах часто иллюстрировались фотографиями улыбающихся пионеров в белых панамах на фоне южных кипарисов. Их, испанских детей, фотографировали, писали статьи о них, но очень скоро все это заглохло. Дети постепенно росли, их тихонечко задвигали «с глаз долой» — многие оказались сосланными в лагеря, они легко заболевали и умирали в холодном северном климате. Очень скоро о них и вспоминать перестали. Те же, что выжили и вернулись в города, занимали маленькие служебные должности, превратившись в забитых советских граждан; лишь их экзотическая внешность выдавала их «несоветское» происхождение…Мы очень тщательно сделали «затемнение» окон… На другой день в понедельник 23-го июня с утра перед сберегательными кассами выстроились огромные очереди. Мама стояла в очереди с утра, в надежде получить наши сбережения. Когда сберкассы получили соответствующие инструкции, начали выдавать очень маленькую сумму на человека — 200 рублей. И это все — вплоть до последующих распоряжений, а все остальные сбережения замораживались. Мама пришла домой усталая, разочарованная, вся помятая. Город и на второй день войны не успокаивался, был все таким же взбудораженным, каким-то вспухшим, как будто увеличилось население и все продолжали бегать по очередям в надежде создать какие-нибудь запасы. Мама тоже стояла в очередях, сестра и я готовились к экзаменам и обещали маме начать беготню по очередям сразу после окончания сессии (сестра училась в Химико-технологическом институте). Правительство Ленинграда, начиная с управления города и кончая управлениями заводов, фабрик, учреждений и жактов (домовых управлений), получило право военного времени: силами вверенных ему людей, ленинградского населения, «крепить оборону и защиту Ленинграда». Пока мы еще не знали, какими способами мы будем «крепить оборону», но были уверены, что управдом и жактовский актив что-нибудь придумают, чтоб показать свою бдительность. Хотелось думать, что они нашими силами распорядятся умно и используют их правильно. Через несколько дней продовольственная паника поулеглась — в магазинах теперь можно было купить почти все, как и в мирное время, в институте в столовой подавалось все то же «довоенное меню». У всех домов, перед входом в парадное или во двор, теперь стояли дежурные — дворник и некоторое количество актива жакта с белыми повязками на рукаве и с противогазами на боку. Пока они никого не «мобилизовали», не притесняли, очевидно, находились в процессе организации. Мы не очень беспокоились об их посягательствах на нашу свободу, так как все кроме мамы, были в распоряжении институтского начальства и их решения были для нас законом. Мама же была «иждивенцем», т. е. ее непосредственным начальством сделался управдом и его активисты. О маме мы почему-то не очень беспокоились… Со второго дня войны, понедельника 23-го июня, началась всеобщая мобилизация военнообязанных: на улицах заметно увеличилось количество военных, а также новобранцев; они шли, молодые люди — толпы молодых мужчин — по улице, не в ногу, неровными рядами с чемоданами и просто мешками в руках, мешая уличному движению. Их становилось все больше с каждым днем, а рядом, как с незапамятных времен во время любых призывов в армию, бежали женщины — матери, жены и иногда дети… Через неделю-две на улицах больше не было новобранцев — они или проходили учение где-нибудь за чертой города, или уже сражались с наступающей немецкой армией. 23-го июня 1941 года, во второй день войны, была первая воздушная тревога. Все последующие тревоги были как и первая — без «прорывов» неприятельских самолетов, вполне спокойными: город затихал, только иногда слышен был звук проезжавшего на большой скорости автомобиля — казалось, что это какой-нибудь военный торопится занять свое место на оборонительной позиции. Быть может, Ленинград и правда был «несокрушим» и хорошо защищен? По вечерам над городом поднимали аэростаты. Это, казалось, оберегало город от налетов. Они висели над городом всю ночь, как будто сторожили его покой. Как они действовали, никто не знал, предположений же высказывалось множество. (После первых бомбардировок аэростаты исчезли. Очевидно, они оказались бесполезны.) Многие ленинградцы вынули противогазы из противогазных мешков и употребляли их как суму перехожую, складывая туда и книги, и продукты, которые удавалось купить. Мы купили в спортивном магазине на Невском, около Полицейского моста, два последних имеющихся там противогаза, а нас четверо в семье! С начала войны у всех жителей города отобрали радиоприемники, чтоб никто не слушал «заграничных» передач и не знал бы действительного положения на фронте. Когда был объявлен приказ о сдаче радиоприемников, мы с сестрой потащили наш скромный приемник местного изготовления на пункт сдачи — внутренний двор Гостиного Двора. Я была здесь первый раз, даже не знала, что внутри такая большая площадь. Все граждане послушно несли сдавать свои приемники. Три дня. стояла густая очередь: у каждого — аппарат, у некоторых — изумительно красивые, конечно, заграничные радио, большие, которые, без сомнения, могли свободно «ловить» Европу. Даже наш, очень «слабенький» ящичек умудрялся ловить «направленные» передачи из Финляндии, но папа очень сердился, когда слышал финские позывные: слышимость все равно была отвратительной, не всегда и поймешь на каком языке говорят, а позывные напоминали ему «склянки» Крестов — тюрьмы, где папа сидел в двадцатых годах, после того как его в группе бывших «белых» офицеров, арестованных в г. Кургане, привезли в Петроград. В Крестах папа сидел довольно долго. Папу освободили из тюрьмы почти случайно: во время очередного допроса, к следователю ввели только что приехавшую в Петроград маму — совсем еще девочку, с новорожденной моею старшей сестрой на руках. Мама с огромными трудностями последовала из Кургана за арестованным мужем и нашла его в Крестах (добрые люди надоумили, где его искать). Папа, увидя маму, крикнул следователю: «Неужели вы думаете, что если бы я был виновен, я выписал бы в Петроград жену с новорожденной дочкой?!» И это решило его судьбу. Следователь, подумав, отпустил папу. Какие еще были тогда «либеральные» времена! В дни раннего моего детства приходили к родителям ужинать их старые друзья. И я часто слышала из детской, как все они пели хором: «Быстры, как волны, все дни нашей жизни, что час, то короче к могиле наш путь…» Я засыпала под пение, и мне казалось, что это очень печальная песня, даже и припев звучал невесело: «налей, налей бокалы…» Все реже становились ужины с пением. Потом совсем их не стало. Не стало друзей. До всех них добрались. Все это были офицеры, которых арестовали одновременно с папой и перевезли в Петроград в Кресты. Почти всех арестованных расстреляли одного за другим… С еще остававшимися на свободе папа всегда поддерживал дружеские отношения. Я помню многих, бывавших у нас в доме. К началу войны остались на воле лишь папа и его друг Астафьев, умерший своею смертью перед самой войной. Астафьев жил в Сибири и иногда приезжал к папе и жил у нас. Я с детства была к нему нежно привязана — в его присутствии было спокойно и печально. Помню, он жил у нас летом в Горбах под Новгородом. Мы часто ходили всей семьей с «нашим Астафьевым» гулять или вдоль Волхова, или. в поля. Мне он запомнился слегка прихрамывающий, именно там, в Горбах, на изумрудно-зеленой полянке, около березовой рощи. Он долго безмолвно смотрел на белые стволы берез со светлой шелестящей листвой, на синее новгородское небо с белыми кучевыми облаками, и глубоко вздохнув, сказал печально: «Как красиво…» И все перестали разговаривать и сделались грустными… Мне показалось, что я его поняла: красота — это печаль по тому, чего не было или никогда не будет и, если случится увидеть красоту, она проплывает в синем небе, как облака, и остаешься с печалью. У «нашего Астафьева» было тонкое лицо, пушистые усы и приветливые, всегда задумчивые глаза. У него не было семьи, и от мамы я знала, что он — единственный папин друг, оставшийся в живых. И мне казалось, что он всегда, даже улыбаясь нам, детям, думает о своих друзьях, которых больше нет. Я его жалела и любила. Раз, когда мы ехали в наше Токсово на дачу и я стояла с папой у открытого окна вагона, мы проезжали мимо Крестов и я увидела, что из камеры верхнего этажа через решетку окна просунулась рука и машет белым платком. Я быстро вынула из кармана свой платок и хотела помахать в ответ, но папа испуганно схватил меня за руку и запретил. Долго смотрела я на кирпичную стену тюрьмы и на маленький белый живой платочек — пока все не скрылось. Папа был очень грустный весь день — он боялся, наверное, подвести арестованного, которому «подавали условные знаки», ведь не докажешь обратного, а я до сих пор, когда вспоминаю этот день, грущу, что не послала арестованному привета с воли.
Очень было непривычно без радио — без музыки, а, главное, без ежедневных новостей. Так называемую «точку» — обычную «тарелку» — мы так и не завели. Новости читали в газетах, наклеенных на щиты Елисеевского магазина. Прочитав сводку, люди уходили молча, насупившись, не обмениваясь впечатлениями… Грустные новости: фронт очень быстро двигался, наши войска отступали везде, по всему фронту! И хотя в сводках все время говорилось о героизме, тяжелых боях, отступлении на «лучшие стратегические позиции», но факты были ужасны — наши войска катастрофически откатывались и, как говорили, с огромными потерями, на некоторых участках фронта почти без сопротивления, не успевая остановиться и собраться для контрудара. В некоторых местах фронта бои были жесточайшие, потери — тяжелейшие, и все-таки фронт передвигался на восток. Ленинградское население не очень удивилось, когда Красная Армия стала отступать под натиском сильной немецкой армии, оснащенной первоклассной техникой. Мы были свидетелями недавнего разгрома «победоносной Красной Армии» крохотной Финляндией. Боевым словам давно никто не верил: наши победы давались лишь грудами убитых солдат, которых бросили на финский фронт не оснащенными техникой, не одетыми по-зимнему (а была лютая зима), без налаженной и продуманной связи с тылом. Лишь к концу войны организовали снабжение армии техникой и зимней одеждой. И теперь будет то же. Мы верили в победу — никогда не сомневались в особенных свойствах русского человека, но знали, что победа эта будет не скоро и цена победы будет страшная… Я давно перестала спрашивать родителей, как они думают, когда кончится война. Мама всегда говорила одно и то же: «Наверное, скоро…»А папа тоже всегда свое: «Может быть, пройдет много лет…» Одно мне казалось, да и всем нам казалось совершенно ясным: первое, что Сталин не подготовился вовремя к войне, хотя всегда к ней готовился. А второе для меня абсолютно непоколебимо: я не допускала, что быть русской земле под немецкой оккупацией — этого не может быть! И для меня это «не может быть» было совершенной уверенностью, думалось лишь об огромных человеческих жертвах, которые потребуются, чтобы изгнать немцев с нашей территории, и думалось о том, свалится ли Сталин со своими коммунистами и если свалится — когда. Казалось, что при такой всеобщей катастрофе — не удержится.
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ НЕЧАЕВ
Алика Нечаева забрали в армию в 1939 году, и его часть находилась к началу войны на юге России, севернее Мариуполя. Часть перед самой войной перевели к румынской границе. Их послали туда, как писал Алик, «освобождать братьев-славян», для которых это было неожиданностью — они об этом не просили! В первые же дни войны эту территорию захватили немецкие войска, предварительно подвергнув ее жестокой бомбардировке. Мы с Аликом, после того как его забрали в армию с первого курса Кораблестроительного института (я была на первом курсе 3-го Медицинского института, расположенного на территории больницы им. Нечаева — деда Алика (бывшей Обуховской больницы)), все время переписывались. Он присылал мне свои фотографии. Так странно было видеть его в военной форме — моего самого дорогого человека, еще со школьных времен… Мы простились с ним вечером, накануне дня, когда его «забрали». И хотя он еще несколько дней был в Ленинграде, в казармах, но не хотел, чтоб я его видела без волос. Так этих дней, потерянных, жалко было… Алик пришел к нам вечером, в последний раз перед армией, чтобы попрощаться с моими родителями. Помню его уже одетым в зимнее пальто с котиковым воротником в передней нашей квартиры. Мама была с нами, из кабинета вышел папа и был неожиданно очень ласков (хотя, как всегда, немногословен), очень крепко тряс Алику руку: «Возвращайтесь благополучно!» Мы вдвоем спустились во двор и недолго постояли у колонны при входе в ворота нашего дома. Все уже было между нами сказано. Мы еще раз простились — и Алик ушел. Я долго сидела на нашей лестнице, на подоконнике окна, в полной темноте и горько плакала. Два года службы в армии мне казались такими бесконечными. Два года без Алика… А оказалось — вся жизнь… С матерью его, Тамарой Александровной и отцом, доктором Нечаевым Александром Александровичем я иногда виделась. Т. А. меня часто звала к себе домой пить чай и показывать вновь присланные им фотографии. Но я по застенчивости редко к ним ходила, а все фотографии Алик и мне присылал. Как жалею сейчас, что редко ее видела. Я по робости пугалась, когда она, рассматривая через увеличительное стекло, те же милые фотографии Алика в пилотке со звездочкой, горестно вздыхала: «Какое печальное лицо!» Все два года до большой войны, пока Алик был в армии, между нами была, как и раньше, невидимая духовная связь: жизнь шла своим интенсивным шагом: для меня — с учением, экзаменами, театрами, катком; для Алика — с военными походами, тренировкой, муштрой. Но каждый день, всегда, была эта радостно ощущаемая струна, натянутая между нами. Как ясный музыкальный звук. Всегда живое, трепетное ощущение его присутствия, участия в моей жизни и… счастья. Письма больше никогда не приходили. И Тамара Александровна больше ничего не получала… Много, много времени спустя, когда мы уже были вне пределов России, Т. А. получила извещение, что Алик «пропал без вести»… Единственный сын старой петербуржской семьи. «Без вести…» Двадцати лет… Я до сих пор иногда, теперь все реже, вижу его во сне мальчиком, и всегда издали — печальное лицо…Город первые летние недели войны был очень оживлен — готовился к предстоящим военным испытаниям, о тяжести которых тогда никто не ведал. Зеркальные витрины Елисеева зашивались досками и заваливались мешками с песком. И другие витрины старых петербуржских торговых домов на Невском и Литейном закрывались щитами. Город постепенно слеп. Некоторые памятники снимали с пьедесталов и зарывали в землю, другие — обкладывали мешками с песком и тоже зашивали досками. Пришлось воздвигнуть целую постройку, чтоб скрыть обложенную мешками с песком фигуру Николая 1 на коне на Исаакиевской площади на очень сложном многофигурном пьедестале; так же выглядел памятник Екатерине перед Александринским театром и Петру 1 перед Михайловским замком с надписью: «Прадеду — Правнук. 1800 г.» В Летнем саду огромную розовую вазу перед входом зарыли в землю, как и многие статуи. Над памятником Крылову соорудили целый дом. Были сняты кони барона Клодта с Аничкова моста, увезены и зарыты в землю. А жителям города было приказано наклеить на стекла окон в квартирах полосы бумаги крест-накрест, этого должно было предохранять от осколков, если воздушная волна выбьет стекла окон, осколки должны были повиснуть на бумажных полосках. Мы варили клей из крахмала, клеили крестовины на окна. На одном из зеркальных окон квартиры на Невском вместо простых бумажных полос кто-то наклеил искусно вырезанную из бумаги пальму. У подворотен, около каменных тумб, появились бочки с песком и совками для тушения пожаров. Совки очень скоро растащили, а песок осенью промерз и превратился в камень. По распоряжению жактов иждивенцы расчищали чердаки домов от хлама и носили наверх песок, засыпая им пол чердаков. И красили деревянные балки огнеупорной краской — для предотвращения пожаров. Чердак нашего дома был не очень захламлен, им пользовались для сушки белья, поэтому его расчистили и убрали за несколько дней. Никто из назначенных на эту работу «иждивенцев» не старался улизнуть, все работали очень охотно (включая маму), так как понимали, что расчистка чердака уменьшает угрозу пожара и, кроме того, дает всем возможность по силам активно участвовать в общем укреплении обороны своего города, а каждому лично — веру, что он трудится, чтоб выжить самому. А мама всегда любила говорить: «Как хорошо работать в коллективе!» В среду 25 июня сдала последний экзамен — марксизм. Больше мне никогда не придется учить и сдавать этот «предмет». Начиная с третьего курса у нас будут клиники и только чисто профессиональные программы, уже для будущих врачей. Мы, семьей, хотели на короткий срок поехать в Токсово, немного отдохнуть, а маме хотелось «собрать ягоды в нашем саду», хотя для ягод было еще рано — они поспевали в июле. Оказалось когда мы приехали на Финляндский вокзал, что в пригороды больше нельзя ездить свободно, — нужно было получить в Сером доме (дом НКВД на Литейном) специальный пропуск, объяснять причину поездки, заполнять анкету. Так как наше Токсово находилось в направлении Финляндии, папа решил даже и не пытаться получить пропуск, чтобы на нас не легло подозрение, что мы «спешим навстречу врагу». Мы в Токсово больше никогда не попали. Наша дача стояла в сосновом бору, на пригорке. Далеко от большого села Токсово. Внутри дачи пахло свежевыструганными досками, а в саду — смолистыми соснами; стволы были седыми, замшелыми с одной стороны и оранжевыми, липкими — с другой. Под деревьями — мягкий ковер из кострики. Мы собирали ее мешками и высыпали на малинник, чтоб зимой предохранить корни малины от промерзания. Я любила забираться с книгой на старую сосну в саду и читать, расположившись среди толстых ветвей, высоко над садом. Пригорок наш спускался к болотцу с кочками, покрытыми изумрудным мохом, кустами голубицы, а осенью, на сухих местах — розово-красной брусникой. Маленькие, плотные гроздья брусники алели на темно-зеленых кустиках с блестящими упругими листочками. Никогда не увидела я больше нашего северного скромного вереска. Пепельно-зеленые горы около озер, на которых он рос, делались летом, когда вереск зацветал, легкими, пушистыми сиренево-розовыми и оставались такими, пока их не засыпало глубоким снегом. Зимой мы катались на лыжах с гор… В морозные солнечные дни бродили на лыжах по лесу. В зимней лесной тишине только снег скрипит под полозьями, да иногда прокаркает на высоком дереве ворона… После войны тетя Маня съездила в Токсово. Наш дом сгорел. Дотла. Наш сад, плодовые деревья, ягодные кусты, которые мы сами садили и выращивали, частично сохранились. Тетя встретила нашу соседку по даче — Перекалину. Она сидела у своей грядки, как и до войны, с прямой спиной англичанки и надменным нерусским лицом и выпалывала, как и прежде, свою землянику, которую она любила больше всего на свете, сорта «Королева Луиза». П. отнеслась к тете Мане очень нелюбезно, о нас отозвалась со странным непривычным холодом: то ли осуждала нас как «предателей»(!), то ли глубоко завидовала тому, что мы, русские, оказались за границей, а она, англичанка, осталась все на той же русской грядке с кислой «Королевой Луизой». Тетя Маня была расстроена встречей с Перекалиной: после всех испытаний, потерь, катастроф за годы войны, коснувшихся буквально всех, встретить холодное, не смягченное ничем сердце — очень не просто… С первых дней войны в газетах стали писать о «шпионах» — жителях города, сочувствующих немцам и старающихся им «всячески» помочь, а также о заброшенных на русскую территорию «немецких диверсантах», переодетых в русскую одежду и отлично говорящих по-русски. Всем предлагалось быть бдительными, ловить «шпионов» и всех «подозрительных» личностей и сдавать их ближайшему постовому милиционеру. На стенах приклеивались плакаты: «Будь бдительным!» Началась «шпиономания». Мы с сестрой перестали в трамваях и автобусах говорить по-немецки и по-английски. В очередях часто были слышны рассказы о том, кто и как изловил «шпиона» или, как их тоже называли, «ракетчика». Ловили тех, кто хорошо одет (мужчин): идет себе по улице прилично одетый человек неспешно, задумчиво, вдруг остановится и посмотрит на небо, вполне откровенно. Кто-нибудь крикнет: «Шпион!» и все бросаются на него, и толпой ведут к милиционеру — пусть разбирается. А часто сразу начинают бить — и били серьезно. Очень зорко следили местные активисты за людьми, бегущими (в бомбоубежище) во время тревоги, когда обыкновенные граждане уже давно попрятались. Такие люди будто бы в начале тревоги пускали в небо ракеты (даже днем), чтоб привлечь внимание немецких бомбардировщиков, которые при виде сигнала бросали бы в это место бомбу. Такие сигнальщики — ракетобросатели будто бы забирались на крыши фабрик и заводов, правительственных учреждений и ракетами указывали, что нужно бомбить. Как они могли забраться незамеченными на крыши заводов и правительственных зданий, которые всегда, а в войну особенно, охранялись, бросить в небо ракеты, которые увидит летящий немецкий бомбардировщик, да еще успеют скрыться до разрыва бомбы — одному Богу известно! Но вылавливали многих, упорно и злобно высматривая «диверсантов». Говорили, что действительно было много настоящих ракетчиков. В Ленинграде очень многих только за подозрительный вид поколотили, но разве докажешь озверелой толпе, что ты не шпион, а, например, научный сотрудник какого-нибудь института? Никогда не поверят, да и слушать не станут. Да еще «прибавят» — за ложь. Очень скоро «шпиономания» выдохлась и о шпионах позабыли. Наступили очень суровые времена. Весенняя экзаменационная сессия в Медицинском институте закончилась в конце июня. В деканате нам сказали, что студентов не будут распускать на летние каникулы. Даже иногородних. Институт будет работать, все остаются на своих местах, и профессора, и преподаватели, и, конечно, студенты. Никому не разрешен выезд из Ленинграда. Мы должны будем являться в институт каждый день, с утра, и нам будут сообщать программу дня: или мы будем слушать лекции, или нас будут отправлять на практические занятия в институтские клиники или, что не исключается, нас будут посылать на нужные городу трудовые работы. Все трудовые работы и их организация в институте (по приказу партийных органов города) относились к юрисдикции парткома института. И парткому была передана власть над нами, нашим временем, нашей судьбой. Если же не имелось запроса от партийных организаций города, наш партком не посягал на нас, мы были свободны, и тогда вступали в силу институтские академические законы: мы шли на практические занятия, слушали лекции, занимались. На улицах города с первых дней войны были установлены громкоговорители, их прикрепляли к уличным фонарям и просто к стенам домов. Около них всегда стояли жители города, слушая сводки с фронта, патриотические речи партийных руководителей. Между передачами сводок играла музыка. Возвращаясь из института, я шла от Фонтанки по Пантелеймоновской, со мной рядом в этот день шагал капитан А. М. Хватовкер в черной военно-морской форме. Его должны были отправить на фронт, и быть может, он не вернется в Ленинград до конца войны, и он старался в свободное время чаще приходить к нам. Около Соляного городка только что кончили передавать сводку и негустая толпа слушателей начала молча расходиться. По радио вдруг запел Печковский — любимец Ленинграда. Он пел неаполитанскую песню, которую я любила, но никогда так остро и трагично не воспринимала… И слова, такие простые — о незабываемой встрече, печали: «…остались мне одни… одни страдания… оплакивать тебя я буду вечно…» Как будто он пел о моем горе и о горе всех ленинградцев… Я ткнулась лбом в гранит стены и тихо плакала. Война унесла все, что любила, все что люблю. И Алика, и нашу юность. И угрожает нашему городу… Хватовкер что-то восклицал и не понимал, о чем я плачу, стараясь загородить меня от взглядов прохожих. Через сорок лет, уже вдовой, я опять услышала эту неаполитанскую песню в исполнении итальянца. И за печальным голосом итальянца я слышала русский голос Печковского и так же безнадежно плакала о безвозвратно ушедшей жизни, жизни прощаний.
ИНСТИТУТ ИМ. ЛЕСГАФТА
В начале лета 1940-го года я закончила первый год обучения в 3-м Медицинском институте. Еще весной нам сообщили, что по распоряжению правительства на месте нашего института будет образована Военно-морская медицинская академия, а нас, студентов, вместе с частью профессоров вольют в 1-й Медицинский институт (на Петроградской стороне, около площади Льва Толстого). Мне было жалко покидать наш маленький теплый институт в старом парке, где все друг друга знали, жаль было уютных аудиторий и старомодных лабораторий, жалко было терять близость семьи Нечаевых: они жили в двухэтажном флигеле — продолжении административного корпуса, где царствовали добрейшие и заботливые братья Васюточкины. Окна их старинной, еще прадедовской квартиры выходили и в парк, и на Фонтанку. Я часто встречала доктора Александра Александровича, идущего по парку из своей квартиры в больничные корпуса, в такой же, как у Алика, круглой котиковой шапочке, только потрепанной. При переводе в другой институт нас сохранили целиком, не смешивая с коренными студентами, мы сделались третьим потоком и присутствовали вместе с двумя другими потоками на общих лекциях, а групповые занятия велись старыми, привычными нам группами, что было очень приятно: за первый од занятий в 3-м институте мы очень сблизились друг с другом. Часть наших профессоров не пожелала «военизироваться» и перешла с нами в 1-й институт. Но некоторые наши бывшие теперь профессора, питомцы Военно-медицинской академии, сделались теперь профессорами Военно-морской медицинской академии. Остался в новой Академии наш громогласный профессор Долгособуров — глава кафедры нормальной анатомии, моложавый полковник, всегда в очень элегантной военной форме, в растегнутом белом хрустящем халате на плечах. Остался его помощник и заместитель, мягкий тихий невозмутимый профессор Быстров — автор учебника анатомии, по которому мы учились, с ясными четкими объяснениями. Его учебник был несравненно лучше немецких и французских (переводных) учебников, по которым учились предыдущие поколения студентов. Быстров был прекрасный художник, и его учебник был снабжен множеством великолепных рисунков, ясных схем, сделанных им самим. Его рисунки научили меня мыслить образно. Доктор Туркевич, преподаватель анатомии, совершенно не военный человек, решил остаться в Академии. Жизнь в Академии ему поначалу не пришлась по душе: ему недоставало нас — живых, быстрых, любивших его мягкий юмор. Его новые дисциплинированные слушатели — курсанты сидели на лекциях «как деревянные», не понимали тонкостей его сравнений, объяснений: «смотрят, слушают и молчат». Я уверена, что если б война не нарушила течения всех наших жизней, Н. Г. Туркевич привык бы к новой аудитории, расшевелил бы ее и нашел бы многих талантливых студентов, которым помог бы сделаться прекрасными врачами. Проф. Долгособуров вызвал меня на заседание кафедры (я была членом студенческого научного кружка, сделала в свое время доклад, который понравился, по-моему благодаря некоторому количеству больших, подкрашенных рисунков, которые я приготовила и пользовалась ими в качестве иллюстраций) — прощальное заседание перед переходом в Академию, очень ласково назвал меня «нашей последней ласточкой» и предложил мне работать под руководством Н. Г. Туркевича на кафедре морфологии в исследовательском институте. С большой радостью я согласилась и до самой войны ездила в этот институт и училась думать и работать, приучаясь к самостоятельности, около Туркевича и его коллег. Плодотворное и интересное время! 27-го июня, в пятницу, пошла в научно-исследовательский институт им. Лесгафта, расположенный в очень уютном небольшом старом петербуржском здании. Этот институт был мало известен. Здесь работали (обычно по совместительству) только исследователи в разных областях науки и их ученики (буквально единицы). Все знают другой институт Лесгафта — Институт физической культуры, выпускавший образованных преподавателей физкультуры, которые и сами были отличными спортсменами и могли быть очень хорошими тренерами. Я уже целый год работала в Институте на кафедре морфологии, приходила два раза в неделю после занятий в Медицинском институте и делала под руководством Николая Гервасиевича Туркевича исследование, результаты которого в следующем году должны были быть опубликованы. Работа шла медленно, а теперь с началом войны вряд ли удастся ее продолжать. А о публикации работ института вообще не могло быть речи, т. к. они издавались в Германии в лейпцигском морфологическом журнале. Институт этот был очень необычен по составу своих сотрудников. Не было здесь ни профкома, ни парткома — и все были беспартийными. Крошечный островок ученого Петербурга. Возглавлял институт знаменитый старик — шлиссельбуржец Морозов[1]. Около Шлиссельбурга был выступ берега в Финский залив. Он назывался в его честь Морозовский мыс или еще его называли в шутку Морозовский нос. Морозов до революции просидел чуть не тридцать лет за свои полубезумные идеи в Шлиссельбургской крепости, кажется, в одиночной камере. Но, конечно, как полагалось — с книгами, газетами, русскими и иностранными — чего душе угодно. После революции его из крепости торжественно переселили в знаменитый Дом политкаторжан на Неве, напротив Петропавловской крепости. Дали старику Морозову исследовательский институт для возглавления и ведения своих политико-философских и других работ. Я часто видела его по утрам идущим из Дома политкаторжан через Троицкий мост, быстро шагающим с палкой в руке к Марсову полю. (Я шла через мост в обратном направлении — от Марсова поля, на занятия в институт.) Фигура была необыкновенная: высокий худой старец, очень прямой, с огромной, ниже пояса, белоснежной бородой. Никаких хлопот Советской власти он не доставлял, мирно пребывал в своем Институте им. Лесгафта и делал бесконечные расчеты по сопротивлению самых неожиданных материалов. (Туркевич шутил, что Морозов привязывает к своей подтяжке кирпич и смотрит, как она растягивается.) Во всех этажах большого многоэтажного старинного особняка (в районе за Мариинским театром) располагались разные кафедры и сидели научные сотрудники. Как выражался Н. Г. Т., «окопались бывшие люди», — старые петербуржцы и делали свое «аполитичное» дело. Обстановка на кафедре морфологии (да и во всем институте) была необыкновенно теплая, милая, сердечная, все сотрудники были бессребрениками и были изумительно вежливыми, помогали друг другу, берегли и уважали друг друга, интересовались всеми открытиями и говорили о самых простых и возвышенных вещах на изысканном русском языке (без всякой привычной уху вульгаризации). О политике никогда в помещении института не говорилось. Бывать в этом институте, скромно участвовать в общей работе, общаться с людьми образованными и культурными было длят меня огромным удовольствием. Н. Г. Туркевич, мой ментор, надеялся, что к окончанию института (медицинского) я сумею издать несколько работ и, получив звание врача, смогу на этом основании сделаться равноправным сотрудником их тихого исследовательского института. Но незадолго до начала войны темные тучи, висевшие над всеми людьми с 1935–1937 года, стали добираться и до института Морозова. Нашего профессора, главу кафедры морфологии, старого петербуржского доктора с белой пушистой бородкой и мягким доброжелательным голосом, арестовали, и еще были аресты сотрудников или членов их семейств. Молодых сотрудников забрали в армию, и институт очень опустел. Старик Морозов еще держался, главным образом потому, что его Ленин где-то когда-то похвалил. Туркевич, умный человек, тонкий ценитель искусств (он уже год читал лекции в Военно-морской медицинской академии), сделался грустным и подавленным. Т. предполагал, что он уедет со своей семьей в эвакуацию с Академией. После моего прощания с Туркевичем 27-го июня мне больше никогда не удалось попасть в этот милый мне институт.ТРУДОВЫЕ РАБОТЫ — РЫТЬЕ ОКОПОВ
28 июня был опубликован приказ о трудовой повинности всего населения Ленинграда. 30 июня, когда я была утром в деканате, секретарша просила меня пройти в профком, который раздавал студентам разные поручения; мы должны были выполнять их сразу после занятий. Очень часто студентам давали адреса, по которым они должны были разносить повестки о призыве в армию! Почему студенты медицинского института должны были разносить такие важные повестки — совершенно непонятно! Может быть, наши партийные организации выслуживались перед своим более высоким начальством? Мне тоже вручили шесть повесток; адреса в самых отдаленных районах города. Их нужно было доставить немедленно. С тем, чтобы призываемые уже завтра же явились в соответствующие военкоматы с документами (и чемоданом!). Распределением повесток ведал партийный секретарь института (не помню его нерусскую фамилию) — молодой человек с черными яркими глазами, всегда нахмуренным лбом и черной курчавой шевелюрой, стоящей дыбом над его озабоченным лицом. Он когда-то был студентом нашего института, но по распоряжению партии был «выдвинут» и назначен маленьким (и самым большим по партийной линии) начальником института (секретарем парткома), навсегда оставил свое учение, уйдя с последнего курса. Как бывший студент он не очень тиранил нас политсобраниями. Получив пачку повесток, я отправилась в путь. Меня сопровождал друг семьи Яша Гукайло, инженер, ждавший сам повестки из военкомата со дня на день. Яшу мы знали давно. Его мать и дядюшка жили тоже в Токсово на своей даче. Яша, хотя и был взрослым, но любил проводить время с нашей веселой школьно-студенческой компанией и частоприходил к нам зимою. Мы ходили с ним по темным лестницам, задним дворам домов в поисках нужных квартир. Мы были и на Выборгской стороне, и на Старо-Невском, но никого не находили дома. Только в одном дальнем районе, в большом многоквартирном доме удалось вручить повестку одной несчастной матери, тут же печально заголосившей, как в деревне по покойнику, и с трудом подписавшей свое имя. (Нам велели иметь наготове карандаш.) Мне было жаль ее. Хорошо, что я была не одна. Возвращаясь домой, зашла по просьбе Яши к его «любимому дядюшке» выпить чаю. Дядюшка был и вправду мил и, очевидно, был предупрежден о возможном визите: на столе был сервирован чай с затейливыми булочками, дядюшка радостно хлопотал, а мы отдыхали и поедали его булочки. Последний уютный чай с милыми людьми, среди еще ненарушенного войною быта… Пройдут многие, многие годы, пока можно будет опять спокойно сидеть с друзьями (увы, новыми!) за чайным столом… Яша вскоре ушел в армию; я только раз получила от него письмо до полной блокады — он был легко ранен. На другой день, утром, вернула в профком неврученные повестки. Никто не удивился, не обеспокоился, что все повестки вернулись, кроме одной, которую профорг отметил «птичкой» в своем списке, той, что я отдала плачущей матери. Меня отпустили, но велели. после занятий вернуться за новыми распоряжениями. После занятий пошла в профком. Ничего не объясняя, меня немедленно послали в партком: здесь собрались старосты всех групп, и нам сообщили, что весь наш курс, целиком, отправляют завтра на рытье окопов. Куда отправят, нам сообщат завтра, перед отъездом. Мы будем «рыть» одну-две недели, потом вернемся и будем продолжать занятия в институте. Наш институтский секретарь парткома прочитал нам приказ по городу о «трудовой повинности» и поздравил нас с «включением в ряды защитников города Ленинграда». После такого торжественного вступления он перешел, несколько небрежно, к практическим сообщениям: велел взять с собою одеяло, ложку, смену белья и все сложить в заплечный мешок. Лопаты нам выдадут в институте. И все — больше напутствий никаких не было. Не дал никаких советов, не сделал предупреждений об опасностях, не позаботился сказать, чтобы мы взяли с собою еду. Только назначил время встречи — у деканата на другой день, утром. Поначалу я очень обрадовалась перспективе поехать за. город такой большой группой студентов. В нашей группе были только студентки, с которыми я уже третий год была очень дружна. Кроме трех-четырех ленинградских студенток, все это были девушки, жившие в студенческом общежитии, приехавшие из провинции. Настоящие русские девушки, серьезные, прекрасно учившиеся, во всем искренние, цельные с высокой моралью — будущие очень хорошие врачи! Провести с ними вместе неделю (ли две, быть может) за городом было очень радостно; о трудности я не думала:. копать будем все вместе — и это тоже казалось удовольствием! Мы все сообща обсудили предстоящую поездку. Кажется, только я отнеслась к ней, как к неожиданному удовольствию, почти развлечению, подруга же мои очень спокойно и серьезно решали, что взять с собою, как одеваться, рассчитывая на более длинный срок пребывания на рытье окопов, чем сказанный в парткоме. Ни у одной из нас не было мысли не послушаться приказа, увильнуть, схитрить и не явиться утром. Мы расстались до встречи утром следующего дня перед деканатом. Дома мама отнеслась к поездке совершенно беспечно! Велико было мое удивление, когда по пути домой, в коридоре института ко мне подошла студентка-ленинградка из «параллельного потока» — красивая, всегда великолепно одетая Муся с внешностью темнооких прелестниц с полотен Мурильо, и, покачивая блестящими черными локонами, зашептала: «А мы не едем, никто из нас не поедет». «Кто это — мы?» — удивилась я. «Ну, мы — Рива, Сара, я и все наши». Я сперва подумала, что она имеет в виду наших т. н. «богачек» — группу студенток, всегда державшуюся обособленно, все они с начала объявления войны надели на себя драгоценности — старинные жемчуга, бриллианты на пальцы, часто завязанные тряпочкой, как будто больной палец — не поймешь. Они мне говорили, смеясь: «Если бомба попадет в дом — все на мне, если в меня попадет — то никому не достанется!» Муся продолжала шептать: «Мы к тебе очень хорошо относимся, как к своей, и решили посоветовать — поступай, как мы поступаем, и никто тебя не тронет!» Это — так удивившее меня «мы» и «не мы» было просто: «мы» — очень состоятельная группа студенток с партийными связями, а «не мы» — это все остальные студентки, которые едут на окопы копать и рискуют жизнью. (И Муся оказалась права: многие, к сожалению, погибали…) Муся объяснила мне, как нужно поступать, развернув передо мной целый «план последовательных действий». Чтобы выжить, нужно немедленно выйти замуж за человека с «броней», работающего на оборонную промышленность: таких не призывают в армию и наверняка скоро вывезут с заводом в эвакуацию (об этом уже упорно говорили). Большинство из этой группы студенток так и поступили: они вышли замуж за инженеров с «броней», знакомых и незнакомых, вскоре эвакуировались из Ленинграда с заводами мужей. Второй «план действий», если нет возможности немедленно «выскочить» замуж и уехать из почти осажденного города в безопасную эвакуацию — устроиться на «хлебное место», лучше всего в военный распределитель (снабжающий фронт продуктами питания). И третий, самый слабый «план действий» — устроиться работать в госпиталь (для раненых военнослужащих) на кухню. Ни в коем случае не в палаты — там работать тяжело и все на виду. Работа в госпитале даже на кухне освобождает от окопов. На следующий день утром мы собрались у деканата с заплечными мешками на спинах, в спортивных туфлях, легких платьях. Нам выдали по большой и тяжелой лопате, каждому под расписку. Ни одной студентки из Мусиной группы не появилось. Боброва усмехнулась: «Нам будет меньше забот…» Настроение у всех было приподнятое, как бывает всегда, когда люди дружные отправляются куда-нибудь вместе. А в нашем случае — это еще было очень интересно и, конечно, ново! Был теплый летний день. До Балтийского вокзала ехали на трамваях — нам подали (специально для нас!) трамваи на площади Толстого! Мы стояли на площадке с лопатами в руках, и смотрели на проплывающий перед нами город, на широкую темно-синюю Неву под синим с кучевыми белыми облаками небом, на Петропавловскую крепость, на Биржу с ее двумя ростральными колоннами, лицо обдувал ветер. Проезжая мимо легкого Суворова с сабелькой, увидели, что его готовятся или снять и закопать в землю, или зашить досками: около него возились рабочие и стояли грузовики. На Марсовом поле начали рыть противовоздушные «щели» — они должны были защищать от осколков, но при прямом попадании бомб и снарядов, конечно, не спасали. Но никто тогда из нас ни о каких «попаданиях» не думал. Финская война познакомила нас с ужасами фронта, но не научила нас тому, что есть ужасы тыла. На улицах, как во все дни с начала войны, очень много людей, энергично спешащих в разных направлениях. Опять впечатление, что в городе увеличилось население. И очень много военных. На площади перед вокзалом — огромная толпа. Нас сразу провели в ту часть площади, где «стоял» Медицинский ин-т. Все с лопатами, рюкзаками и почти все — девушки. Только сопровождающие — какие-то энергичные персонажи в полувоенной форме, очевидно, партийцы, от города. Трамваи все продолжают подвозить новых «окопников». Нам сказали, что еще несколько институтов послали своих студентов на окопы. И едут какие-то организации со своими служащими. Несмотря на большую толпу, чувствовалось, что кто-то умело всем руководит: мы совсем недолго стояли на площади под солнцем — сделалось, кстати, очень жарко, как нас повели «на посадку». До вагонов нас сопровождал глава нашей институтской кафедры марксизма-ленинизма Давидович. Высокий, худой с черными пронзительными глазами, со странно медленными и эластичными движениями, не соответствовавшими его огненному и беспокойному взору. Я его всегда побаивалась: чувствовала его странный интерес ко мне и недоброе раздражение. Он часто приходил на наши семинары по марксизму и задавал мне (и только мне) довольно каверзные вопросы. После моих ответов он резко поворачивался и уходил молча, ни на кого не глядя, оставляя преподавателя и студентов в недоумении. Кто-то пошутил, что «Давидович ненавидит тебя как класс и ждет случая, чтоб утопить тебя». Как неприятно! Когда наступил последний выпускной экзамен по марксизму и я уже благополучно сдала его, в аудиторию быстро вошел Давидович и громко от двери спросил: «Что тов. К. еще не сдала экзамена?» '«Сдала», — доложил преподаватель. Д. легким шагом подошел к кафедре, посмотрел в журнал, увидел, что я сдала на «отлично», и глядя на меня своим недобрым взглядом, ушел молча. Не иначе как хотел меня «срезать», но власть его кончилась вместе с марксизмом! Дачные вагоны с твердыми скамейками переполнены студентами с лопатами. Мы долго и весело устраивались со своими мешками, стараясь держаться нашей группой вместе. Со мной на скамейке — самые мне милые студентки с юга России: Ляля Ворожейкина и Е. Боброва, обе отлично учившиеся, серьезные, всегда спокойные, державшиеся очень просто и с достоинством. Напротив — две ленинградки — Нина Апухтина (дочь профессора-путейца) и Валя Кузьмина, с пепельными прелестными волосами, задумчивыми глазами и всегда утомленным лицом, как будто ей и занятия, и сама жизнь давно наскучили. Ее вскоре с родителями сослали из Ленинграда на поселение в Красноярский край (мать ее была немецкого происхождения) и это их спасло. В письмах Валя писала, что «на поселении» так много сосланных, великолепно образованных столичных людей, что никогда в жизни она не бывала в таком «прекрасном обществе»! Уже когда мы устроились в вагонах и несколько поуспокоились, нам сообщили, что нас везут под Ораниенбаум рыть противотанковые рвы. Сообщение мы приняли спокойно, не обеспокоившись. До Ораниенбаума мы едем по железной дороге, а потом несколько километров придется идти пешком. В открытое окно вагона заглянул Давидович, зорко нас оглядел, сказал несколько патриотических фраз и обещал приехать посмотреть, как мы работаем «на защиту Родины». Сказала ему весьма любезно, что приготовим для него лопату к его приезду. Поезд тронулся, и сердитый взгляд Д. остался позади. Было 5 часов вечера и очень жарко в вагонах, и страшно захотелось пить. Оказалось, что никто не догадался взять с собою воду. Нам никто в институте не посоветовал взять воду и еду. Только у Нины А. была с собою большая пустая кружка. Пришлось терпеть. Поезд полз очень медленно, часто останавливаясь. В обычное время, до войны, поездка в О. занимала чуть больше часа, мы же еле передвигались с длительными остановками, до глубокой ночи. Постепенно до сознания стало доходить, что эта поездка не — удовольствие «побыть всем вместе на лоне природы», а очень серьезное и небезопасное предприятие. И сделалось не по себе. Студенты перестали разговаривать; все ехали теперь молча. Особенно неприятно было, когда наш состав стоял без движения около двух часов между песчаными высокими срезами горы с двух сторон железной дороги, — как затаился. В вагоне сделалось неимоверно душно, во рту совсем пересохло. Мы беспокоились, что если начнется тревога или налет, выбежать некуда. Где-то впереди, в направлении куда мы ехали, тяжко ухали орудия, наверное очень большие, — звук был смягчен расстоянием. Мы объясняли это очень просто, успокаивая себя: «Это наша береговая артиллерия!» А что она стреляет не для своего удовольствия — старались не думать. По потемневшему небу скользили лучи прожекторов, скрещиваясь, замирая и расходясь, напоминая вечернее небо после первомайских парадов. Мы еще не привыкли к впечатлениям войны и думали мирными ассоциациями. Многие десятилетия после окончания войны луч прожектора в небе вызывал неизбежно только живущий внутри испуг — воспоминание ужасов пережитой войны. Глубокой черной ночью, после последнего короткого перегона поезд остановился опять. По неосвещенным вагонам передали, как-то особенно тихо: «Выгружаемся, приехали — Ораниенбаум». Мы выгрузились почти ощупью и стояли тихой толпой у вагонов. Опять передали приказ — разговаривать только шепотом и ждать распоряжений. И не расходиться! Мы бы и не рискнули расходиться да и некуда было: ни зги не видно. Сделалось страшно. Когда глаза начали привыкать к ночной темноте, мы рассмотрели, что находимся на большой площади: края уходили в совершенную тьму. Около нас стояла стайка местных, очевидно, пожилых женщин в платочках на головах, как будто они нас поджидали. Женщины, подойдя к нам совсем близко и разглядев нас, вдруг запричитали: «Барышень-то привезли — и молоденькие-то какие, да на смертушку их привезли, да куда ж это их…» Нам сделалось просто жутко. Кое-кто стал расспрашивать этих жительниц, далеко ли фронт, бомбят ли местность. Оказалось, что фронт сравнительно близко — приблизительно в 20 километрах; еще не бомбили, но все местное население окрестных колхозов давно эвакуировалось в Ленинград, по приказу и очень поспешно. И за Ораниенбаумом все пусто: дома пустые, поля неубранные, скотину угнали, лишь кое-где старики остались сторожить пустые избы. Мы не знали, что Кронштадт от того места, где мы сейчас стояли, в шести километрах. И что мы находимся у самого Финского залива. В темноте мы, конечно, ничего не разглядели. Географическое же расположение Ораниенбаума мои подруги, не петербуржцы, не знали, а я в этом «дворцовом пригороде» не бывала почему-то никогда. И не знала, что он расположен на самом заливе, и дорога к нему идет вдоль берега, и что Кронштадт рядом. Если б я тогда знала, где мы находимся, я бы очень забеспокоилась. Мы были далеко от Ленинграда, на самом опасном форпосте у Кронштадта. Захватить нас было совсем легко! Только пожелай! Пока приехавшие перешептывались с местными женщинами, в одном из домов на другом конце площади не видимом в темноте и, очевидно, многоэтажном, вдруг стал ярко вспыхивать и гаснуть, вспыхивать и гаснуть свет! На фоне окружающей темной ночи этот пульсирующий свет казался ослепительным. «Это диверсанты сигналят, что вас пригнали окопы копать. Чай, бомбить начнут…» Женщины все исчезли в темноте, а мы, как затравленные, жались друг к другу и хотели только одного, чтоб нас скорее увели отсюда! Кто-то из начальства побежал к дому с мигающим окном. И, правда, было очень страшно, когда в близости от фронта, при полной световой маскировке, среди тьмы вспыхивал с короткими интервалами откровенно яркий свет из очень высокого здания. Поверишь, что это не просто так, а совершенно очевидный сигнал врагу! Наконец мы двинулись, получив тихий приказ «выступать!». Подобрав свои мешки и лопаты, шли медленно, спотыкаясь в темноте, почти не перешептываясь не от страха (хотя нам и мерещилось, что в темноте за нами следят вражеские глаза), а от усталости: мы с утра ничего не ели и не пили. И почему никто не сказал нам взять с собою хлеба и воды, а мы сами (и домашние) не догадались? Заплечный мешок, хотя и легкий, казался теперь пудовым, ремни натирали плечи, а лопата, как налитая свинцом. Пробовала волочить ее по дороге, но она так скрежетала о камешки, что, наверное, было слышно на линии фронта, и на меня все зашикали. Сопровождающий (или их было несколько), полувоенный, очевидно, то и дело появлялся из темноты то справа, то слева и сдавленно командовал: «Лопаты на плечо!» (что в темноте очень опасно, между прочим), «Прибавить шагу!» и «Скоро привал». «Привал» объявили, когда стало светать и наступило теплое, прелестное утро с посвистыванием птиц, с запахом травы, возделанной, влажной от росы земли. Нам разрешили сесть на обочине дороги, на скате к заболоченному и покрытому кочками и кустарником полю. Но очень не советовали ложиться и особенно засыпать — труднее будет идти дальше. Но мы все буквально рухнули на землю и тут же заснули. Казалось, не прошло и секунды, как нас заставили опять построиться на дороге. Потоптавшись на месте довольно долго, услышали приказ «вперед» и опять двинулись в путь. Светлое утро и солнышко нас приободрили и рассеяли ночные страхи. У некоторых окопников ни «на плече», ни в руках не было лопаты — их побросали в обочине, при дороге, а потом еще на пути мы натыкались на прямо брошенное на дорогу «орудие труда». Сопровождающие сердито подбирали лопаты и тащили их на себе, посылая нам довольно громко очень нелестные эпитеты. Свои лопаты наша группа все донесли до изб колхоза, в котором нам предстояло жить во время рытья окопов. Деревня была построена, наверное, не так давно, конечно, после революции: не было срубов, а дома были похожи на бараки из готовых щитов и некрашенные. Но внутри было чисто и сухо. Нашей группе отвели довольно большое помещение в просторной избе. Ни столов, ни скамеек не было — все это вывезли или растащили. На полу мы расстелили ароматную солому (из сарайчика при доме), накрыли ее своими одеялами и получилась мягкая, огромная постель на двадцать человек. В «нашей» избе после эвакуации деревни оставалась старая бабушка — еще довольно бодрая. Наше местное начальство поручило ей варить к вечеру, к нашему возвращению после трудовых работ обед. Ей мы отдавали наш «сухой паек» и хлеб. Продуктами нас снабжали военные части, для которых мы, собственно, и должны были работать — копать рвы. Говорили, что военный городок расположен где-то недалеко от местности, которую должны пересечь наши противотанковые рвы. У кого в избе не оказалось «старой бабушки», варили себе обед сами из того же сухого пайка. В первый день нас не погнали копать, нам дали устроиться, предупредили, что нас будут будить в 5 ч утра, нам выдали хлеб — большие черные кирпичи хлеба, очень тяжелые, грубого помола — солдатский хлеб. Мы его назвали «динамит». Поев хлеба, запив его колодезной холодной водой (из кружки Нины), мы засветло легли спать. Уже на следующее утро или еще ночь нас разбудили стуком в окно и свистком, очень грубо кто-то прокричал басом: «Подъем, все выходи на работу!» Бабушка нам дала жидкого теплого чая с хлебом. Мы пили по очереди. Бабушка насобирала в деревне несколько мятых жестяных кружек. Иногда бабушка давала нам по утрам теплого, разведенного водой, молока (где-то еще таилась корова). Бабушка нас очень жалела и радовалась, что она теперь не одна живет в избе. Рассказала, что всю ее семью и весь колхоз, главным образом женщин и детей (мужчин почти не оставалось — все были в армии), эвакуировали в направлении Ленинграда. Нескольким старикам разрешили остаться присматривать за имуществом. Она же нам сказала, где расположены колхозные огороды, неубранные, и обещала, что если мы будем приносить ей картошку и овощи, наш обед будет куда как вкуснее! Мы с большим усердием вечерами занимались грабежом полей — никакой охраны, конечно, не было, и вечерами ели вкуснейшие густые щи и борщи, «постные», без мяса, и наша бабушка была довольна. Мы с трудом втягивались в рабочее расписание, обижались на пронзительность свистка и грубый стук в окна перед пятью часами утра. В пять часов еще темно, мы шли до назначенного места работ минут тридцать, шли полупроснувшись, молча, нахохлившись, с болью во всех членах: за ночь мы не успевали отдохнуть и мышцы очень болели от непрерывной и тяжелой работы первую неделю. Когда подходили к нашей траншее, на востоке все небо розовело, светлело и делалось веселее на душе. Иногда сопровождающий «для бодрости» предлагал нам по дороге на работы затянуть хором (вполголоса) песню, но мы в ответ мрачно молчали. Местность, где мы рыли ров, была довольно плоской, чуть-чуть холмистой вдали, почти без деревьев. Около места, где мы рыли землю, начинался густой низкий кустарник с кочками, на которых росла черника и брусника. А еще дальше, в долинке, молодой лесок. Этот лесок давал нам потом видимость укрытия, когда появлялись вражеские самолеты. Окрестности были, как на ладони: куда ни глянь — везде коричневатые поля, кучки кустарников, никаких дорог вблизи. И никакого движения, никаких живых деревенских звуков — все брошено, все безмолвно. Единственное оживление — это мы, роющие окопы. Окоп или противотанковый ров — это длинная траншея и мы, расставленные на расстоянии двух метров друг от друга, — человек восемьсот, а дальше эту же траншею рыли студенты Института связи. Неожиданно для моих подруг я оказалась очень хорошим «работником-землекопом». Они не знали, что у меня за спиной многолетний опыт токсовских «земляных работ», а также огородно-садовых! Папа распланировал великолепный сад в Токсово. Он «воздвигал террасы», поднимал уровень склона на два-три метра, «стены» строились из кусков толстого дерна, которые папа нарезал в долинке очень аккуратно, а мы с сестрой тащили их в наш сад на носилках (было очень тяжело!), а потом засыпал землею, сажал ели, фруктовые кусты и деревья; мы с сестрой приносили на тех же носилках с болот «черную» землю, высыпали ее, поднимая уровень террасы, создавая «жирную» землю для будущего сада. И с самого начала, как только у нас появилась дача (мне было 9 лет), он маме сказал, что все работы мы будет производить сами, семьей, и он никого никогда «нанимать» в помощь, даже на тяжелые земляные работы не будет. Для этого у него есть семья (мама и две дочери, не оказавшиеся ожидаемыми им сыновьями, но это уж «мы сами виноваты!»). И мы росли в Токсово буквально с лопатой, граблями, носилками в руках. Мы копали, поливали, окучивали, собирали урожай, удобряли. Поэтому к моменту копания окопов у меня был отличный опыт владения лопатой, киркой и все приемы заправского рабочего на «земляных работах». Да и в придачу — садовника! Довольно далеко от нас мелькали белые платочки женщин какого-то предприятия, они тоже рыли окоп, но далеко от нас, и их окоп был расположен почти перпендикулярно к нашему, но без всякой возможности воссоединиться. Возможно, нас (или их) потом передвинут и мы будем рыть землю между обоими траншеями, хотя угол, если бы траншеи соединились, получился бы острым. Вообще нам ничего не объясняли, кроме самого необходимого, касающегося нас непосредственно, нашего участка работ. Руководил работой прораб-инженер. Говорили, что он прикомандирован к нам от военного аэродрома, расположенного в двух километрах от нас. Опасное соседство! Особенно опасным для нас оно оказалось, когда начались воздушные бои над нашей головой и мы мчались в лесок, ложились под кусты и из-за «прикрытия» наблюдали за боем, не умея различать, где наши самолеты, где вражеские; мы следили за кружащимися, то с воем взмывающими вверх, то падающими вниз и опять поднимающимися машинами. Зенитки при бое молчали, но все равно все небо было в районе боя покрыто белыми взрывными облачками. Очевидно, от бортовых орудий. Бои длились подолгу. Только раз за все время упал загоревшийся самолет: он летел медленно, бесшумно, по траектории, оставляя широкую черную дымную дугу за собою; он рухнул где-то далеко, но мы слышали взрыв. Чей это был самолет, мы не поняли. Но все равно, видеть, как падает горящий самолет, и знать, что только что перед нашими глазами закончилась чья-то жизнь — очень трудно. Студентка папиного ин-та, лежавшая в сыпно-тифозной палате вместе со мною, на Кавказе, рассказывала, что когда они рыли окопы, кажется, под Гатчиной, над ними тоже были воздушные бои. Из одного из подбитых немецких «Мессершмитов» выбросился пилот на парашюте и приземлился совсем близко около окопов. Его сразу поймали и вели куда-то мимо окопов, где они работали. И пленный летчик посмотрел на копающих окоп женщин «с такой ненавистью!» И эта ненависть в его глазах поразила ее больше всего. Она все возвращалась к этому: «За что он нас так ненавидел?» Работаем мы хоть и старательно, но все-таки недостаточно быстро. Прораб нас торопит, сердится, говорит, что мы больше лежим под кустами, чем копаем, и что он предлагает нам вступить в соцсоревнование с работницами далекого окопа. Нина Апухтина, работающая с бумажной наклейкой на носу от солнца и в черном купальном костюме с вышитой белой чайкой на груди, подошла к прорабу и, тряся белыми пальчиками перед его сразу сделавшимся гневным лицом, заявила, что «все мы не привычны к мужской работе, у нас лопаются водяные мозоли на руках и мы ни с какими сильными работницами и вообще ни с кем соревноваться не желаем!» Прораб, побагровев, прокричал нам, что все мы «артистки» и думаем, что приехали на «курорт», а не помогать Родине и он найдет на нас управу. Но, очевидно, не нашел, и мы продолжали работать своим темпом, который был очень изнурителен. А вообще мы очень старались, следили, чтоб нас никто из соседей не обгонял и, кажется, работали даже быстрее соседей, в тайной надежде, что если мы поторопимся и до срока закончим ров, то нас скорее отправят домой. На прораба мы нисколько не обижались за его слова, потому что, и правда, вид у Нины был совсем не «окопный» и она не только одного прораба раздражала! Первые две недели были солнечными и тихими, земля была сухая, с песком, легко копалась и отваливалась большими пластами, когда врезались в нее киркой. Нам дали одну кирку на нашу группу, и мы по очереди ею пользовались. Но когда пошли дожди, а работали мы и под дождем все двенадцать часов (с часовым перерывом), работа становилась мукой. Мы к этому времени довольно глубоко зарылись в землю и выбрасывать лопатой мокрую тяжелую землю, прилипавшую к ней, было очень тяжело. А утром одевать мокрую одежду, не просохшую за ночь, и мокрую обувь было очень неприятно. Раз в неделю мы могли отправлять почту домой. В середине третьей недели я написала маме, что у меня нарыв на ноге около ступни и нога не заживает: в лопнувшую мозоль попала грязь. Приехал Давидович, обходил окопы, долго стоял около нашего отрезка, мы воспользовались этим и побросали лопаты. Д. очень милостиво расспрашивал нас, чем нас кормят, устаем ли (интересно, что он думал, что это игра в крокет?). Потом стал подступать ко мне со всякими вопросами, но к общему разочарованию — не каверзными — никакого развлечения не получилось. Давидович вдруг сделался неожиданно мил и заботлив, спрашивал меня о моих родите-лях(!), увидев мою ногу, завязанную грязным бинтом, расхлопотался, стал посылать меня в медпункт (был такой, с мед. сестрой) и предлагал мне, не задумываясь, ехать в Ленинград, где меня освободят от рытья окопов! Очевидно, война смягчила даже его закаленное сердце! Мы все постепенно втянулись в работу и очень подружились, помогая друг другу во время копания противотанкового рва, при воровских налетах на неубранные колхозные поля, и перед сном наслаждались спокойными и неторопливыми разговорами. Я очень полюбила эти вечерние разговоры под похрустывание соломы. Мы рассказывали друг другу истории из собственной жизни и обсуждали разные нравственные и моральные вопросы. И опять я не переставала радостно удивляться спокойному достоинству и чистоте суждений моих провинциальных подруг и суетливой вздорности «столичной» Нины. Какую снисходительность и чуть насмешливую ласковость вызвали ее высказывания. А старая бабушка к нам очень привязалась и называла нас «доченьки». Фронт к нам пока не придвигался, и мы спокойно работали. После трех недель копания окопов, когда мы отдыхали после «полдника», в конце поля появились две дамы, к нам спешившие. Оказалось, что это приехала мама за мною и нарядная мать Нины — за нею. Мать Нины привезла с собою целую пачку медицинских свидетельств о слабости здоровья дочери и свидетельство того же врача о слабости здоровья ее подруги Вали К. А мама приехала без свидетельств, но в беспокойстве, нет ли угрозы заражения от моего нарыва. И на медпункте после осмотра меня решили отправить к доктору в Ленинград. И нас увезли. Было очень грустно и совестно: нас вытащили из опасного места родные, а все — не ленинградки — остались тянуть непосильную лямку. Мы оставили с мамой моим подругам мои вещи. Мама на случай, если меня не отпустят домой, привезла теплую одежду и лишнее одеяло. Все это потом на «окопах» им очень пригодилось. В поезде, шедшем из Ораниенбаума в Ленинград, было полно самого разного озабоченного народа. Больше половины — военных. И не было ни шуток, ни разговоров. Все ехали насупившись, с какими-то невидящими глазами, словно обращенными внутрь или скользящими мимо попутчиков куда-то вдаль, словно всматривались в будущее, каждый — в свою единственную судьбу. В такт с поездом покачивались пепельные кудри Вали, глаза ее, печальные, тоже скользят в ту же невидимую даль мимо пассажиров вагона. Все ехали молча. Даже мать Нины не щебетала; а только безмолвно ежилась, поглядывая на военных. Много времени спустя, когда снег покрывал землю, наших студенток все еще не отпускали домой, а все перебрасывали с одного места на другое, и они рыли, рыли окопы, как каторжные, не имея никакой защиты, никакого отпуска на отдых. Они лишь тогда бросали рытье, когда фронт подходил к самым окопам и им приходилось уходить ночью пешком (никто не заботился их вывезти за отсутствием транспорта), чтоб снова быть назначенными парторганизациями Ленинграда на рытье следующих окопов. При нашей системе получалось так, что если ты уж попал в колесо, то и будешь крутиться в нем до конца — не выскочить. В начале сентября был издан специальный приказ Жданова и Ворошилова, узаконивающий пятнадцатидневный срок работ. Сколько таких сроков, с перерывом на отдых, если отдых давался, несмотря на тяжелую обстановку фронта, можно было навалить на «окопника» — не уточнялось. Вернее всего — это передавалось на усмотрение местного начальства. Как наш ораниенбаумский прораб сказал в ответ на наши вопросы о сроках работ: «Будем работать до победного конца…» Когда началась лютая зима и голод, студентки нашей группы вернулись в общежитие института с подорванным здоровьем и все погибли от голода одними из первых. Когда мы были вместе под Ораниенбаумом, они рассказывали о письмах, полученных ими в начале войны от родных, умоляющих их поскорее вернуться домой — в города, далекие от западных границ, где еще никто не голодал, где их ждали любящие, заботливые родные, где, как писала одна мать, можно тоже трудиться на оборону страны в госпиталях, вновь учрежденных. И где нет угрозы бомбардировок: «Умоляю — приезжай, не задерживайся… У нас сытно. Любящая…» Но по «законам военного времени» никого из них не выпустили из города домой… Из нашей группы уехала в первые недели войны лишь одна студентка-ленинградка Рая Шендерова, хотя она имела образование медицинской сестры и подлежала призыву в армию или для работы в госпиталях. Но для нее, как и для элегантной Муси, были «свои» неписанные законы: она вышла замуж за своего старого-престарого родственника с «броней» и уехала на Урал, как она мне сказала при прощании, «чтобы спасти старую мать». Рая в эвакуации сразу поступила учиться в местный медицинский институт. Пока действовала почта, Рая писала мне письма о своей тоске, одиночестве, о том, что ей недостает всех нас, и просила прочитывать ее письма вслух студенткам нашей группы. Я это делала. Никто ее никогда не осудил, никто не позавидовал ее новой замужней спокойной жизни. Только Боброва заметила: «Сама выбрала себе судьбу, ее не неволили. Передай привет, но больше от нас ничего не пиши». А мне было жаль ее. Мы с Раей были дружны — она приходила, когда мы учились в 3-м Мед. ин-те, ко мне домой «зубрить кости». Для экзаменов по анатомии у меня был скелет, купленный мне, когда я поступила в институт, — очень большой. Наш Туман много дней на него свирепо лаял. По этому скелету мы занимались вдвоем, пока не сдали на втором курсе экзамены. Рая мне очень много о себе рассказывала. Она была очень одинокой среди многих старых родственников и ко мне привязалась, а мне она нравилась своею медленной рассудительностью и взрослостью — она была лет на шесть старше меня.А противотанковый ров, который мы копали усердно под Ораниенбаумом, оказался непригодным. Инженер-строитель просчитался и построил его как зеркальное изображение того, что требовалось: для наших танков — преграда, для немецких — чудная дорога в наш тыл, без помех. Очень надеюсь, что неудачливому инженеру не успели «пришить» звание «врага народа» в общей неразберихе во время немецких атак. Знаю, что наш ров засыпали, но вряд ли успели построить новый, уже не было времени. Одно слабое утешение в надежде, что, может, немецкие танки завязли в рыхлой земле засыпанных траншей и выбыли из строя, — тогда наш труд не совсем пропал даром. Рытье окопов и овощные супы старой бабушки с хлебом-динамитом укрепили меня физически, и я легче переносила начало голода, чем вся наша семья.
НАША ЖИЗНЬ В ОСАДЕ
По возвращении с «окопов» я продолжала ходить в институт каждый день. Продолжались практические занятия, правда, очень маленькими группами — большое количество студентов двух первых курсов были на окопных работах. Нам, студентам третьего курса, было сказано, что мы пока должны приходить ежедневно в институт, частично для занятий, но главным образом для получения направления на работы. Пока нас никуда не посылали. По Северной железной дороге шла дозволенная правительством эвакуация города. Было приказано размонтировать еще не вывезенные заводы. На улицах в конце июля и начале августа было заметно значительное изменение: появились грузовики, груженные чемоданами, узлами. На вещах сидели бабы в платках и старики — в кабинах — дамы, часто с детьми. В очередях шептали: «Партийцы эвакуируют свои семейства». Делалось очень беспокойно — а что же будет с нами? С остальными? Эвакуировали, по слухам, военные госпиталя — это правильно и хорошо: город делался прифронтовым, раненых, конечно, нужно отправлять в тыл — так было при всех войнах, во всех странах. По тем же слухам стало известно, что эвакуация по Северной железной дороге идет страшно медленно и для раненых это почти непереносимо, и, кроме того, эшелоны обстреливают — все это очень опасно для застрявших в пути госпитальных поездов. Пытаются вывозить раненых на самолетах. Но раненых слишком много, а самолетов мало… Разрешили уезжать в эвакуацию театрам. Одним из первых выехал Мариинский театр со всей труппой. И как сразу стало известно, с большим количеством декораций. Это многих очень рассердило — «многим» мнилось, что вместо декораций было бы правильнее погрузить в вагоны их, живых, а декорации, если они сгорят в Ленинграде, можно и заново написать. Я так не думала: «театр» — не только артисты, но и создаваемое многими десятилетиями ценнейшее театральное имущество. Помню, у театра на Невском, около Елисеева стоял открытый грузовик, доверху нагруженный театральным имуществом и чемоданами артистов. И на верху, на чемоданах, сидела знаменитая актриса Зарубина, грузная, тяжелая, с очень характерным лицом, с косо поставленными глазами., и смотрела неподвижно вдаль, а около грузовика стояла большая толпа и молча смотрела на Зарубину. Папа сказал, что университет, институты решено оставить в Ленинграде. Почему-то наша семья не беспокоилась, что немцы захватят город, и поэтому не рвалась в эвакуацию, хотя, казалось даже правительство беспокоилось — строились баррикады на самих улицах города, пока нецентральных, и упорно говорили о приказе сжигать в учреждениях разные документы, на всякий случай, если немцы возьмут город, чтоб не попали в их руки. Я думаю, что мы не беспокоились о взятии немцами Ленинграда, потому что все были очень заняты. Мы и на окопах никогда не говорили о «сдаче» Ленинграда. Беспокоились, чтобы нас не дай Бог, не «отрезали» от города, стремились все обратно, казалось, в надежный свой город. Папа целый день был в своем институте, мы тоже каждый день ходили в свои. И в ин-те все были бодрые и никто не говорил о возможной гибели города. Казалось, что сама «занятость», привычные заботы, жизнь с работой в институтских лабораториях, в клиниках, в операционных со всей их интенсивностью охраняли от катастроф: не может же быть, что б все это вдруг оборвалось, когда в этом участвуют «все»! По папиному «распоряжению по семье» я покупала по пути домой масло. Еще не было карточек — была середина августа — и в одни руки «отпускали» полфунта сливочного масла. Я, возвращаясь из института, старалась купить эти полфунта, если очередь была не очень большая. О возможности взятия Ленинграда немцами в семье даже разговоров не было, это было бы неслыханной катастрофой — поэтому, очевидно, мы подобные мысли старались не подпускать к нашему сознанию. В 1-м Медицинском институте нам официально сказали, чтоб ни о какой эвакуации мы бы и думать не смели, что студенты двух старших курсов, четвертого и пятого, будут выпущены врачами «ускоренно» с дипломом «врач военного времени». (После окончания войны такие «врачи военного времени» должны были пройти курс «усовершенствования» врачей — хотя пройдя практическое «обучение» во время войны, они усовершенствовались на огромном «опыте». Молодые врачи, прошедшие тяжелый опыт войны, были потом очень хорошими врачами-хирургами.) Мы же, студенты третьего курса, будем после занятий, очевидно, посланы работать в госпиталя, переполненные ранеными. Очень скоро старшекурсники стали появляться в военной форме, с одной шпалой в петлицах, и некоторые студентки, которых я знала по анатомичке — они приходили иногда заниматься, чтоб освежить знания по анатомии — выглядели, несмотря на новый, довольно высокий военный ранг, очень растерянными и испуганными: они ждали направления на фронт и говорили, что нет сейчас даже понятия «прифронтовой госпиталь» — все фронт, и он наступает на нас… Студентки, бывшие до поступления в Медицинский институт медицинскими сестрами и имевшие некоторую медицинскую практику, были сразу призваны в армию. В нашей группе училась бывшая медсестра, старше нас по возрасту, Женя — очень энергичная, но страшно застенчивая и самолюбивая студентка, учившаяся с трудностями; у Жени был изумительный античный профиль Аполлона — и вся она походила на античного мальчика-воина. Я ей в начале курса немного помогала с учением — вернее мы вместе готовились к сложным для нее экзаменам, и у нас появились очень дружеские отношения: с ее стороны — полные глубокого доверия, с моей — нежной привязанности. Мне одной она доверила свою тайну: только что, в мае, она совершенно секретно вышла замуж за моряка — студента Морской Академии. Тайну нужно было соблюдать строго: до окончания Академии студентам-морякам не разрешалось жениться, а в общежитии студенток-медичек не разрешалось жить замужним. И оба решили никому не рассказывать о браке до окончания ими образования. Мужа Жени в первые же дни войны забрали в армию и она даже не знала — в пехоту или во флот. Писем от мужа не было, а ей, конечно, никто ничего не сообщал. На вторую неделю войны Женю призвали медицинской сестрой, и она сразу была отправлена на фронт. Я ее встретила у нас в институте, куда она вернулась, получив однодневный отпуск «с фронта» — несказанно ей обрадовалась; Женя рассказывала, как под Ленинградом, на передовых позициях, под обстрелами и непрекращающимися бомбежками ей приходилось подбирать раненых, часто, если она была одна и без носилок, ей приходилось или волочить раненого, или ползти на четвереньках, привязав его к своей спине. Раз, когда она ползла к раненому, немецкий самолет заметил ее и стал пикировать, выпуская пулеметные очереди — он несколько раз, делая круг, возвращался обратно и снова пикировал, и снова выпускал очереди. Последняя легла рядом с Женей, обдав ее землей — хорошо, что она подтянула ноги под себя (ей непроизвольно хотелось превратиться в комочек), а то бы ей оторвало ноги. Она узнала в Академии, что муж ее пропал без вести. Все это она рассказала, не сводя с меня глаз, не выпуская мои руки из своих, и странное чувство не покидало меня, что это прощание навсегда. И что мы обе это знаем. Уходя, она обняла меня и шепнула, что приехала в Ленинград, чтоб увидеть меня еще раз, больше у нее не было в Ленинграде близкого человека. Наверное, Женя приехала попрощаться с памятью о мирной жизни, памятью о своем счастье, свидетелем которого мне удалось быть. Занятия в институте продолжались. Только на младших курсах исчезли мальчики-студенты. На старших курсах их в армию не забирали, торопили с выпуском, чтоб отправить в армию врачами. В первую половину дня были практические занятия и лекции, во вторую половину дня мы шли в клинику на занятия по нормальной хирургии и терапии. По дороге из клиники домой еще нужно было, по приказу папы, забегать в магазин, пытаясь купить полкило масла, а когда, позднее, в магазинах уже нечего было покупать, то все приобретения сводились к табаку в киосках. В нашей институтской больнице (больнице им. Эрисмана) не было раненых военных. В начале войны там было только гражданское население, это еще не был госпиталь. Наши практические занятия сводились к тому, что мы должны были по очереди собирать анамнез (историю болезни) у больных. Профессор и вся группа студентов стояли вокруг и слушали молча, а потом, при выходе из палаты весь «сбор» анамнеза разбирался, объяснялся и под нажимом наводящих вопросов профессора нами решался диагноз. Нам было поначалу очень трудно логично думать, сопоставляя все данные, а наш раздражительный профессор сердился на нас за то, что мы так «плохо соображаем»! Я, поставленная лицом к лицу с пациентом, иногда смотревшим таким утомленным взором, страшно стеснялась, робела и забывала, что нужно спрашивать. А профессор нас торопил, фыркал, не стесняясь говорил, что мы «совершенно не умеем логично думать», «думаем языком, не употребляя мозг», и не давал нам спокойно и постепенно привыкнуть к общению с больными. В одной из палат лежала наша студентка-однокурсница, с нею случился сердечный припадок, когда ей принесли «похоронную» на ее молодого мужа-студента. Она смотрела на нас испуганно, а мы не решались задавать ей вопросов по «истории» ее болезни. Профессор подождал, подождал, потом в досаде махнул на нас рукой и в развевающемся белом халате вылетел из палаты, а мы сразу сделались просто друзьями и плакали у ее кровати.ОПОЛЧЕНИЕ
Ленинградское ополчение начало создаваться еще в начале июля, называлось оно демократической армией по обороне Ленинграда, но вскоре стало называться по-русски понятно — ополчение. Создавалось ополчение — детище партийных органов — после речи Сталина. Не той, в которой он обратился после начала войны 3-го июля к своим вассалам: «Дорогие братья и сестры…», лязгая зубами от страха по краю стакана с водой, которую он пытался пить, когда у него прерывался голос; вода булькала на всю Россию, когда он доливал ее в стакан. Тогда егогрузинский сильный акцент сделался ужасным! В теперешнем обращении Сталин потребовал учреждения ополчения. Прежде всего, московского. И также во всех городах, к которым подступали немцы. Ополчение, народное, должно своими силами защищать города, сражаться за его пределами, на подступах и на баррикадах внутри города и должно, если того потребуют обстоятельства, сражаться за каждый дом! И назвал цифру — количество ополченцев, которых должна дать Москва. Цифра была громадная! Партийные организации Москвы со всей поспешностью стали создавать ополчение с целью во много раз превзойти цифру, названную Сталиным, и выслужиться! Людей хватали на улицах, в учреждениях, не слушали никаких доводов, не считались с протестами. На все был один ответ: «Тов. Сталин сказал!» Попробуй — поспорь! В Москве «ударный план» партийных организаций дал очень высокую цифру «добровольных» ополченцев. Но мобилизационный план города Москвы был сорван! В военкоматах хватались за голову, но ничего сделать не могли: всех людей призывного возраста (многие ждали повесток из военкоматов со дня на день), на которых падал взор и ложилась рука партийных организаторов ополчения буквально заметали, отправляли в «казармы» для ополченцев (часто помещения средних школ с охраной у ворот), чтоб вскоре, иногда даже без всякого обучения, отправить на фронт.В Ленинграде «добровольное» вступление в ополчение носило менее трагичный характер и было менее необратимым, чем в Москве. И хотя ленинградцев «добровольно» записывали в ополчение (у нас все делалось «добровольно» и с «большим энтузиазмом», как только поступал в партийные организации или приказ или только «намек» сверху — и никто не осмеливался открыто возражать), не считаясь ни с профессией, часто нужной для военных же нужд, ни с возрастом, ни с состоянием здоровья, но все-таки все происходило менее беспощадно и бездумно. Очевидно, ленинградскому партийному руководству был еще памятен год войны с Финляндией, когда в помощь(!) Красной Армии, которая оказалась неподготовленной для войны с маленькой Финляндией, стали мобилизовывать студентов ленинградских институтов — лыжников для борьбы с финскими снайперами, и когда только единицы вернулись, а остальные — погибли. Вернувшиеся студенты были глубоко разочарованы в способностях нашего военного руководства. И хотя их очень чествовали в институтах, мы знали, какая катастрофа на самом деле произошла на финском фронте. Партийное руководство города пыталось изолировать население Ленинграда от раненых на финском фронте русских солдат. В саду Нечаевской больницы бродили выздоравливающие раненые (во время финской кампании она была превращена в госпиталь). Нам, студентам института, было официально объявлено парткомом института перед лекцией всего курса о запрещении общаться и разговаривать с ранеными красноармейцами, находящимися на излечении в институтском госпитале! На нас это произвело тогда ужасающее впечатление: нам, русским студентам, запретили разговаривать с русскими воинами, потому что их отправили на фронт не одетыми по-зимнему, не подготовленными технически — в лютую зиму, на войну с крепким, вооруженным героическим народом, отчаянно защищавшим свою маленькую независимую страну! Мы не должны были знать правды о наших огромных жертвах, телами побеждали финскую «технику»! Когда мы хотели подойти к ходячим раненым, поодиночке прогуливающимся в парке института, с переломанными руками в лубках и на шинах, или с ампутированной ногой, на костылях, просто, по-человечески, сказать хоть несколько сердечных слов, нас сразу отгоняли служащие госпиталя. Мы отходили в огорчении, нам жалко было видеть раненых в такой несправедливой изоляции: они выглядели грустно, как затравленные. Парк был огорожен с улицы высокой старой чугунной решеткой. Когда в парк выходили раненые в пижамах и халатах — население группами собиралось у решетки, чтоб поговорить с ранеными, пообщаться. Но как только к собравшейся стайке ленинградских жителей подходили раненые, со стороны улицы появлялась военная охрана (и кого она от чего охраняла) и разгоняла толпу, а раненым приказывала отойти от решетки в глубь парка. Мы, студенты, не стесняясь выражали свое чувство стыда и возмущения отношением к раненым, как будто они несут вину за так позорно проведенную кампанию, и чувство унижения за всех нас, от которых пытаются скрыть действительные факты, как будто мы, Ленинградцы, их и так не знали! Ленинградских ополченцев отправили в казармы, не позволяли отлучаться, там они и сидели безвыходно, ничему военному их не обучали и через несколько недель их отпустили по домам. Когда к сентябрю замкнулось кольцо блокады вокруг города, их больше не тревожили, лишь посылали на разные работы — многих еще успели посылать на окопы, но уже от учреждений, в которых они служили. Так Ленинградское ополчение и рассосалось. Но не длят всех ополченцев оно кончилось благополучно, некоторые группы ополченцев из казарм, как и в Москве, были отправлены на фронт, где их приписывали к военным частям и где они делались, неожиданно для себя, красноармейцами, а уж из Красной (действующей) Армии до конца войны не уйдешь.
Глава вторая
ЭВАКУАЦИЯ ДЕТЕЙ ИЗ ЛЕНИНГРАДА
Еще в середине августа продолжалась эвакуация части населения из Ленинграда, хотя шла она довольно медленно, потому что оставалась открытой только одна железная дорога — Северная. Объявлена была эвакуация детей еще раньше — в конце июля. Без матерей. Только детей. В городе матери были в отчаянии — что им делать? Как отправить маленьких детей одних! Но был приказ — обязательно отправлять! У моей подруги Нонны Навцени, — невесты моряка, собрались жены командного состава и горько рыдали, беспомощно придумывая средства припрятать как-нибудь детей, пока не пройдет «волна принудительной эвакуации». Но как это сделать? Мужья были уже в море — на войне. И детей их, вместе с тысячами других повезли «в эвакуацию» из Ленинграда. Организована эвакуация ленинградских детей была неслыханно поспешно и непродуманно. Начать с того, что громадную часть эвакуированных детей повезли не на Север, чтоб потом переправить в глубь страны, а на Запад — навстречу наступающей немецкой армии. Эшелоны стали бомбить, обстреливать — дети гибли, тогда эшелоны повернули обратно и стали возвращать в Ленинград, но не все смогли доехать до города. Обезумевшим от горя матерям и родным, уже слышавшим о несчастьи, сообщили через некоторое время, что они могут сами искать своих детей и забирать их домой. Многие несчастные родители так и потеряли своих детей, многие нашли своих детей невредимыми, но многие нашли и привезли домой больных и покалеченных детей. Наши очень близкие друзья Каменские отправили в эвакуацию свою дочку Олесю. Когда они узнали о беде с детьми — отец бросился на поиски. Он нашел ее невредимой в разбомбленном эшелоне через несколько дней, рассказывал разные ужасы, долго не мог успокоиться: видеть раненых и больных детей, совершенно без помощи, было почти непосильно! Олесю он в следующую эвакуацию детей из Ленинграда наотрез отказался пустить. Теперь эвакуация была организована не партийными организациями города, а школами. Партия давала приказ, транспорт, а все остальное брала на себя школьная администрация. Тетя Маня (Мария Николаевна Ялымова, сестра мамы) была преподавателем литературы и заведующей учебной частью школы (в которой и мы с сестрой учились). Ей и ее подруге, тоже учительнице литературы Лидии Димитриевне Якимовой, пришлось вести детей школы в эвакуацию — вдвоем! Без матерей. Их опять не брали! Тетя Маня всю свою жизнь посвятила чужим детям и нам с сестрой. Многим, многим детям и подросткам она привила любовь к русской литературе. Со многими своими учениками она не прерывала дружеских отношений и после выпуска их из школы и помогала, заботилась и беспокоилась о них. Когда мы учились в ее школе, старшеклассники называли ее «за спиной» очень ласково «Тетушка», и все ее очень любили за талантливые уроки по литературе, за справедливость, строгость, и, когда нужно и можно, ее проявлять, за необыкновенную доброту. Тетя Маня окончила Высшие женские Бестужевские курсы и Томский университет, где и мама училась, и всю жизнь прожила праведно, воспитывая и развивая в своих учениках не только хороший вкус к литературе, но и благородство в жизни вообще. Тетя приходила прощаться перед эвакуацией. Только одна мама была дома, папа был на казарменном положении в институте, я — на трудовых работах, сестра — тоже в институте. Тетя и мама горько плакали, расставаясь, жалея о всех недоразумениях, какие всегда случаются в жизни. Уходя, тетя сказала: «Больше не увижу детей». Мы хотя потом и переписывались с тетей, но больше никогда не свиделись. Для меня же тетя Маня в последний год обучения в школе и, потом, в студенческие годы до войны, сделалась очень близким и дорогим человеком, настоящим старшим культурным другом — учителем, так ценным каждому подрастающему молодому человеку, если ему посчастливится в жизни обрести такого: праведники в жизни оставляют в наших сердцах неизгладимый след и свет, который мы стараемся непроизвольно защитить и не погасить. С тетей Маней и Лидией Димитриевной ехали в эвакуацию несколько сотен детей и дочь директора нашей школы, Григория Наумовича Эйзенштадта. Мы, школьники, нашего директора не очень почитали, может быть, совсем напрасно! Он был коммунист, но без всякого апломба, был прост, застенчив, всегда ласково и смущенно улыбался, совсем растерянно, когда разговаривал с нами, старшеклассниками, и носил очень короткие брюки. Мы его жалели, но не переставая шутили по его адресу. Я раз видела его мать, приходившую в начале войны к маме (со своей златокудрой внучкой — дочерью Эйзенштадта), и поняла, почему наш «Гр. Наумович» был таким робким: мать его была большой гордой дамой с белыми пышными волосами, собранными по-старинному в узел на макушке в длинных черных одеждах совсем не современного типа. Она пришла воочию убедиться, что «мама нас с сестрой воспитала хорошо», как ей рассказывал сын(!), и решить, будет ли она просить маму (в случае беды с нею) взять ее внучку на воспитание. Уж не знаю, чем кончился несколько надменный разговор старой дамы с удивленной мамой. Но девочку (ей было лет тринадцать) к нам не привезли больше. А когда со старой дамой вскоре действительно случилась «беда», т. е. она скончалась, Гр. Наумович, которого призвали в армию, привез свою дочку к тете Мане, которую он глубоко почитал, а мы, школьники, дерзновенно считали, что его скромное сердце было уязвлено, с просьбой принять ее, как дочь, и воспитать ее, как родную, и если он не вернется с войны, не покидать ее. Тетя Маня, конечно, охотно ее приняла и взяла с собою в эвакуацию. Тетя о ней писала в письмах очень мало, но иногда в них проскальзывало удивление, что девочка не ласковая, а требовательно-капризная и надменная со всеми. Надеюсь, что во время эвакуации, когда они так много выстрадали, девочка перевоспиталась, для ее же пользы. Я так и запомнила ее с розовым личиком, закругленным, как у отца, носиком и совершенно сказочными золотыми волосами до пояса. Детей тетиной школы погрузили на баржу, и они через озеро и реки потянулись на север. Ехали всю осень и к зиме баржа пропит весь путь до Белого моря, обогнула мыс Канин Нос и вмерзла недалеко от берега в лед, на всю зиму. Капитан и его помощники ушли на берег и больше не вернулись на баржу — пошли воевать. А тетя с Лидией Димитриевной вдвоем остались со всеми детьми зимовать на барже. Первая военная зима была лютая. У детей не было зимней одежды, обуви. На всех, включая тетю и Л. Д., были одни валенки! По очереди тетя и Л. Д. ходили сначала по льду до берега, потом по заснеженным полям в очень далекое поселение местных жителей — добывать продукты. Эти валенки были единственным средством сообщения с внешним миром. Конечно, к этому нужно прибавить необыкновенное мужество тети Мани и ее помощницы Л. Д. Тетя писала нам позднее, что несмотря на то, что дети, выехавшие на барже до холодов, не имели с собою зимней одежды (думаю, что и тетя — тоже, она о себе не очень умела заботиться), никто из детей даже не заболел. Весной на берегу всей «школой на барже» посадили картошку (местные жители подарили школе картофельные глазки), развели огород. Тетя купила (у нее были деньги, которые мама успела со своих сбережений перевести на тетино имя) много гороха и посеяла целое небольшое поле. Уход за полем, грядками был в ведении детей и двух учительниц, и они вырастили и сняли урожай, прокормивший их следующую, вторую, военную зиму. Тетя детей не только сохранила, но не переставая продолжала занятия с ними. Наверное, уж литературу эти дети знали очень хорошо. А что касается воспитания, то оно благодаря тетиным высоким принципам, конечно, было прекрасным — испытанное дружбой, взаимной помощью, «стойкостью духа» и превосходным примером праведной тети Мани. Уже после возвращения «школы на барже» в Ленинград тетю Маню наградили орденом Красной Звезды. Не сомневаюсь, что тетя смогла помогать многим из ее питомцев, сделавшихся во время осады Ленинграда круглыми сиротами.БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА
В конце (23-го) августа немецкие войска захватили станцию Мга (приблизительно 45 км от Ленинграда). Последняя линия связи с остальной страной — Северная железная дорога — была разорвана. Началась блокада Ленинграда. С юга все пути сообщения с Ленинградом были отрезаны немецкими войсками и испанской Голубой дивизией под немецким начальством, с севера — финскими войсками. Осталась одна возможность сообщения с Большой Землей: через Ладожское озеро. Таким путем успели до морозов вывезти 500 000 человек, хотя многие баржи с людьми погибли при обстрелах и бомбежках — немцы старались потопить их. Известно было в Ленинграде, что слушатели-старшекурсники Военно-медицинской академии, которых эвакуировали в их военной форме в открытых баржах, были потоплены. Та же участь постигла баржу со студентами Военно-морской медицинской академии, — конечно, немцы решили, что это едут войска, и потопили их. Да и если б ехало только мирное население, все равно, и их бы пустили на дно — некогда им было разбираться… О блокаде население города узнало как всегда — молниеносно. По радио пытались это еще как-то замазать, скрыть факт, но как только стали слышны орудийные выстрелы и по городу были выпущены несколько снарядов, власти сообщили по радио о блокаде города. Все противотанковые рвы, которые десятки тысяч ленинградцев с такими огромными трудностями рыли вокруг Ленинграда, нисколько не задержали немецкие танки, доставив лишь ленинградцам — участникам трудовых работ — разные беды, увечья и смерть. Ленинград ждал отступающую под натиском немцев Красную Армию, которая должна была защищать. Но эти армии ли попали в окружение, или были уничтожены, или каким-то образом. сумели просочиться на восток, оставив город незащищенным. Теперь мы сами должны были защищать город, если сможем. Очень многие считали, что если немцы захотят, они возьмут город голыми руками! Но город пытался ощетиниться буквально из последних сил: население заставили теперь копать окопы и доты по окраинам города, и воздвигать заграждения, вроде баррикад против танков, уже в черте города. На земляные работы посылали буквально всех, кто мог держать лопату в руках: и студенты, и преподаватели институтов, и старые люди, и женщины и школьники старших классов — все рыли. И маму послали вместе с другими иждивенцами. Были значительные жертвы среди роющих окопы: и от бомбежки, и от обстрелов. Но рыть продолжали — до всеобщего голода! Ополченцам выдавали ружья и посылали их в ближайшие пригороды «на защиту Ленинграда от наступающего врага». А в самом городе жизнь продолжала идти в каком-то лихорадочном темпе, и во вновь создавшемся положении — не только войны, но и блокады — жители проявляли много выдумки и энергично пытались приготовиться к жизни в осажденном городе. Главная забота — создать какие-нибудь запасы, а потому все свободное время тратилось теперь на стояние в очередях, на беганье по магазинам. Если были деньги.ГИБЕЛЬ БАДАЕВСКИХ СКЛАДОВ
6-го сентября ночью одинокий немецкий самолет прорвался, а скорее прокрался в город и сбросил первую (единственную в эту ночь) фугасную бомбу. Бомба упала на Старо-Невском проспекте и вырвала воронкой три верхних этажа одного здания. Погиб один человек. Никто еще не научился по сигналу воздушной тревоги спускаться в подвал. Да и тревоги в эту ночь никакой не было! Весть о бомбе на Старо-Невском быстро облетела город. Во время осады все новости, любые, даже маловажные, не говоря о новостях военных, становились известны всем буквально за несколько часов, даже как-то необыкновенно получалось — вдруг все знают последние новости. С утра ленинградцы потянулись по Невскому проспекту к разрушенному дому. И мы с сестрой тоже шли по Невскому, вслед за выглядевшей праздничной толпой, из Пассажа, где мы делали покупки. И кого только мы не встречали — и знакомых, и малознакомых — и все друг друга приветствовали почти одинаковым, каким-то доверительным восклицанием: «И вы остались в Ленинграде?» Встретила студентку однокурсницу, дочь известного хирурга Александрова. Мы не были близки раньше, только здоровались, а тут она подбежала ко мне с сияющим лицом, очень красивая стройная девушка: «Вы тоже остались? Папа говорит, что немцы Петербург бомбить не будут, а возьмут его неповрежденным!» Этому верили многие тогда, и даже слегка злорадствовали, когда немцы стали бомбить Москву: «Знают, где враги засели, так им и надо. Нас не тронут, мы петербуржцы!» Встретила нарядную, только что вышедшую замуж за капитана дальнего плавания Алешу Сенова мою подругу Нонну Навцени. Обнялись. С некоторым апломбом жены моряка она повторила слова Алеши, который ушел в Балтийское море: «Просил совершенно не беспокоиться — Ленинград никогда не тронут!» (Очень скоро погиб на подступах к Ленинграду посланный на фронт отец Нонны, на ее недавней свадьбе, в начале июля, говоривший во время застолья очень патриотическую речь, даже с пожеланием долголетия Сталину(!). Было очень неловко слышать это из уст интеллигентного человека, в прелестной квартире, обставленной красновато-поблескивающей ампирной мебелью. Жених Нонны, пока в доме готовили постели для гостей, пошел меня провожать; мы шли вдоль Фонтанки пешком, не торопясь. Было уже розовое ясное утро — на фоне светлого неба висели серые неподвижные аэростаты на канатах. Алеша был очень мил, ясен, спокоен, говорил о войне, как о быстро пройдущей неприятности, о своей будущей жизни, о своей милой жене, о нашей с ними встрече после войны; поцеловал меня неожиданно в щеку при прощании и тихо ушел, оглядываясь. Больше я его никогда не видела. Нонна эвакуировалась в деревню, к родным мужа и, пока «ходила» почта, писала грустные письма из глуши, тоскуя об Алеше, который ничего не писал, просто исчез, и изнывая в деревне, утопающей в осенней грязи. Ее брат тоже вскоре погиб на фронте.) Мы все медленно шли по Невскому. Знакомые при встречах обнимались, радовались, что друзья остались, не эвакуировались. И у многих было чувство, что все мы, ленинградцы, люди одной судьбы и что с нами ничего не может случиться. Этому верили очень многие или хотели верить. А Старо-Невский — это случайно оброненная бомба, недаром же — одна! Однако очень скоро ленинградцы поняли, что никакой «целый Петербург» немцев не интересует. И не взяв город с налета, теперь будут его морить и разрушать… 8 сентября был солнечный день, теплый, небо голубое. Мы с сестрой шли по Литейному к Невскому. Не дойдя до Невского, мы услышали, как завыли дальние фабрики; это был очень тоскливый, печальный вой, тревожный, хуже, чем обычные сирены, — воздушная тревога. Дворники стали загонять народ в подворотни. Улица быстро опустела. Жители стояли кучками у ворот домов, выглядывали на затихшую улицу, смотрели по сторонам, в голубое небо, переговаривались о последних новостях с фронта, без всякого беспокойства ждали отбоя. Мы с сестрой зашли из подворотни в парадное (знали этот дом давно), здесь жил с семьей преподаватель папиного института Шумаков. На лестнице было уже довольно много народа, люди сидели на ступеньках, покуривали, тихо разговаривая. Мы поднялись на самую верхнюю площадку и сели на подоконник. Вдруг послышались треск, грохот, взрывы. Мы буквально прилипли к окну и через немытое грязное стекло глядели на небо. Все оно было покрыто белыми круглыми облачками. «Зенитные разрывы, — сказал поднявшийся на нашу площадку пожилой человек, — наверное, неприятельские самолеты прорвались в черту города». Тревога продолжалась более часа, хотя зенитная стрельба довольно скоро прекратилась. После отбоя народ, оживленный и веселый, вывалился из всех подворотен, и всем представилось зрелище необыкновенное: над городом на фоне синего неба, огромным коричнево-черным столбом стоял дым от грандиозного, очевидно, пожара. Направление пожара было, если смотреть на дым от Литейного, в сторону Пулково. Народ стоял на тротуарах, на улице, все были возбуждены, что-то восклицали, размахивали руками, многие почему-то улыбались. Но вскоре то тут, то там мы стали слышать все одну фразу, ее повторяли, опять и опять, и настроение толпы как-то сразу изменилось и я почувствовала еще, не поняв смысла слов, повисшую в воздухе тревогу: «Это Бадаевские склады! Горят Бадаевские склады!» И потом чей-то голос, с ужасом: «Там сосредоточены все запасы продовольствия Ленинграда!» Толпа притихла, сникла, стала быстро расходиться. Мы решили вернуться домой. Пока дошли до нашей улицы (улица Белинского, бывшая Симеоновская), в воздухе запахло жженым сахаром, горелой мукой и из дыма, охватившего уже и небо над нами, оседали жирные хлопья. Бадаевские склады горели три дня. Все продуктовые запасы города — погибли. После пожара Бадаевских складов сразу понизили нормы выдачи хлеба: стали давать только 250 г на человека. Очереди везде огромные, но купить почти ничего невозможно. Ждали, что хлебный паек еще уменьшат! В городе все время говорили о наступающем голоде. А голод — уже наступил. И немцы стягивали кольцо блокады все туже. Еще 9-го сентября они заняли Стрельну — одно из самых близких дачных мест к Ленинграду, место, куда по воскресеньям жители города ездили «загород» с бутербродами и крутыми яйцами в бумажных мешочках — отдыхать на зеленой травке. А теперь там немцы! Наверное, и в Токсово — тоже немцы! Топчут наши осенние разноцветные астры на клумбах! И георгины! Город обстреливался из артиллерии немцами. Но город был все еще очень оживлен, и население сновало по улицам в поисках чего-нибудь съестного, которого не находили. У нас в институте в столовой еще можно было получить тарелку жидкого чечевичного супа без карточек — он казался таким вкусным! И в чечевице много железа.НАЧАЛО БОМБЕЖЕК ЛЕНИНГРАДА
10-го сентября отключили в городе телефон. Как будто наступила еще и индивидуальная блокада. В середине сентября мы с мамой были дома вдвоем, папа был в своем институте на дежурстве и не должен был вернуться домой (это была его неделя отбывания «казарменного положения»), сестра была в гостях. К нам пришел наш давнишний знакомый Александр Хватовкер и засиделся до позднего вечера. Мы его знали еще с раннего детства. В Токсово мы ходили смотреть, как студенты (и А. Хв. в их числе) играли на верхней площадке в волейбол. Игры были очень азартными, и было много болельщиков. Мне, как и всем детям, очень хотелось вырасти и тоже играть со всеми взрослыми в волейбол. Студентам нравилось, что целая стая детей с увлечением следит за игрой, и они немного красовались. Когда мне исполнилось десять лет, А. Хв. решил ждать меня семь лет, когда я вырасту, и сделать мне тогда предложение, что он и делал неоднократно, без успеха, но оставался другом семьи. Хотя было уже темно, мы не зажигали свет и сидели с мамой и нашим гостем у открытых окон; мама предложила А. Хв. переночевать в папином кабинете на диване. Мы только что разошлись по комнатам, как завыли сирены — воздушная тревога! С началом войны, когда у жителей Ленинграда отобрали радиоприемники, многие остались без всякой связи с внешним миром, и когда начиналась тревога и уже слышался издалека печальный вой заводских гудков, дежурный дворник выбегал на середину двора и начинал крутить ручную сирену, которая очень нехотя и неровно начинала выть. Мы все опять собрались в столовой и стояли у открытых окон. Дворник с сиреной ушел. Только слышался замирающий тоскливый звук дальних заводских сирен. Небо, темное, уже почти ночное, стало вспыхивать, как от дальних зарниц, беззвучно, и постепенно стало покрываться огоньками — белыми, красными. Одни огоньки летели вверх, другие — вниз. Вдруг взрывались снопом света, лопались; и все это «огненное представление» разрасталось и стало набирать звук — затрещало, захлопало, заухало. По небу быстро сновали лучи прожекторов, скрещиваясь, сразу по нескольку лучей, и разбегались… Было необычно красиво. Но взрывы и звук тупых ударов стали приближаться. Капитан Хв. нервным, каким-то тонким голосом, закричал: «Отойдите от окон!» — и, схватив мою руку, стал тянуть меня к двери в переднюю. А дом в это время как-то странно всколыхнулся, как на волне, и покачнулся. Мама, все еще глядевшая на небо, воскликнула тоже неестественным голосом: «Полетели!» — и побежала в глубь комнаты. Уже совсем настоящие тяжелые разрывы были слышны совсем близко: сначала был слышен тяжкий тупой удар в землю, потом оглушительный взрыв, и что-то рушилось, и бились о землю с дребезгом стекла, и голова непроизвольно втягивалась в плечи; и руки закрывали лицо. А сестры нет дома, где-то застала ее тревога? Ал. Хв. сказал, что лучше стоять на лестнице, в нижних этажах. И объяснил на мои испуганные вопросы, что это — бомбардировка! Сердце в испуге ухнуло вниз, вот теперь война для нас начинается всерьез! И вспомнилась испанская кинохроника: стоящие отдельные стены рухнувших домов и вместо окон — дыры в небо. Мы вышли на лестницу и стояли с другими перепуганными жильцами на лестничных ступеньках нижнего этажа, прислушиваясь к звукам бомбардировки. Было страшно, а А. Хв. очень взволнованным голосом шептал мне прямо в ухо, чтоб я не боялась, что он тут, рядом, и от этого делалось еще страшнее. Все наши «соседи по лестнице» оставались с нами, боялись спускаться в подвал, который был все еще неотделанным — это была бывшая пекарня с одной дверью, выходившей под нашу лестницу, и малюсенькими окнами, глядевшими на булыжник двора, с трубами, водяными и канализационными, вдоль стен; подвал без скамеек, заброшенный, грязный, сырой и холодный. Живущая этажом выше нас, прелестная артистка мюзик-холла (она танцевала на проволоке под самым потолком театра) все жалась к маме и, выглядывая из белых песцов, накинутых на ее плечики, испуганно шептала: «Если бомба попадет в дом, подвал засыплет и всех затопит, — не будем спускаться в подвал, хорошо?» На лестнице, все простые лампочки заменены (по всему городу) синими, и все выглядели особенно бледными и перепуганными при таком освещении. Мне было очень страшно! И некуда спрятаться! Вся жизнь зависит от случайности… Потом звуки бомбардировки стали затихать. Прибежала сестра (она простояла налет на Фонтанке в подворотне), очень возбужденная: «Вся улица усыпана стеклами!» Так она и бежала домой по стеклам. Мы все еще не решались возвращаться в квартиру. Пришел дворник и сказал, что прямые попадания были на Пантелеймоновской (теперь улица Пестеля), у Моховой (почти около школы, в которой мы учились еще совсем недавно — бывшей Таганцевской гимназии). Потом сообщил подробности: в одном доме женщина стирала белье и не спустилась в подвал — боялась, должно быть, что вода остынет, — и погибла, а в другом доме девочка спала в своей кроватке, проснулась от грохота, глянула в окно и увидела языки пламени — и тут же лишилась рассудка. Пугали в рассказе подробности: рисовались в воображении руки в мыльной пене, головка девочки на белой подушке! Но уже через несколько дней никто не интересовался подробностями трагедий, они сделались привычными. В эту первую ночь серьезной бомбардировки пострадал не только наш район, но и тот, что примыкал к нам: разрушено было несколько домов на Фурштатской и дальше к Таврическому дворцу, бомба попала в новый госпиталь — на Кирочной. Капитан Хв. оставил мне свой ручной военный фонарик, который сам заряжался, когда нажимаешь на его ручку, он очень стрекотал, когда вспыхивал. Бомбежка сделалась ежедневной, налеты были много раз в день. В некоторые дни более дюжины. Это совершенно выматывало население. Целый день проходил под знаком страха. И ночью не было покоя: не успеешь лечь — и уже нужно вставать и спускаться вниз, к подвалу. Давно перестали говорить об укрепленности Ленинграда, его неуязвимости, о том, что немцы Петербург не станут бомбить: наши не сумели нас защитить, а немцы — варвары — нас терзают! Аэродромы немцев были под самым городом — говорили, что на расстоянии пятнадцати километров; и немцы бомбили методично, по часам. И обстреливали — тоже по часам. Видно, что «немец порядок любит». Бомбежки были, как говорили, вообще и направленные. Вообще — это чтоб мучить нас непрерывно, выматывать. Направленные — на госпиталя и государственные учреждения и банки. Но понятия о государственных учреждениях и банках были, явно, у немцев какие-то — допотопные. Во время первых налетов разбомбили бывшую Государственную Думу. Так она и стояла, пока мы были в Ленинграде, без крыши — один каркас. Хотя это и была Дума, но после революции — только здание (никто в ней не заседал), внутри же продавали (с большими очередями) билеты на поезда дальнего следования (например, мы покупали там билеты в Крым и на Кавказ — мама с домработницей стояли в очереди по два-три дня). Что касается банков, то немцы плохо знали нашу систему и разбомбили сразу здания банков, которые были до революции важными финансовыми центрами страны, но после революции чаще всего были заняты какими-нибудь маловажными городскими учреждениями… К концу сентября вышел приказ, запрещающий делать продуктовые запасы. Приказ был строгий и с угрозой тяжелых последствий за «распространение паники и за спекуляцию». А норма выдачи хлеба сделалась совсем маленькой — голодный паек: 250 г хлеба для рабочих и 125 г для служащих и иждивенцев. Несмотря на опасность делать запасы, все, у кого были деньги, пытались купить все съестное, что только можно было еще купить. Какая-то тихая, почти осторожная паника охватила всех. Если в магазине что-нибудь появлялось, сразу же устанавливалась громадная очередь — и стояла, пока все не раскупалось. Никто теперь без мешка, рюкзака не выходил на улицу, как до войны у всех была с собою авоська, теперь, кроме мешков, появились в руках судки и бидончики, чаще всего ничем не наполненные, но всегда как бы наготове. Постепенно в магазинах (продуктовых), в гастрономах и булочных выветрились запахи, такие привычные — запахи продуктов, свежевыпеченного хлеба, масла, копченостей, зелени и т. д.: пахло пустотой — полки были пустые, витрины пустые, снаружи заколоченные. Больше ничего не привозили. Я всегда любила запахи разных магазинов… И не только многообразные и сложные запахи Елисеева, а самые простые для меня — «летние». Запахи деревенских лавочек — кооперативов и сельпо — в деревне Токсово. Это был особый неповторимый смешанный запах веревок, соленых огурцов в открытых больших бочках у самого прилавка, круглых буханок душистого черного, ржаного хлеба, дешевых конфет подушечек, воблы, скобяных товаров, керосина, мешковины (в больших коричневых мешках на полу — чечевица, горох) — и запах кваса… К этому примешивался запах крапивы, разогретой солнцем, травы, приносимый ветерком в открытую дверь… Иногда — в магазинах колониальных товаров — уже в Европе я закрывала глаза и вдыхала их аромат, чтоб вспомнить запах кооперативов, всегда пленявший меня в детстве, но здесь, в Европе, он был другим — с примесью пряностей, чая, сухих травок — не наш простой, грубоватый, деревенский…ПРОДУКТОВЫЕ ЗАПАСЫ СЕМЬИ
У нас в передней, на большом черном шкафу с незапамятных времен хранился светло-зеленый матерчатый чемодан тети Мани. Она принесла его очень давно, должно быть, после революции, в голодное время. В нем хранились древние сухари. На случай нового голода, в начале и середине двадцатых годов все петроградцы делали запасы сухарей. Сухари были старше меня по возрасту. Тетя свой «запас» принесла нам на хранение: у нее никогда не было своей квартиры, она всегда снимала комнату. Этот чемодан испокон веков стоял на шкафу. Нам иногда позволяли заглянуть в него — на окаменелости, их и мыши не трогали. Во время блокады — это была неслыханная ценность. И мы все съели, до сухарика. В нашей семье появились новые выражения папы: «продуктовый запас» и «обменный фонд». Когда папа возвращался из института домой, его семейные разговоры сводились к теме создания «фонда». Пройдя две войны, революцию, тюрьму, голод, папа вправе был считать себя опытным и решил подготовиться к голоду. Хотя он спохватился несколько поздно: возможностей становилось все меньше. Начиная с того, что сберегательные кассы заморозили сбережения населения города. Но папа продолжал получать в институте свою профессорскую ставку, и у нас были поэтому возможности покупок, как выражался папа-экономист, «покупательная способность». Мы всегда теперь, выходя из дома, имели при себе деньги, и куда бы. мы ни шли, если мы видели, что продается что-то съестное, должны были становиться в очередь. И все что можно пить и имело витамины — приказ по семье был — покупать! Особенный упор папа делал на помидорный сок — еще в начале октября кое-где продавались стеклянные бутыли и жестяные банки с помидорным соком (предпочтение было жестяным, чтоб при бомбежках они бы не разбивались, но покупались и в стеклянной посуде — и они употреблялись в первую очередь). Сок из помидоров считался богатым железом и кровеобразующим. У нас на полке в кладовке стояли четыре большие банки, и папа как-то мило радовался: «Это, ребятки, жидкое железо!» По тому же плану подготовки к голоду папа издал один приказ, самый ранний, еще в сентябре — купить саночки — салазки, как сказал папа: «Зимой это может быть спасением — на них можно будет возить дрова и все что угодно. А если придется отступать, на руках и спине ничего не унесешь, а на салазках — очень много! Они зимой будут на вес золота!» Мы с сестрой отправились в Пассаж и купили двое новых золотистых детских саночек. Когда мы с покупками шли домой, к нам подходили жители нашего города и, сразу угадав ценность покупки, спрашивали, где дают санки, или, менее догадливые, спрашивали, почему мы в осажденном городе делаем такую покупку. Мы охотно объясняли: чтоб возить дрова, хворост, продукты — все что нужно. И люди обрадованно спешили в Пассаж запасаться такой «скатертью-самобранкой». Как многим тысячам они пригодились через полтора-два месяца, но не для жизни, а для смерти. Из сливочного масла, которое мы покупали до гибели Бадаевских складов (потом оно вскоре исчезло из магазинов), мама должна была создавать «запас жиров». Из всех кусочков, которые мы покупали и приносили домой, возвращаясь из института, в портфеле, чтоб дворник не заподозрил нас в делании запасов и не донес бы на нас, мама, перетапливая их в кастрюльке, делала русское или топленое зернистое масло, которое может долго храниться и не горкнуть. Пока не опустели полки всех продуктовых магазинов мама при нашем усердии натопила полкастрюли (средней величины) масла. Кастрюля хранилась в холодной кладовке вместе с помидорным соком. Папа заглядывал в кастрюльку и вздыхал: «Эх, маловато — не успели», но, призакрыв глаза, втягивал в себя запах масла и говорил, что один запах уже насыщает! Делание продуктовых запасов очень быстро кончилось само собою: нечего было больше покупать, Только у Елисеева на полках — зеленые кофейные зерна. Мы купили два кило зеленых зерен (по огромной цене — 30 рублей кило), и потом, когда начали серьезно голодать, пытались их варить, размачивать и потом просто подрумянивать на буржуйке, молоть на ручной меленке и варить жидкий, но горячий кофе и пить его медленно без сахара и без молока, растягивая удовольствие. По карточкам полагалась крошечная порция крупы, щепотка сахара, но и это нужно было искать и выстаивать длинные очереди. Наши запасы на поверку оказались очень мизерными. Мы поздно спохватились, да и наши институты и занятия продолжали занимать первое место в жизни. А папа был на полуказарменном положении и, когда бывал дома, то продолжал писать в теплой кухне на кончике стола, проверял чьи-то диссертации и т. д. И хотя папа с начала блокады все время твердил, что нужно покупать «муку, муку» и «жиры, жиры», и «сахар, сахар» и что «тогда мы выживем», но его маленькая армия из двух человек — мама не в счет, — не сумела создать «продуктовых запасов». Вплоть до самой эвакуации из Ленинграда папа часто, иногда мечтательно, иногда сердито говорил о мешке картошки: «Будет мешок картошки — тогда выживем». Этот мешок картошки сделался у папы постепенно идеей-фикс. О нем он говорил всегда, когда обсуждался «продуктовый вопрос». Я даже во сне видела эту мешковину с большими землистыми картофелинами, и я ее тащила домой, но не для того, чтоб съесть, а для того, чтоб обрадовать и успокоить папу. Но так у нас и не было этого мешка картошки никогда. Хорошо, что папа был занят в институте: он с головой ушел, как всегда, в работу после недели, прошедшей с начала войны, когда вся жизнь еще не перешла на темп военной жизни. Теперь же, к очередной преподавательской деятельности, к выпускным экзаменам прибавились разные дежурства в институте, от которых не освобождали никого, даже профессоров. Папа раньше нас начал делаться дистрофиком и голодать, но он никогда не имел времени — по свойству своего интеллекта — отдаться мыслям об еде, голоде. Вторым папиным «планом по выживанию» был план создания «обменного фонда». Папа хорошо помнил, что после революции, когда города голодали и хозяйство страны находилось в состоянии разрухи, в окрестных деревнях, особенно более далеко расположенных, можно было менять некоторые товары на продукты. Наш «обменный фонд» должен был быть образован из трех типов товаров, которые можно было еще покупать в сентябре-октябре на деньги. 1) Табак. Лучше — крепкая махорка, в пачках (можно и папиросы, но как «фонд» они были менее «надежны»). Табаком мы запаслись довольно основательно. Табак покупала я, в киосках, по дороге из института, старалась не пропустить ни одного. В одном киоске продавец грустно мне улыбнулся: «Что, закурили, барышня?» 2) Мыло. Серое, хозяйственное, и туалетное. Мы накупили его целый чемодан. Мыло нам не пригодилось как фонд — только для собственного употребления и для подарков друзьям. 3) Обувь. Крепкие лыжные сапоги. Вечные, как выражался папа, считая, что всякий деревенский житель будет «с руками отрывать» эти «вечные сапоги» и осыпать нас продуктами. В действительности же мы поменяли на продукты во время эвакуации всего одну пару. Остальные (мы купили десять пар) мы таскали с собою и где-то потеряли на дорогах войны. Помню, только несколько пар подарили друзьям… «Сооружение обменного фонда» внесло, безусловно, элемент борьбы за жизнь и мне, скорее, нравилось. Но поначалу привыкнуть покупать запасы было трудно. Помню, в начале войны, еще до того, как была разработана вся система создания «фонда», папа пришел после лекции домой, возбужденный, и крикнул мне: «Скорее бери кастрюлю и бидон и бежим — на углу Литейного и Невского пиво дают!» Мне тогда, в те ранние времена, это казалось почти позором — выйти на улицу с бидоном, как чухонка, но папа торопил, не хотел слышать возражения, только твердил: «Скорее, скорее!» Мама к ручкам кастрюли привязала веревочку, папа схватил бидон, и мы побежали вниз по лестнице на улицу. Казалось, все прохожие смотрели только на меня и на кастрюлю! И правда — смотрели. И стали подбегать к нам и тревожно спрашивать: «Где и что дают?» Мой нелепый страх и стыд прошел, ушло с ними и защищенное детство. Я стала равноправным членом военной семьи, в блокадном городе и, как выражался папа, «добытчиком», хотя в этом смысле папа ошибся: много пришлось нести на плечах во время войны и в послевоенное время, иногда поступки были почти непосильные, почти героические, но движущей силой этих поступков была не жажда выжить, и «добытчиком» я не сделалась за всю свою жизнь — никогда.Глава третья
ОСЕНЬ 1941 г.
В начале сентября, когда немцы постепенно сжимали смертоносное кольцо вокруг Ленинграда, на улицах появились колхозники из близких к городу деревень, занятых немцами. Их эвакуировали очень поспешно, и они буквально бежали из прифронтовой полосы, не имея ни времени, ни возможности взять с собою вещи, продукты. Их наскоро разместили в школах, прямо на полу. Но кормить их было нечем. Весь город уже жил на карточки, да по карточкам выдавали почти один хлеб. Пока крестьянам-беженцам выдали карточки, а до этого кормить их было нечем, да и нормы были уже более чем голодные, эти беженцы стали погибать. Я видела этих несчастных на улице: у них не было ни мешков, ни узлов, — признак внезапного бегства. Особенно много было женщин с детьми. Они сидели на тротуарах, в лаптях, некоторые в оранжево-коричневых овчинных тулупах, и просили милостыню. Сначала, первые недели они выглядели очень живописно, как на картинах Передвижников. Просили Христа ради хлеба длят детей. Им подавали — деньги. Признаки голода я впервые увидела на лицах этих крестьянских беженцев — отеки и серый цвет кожи. В октябре они совершенно исчезли — первые жертвы наступающего голода и холода, а за таял, немногим позднее, в ноябре стали вымирать коренные ленинградцы. Еще в конце лета в газетах, в каждом номере, стали появляться очень грубые статьи о немцах. Особенно отличался Илья Эренбург. Он первый дал этот истерически-злобный тон статьям о немцах. Не о защите страны от напавшего врага говорил Эренбург, не о национальном объединении людей в беде писал он, а повторял только жестокий, мстительный клич: «Бей, бей каждого, отдельного фрица — коли, режь, уничтожай! И гордо отмечай зарубкой на винтовке количество уничтоженных фрицов!» Илья Эренбург вкладывал в смысл войны совсем иное, не свойственное русским, чувство, — не национальное, соборное, патриотическое, а мстительное, разрушающее в человеке защищенность от греха, совершаемого во времявойны каждым солдатом армии, что превращало человека в убийцу. В статьях и указах о наградах теперь всегда упоминалось о количестве(!) убитых немцев каждым русским воином — чем выше количество убитых, тем выше награда. И в статьях о героях всегда говорилось о «количестве зарубок» на винтовке. Помню, об одном воине было сказано, что «на винтовке его не хватило места для зарубок». Преподаватель папиного института Шумаков — партийный, конечно — как будто выпил этот яд и, зло прищуривая свои маленькие, всегда красные, воспаленные от алкоголя глаза, все повторял опять и опять каким-то шипящим голосом: «Немцы, они — змеи. Их нужно уничтожать! Всех — поголовно! И женщин, и детей. Всех — до единого…» Меня, тогда очень молодую девушку, верящую если не в силу нашего оружия, то в силу духа, выдержки русского воина, так много раз на протяжении нашей истории показавшего этот особенный, соборный строй души во время великих испытаний, оскорблял и возмущал чуждый, злой тон газетных статей. В конце 80-х годов вышла в Англии книга Марии Васильчиковой «Берлинский дневник». В ней она пишет: «Бурхард Прусский только что был здесь, после того, как его отослали с русского фронта, потому что он королевской крови. Он говорит, что война — зверская. Обе стороны почти не берут пленных. Русские воюют и мучают пленных, как преступники, не солдаты; поднимают руки вверх и, когда немцы к ним подходят, стреляют в упор; они даже стреляют в немецкий медицинский персонал, в спину, когда те пытаются помочь их же раненым. Однако они очень храбрые и бои везде идут очень тяжелые…» Бомбежки и обстрелы продолжали донимать нас всех ужасно. Но все-таки — несмотря на значительные жертвы среди населения, жизнь упорно продолжала идти в осажденном городе. Во время бомбежек, когда на город в начале бомбардировок сыпались зажигательные бомбы, чтоб пожарами «осветить» город для сбрасывания фугасных бомб, население просто героическими. усилиями не давало городу гореть: во всех домах были дежурные на крышах, сбрасывавшие зажигательные бомбы на улицы и во двор. Если же они не справлялись, звали жителей дома на помощь — из подвалов, и отстаивали дом! По карточкам ничего не прибавляли. Люди начали ходить на рынки, в поисках возможности купить съестного. Но делать запасы запрещалось и каралось очень жестоко: арестами и, главное, отнятием запасов. Но все пытались что-то добывать, хотя это делалось уже почти невозможным. Я все ходила в институт, пешком, трамваи, хотя и все реже из-за бомбежек, все-таки еще ходили в октябре, но были переполнены и ползли очень медленно, с долгими остановками. Факультет патологической анатомии находился в глубине парка, в котором были расположены корпуса больницы и здания института, вплоть до самой речки Карповки. С конца октября у нас начались занятия по «патологической анатомии». Первое впечатление, когда мы вступили в огромное помещение «патанатомии», было очень тяжелым. На большом числе металлических «цинковых» столов лежали убитые солдаты — все молодые, с короткоостриженными головами, совсем мальчики. Нам сказали, может быть, чтоб успокоить наше волнение, что эти убитые солдаты (прозектор называл их — «покойники» — более безлично) попали сюда потому, что у них не было найдено документов после гибели, они были безымянными. Они лежали и ждали ужасного ножа прозектора. А в это время их ожидали в неведомых домах родные — матери, отцы, близкие. Я не смогла выдержать такого «служения науке», сбежала и горько плакала в коридоре. Из. прозекторской одна за другой входили расстроенные студентки, садились рядом на скамейку и тоже плакали. Каждая — о своем и о горе, охватившем страну. В начале октября перестал работать водопровод. За водой мы ходили вдвоем с сестрой на Литейный, недалеко от нашей улицы. Там труба из одного дома выходила прямо на улицу, и из нее, не переставая, лилась вода довольно сильной струей. Но через несколько дней из трубы не выходило больше ни капли, и мы стали ходить за водой во внутренний двор дома на Фонтанке. Это уже было значительно дальше, и нужно было пересечь трамвайные пути и широкую булыжную мостовую нашей Семионовской улицы. Во дворе на Фонтанке всегда стояла очередь к трубе с водой: вода текла очень тоненькой струйкой, приходилось долго ждать, пока наполнится даже маленькое ведерко. Мы с сестрой стояли, ждали — больше никто никуда не спешил — и чтоб скоротать время, тихонько пели друг другу. Перед нами стоял высокий мужчина (с серым лицом), он повернулся к нам: «Вы, наверное, сытые, что поете». Мы замолчали. В голосе его — только грусть. Очень заметно, что в городе — недостаток воды и топлива: все больше встречается на улицах немытых лиц, небритых, серых… Мама несколько раз слышала, стоя в очередях, что в пригородах — брошенные поля с капустой, не убранные из-за поспешной эвакуации колхозов. Можно на трамвае доехать до конечного кольца, и там, чуть пройти, и начинаются поля, поля, и на них — капустные кочаны стоят, набирай в мешок, сколько сможешь унести, и кругом — никого, все эвакуированы, только спелая капуста осталась стоять. Вспомнила поля около Ораниенбаума, которые нас кормили, и размечталась, — о бомбежке и обстреле не думалось. Я решила поехать. Мама пристегнула большой рюкзак мне на спину. Ехала на трамвае до кольца. В трамвае — полно народу, и все — с пустыми мешками. Все мы, как послереволюционные мешочники! Все молча смотрят в окна. Проходят перед глазами задворки Ленинграда, кривые заборы (еще не разобрали на топливо — отмечает взор), деревянные невзрачные домики, скучные однообразные многоэтажные застройки — обычные пригороды всех больших городов. И никаких полей. Вот и кольцо! Кругом — одни дома, булыжная мостовая, унылые улицы. И «столовка». Все и я, не задумываясь, пошли в «столовку» — сразу выстроилась очередь. Очередь — источник самых разнообразных сведений. Стало известно, что никаких полей даже близко нету. А далекие — очень далеко и давно обчищены, да и сильно обстреливаются немцами. Но в столовой в очереди, в которой мы стоим, дают суп без карточек. Суп из капустных листьев, без признаков жира, но горячий и довольно густой! Хорошая вкусная баланда! Хлеб теперь называют только хлебушко и хлебец. Не забыть лица папы, когда он брал свой кусочек хлебушка, чуть подсушенный на буржуйке, в ладошку и нюхал его, закрыв глаза, и потом поворачивал к нам лицо и как-то ясно и нежно улыбался: «Как хорошо пахнет хлебушко-то!» А хлеб выпекался уже в конце октября тяжелый и мокрый, с большой примесью жмыха и отрубей[2]. Мы часто слышали теперь имя генерала Кулика, который идет прорывать блокаду. Мы так верили или хотели верить этому неведомому Кулику, что он не даст городу погибнуть. Но скоро его имя перестали повторять — оно забылось. Еще раз какие-то надежды связывались с именем генерала Власова: говорили, что у него на послужном листе — одни победы, что уж он-то прорвет блокаду, но и он не пришел — надежда всколыхнулась и быстро исчезла… Говорили, что он пропал в непроходимых болотах…[3] А бомбежки продолжались и разрушения в городе стали ощутимее: почти на каждой улице был теперь хотя бы один покалеченный или сильно разрушенный дом. Но не было почти разрушенных домов до полного основания (как мы потом видели в европейских городах). Наши северные города (старые) строились в «два кирпича», реже — «в полтора», а европейские — особенно немецкие — в «полкирпича». От сильной воздушной волны они рассыпались. От обстрелов гибло большое число ленинградцев, но сами снаряды зданиям не причиняли особенных повреждений: вырвет дыру в стене — но здание не разрушается, снаряд при попадании и разрыве не давал разрывной волны. У нас в семье у каждого приготовлен чемодан с самым ценным и четыре мешочка с нашими теперь совсем мизерными запасами. По тревоге с чемоданами и мешочком (мы в этих мешочках в давние времена носили в школу галоши) мы спускались в первый этаж дома, где и оставались. Я только раз была в подвале — впечатление ужасное: лучше оставаться на лестнице. К январю в подвал поставили два деревянных топчана для детей и матерей с младенцами, как гласило коряво написанное карандашом объявление на листке из школьной тетради, приклеенное к стене. Но никаких матерей, детей и младенцев на нашей лестнице не было. Это «бомбоубежище», с запахом сырости и влажной грязи, теперь замерзшей во всем шестиэтажном многоквартирном здании с пятью лестницами, было единственным, куда ходили спасаться. Были еще под домом на заднем дворе полуподвалы, которые служили дровяными сараями. (Мы в последнюю осень перед войной привезли из Токсово и держали в нашем сарае род-эйлендского петуха. Но по ночам он кукарекал, и дворник, живший над сараем, украл петуха — он ему мешал спать — и съел его.) Стоять при бомбежках на лестнице было надежнее, чем бежать через двор в сарай… Как странно, что в течение многих десятков лет, в периоды душевных волнений мне всегда снится один и тот же военный сон — наш огромный двор, выложенный булыжником, и я спасаюсь от беды бегством к — заднему двору, чтоб скрыться в дровяном сарае. Но по мере бега двор все удлиняется, и я не могу добежать до сараев и просыпаюсь в ужасе… и не сразу вспоминаю, что войны — давно нет, а это — самая страшная беда… все другие беды — такие незначительные и поправимые; кроме смертей…РАБОТА В ГОСПИТАЛЕ
В середине сентября я получила назначение от института на работу в госпиталь. Такое же назначение получила Нина Апухтина. Позднее я устроила в этот же госпиталь работать добровольцами маму и сестру. Маму несколько раз посылали на рытье окопов. Первый раз — в Гатчину, откуда она с другими «окопниками» бежала пешком в Ленинград, когда стал приближаться фронт. Сестре сказали в ее институте, что ее тоже пошлют на трудовые работы. И возможность работать в самом городе, да еще всем вместе, была очень привлекательна. В госпитале, когда наступили холода, было довольно тепло. К сожалению, нас не кормили. Но у нас троих было очень хорошее чувство от сознания, что мы делаем нужное дело. В дальнейшем оказалось, что уход за больными при недостатке врачей и медицинских сестер ложился на нас, и так называемые добровольцы тянули на своих плечах работу сестер, сиделок, санитарок, а мы, медички, были младшими помощниками врачей, и врачи нам говорили, что без нас они бы не справились. Нам с Ниной, медичкам, давали, вернее с благодарностью доверяла, перевязки, уход за ранами. И раненые понимали, как много мы делаем, и делаем охотно, внимательно, и относились к нам очень ласково, называли «сестричка» и очень смущались, когда нужно было оказывать им «санитаркину услугу». К маме тоже относились все раненые прекрасно: мама умела хорошо ухаживать за больными, даже трудными, была всегда ровна и приветлива. Выздоравливающие раненые, посланные на поправку на Большую землю, на север, писали маме благодарственные письма. Писали нам только деревенские люди, почти малограмотные солдаты, как молодые, так и старые, как правило, со старорусской напевностью и «с низким поклоном от бела лица до сырой земли». Очень просто, со скромным достоинством, плавной медлительностью и трогательностью. Мама все письма хранила бережно. Потом почта перестала работать. Сначала нас (меня и Нину) послали на временную работу в эвакогоспиталь около Николаевского вокзала, расположенный в старом кирпичном здании бывшей гимназии, потом — средней школы. Прекрасно построенное здание с огромными коридорами — широченными, как актовый зал каждый; классные — с высокими окнами, светлые и очень просторные: получились отличные палаты для раненых — много воздуха и света. Каждую из нас определили в палату. Палата считалась «нашей», и мы должны были делать все: ухаживать за ранеными — кормить их, поить, перевязывать, сначала под присмотром главной сестры. И делать все, что доктор нам скажет. В моей палате на шесть кроватей была занята пока лишь одна. На ней под затянутым кисеей металлическим каркасом лежал обгоревший солдат-танкист. Видна была только голова: все его старое запекшееся лицо было в черных коростах. Но глаза были по-видимому не повреждены, только ресницы и брови опалены, как и волосы на круглой, коротко стриженной голове. Танкист не открывал глаз и только стонал — тихо, уныло, жалобно — как-то безнадежно. Старшая медицинская сестра, моя непосредственная начальница, немолодая, строгая, без улыбки, велела мне сидеть около танкиста, не отлучаться, отгонять мух от его лица, поить его водой из поильника или с ложки, что будет удобнее, и выполнять работу санитарки, если нужно будет. И сказала, что домой меня на ночь не отпустит, только через двадцать четыре часа на полдня. Кажется, я попала в серьезные военные условия. До вечера ничего не случилось: я сидела неотлучно около изголовья обожженного танкиста, опахивала его лицо куском картона, чтобы ему легче дышалось. Мне показалось, что когда его обмахиваешь — он меньше стонет. К вечеру он приоткрыл глаза, совсем запухшие от ожога, и попросил хриплым голосом: «Сестрица, испить бы». Подала ему поильник с холодной водой: после нескольких глотков поблагодарил и опять не то заснул, не то впил в забытье. Пришла на цыпочках Нина. Она шепотом сетовала, что нас не направили в палату с комсоставом. По-моему, такой даже не существовало, зачем? Нина попросила медсестру, чтоб ее в офицерскую палату направили. Но ее очень резко оборвали и сказали, что в госпитале все — раненые и она будет исполнять то, что ей скажут. Госпиталь постепенно наполнился ранеными до отказа, даже иногда раненые оставались в коридорах. Мы работали не покладая рук, остановиться было невозможно: так мало было сестер — и так много раненых! Мы не отличали солдат, офицеров, наш табель о рангах был: «тяжелый», «средний», «выздоравливающий», которого должны переправить по воздуху в глубь страны. Раненые были с нами очень терпеливы, видели, что мы выбиваемся из сил, и старались оказывать друг другу посильные услуги, чтоб освободить нас для ухода за тяжелыми больными. Во всем госпитале был один-единственный раненый не воин, а журналист. У него было легкое ранение ступни осколком снаряда, упавшего вблизи от места, где он набирал фронтовую газету. Он мог спокойно передвигаться на костылях, но предпочитал лежать в кровати и замучил всех жалобами и требованиями. При тревоге он садился в кресло на колесах, надевал на свою лысину невоенный картуз, выезжал в коридор и требовал, чтоб медицинская сестра стояла бы с ним рядом, объясняя ей, что она «не имеет права спускаться в подвал, если хоть один раненый остается на этаже! Закон!» Это было так эгоистично, все сестры его недолюбливали и дали ему кличку «наш изводящий». Скоро нас всех перевели в бывшую Мариинскую больницу на Литейном (теперь им. Куйбышева). Это было нам очень удобно: от больницы до нашего дома — рукой подать. Больница, переделанная в госпиталь, была прекрасно оборудована операционными, лифтами. Но врачей и сестер было мало, и они работали буквально до потери сознания. Наши руки этому госпиталю были очень нужны. Нам полагалось ходить в халатах. Мы одели мои «анатомические» халаты, которые завязывались сзади на тесемки, только на голову добавили белые косынки с красным крестом на лбу. На левой стороне халата нужно было пришить красный крест и черную букву «Д» через крест, чтоб все знали, что мы не штатный персонал, а добровольцы. Моя сестра прекрасно вышила нам каждой по букве на левом кармане. Палаты и в этом госпитале были переполнены ранеными. Обслуживающего персонала было много, но его не хватало катастрофически. Доктор-хирург Мария Михайловна, с утра до вечера оперировавшая в операционной, говорила, что вся работа по уходу за ранеными лежит на плечах добровольцев. И правда, медицинские сестры начали исчезать — или их отсылали на фронт, или они исчезали во время обстрелов и бомбежек. Их отсутствие стало сильно чувствоваться, и мы наваливали на себя все больше неизбежной работы и все больше и больше уставали. Нине и мне тоже давали все больше лечебной работы — мы часть дня проводили около операционной, где перевязывали и обрабатывали раны. Очень тяжело было привыкнуть очищать раны. Многие раненые поступали в госпиталь с фронта и прифронтовых медицинских пунктов с очень запущенными ранами: в них копошились белые короткие черви, очень мешавшие ране заживать и непрерывно беспокоившие раненых, не давая спать, не давая забыться. Часто такие червивые раны были под лубками, наскоро одетыми вблизи фронта. Мы промывали раны перекисью водорода, протирали ватными тампонами (это очень больно раненому) и засыпали желто-зеленым порошком сульфидина. Этот порошок только что появился в госпиталях и был истинным спасением, уменьшая количество гангрен и заражений крови после ранения. Я привыкла довольно быстро обрабатывать раны и больше не страдала морской болезнью, как вначале. Доктор Марь Михална, как ее все звали, часто говорила маме: «Спасибо за помощь — без вас мы бы пропали. Я понимаю, что вам тяжело, но что ж делать?» Я даже не знаю, было ли тяжело. Конечно, помню, как мы уставали — приходили домой с дежурства и буквально вползали на наш пятый этаж, совершенно онемев. Но за все время осады и, может быть, войны вообще это было (за себя — ручаюсь) самое счастливое, самое ценное незабываемое время! Потому что мы были вместе и нужны друг другу; главное, трудились вместе — с семьей, с госпиталем, с осажденным городом, со всей страной. Я всегда очень определенно ощущала свою русскую принадлежность своей русской стране, и мне всегда с ранней сознательной жизни хотелось служить своей стране своим русским людям. Всегда рисовалась мне моя жизнь, жизнь врача, далеко в деревне, где нет ни дорог, ни больниц, где нужда огромна и помощь бесценна. Когда я была школьницей первой ступени, после урока русского языка, когда нам кратко рассказывали о летописях, я на перемене, полная радости, хотела поделиться ею со своими подругами и воскликнула: «Как хорошо быть русской в русской стране!» Каково же было мое изумление, когда Аня Энкина подступила ко мне: «Ты это, что же — против советской власти?» Я чувствовала себя русской в своей стране — хотя и поняла скоро, что моя страна в дурных и жестоких руках. После убийства Кирова, на уроке обществоведения, учитель предложил нам высказаться о том, «что мы думаем о вылазке врага». Весь класс молчал. Мы из семейных разговоров знали, что папа и его друзья считали, что это убийство — дело рук Сталина, и папа после убийства Кирова сказал маме: «Ну теперь начнутся страшные аресты!» И папа был прав — начались аресты с 35-го года. Аня Энкина единственная подняла на вопрос учителя руку и выступила: «Мы во время революции кровь проливали, вот она — на наших пионерских галстуках». Она подергала концы галстука: «И теперь мы требуем расправы!» Известный в Ленинграде доктор Витвинов — отец нашей одноклассницы Милочки — был вызван лечить убийцу Кирова — Николаева. Когда доктор Витвинов узнал, к какому пациенту его вызывают, он сказал, что это для него — смертный приговор, что его обязательно уничтожат. И попрощался с семьей навсегда. Николаева он вылечил (вскоре Николаева расстреляли), но и доктора Витвинова — тоже расстреляли, а его громадную старинную квартиру, которую я прекрасно знала, забрала себе семья Энкиных — Аниных родителей. Очевидно, они были усердны не только во время революции. Мать Милочки, поразительно красивую даму, сослали на поселение, бабушка умерла от горя, а Милочка осталась совсем одна. Ее устроили друзья семьи сниматься на маленькие роли в Ленфильм.Мы так уставали в госпитале, что не чувствовали голода, а может быть, во время работы просто не было времени подумать об еде. Нас в госпитале не кормили и не поили, мы были добровольцами. Некоторые сестры шептали, что сестры хозяйки, кастелянши и кухонный персонал приворовывают, носят домой еду из кухни. Думаю, что это так и было. В городе был голод, и смертность населения увеличивалась с каждым днем. И люди, приставленные без надзора к еде, просто не могли удержаться, чтоб не схватить в рот или карман чего-нибудь, видя обилие еды, привозимой для раненых при ее распределении в госпитале (у каждого дома кто-то голодал). Как правило, сестры-хозяйки были плотными, не похудевшими. Но у них не было личного контакта с ранеными, как у нас, мы знали всех лично, близко, знали все их раны, как они заживают, как мучат, как не заживают, потому что организм был ослаблен и т. д. Знаю, что мы — мама, сестра и я — никогда ни одной крошки еды раненых не сунули в рот. Обстрелы продолжались с немецким упорством каждый день. И бомбежки не прекращались — и с такой же методичностью. Я очень боялась и того, и другого и не могла привыкнуть, очевидно, привыкнуть к угрозе твоей жизни вообще невозможно! Раз, вскоре после очередного обстрела, медицинские сестры меня позвали к окну госпиталя, выходящему во двор. Был сумрачный ноябрьский день, двор был покрыт снегом. Во двор только что въехал крытый грузовик, и санитары стали вынимать из него и складывать на снег погибших во время обстрела жителей города. Женщин в теплых пальто, шерстяных платках; несколько мужчин в меховых ушанках и пальто, подвязанных для тепла кушаками. Все в валенках и в рукавицах. Обычная очередь за хлебом. Странно было видеть таких привычных глазу людей, так спокойно лежащих на снегу один подле другого. И ни капельки крови. Как заснули. Отошла от окна — их начали уносить в морг. Доктор Марь Михална просила меня показать группе студентов-первокурсников, пришедших познакомиться с деятельностью военного госпиталя, палаты и, через стеклянную дверь, — операционную и, если удастся, передать их очень занятой старшей сестре, чтоб она быстренько провела экскурсию по этажам. Я нашла группу студентов, скромно стоящих около лестницы в вестибюле, — человек десять. Все были в прекрасных белых докторских халатах с белыми шапочками на головах. Мой анатомический халат с тесемками на спине имел вид подержанный, помятый и не внушительный. Меня такие пустяки больше не смущали — одного мне страстно захотелось, чтоб эта группа неподвижных робких людей с испуганными лицами и большими блокнотами в руках сбросила бы скованность, спрятала блокноты и бросилась нам помогать: нам так нужны были руки, даже не слишком умелые. Я сама могла бы их обучить простому уходу за ранеными! За несколько дней! Но они пришли только посмотреть. На практические занятия. Это были первокурсники медицинского института, и они еще ходили на занятия! И были они неискушенными и почтительными. Многие были старше меня по возрасту, а казались — щенятами. Среди студентов была Буба Бахурина. Она выглядела еще не слишком побитой голодом, только бледной; она, как и мы, летом жила в Токсово. Дача ее отца, профессора Бахурина, была совсем недалеко от нас, и я любила проводить с нею, ее подругой Наташей Тверской (отец ее был профессором физики в университете) и милой мне Лидочкой Стахорской летние вечера вместе — за чтением, часто вслух, обсуждением поэзии Серебряного века и литературными играми. Как это было и приятно, и интересно, и увлекательно. Попрощавшись, вечером я любила тихо брести по посеребренной луною тропинке к нашей даче на сосновой горке, с мерцавшими издали через хвойные ветви оранжевыми окнами. На веранде всегда горела керосиновая лампа с мошками и мотыльками, кружившими вокруг нее. Мама ждала у лампы с кружкой вечернего молока и ягодами. Иногда с нею сидел А. М. Хватовкер перед пустой кружкой. И тоже ждал. Буба была большой, медлительной. Она никогда не приходила играть с нами в волейбол, отказывалась ходить с нами на Кривое озеро купаться, и я тогда чувствовала себя не «барышней из хорошего дома», а озорным мальчиком, готовым на разные проказы, и всегда дружила с ее младшим братом — веселым шалуном Костей. Костю забрали в армию. Как все теперь изменилось: большая, старшая, Буба робко задавала вопросы, а я — усталая, серьезная и спокойная — объясняла. И странное нелогичное и необъяснимое чувство шевельнулось тогда в моей душе — вот Буба будет хорошим врачом, а мне не быть врачом никогда… Очень трудно было во время бомбежек переводить раненых в подвал. Больница была большим зданием со многими этажами и флигелями, не видными с Литейного. Лифты двигались медленно, раненые очень нервничали. Тяжелых больных держали в палатах первого этажа и не эвакуировали по тревоге. С ними должна была оставаться сестра в палате — всегда. По очереди. Когда доходила очередь до мена, и я — оставалась. И было нестерпимо страшно, когда близко падали бомбы, а нужно было со спокойным лицом подходить по очереди к каждой кровати и поправлять раненых, а здание качалось, и душа бесконтрольно рвалась спрятаться, прильнуть к каменной стене, слиться с нею, не помня себя от страха. Наверное, папа не похвалил бы меня, если б знал, с каким трудом я справляюсь со страхом! Папа всегда мечтал иметь сыновей. А у него были только две дочери — моя сестра да я. И папа решил, что будет воспитывать нас как мальчиков — сыновей, чтоб мы, Боже упаси, не сделались благовоспитанными девицами. Папа заставлял нас быть храбрыми, учил преодолевать страх: мы должны были прыгать с разбега через громадные канавы (с водой и без воды), спрыгивать с деревьев, с большой высоты (и как мы только не переломали кости и остались целыми!) и обязательно хотел научить нас драться! Сестра отказалась обучаться драке, и папа грозился, что наймет мальчишек, чтоб они нас поколотили. И если мы их не победим в кулачном бою, он с нами никогда больше не будет разговаривать! Наверное, он маме о своих намерениях не сообщал: у мамы были иные методы воспитания. Мама всегда читала великих философов древности, знаменитых педагогов прошедших веков и, чтоб и мы приобщились к их познаниям, вывешивала на стене около наших кроватей листы бумаги с написанными на них ее ровным и ясным почерком цитатами и изречениями этих мыслителей. Мы должны были на сон грядущий читать и запоминать их слова, понимать их смысл. (Хорошо, что папа воспитывал нас только летом!) Как папа был бы несказанно рад, если б узнал, как я победила ораву дворовых мальчишек, высмотревших нас с сестрой, возвращавшихся из школы (мне было тогда двенадцать лет). Мальчишки гнались за нами по нашей лестнице. Сестра умчалась наверх, а я не успела, меня нагнали и один мальчишка схватил меня за бант на шее: «Ишь — с бантом!» — я вдруг почувствовала такое возмущение, что стала его молча тузить кулаками — меня захлестнул гнев: я одна, а их много, и я решила не задумываясь в безумном порыве их всех побить и начала молотить всех подряд. Мальчишки, не ожидавшие такого отпора, отступили в испуге и с криком «Она дерется!» побежали вниз по лестнице — прочь. А я в упоении победы еще плюнула в спину отступающей армии и услышала чей-то удивленный возглас: «И еще плюется!» С этих пор дворовые мальчишки относились ко мне с полным уважением и весело здоровались при встрече. Я папе не рассказала о своей победе, боясь, что он бы заметил: «Мой сын не стал бы плеваться». Но страх я тогда научилась преодолевать, но ведь это не была настоящая война — неблагородная война! В наш госпиталь попало несколько бомб за время блокады, но они не пробились до нижних этажей и разрушили только палаты, из которых уже вывели раненых в подвал. В подвале было во время налетов страшно тесно: раненые сидели в толстых гипсовых лубках, несгибаемые, и нужно было быть очень осторожным, чтоб не задеть их. Некоторых сносили на легких кроватях, если они были парализованы. Настроение было всегда спокойное, ровное, некоторые раненые шутили. К нам, не то сестрам, не то добровольно помогающим студентам, относились приветливо, называя «сестрица» или «сестричка», никогда не позволяя грубой шутки или дерзости. Если кто-нибудь из незнакомых раненых начинал шутить чуть несдержанно, всегда кто-нибудь его одергивал: «Не видишь — это барышня». Мой первый раненый, от которого я отгоняла мух (его тоже перевели в Мариинскую больницу), поправлялся очень хорошо, уже свободно ходил, ожоги на лице его зажили; он оказался совсем молодым застенчивым деревенским пареньком. И вовсе не стариком, как мне казалось, когда он стонал под каркасом! Он приходил в мои палаты в гости. Сидел в уголке или на чьей-нибудь койке и всем рассказывал, что я — его сестричка. И улыбался. В этой больнице я увидела первый раз смерть — вблизи. Уже несколько дней в одной из палат лежал молодой солдат с очень высокой температурой. У него был сепсис — общее заражение крови. От ранения. И рана-то была, очевидно, незначительная — никаких перевязок ему не делали, руки и ноги были целыми. Но он был в полусознании, метался по подушке и не открывал глаза. Сестры должны были только класть на его голову холодное мокрое полотенце и давать пить, если это удавалось. Доктора его никак не лечили — даже не подходили к кровати, очевидно, он считался безнадежным. Я сидела около него и меняла ему примочки на голове. Так было жалко его — такой молодой, сильный и все мечется, весь в беспокойстве — просто весь горит. К вечеру он догорел. Он вдруг очнулся, открыл глаза и сказал: «Конец»… и перекрестился, не докончив креста, и перестал метаться — затих с открытыми глазами. Его имя было известно, значит — и адрес. Родные получат сообщение, но могилы не найдут никогда. Был в нашей палате очень молодой раненый, у него была ампутирована нога, чуть выше лодыжки. Он всегда смотрел такими испуганными глазами. Я с ним вечерами, после того, как кончались часы моей «службы», часто и иногда подолгу разговаривала; он всегда просил посидеть около него хоть минуточку, — ему необходимо было утешение… «Ну, куда ж я теперь! Я — калека! К крестьянской работе — непригож!» И я его утешала совсем не патриотическим образом: уговаривала его, что он должен радоваться, что выбыл из армии в начале войны, что он молодой и здоровый, а с протезом он может делать все, что захочет, даже землю пахать. А лучше всего — учиться. И он слушал меня, послушно следил за моими советами и успокаивался. В конце декабря 41-го года мы перестали приходить в госпиталь: уже не было сил, мы превращались в дистрофиков, пока еще первой стадии. Мы страшно уставали, у нас с мамой появились небольшие отеки на лице, и распухли ноги. Сестра держалась несколько лучше, хотя и очень похудела, как и папа. Да и вся жизнь в осажденном городе замерла и никто больше никого никуда не посылал. И раненых теперь не везли с фронта в умирающий город, а старались переправить в глубь страны. Теперь в госпиталь попадали умирать раненные во время обстрелов жители города. До середины декабря мы старались бодриться и участвовать в жизни города. Папа был занят всецело в институте, а мы работали в госпитале и, хотя всем было трудно, как и всем ленинградцам, мысли наши были всегда заняты чужими бедами, не давая нам сосредоточиться на собственных. Это помогало нам не превратиться хотя бы в нравственных дистрофиков. В конце декабря нужно было делать над собой огромное усилие, чтоб заставить себя выйти из дома. Во время работы в госпитале я очень редко ходила в свой институт, больше для видимости, чтоб получать карточки. Сил становилось меньше, учиться уже все равно было невозможно: мозг ничего не воспринимал, да и чувство самосохранения подсказывало не тратить энергию на то, что не касается непосредственного сохранения жизни. Трамваи в конце ноября больше не ходили. На некоторых улицах они так и вмерзли в лед и стояли с опущенной дугой, засыпанные снегом — там, где их застал или обстрел, или бомбардировка, или исчезновение тока в проводах… В некоторых местах были видны брошенные троллейбусы, тоже засыпанные до крыш снегом — как огромные сугробы. И прохождение пешком расстояния от нашего дома по заледенелому городу на Петроградскую сторону, за площадь Толстого, было как путешествие на Северный полюс. Теперь я ходила в институт раз в месяц — за продуктовыми карточками, они теперь назывались хлебными карточками, что было точнее, кроме хлебного пайка — ничего не давали. Хотя мы работали в госпитале до конца декабря, но собственно уже в конце ноября мы ходили не каждый день (раненых становилось все меньше), часто поодиночке, еще до наступления сильных декабрьских холодов и еще реже во время лютых морозов. Мы как бы шаг за шагом участвовали в постепенной гибели города. Лекций же в институте в конце ноября больше не было: некому было читать — некому слушать. В помещениях было пусто, грустно; мне теперь все время казалось, что теперь мне не быть уж врачом — никогда: вся жизнь покалечена войной, и с медицинским образованием покончено. Много раз в последующие годы я еще пыталась в разных городах и разных университетах — продолжать медицинское учение, но другие интересы — художественные — делались все значительнее и становились важнее. Врачом я не стала, о чем никогда особенно не жалела. Вернее — жалела, но радовалась гораздо сильнее, что я сделалась профессиональным художником. Всю осень и с начала зимы город не только бомбили регулярно по ночам и нерегулярно днем, но и жестоко обстреливали, обычно днем, отчего жертв обстрела было очень много. По радио теперь, после начала обстрела, объявляли, какой район обстреливали и какая сторона улицы более безопасная. (Радио перестало работать в январе, газеты уже несколько месяцев не выходили.) Мы знали, что немцы обстреливают район одновременно и не обстреливают ночью (или спят, или не хотят, чтоб вспышку орудия засекли), и «приспосабливались» к немецкой системе. До января мы слышали громкое вещание радиоточки в соседней кухне и во время всей тревоги — мерное тиканье метронома до отбоя. Я все время боялась снарядов, их неожиданного удара, иногда не сверху, а сбоку, что не давало возможности укрыться. Идя по улице, мы прислушивались почти автоматически сначала к глухому выстрелу и через промежуток тишины — к сухому разрыву, и ждали следующего разрыва, чтоб решить, будет ли он ближе или дальше — увеличивается опасность или уменьшается. Жертв от обстрела было очень много: при обстреле жителей, когда их еще было много в Ленинграде, не загоняли в подворотни и бомбоубежища, очереди за хлебом — не разгонялись, а жители предпочитали рисковать жизнью, чем терять место в очереди. Сначала передавали всякие страшные истории со слов очевидцев, видимо, правдивые, — нормальный человек такого не выдумает! Даже сестра, простояв раз на Литейном в парадном, потом с ужасом пересказывала виденное — какой-то кошмар, но во всех рассказах была всегда доля радости рассказчика, что он жив, избежал смерти, от которой был «на волосок», и это было успокоительно: смерть ходила вокруг. В начале осени к нам зашла няня Лина. Когда мы детьми поступили в школу, Лина ушла служить на швейную фабрику, сняла себе просторную комнату и выписала из деревни свою единственную из оставшихся в живых после раскулачивания деревни племянницу Нюшку. Нюша подросла, стала работать на той же фабрике швеей, а Лина вышла в отставку и работала дома — шила войлочные туфли из отбросов материала, которые Нюша приносила с фабрики. Лина сделалась частником. Она очень уговаривала нас ехать с фабрикой Нюши в эвакуацию. Фабрика и Нюша уехали, а Лина осталась стеречь материалы и войлочные готовые изделия, о чем, приходя к маме, горько жалела… И еще нас очень настойчиво звала в эвакуацию наша бывшая домработница Настасьюшка. Папа выписал ее очень давно из Вятской губернии. Тогда она была средних лет, необыкновенно энергичная, говорившая на наречии своей деревни — мы с сестрой ее плохо понимали. Она очень боялась большого города и особенно автомобилей: выходя из дома вечером, только в нашем сопровождении, она при виде зажженных автомобильных фар, которых она безумно боялась, с криком «глазати-то, глазати-то!», начинала бежать, и мы бежали за ней. Днем она терялась буквально в двух шагах от дома, и мы ходили ее искать; с нею всегда кто-нибудь выходил, пока она не привыкла к городу. Настасьюшка считала себя почти родственницей папы. Иногда, всегда внезапно, вдруг отказывалась варить обед и заявляла маме к ее удивлению: «И штой-то Вы, Раиса Николавна, бедный люд есплатуете!» Но потом Настасьюшка к нам приросла. У нее было два сына. Один, старший, Алексей, усилиями папы был определен в военное училище и жил у нас с Настасьюшкой, пока не закончил школу и не сделался красивым молодым офицером с очень гладкой речью и вежливыми манерами. Мама и тетя Маня, особенно тетя, помогали Алексею учиться — много с ним занимались. Алексей совершенно боготворил нашу тетю Маню. А другой, младший, Павлик, был устроен в техническую школу. Папа очень тщательно выбирал ему школу, подолгу с ним разговаривая. Теперь Павлик тоже жил у нас — все годы учения. Потом женился, начал служить на заводе, получил квартиру и взял Настасьюшку к себе. Папа радовался и шутил: «Вятские — ребята хватские, семеро одного не боятся!» Настасьюшка иногда приходила к маме пить чай. Всегда теперь спокойная, довольная сыновьями. Она пила чай медленно по-вятски, держа блюдечко на растопыренных пальцах перед самым носом и дуя на чай очень громко. Настасьюшка пришла забирать нас в эвакуацию с заводом Павлика. Павлик вернулся из армии с ранением ноги и, теперь эвакуируясь с заводом, хотел всех нас забрать, приписав к себе, как родню. Мы были очень тронуты, но даже и не думали о такой возможности; голод еще только начинался, еще не верилось, что может случиться катастрофа в Ленинграде. И потом, мы совершенно не привыкли решать какие-то вопросы, исходя из удобства только своей семьи. Наша жизнь была всегда связана с профессиональной жизнью папы, его институтом, преподаванием, писанием книг. Мы разделяли судьбу института, а с ним — и всю судьбу осажденного города. Стало постепенно заметнее, что круг смерти сжимается: в институте начали появляться студенты с перевязанными головами, руками. Был студент (прекрасный декламатор на институтских вечерах), который лежал вечером с книгой на кровати в углу комнаты, когда снаряд влетел в комнату, пробил пол и взорвался в этаже — под ним. А он — ничего, только ходил совсем перепуганный. Постепенно стали исчезать привычные в институте люди. Первой исчезла секретарша деканата, очень милая, приветливая молодая женщина, которой я до войны каждый день носила отчеты о посещаемости нашей группы после занятий. Ее разыскивали: она ушла утром как обычно в институт и не пришла на место службы. В этот день был обстрел района, в котором она жила. Потом стали бесследно исчезать студенты — ленинградцы. До весны не пострадало от бомбежек общежитие иногородних студентов. Но оно пострадало позднее, серьезнее: почти все живущие в общежитии студенты погибли от голода. Уже в октябре внешний облик города очень изменился: выпадавший снег больше не убирали, и он постепенно наслаивался и затаптывался в твердую ледяную массу. Уровень улицы стал постепенно подниматься и в декабре поднялся до полутора метров. Между тротуарами и заледенелой у лицей высились сугробы, тоже заледенелые, через сугробы были протоптаны снежные тропинки — мы так и ходили по узеньким тропинкам между снежными стенами. Трамваи перестали ходить до снегов, и рельсы давно «заросли» снегом и льдом, как будто и не существовали никогда. Автомобили почти исчезли; только изредка проезжали грузовики. Ленинградцы ходили в конце октября и в ноябре пешком, очень медленной дистрофической походкой, надев на себя все, что только можно было надеть, чтоб защитить ослабевшее тело от холода. И мужчины и женщины поверх шапок обвязывали голову шерстяными платками и шарфами. Мама сшила нам капоры из старого синего пальто, отороченные каракулевым мехом. Капор закрывал голову, лоб, уши, шею, плечи и завязывался впереди толстым шнуром: вид у нас был очень допотопный, но было очень тепло, потому что капор был на ватной подкладке. Для современности капор назывался по-военному — шлык, хотя для красы на шнурах висели меховые помпоны. Из того же пальто мама нам всем сшила большие рукавицы, в которые влезала рука в шерстяной варежке. Во время длительных бомбежек сестра, сидя в подвале, вышила на рукавицах красивый яркий узор — по букету на каждой рукавице. Ленинградцы всегда подвязывали пальто (или несколько пальто, одетых одно поверх другого) ремнем, шарфом или, часто, простой толстой веревкой. Это притягивало одежду ближе к телу и лучше сохраняло тепло: его меньше выдувало. Ноги, если возможно — в валенках — самая теплая в России зимняя обувь, иногда поверх валенок — галоши. Если у кого они были, на ноги надевали утепленные сапоги и, конечно, несколько пар теплых носков и для изоляции — газетную бумагу (мы газетой утепляли ноги, когда шли до войны на каток — и тепло, и сапог с коньком не болтался на ноге). Лица ленинградцев начали заметно меняться, в зависимости от степени голода. Сначала человек терял вес и очень худел, в следующей стадии голода появлялся серый цвет кожи лица, одутловатость и отеки ног. Потом следовало опять исхудание, но такое сильное, что, казалось, кожа буквально прирастала к черепу — серая кожа обтягивала все кости лица, делая нос тонким, заостренным; глаза — впалые, большие, рот — огромный с большими, обнаженными до десен зубами и сухими потрескавшимися губами. Из-под теплых шапок и шарфов выглядывал череп с живыми глазами. Очень у многих на кончике носа была небольшая черная точка — прямо посередине носа. Говорили, что такие дистрофики, отмеченные черной точкой, — необратимые — и скоро упадут и умрут. Что значила действительно такая точка и отчего она получалась, мне никогда не удалось дознаться. Но таких «необратимых» дистрофиков с черным знаком на носу было на улицах много. В самой последней фазе голода у дистрофика, уже совсем умирающего, глаза делались почти безумными, какими-то горящими, уже не человеческими. Такой человек готов совершить любой самый страшный поступок, чтоб добыть хоть немного хлеба. Но никакой опасности они ни длят кого не представляли, так как физических сил у них не было никаких. Это как бы последний порыв еще живой души что-то предпринять, чтоб спастись, после чего наступает безразличие, апатия и смерть. Совсем тихая, почти незаметная, как сон: человек отходит там, где его застал смертный час — в постели, в очереди, на улице. Как много я видела на улице таких смертей: идет закутанная фигура по снегу, медленно, начинает покачиваться и оседать. Если успеет дойти до стены, до ограды, обопрется слегка и сползает по стене, а потом сидит, опираясь на стену, пока жизнь не покинет его. И никто уже не подходит, как раньше. И умирающий тихо сидит, ничего не просит — никакой помощи… А еще так недавно, если человек падал на улице, его пытались поднять, довести до дома, позднее —только помогали упавшему сесть, может быть, длят того, чтоб он последним взором видел бы свет. А потом еще позднее, когда все становились беспомощными дистрофиками, даже не подходили, не смотрели. И упавший умирал, вмерзал в лед, его заносило снегом, опять и опять, и снег превращался в лед. И еще живые ходили по снежной тропинке, наступая на ледяную могилу. И было это совсем не от жестокости, а от натурального чувства самосохранения. Помочь нельзя — это знает каждый. А всякое душевное страдание (если оно, особенно, не касается тебя непосредственно, и, следовательно, может быть отодвинуто от твоего сознания) вызывает расход энергии, а это необходимо избегать — это бессознательный инстинкт экономии сил. Мысль, как тропинка, огибающая покойника, огибает все, от чего душа скорбит. И все мы перешагивали и обходили покойников, как будто были лишены всяких человеческих чувств. Чаще — перешагивали — потому, что труднее было обходить… Если же погибший лежал на тропинке с поднятыми руками (конечно, варежки снимали, как и валенки — пальто не трогали — это считалось как бы саваном), то тропинка делала теперь очень небольшую петлю и совсем близко обходила его, только чтоб не задеть рук, торчащих из снега, раз нельзя перешагнуть. Около Гостиного Двора на Перинной, недалеко от бывшей Думы лежал на снегу замерзший человек с поднятой рукой без варежки. Он постепенно врастал в лед, был весь покрыт сугробом, а рука все еще была видна, поднималась вверх из сугроба, пока ее кто-то не отпилил. Непонятно — зачем? В конце ноября не только в очередях стали предупреждать, чтоб жители не покупали на толкучках мясные продукты — холодцы, котлеты, но и в газете об этом осторожно упомянули. Ленинградцы ждали упорно, уговаривая себя и других, что к 7 Ноября — годовщине Октябрьской революции обязательно увеличат норму хлеба. Не могут не увеличить, должны спасти жителей! Мама пошла занимать очередь в булочную за хлебом в 4 часа ночи, чтоб простоять до утра, когда привезут хлеб. Мама всегда вставала до четырех часов, тихо одевалась и шла в очередь, я выглядывала из-под кучи одеял, чтоб сказать маме «до свидания» и всегда думала, что это и есть настоящий, хоть и тихий и незаметный героизм, что я бы не могла ночью, голодной, выйти одной, чтоб до утра дрожать на морозе — и принести семье хлеба. Мама возвращалась, когда мы вылезали из-под одеял и затапливали буржуйку, и поили маму чаем с подогретым хлебом. Этот раз в праздник годовщины Октября мы ждали маму с особым нетерпением: прибавят или не прибавят? Нет, ничего не прибавили. Ни грамма. Зато выступал Сталин и грозился, что будут расстреливать на месте «без суда и следствия» всех, замеченных в ведении противоправительственных разговоров! Какой злой человек! В Москве был парад на Красной площади — под самым носом у немцев. Говорят, что они, немцы, просчитались — могли бы взять Москву, но побоялись, не поверили, что это было возможно. А теперь больше никогда не возьмут — напрасно москвичи по приказу партии жгли все документы во всех официальных учреждениях. Три дня вся Москва пахла горелой бумагой и по улицам валялись на снегу обгорелые бумажные клочья. Некоторые знакомые спрашивали папу, что он думает — возьмут ли Ленинград? «На черта им нужен Ленинград!» — папа думал, что немцы такую обузу, голодный полумертвый город, даже и не подумают брать. Что немцы, если б они взяли Ленинград, не стали бы кормить население — это, кажется, никому в голову не приходило! Но вообще радужные мысли в начале войны многих жителей города, что немцы «не сгубят Петербурга, сделают его, быть может, открытым городом») — давно были забыты, и отношение к немцам теперь было лишено всяких иллюзий. В ноябре в городе не осталось собак, кошек и крыс — их съели… Цена кошки в ноябре была пятьсот рублей, и уже нигде нельзя было купить (мы не пробовали). В нашем институте в самом начале голода съели всех подопытных животных. Сперва кроликов, потом — собак и белых крыс. Это голод оттянуло очень ненадолго. И имеющие отношение к лабораториям тоже стали умирать. Во всех институтах умирали одинаково и похоже в начале и середине голода: так, часто приходил профессор на лекцию, сидел на кафедре в пальто и шапке, и рукавицах, начинал говорить, да так и умирал; и студенты — слушают и тоже умирают; их уж совсем мало приходило. И умирали скорее те, что продолжали заниматься — интеллектуальная работа отнимала последние силы. (Была хуже рубки дров, как говорили в Ленинграде.) Профессора и преподаватели из своих последних сил старались сохранить привычное расписание дня, но только в этом расписании не хватало нескольких пунктов: еды, тепла и транспорта. А это убивало наверняка. Дух у многих был очень силен, но тело отказывалось жить без еды. Умер наш милый декан факультета, профессор Иванов, сердечный ласковый человек. От голода. Партийная писательница Вера Инбер, жена директора больницы имени Эрисмана — Страшуна, после войны написала книгу с главами об осаде Ленинграда. Очень напустила много патриотизма и «лакировки». Но есть в книге сильные и печальные строки. В Ленинграде считалось очень большим счастьем и необыкновенной удачей получить право выступать перед фронтовиками и моряками, но это уже в январе-феврале, до этого не перед кем было выступать. Эти выступления давали возможность почти вырваться из Ленинграда на Большую землю, хоть на очень короткое время — и поесть вдоволь! Среди наших знакомых таких счастливых не было. Может быть, не было партийных среди них. Также в осажденном Ленинграде считалось очень большой удачей и спасительным, своего рода «путевкой в жизнь», работа на хлебной фабрике, в хлебных магазинах, на кухне госпиталей («и сам слизнешь и домой унесешь»). На хлебной фабрике можно было есть сколько хочешь, но выносить с собою нельзя было ни крошки — это каралось строго, главное — выкидывали с фабрики. Валя Кузьмина до высылки в Сибирь некоторое время работала на хлебном заводе, говорила, что на фабрике все непрерывно едят хлеб, хотя и сытые, но не могут остановиться. «И я все жую — как подумаю о голоде за стенами фабрики, так запихиваю хлеб в рот», — и сама очень изменилась, исчезла тонкость лица и печаль. Валя рассказала, что в муку замешивают несъедобные отбросы, например, целлюлозу. Отрубей для замешивания в тесто больше нет, жмыхов — тоже. На улице теперь совсем не видно здоровых и сытых людей. Лишь иногда попадаются молодые женщины, полные, краснощекие, всегда с непородистыми лицами, очень хорошо одетые в дорогие меха — это «работники торговой сети». На фоне голодных, истощенных петербуржских лиц их вид почти оскорбителен для взора — они вроде сытых удавов. Конечно, они крадут безудержно, меняют хлеб и другие продукты на золото, на драгоценные камни, меха и другие предметы роскоши. В булочных — тот же контраст — темная безликая несчастная очередь и работники прилавков, которые буквально лопаются от толщины. Говорят, существует психологический голод: когда можно и есть что заглатывать, человек, живущий среди голодных, начинает есть и ест безостановочно. Люди, имеющие доступ к продуктам в голодном Ленинграде, наживались бессовестно и становились богачами. Меняли на хлеб не только меха, драгоценности, но и картины, старинную мебель, редкий фарфор. Куда же подевались библиотеки из петербуржских квартир, принадлежавшие вымершим интеллигентным семействам? Хотелось верить, что кто-нибудь, понимающий, прибрал их к рукам и не дал им погибнуть в огне буржуек. Смертность в ноябре поднялась до 2000–2500 человек в день (в первые две недели). Потом стала стремительно увеличиваться. Еще в октябре не стало электричества. Папа в конце сентября принес домой небольшую буржуйку и несколько труб к ней и колен. Буржуйку можно топить даже бумагой. Она быстро нагревается и легко отдает тепло. Но когда перестаешь подбрасывать в нее щепки и бумагу, она так же быстро остывает. Папа постарался использовать все трубы, чтобы путь тепла от буржуйки до дымохода был бы как можно длиннее, чтоб отдача тепла продолжалась бы дольше. Буржуйку мы поставили на плиту в кухне и все переехали жить на кухню, закрыв единственное окно кухни ковром. У нас был керосин, приготовленный для поездки в Токсово на лето. Им заправляли лампу и вечерами читали и писали вокруг нее. Днем отгибали ковер на окне, чтоб не тратить керосин. Но уже в конце октября мы перестали пользоваться лампой — керосин кончился. Когда горела буржуйка, пользовались светом из открытой дверцы ее и, как все ленинградцы, — завели коптилку. Маленькая плошка с несъедобным маслом и в ней на проволочке плавал самодельный фитилек. Света она давала очень мало — небольшой кружочек около самой коптилки, а дальше — тьма. Жили как пещерные жители. Но в кухне у нас было всегда тепло. Все дрова, которые у нас были в дровяном сарае, мы еще в сентябре перенесли в квартиру. Каждое полено мы расщепляли кухонным ножом на тонкие лучины и ими топили буржуйку. К ночи закладывали в буржуйку полено, и оно медленно горело, шипело и стреляло всю ночь. И мы не мерзли. Мы постепенно жгли старую дубовую мебель, которой была обставлена кухня. Самое горячее и долгогорящее пламя было от дубовой табуретки. Она была очень тяжелой, черной, плотной — и долго согревала нас. Мы детьми разбивали на ней орехи — молотком. Мы сожгли много наших школьных учебников, которые, казалось, даже для справок больше никогда не понадобятся; учебники иностранных языков, истории ВКП/б. Каждый учебник давал тепла на 15–20 минут… И тепло кухни нас спасло. Многие в Ленинграде говорили, что холод страшнее голода. Это не совсем так — страшнее кажется всегда то, чего у тебя нету: или еды, или тепла. Голод убивает медленнее, холод — очень быстро. Оба несчастья, вместе взятые, действуют всегда с одним и тем же результатом: жизнь отлетает. На нашей лестнице становилось все меньше жителей. Редко кого встретишь. Первый этаж опустел: две девочки-подростки, жившие там, эвакуировались с заводом своих родных. Две серые девочки, всегда сидевшие на подоконнике и наблюдавшие за жизнью двора. Когда мы проходили мимо их окон, они всегда высовывали язык. Потом они подросли, сделались постарше и поприветливей, даже застенчиво разговаривали с нами. Их звали Валя и Нина. Родители их остались в Ленинграде. Мать — высокая, сухая горбоносая женщина с завитой челкой, очень молчаливая, кланявшаяся с достоинством, отец — лица его я не помню: когда приходилось встречаться на лестнице, он всегда покачивался, хватаясь за перила, и кепка его была всегда надвинута на глаза. Оба они еще глубокой осенью умерли и их долго никто не хватился. Остальные обитатели нашей лестницы тоже постепенно исчезли: артисточка сначала отправила свою маленькую дочку к матери в деревню, еще в начале войны, потом, не выдержав бомбардировок, эвакуировалась со своим другом и его заводом. Ее муж, умерший в декабре, тоже артист эстрады, приходил к нам поздней осенью, предлагал купить какую-то одежду. Нам было очень неловко, но папа купил у него его летнее пальто, какой-то сиренево-розовой окраски, нездешнего производства. Для «обменного фонда». Много, много позднее, когда мы все потеряли (розовое пальто — как приросло к нам), мне сшили из этого эстрадного гардероба пальто. Очень пригодилось. Над нами жила черноглазая, говорливая, очень экспансивная Кауфман с дочерью. Все наше детство и раннюю юность мы слышали, очень глухо, каждый вечер, как Лиля Кауфман — дочь — играла всегда один и тот же вальс на пианино. Никогда ничего другого. Мы называли его «Лилин собачий вальс». Когда Лиля выросла к началу войны, к вальсу вечером стали добавляться несколько однообразных тяжелых аккордов. Лиля очень похорошела, вышла замуж и оставила мать жить одну, уехав из Ленинграда. Ни вальса, ни аккордов больше не было — все стихло. С началом войны Кауфманша, как ее прозвали в доме, стала делать запасы. Она говорила только о том, где и что можно купить и обменять. Все время тащила вверх по лестнице авоськи, набитые кульками. Кто-то на нее донес, и ее посадили в тюрьму за «панику и спекуляцию». Через месяц выпустили, ее скопленные запасы не тронули, очевидно, забыли, но через неделю отправили ее рыть окопы. И очень неудачно — каждый раз фронт придвигался так близко, что всем приходилось бежать, и Кауфманша бежала со всеми (их обстреливали и были жертвы) обратно в Ленинград. По возвращении домой ее опять посылали на окопы, и она опять вынуждена была бежать. Но, очень дальновидная, она научилась и успевала от начальства «вырвать справочку», как она выражалась, что ей разрешено вернуться домой из-за близости фронта. Потом и она куда-то исчезла. Мы ее жалели: думали, что в одну из «пробежек домой» она погибла. Много времени спустя, во время нашей эвакуации из Ленинграда на Кавказ на одной из железнодорожных станций, когда мы шли за эвакосупом на вокзал среди серой толпы, ожидающей поезда, мы увидели два черных блестящих глаза, и с узлов (на которых она сидела) взвилась и бросилась к нам с живостью наша здоровая и живая Кауфманша; она пробиралась к дочери на Урал с довольно большим багажом и трудностями, но очень бодрая и полная надежд. Все самые суровые испытания войны для нее были уже почти позади. А впереди ее ждал маленький темноглазый внучек, которого она мечтала прижать к своей груди. Когда мы несли воду наверх с Фонтанки или ведро с отходами вниз по лестнице на задний двор, очень осторожно, потому что лестница обледенела и была чрезвычайно скользкой, мы больше никого не встречали, а было только начало декабря; может и правда, что только мы остались живыми на нашей лестнице, как говорила мама. Наши соседи по лестничной площадке — Барты (они скрывали, что они бароны фон Барт, но все это знали) — уехали из города перед блокадой, некоторое время в квартире возилась их прислуга, потом все затихло. Громогласная Бутылкина — приятельница нашей нянюшки Лины — с двумя взрослыми дочерьми уехала с каким-то заводом. Во втором этаже по нашей лестнице жила докторша — глазной врач. Тоненькая, хрупкая, элегантная с пышными рыжеватыми волосами и мягким голосом. Она вылечила раз папу от очень серьезного воспаления глаз: папа работал — писал своим мелким, четким почерком книги по ночам, при плохом освещении. Докторша была крестной матерью подруги сестры Люды Волжинской. В первые дни войны ее мобилизовали в армию, а она — глазной врач. Все остальные жители нашей лестницы никогда не выходили из квартир, их двери выглядели, как двери в склепы. Соседи наши по этажу, но жившие по другой лестнице — родители и две взрослые дочери, бухгалтерши на одном из заводов — как и мы, переехали жить на кухню, и мы довольно хорошо слышали их голоса через стену — кухни были смежными. Очевидно, они лучше нас приготовились к осаде: у них жил на кухне петух — он до декабря заводил свои петушиные песни, но каким-то вопросительным голосом и никогда не кончал своего «кукареку» — или передумывал, или ему кто-нибудь шапку на голову накидывал. Может, были и курочки, но они тихие — их не слышно. Ложе патриарха семьи находилось около нашей кухонной стены, и мы слышали его голос, его разговоры и комментарии ко всему происходящему. Но к декабрю все разговоры его прекратились, и только одна фраза повторилась и днем, и ночью: «Ехать — не ехать?» Ему никто не отвечал — и через некоторое время он опять задавал тот же неразрешимый вопрос: «Ехать — не ехать?» Под ним скрипели пружины матраса, он тяжко вздыхал — мучился. Наконец после многих недель подобных размышлений послышались за стеной возня, голоса, очевидно, дочери сами решили, что делать: лучше — ехать, запаковали имущество и, забрав родителей, вместе с заводом уехали за Урал. А нам стало еще более одиноко — теперь мы, правда, оказались совсем одни.
Глава четвертая
БЛОКАДНАЯ ЗИМА
Очень трудно было теперь ходить пешком по заснеженным дорогам в институт за карточками. От дома до института такой длинный путь. Раньше от ходьбы разогревался, и так весело было ходить быстро по зимнему городу. А сейчас — так трудно, так медленно идут ноги, и не согреваешься, а чувствуешь, что с холодом не справиться. Он проникает до мозга костей — я только теперь поняла смысл этого выражения — на опыте. В конце ноября ко мне домой пришла мать моего приятеля — студента-медика Юлия Венделя. Я ее никогда раньше не встречала. Когда я ее усадила, она рассказала, что ее муж умер. И что Юля тоже умер — от голода и связанных с ним болезней. Он просил мать перед своей смертью сходить ко мне и передать мне паспорт, чтоб я получила продуктовые карточки в институте. Юля сказал: «Рима добрая — она не откажет и все сделает». И мать еле дошла до нашего дома, они жили на Невском, недалеко от Литейного. Напоила ее чаем с сухариками, и она долго рассказывала, какая у нее несчастная была жизнь: она — русская, муж — еврей, милый человек, но очень посредственный художник, совершенно неприспособленный ни жить, ни заботиться о жене и сыне, а сын — совсем как отец. «Вот оба умерли, а я, русская, осталась ни с чем, и никого у меня больше нет, и я тоже умру теперь». Я на другой день отправилась в путь с паспортом Юли. Но мне в институте отказались дать карточки: «Должен явиться лично!» И на мои мольбы, заклинания и объяснения, что он умирает, что я должна передать матери карточки, мне твердили одно: «Только лично». Так я и ушла — ни с чем. В доме, где жил Юля — никого, обледенелые ступени по всей лестнице. Долго стучала в дверь с надписью по старой орфографии на медной дощечке: «Свободный художник Вендель». Очевидно, мать Юли не дожила до моего прихода… Бросила в щель почтового ящика на двери паспорт Юли с фотографией моего приятеля и верного друга и товарища студенческих лет — Юльки! На улицах теперь целыми вереницами двигаются люди, везущие саночки. На саночках — закутанные в простыни покойники. Чаще всего санки тянут женщины. Вообще во время осады женщины держались крепче, чем мужчины, очевидно, как говорили, благодаря более сильной жировой прослойке. Ждали, что весной начнут умирать женщины в большем количестве. Я боялась весны. Теперь карточки на продукты, кроме хлебный, прикрепляли к определенным магазинам: считалось, что это облегчит получение муки, крупы и т. д. Но это не помогло — продуктов не было нигде. Город в ноябре стал уже очень серьезно вымирать. По дорогам шли потоки людей с саночками, на них — печальный, совсем легкий груз; казалось, еще живые дистрофики везли уже не живых, ссохшихся. В конце ноября 1941 года цифра смертности была 2–2,5 тысяч в день. В первой половине декабря — 5–6 тысяч в день. Во второй половине декабря — 25–35 тысяч в день! В первой половине января 42 года слегка уменьшилась. (Норму хлеба в конце декабря несколько увеличили: рабочие, 1-я категория — 350 г, но очень плохого качества — с целлюлозой.) Но других продуктов не было. Во второй половине января 42 года — опять 25–35 тысяч, в это время перестали работать хлебные фабрики, почти все сломались и целую неделю не работали. Это дало скачок смертности во второй половине января. Помню, как мы, простояв всю ночь в очереди, метались в панике из одной булочной в другую, когда под утро нам объявляли: «Сегодня хлеб не привезут: фабрика сломалась!» До самого декабря продолжались непрерывные бомбардировки города. Бомбили теперь главным образом ночью: бросали фугасные и зажигательные бомбы. Мы по звуку падения бомбы знали, когда летит зажигательная и когда сбрасывают фугасную бомбу. Зажигательные бомбы, падая, не свистели устрашающе, как фугасные, а пыхтели прерывисто, как будто в воздухе кувыркались, и не давали взрывной волны. И были сравнительно безопасны дли жизни, и пожаров вызывали не очень много, т. к. жители, дежурившие на крышах домов, тушили их или сбрасывали во двор. Пожары, которые, конечно, случались, как правило, были не в квартирных домах, которые отстаивали жители, а в зданиях учреждений, где народ не жил и дежурных на крыше было мало. На крыше папиного института, до революции — ассигнационного банка, расположенного между Садовой и каналом Грибоедова с выходом на чудный мостик с крылатыми грифонами, всегда дежурило два человека профессорски-преподавательского состава института, они и ночевали под крышей в маленькой каморке, сидя за столом, на котором мерцала коптилка. Все дежурившие очень страдали от холода — каморка не отапливалась, и часть ночи приходилось проводить на крыше, и это ускоряло процесс дистрофии и приближало смерть. Папа часто дежурил с преподавателем Рождественским, отцом нашей школьной одноклассницы Иры, очень умной девицы. Умер он на крыше института от истощения. Дочери пережили блокаду, Ира сделалась филологом, преподавала в университете и растила сына (как нам писала тетя Маня). Папа говорил, что на крыше менее страшно, чем в подвале бомбоубежища: все видно, как на ладони, знаешь, в каком районе сбрасывают бомбы, и смотреть на оживленное небо не устаешь: очень «красиво». Я боялась, чтоб папу не сдуло с крыши. К сожалению, было довольно много случаев, когда воздушной волной от разрыва бомбы людей срывало с крыши. Мне известен случай, когда воздушная волна снесла с крыши дежурную, но она не погибла. И с нею, забегая в повествовании вперед, — я позднее подружилась на Кавказе. Это была медицинская сестра Галя, известная в ее госпитале тем, что она бесстрашно гасила зажигательные бомбы, отправив раненых в подвалы при налетах; как она мне рассказывала, оставаться в подвале было свыше се сил, она всегда стремилась на крышу. В один из налетов взрывной волной се сорвало с крыши, перенесло через большой двор, и она опустилась (не очень плавно) на крышу более низкого здания. Ее нашли там живую, почти в порядке, если не считать ушибов и переломанной руки. Ее муж, много старше ее по возрасту, крупный партийный деятель, «увешанный орденами», очень надменный, был эвакуирован в глубь страны, а Г. осталась в Ленинграде при госпитале, т. к. он считал, что ее место медицинской сестры — около раненых, а не с мужем в эвакуации, и что, если оба будут живы, то после войны встретятся и смогут начать жизнь сначала. Во время осады она потеряла неродившегося ребенка и ее вывезли полуживую на Кавказ поправляться к родным, в казачью станицу, около Ессентуков. Г. поступила в Кисловодске в наш мединститут, где мы с нею познакомились и подружились и очень берегли нашу сердечную привязанность. Когда советские войска отступали с Северного Кавказа, Г. была оставлена связной с партизанами, ей были сообщены имена людей, клички и места тайных партизанских лагерей. Г. должна была держать с ними связь и раз в неделю ходить в лес в ставку на свидание с партизанами, передавать сведения о передвижениях немцев и получать распоряжения с Большой земли для передачи другим группам партизан. В дни, когда Г. пробиралась к партизанам, я очень боялась за нее, не находила себе места и ни с кем не могла поделиться тревогами, даже с мамой. Г. рассказывала, что, идя к партизанам, входила в лес всегда с вязанкой хвороста на спине — будто топливо собирает, если немецкий патруль ее задержит, это было приготовленная ею отговорка. Она никаких письменных передач не брала. Все — устно. Г. шла по ей одной известным тропинкам в самое сердце партизанского отряда. Проводила в лагере какое-то время, получала все нужные сведения, заучивала их наизусть и тем же путем шла обратно. Через партизан узнала, что ее муж в Москве, получил орден Ленина. А партизаны обещали рассказать на «той стороне» о ее работе. Когда немцы заняли северную часть Кавказа, Г. была удивлена их воспитанностью, вежливостью, образованностью. Объясняясь по-немецки, она могла общаться с немцами и у нее появились друзья среди молодых офицеров. Одного она полюбила, и он относился к ней по-рыцарски, приезжал в станицу к ее родным, помогал им, а ее возил из станицы в наш институт на занятия и расспрашивал се о России, о жизни в Советском Союзе, об искусстве, литературе, музыке. Называл Г. по-русски «ласточка», очень берег ее, полюбив безнадежно. И она со слезами и печалью рассказывала мне, как мучается и разрывается ее сердце между чувством долга перед своей страной и чувством своей первой настоящей любви к доброму, любящему, заботливому немецкому молодому человеку. И она разрешила свой душевный конфликт по-своему: решила познакомить своего немецкого друга со своими друзьями — партизанами. Была уверена, что, если они узнают друг друга, поговорят откровенно, то ненависти у них — не будет, они поймут, что есть с обеих сторон добрые хорошие люди. Так она и поступила. В день, когда она всегда пробиралась с вязанкой хвороста на спине по тропинке в лесную партизанскую глушь, за нею шел ее немецкий друг. Ему понравилась идея встретиться с друзьями любимой, познакомиться с ними поближе, поговорить. Г. никогда не описывала мне, как изумились партизаны, когда увидели немецкого офицера в своем лагере. Рассказала лишь с глубоким волнением, что все произошло очень дружественно: все спокойно курили, сидя кружочком, разговаривали о войне, потерях, беде, мирной жизни и расстались друзьями. На немецкого друга свидание произвело большое впечатление, он был ей очень благодарен. На другой день Г. опять пошла к партизанам с хворостом, одна. Но весь лагерь исчез. Никого не было, и следы лагеря были тщательно уничтожены. Друг Гали несколько раз просил у нее разрешения отправить ее в Германию к его матери. Но Галя всегда грустно отказывалась: «Не судьба…» Когда началось немецкое зимнее отступление, друг Г. был назначен в часть, которую отправляли в Сталинград. Он был летчик. Г. просила меня пойти с нею на поле, за городом, и как она выразилась, проститься с другом — навсегда. Мы долго стояли с ней на замерзшем поле — никого не было вокруг. Было холодно и тихо. А мы все ждали. Молча… Над полем появился самолет, он летел очень низко, сделал два круга над полем, покачал крыльями, стал набирать высоту и скрылся в низких серых облаках. Уже и гул мотора давно заглох, а Галя стояла и все смотрела на серое небо. Я ей не мешала.В конце октября папа решил, что будет безопаснее, если вся наша семья переберется жить в помещение его института. В бывшем банке были глубокие подвалы с толстенными колоннами и низкими сводами, где раньше хранилось золото и деньги. Нам дали комнату на первом этаже. Большую, светлую и холодную. Буржуйка осталась дома на кухне. Рядом была комната преподавателя Романовского, где он поселился с женой и двумя маленькими мальчиками. Он выглядел очень предприимчивым, вполне сытым и подарил папе несколько таблеток сульфидина, только что появившегося лекарства, обладающего волшебной слой излечивать все болезни. Мы очень берегли эти таблетки. Мне дали таблетку, когда я тяжело заболела во время эвакуации сыпным тифом — не помогло! Ночью по тревоге мы пересекали двор института, отправляясь в подвал. Часто, пока мы медленно шли по двору (у мамы от голода стали болеть колени, и приходилось ей помогать), зажигательные бомбы с шипением и характерным фырканьем падали во двор, папа нервничал и сердился, как будто это мамина вина. У меня в холодном институтском помещении тоже стали болеть колени: утром не разогнешь, так больно. Подвал института был очень надежный, со старыми низкими сводами, короткими колоннами — все старинное, вечное. Даже когда близко взрываются фугасные бомбы и гаснет свет, не очень страшно. Многие в подвале вязали, шили: говорят, это отвлекает внимание от страха и сохраняет нервную систему. Мы все в Ленинграде голодали и умирали «научно», все знали о голоде организма, знали, как лечить голод. Только не было — чем. За время сидения в подвале бывшего банка я почти закончила вышивать на куске черного шелка венок ярких цветов — единственная моя вышивка в жизни. В дальнейшем она вызывала только воспоминания о бомбардировках, когда попадалась мне на глаза, как будто она втянула в себя мои страхи, когда я над ней трудилась в подвале института, и теперь выпускала их обратно. Я ее кому-то подарила. Сестра очень хорошо и много вышивала в подвале, а мама сидела с книгой в руках, не могла сосредоточиться и вздыхала, что никто ее не научил ни вышивать, ни вязать. Во время одного из дневных налетов бомба упала недалеко от института в Гостиный Двор. В подвалах засыпало много людей, и часть из них утонула в воде, хлынувшей из еще наполненных незамерзшей водой лопнувших труб. (Это было до нашего переезда в ин-т.) В институт папы за время первой зимы осады попали только две фугасные бомбы, одна упала перед входной дверью в институт со стороны Садовой, убив швейцара и причинив зданию лишь незначительный ущерб. Вторая — в задний корпус со стороны моста с грифонами, пробила все три этажа здания, но взорвалась, наткнувшись на перекрытия над подвалом. Подвал остался целым. Житье в институте скоро оказалось не очень нужным: к декабрю бомбардировки стали совсем редкими и в декабре — совсем прекратились до весны. Обстрелы же были каждый день. Мы решили возвратиться в нашу теплую кухню. Так и поступили. Мы с сестрой иногда вместе (для храбрости), а потом по очереди (для экономии сил семьи) стали ходить на ближайший базарчик — толкучку (около Владимирской церкви на Знаменской — один квартал от Невского, если идти по Литейному). Пробовали купить хотя бы чего-нибудь съедобного. Но на деньги ничего не продавали. Только в обмен — на вещи, одежду. Иногда в обмен на кусочек хлеба просили муки или крупы, или картофелину . Если люди предлагали съедобное, то в микроскопических количествах: или однодневная порция хлеба — крошечный ломтик на бумажке или два кусочка сахара. И это был желанный товар — даже в таком объеме, но за деньги не отдавали. Раз сестра принесла с толкучки на Знаменской два крошечных «фунтика» крупы — пшенной и гречневой, буквально две столовые ложки крупы в каждом «фунтике». Сестра так сияла от радости своей удачи, ее исхудавшее лицо даже как будто порозовело. На улицах очень пусто и тихо. Только около базаров — оживление, и около булочных, если завезут хлеб, выстраиваются огромные очереди; ждут, обхватив локти впереди стоящего, прижавшись к нему. По снежным тропинкам пробираются отдельные фигурки. Почти все идут дистрофической походкой: очень медленно, неуверенно, типично расставив руки, неподвижные при ходьбе, даже если в них зажат мешок, обычно пустой; если в мешке есть хлебушко или что-нибудь съестное, то все это прижимается к груди или прячется за пазуху. На саночках возят только покойников. В начале зимы на них возили иногда дрова, потом остатки имущества при переездах из разрушенных домов. Теперь саночки сделались индивидуальным катафалком. Когда в начале голода умерших возили еще на кладбище, часто к покойнику был привязан пакетик в бумаге (хлеб за рытье могилы) — плата могильщикам. Но к концу ноября никто не мог уже осилить платы за рытье могилы — не скопить было нужного количества хлеба, да и могильщики умирали вместе с остальным населением Ленинграда. Покойников еще некоторое время свозили просто на территорию кладбища и там оставляли — никто никого больше не хоронил. В ноябре умерших просто выносили на снег перед домом или оставляли на драгоценных саночках, везти на кладбище уже не было сил. Часто в начале зимних морозов покойников привозили ночью и оставляли в снегу перед Мариинской больницей, где мы работали. Медсестры огорчались — каждое утро перед входом лежат несколько десятков запеленанных в простыни покойников. Их убирают, а в следующую ночь опять привозят умерших в еще большем количестве. Но это нашествие покойников прекратилось само собою: их стали оставлять перед домами или просто во дворе. Потом уж некому было их выносить даже из квартир. И они оставались в промерзших квартирах, и еще живых это не пугало и не беспокоило: каждый еще живой дистрофик думал только об еде, тепле и о продлении своей затухающей жизни. Администрация города попробовала навести порядок в вымирающем городе: на каждой улице один из дворов делался «моргом». Вывешивали надпись на доме, гласившую: «Морг». Но и это становилось не под силу — своих умерших оставляли просто в снегу, у лестницы, в подворотне, перед домом. Выделенные администрацией города большие грузовики собирали замерзших погибших в таких моргах-дворах и на улицах и увозили, чтоб похоронить в общих могилах. На нашей улице не было «морга». Зато напротив нашего дома — старинная барочная церковь Симеона и Анны, и к ней свозили покойников и оставляли в снегу вдоль ограды церковного сада. Раньше вдоль этой ограды торговали старые букинисты, можно было часами рыться в книгах... и покупать книги из библиотек сосланных петербуржцев. В декабре все в большем количестве ездили по городу огромные грузовики, груженные покойниками, обычно без простынь и без одежды. Грузовик с грудой тел бывал закрыт (частично) холстиной, но очень часто открытый — все на виду: останки погибших от голода, наваленные грудами. И это было так не похоже на смерть. Больше походило на старый сухой хворост или кучи досок — смерзшаяся ледяная масса. Никто не ужасался; просто — не смотрели, а если и посмотрят, то с чувством усталого безразличия. Теперь в конце декабря не увидишь больше предприимчивых ленинградцев. А еще в ноябре их было множество. Раз, по Каменноостровскому проспекту, в сторону Островов ехал грузовик, а к нему сзади на веревке был привязан гроб с покойником (без саней), на нем лежал парень в ушанке, обхватив его руками и ногами с боков, и перед ним был к гробу привязан пакетик в газетной бумаге — хлеб за рытье могилы. В самом начале декабря видела двух женщин, очевидно еще молодых, но все ленинградцы сделались одного возраста — дистрофического. Женщины, тепло закутанные, тащили вдвоем саночки с покойником и оживленно (по голодному масштабу) разговаривали, даже улыбались (дистрофической улыбкой — оскалом до белых десен): покойник в начале месяца — это огромная удача, карточки его оставались семье на две недели, а может быть, на весь месяц. В декабре карточки начали выдавать каждые две недели, чтоб сэкономить — не выдавать хлеб на умерших. (Поэтому стало почти точно известно количество умерших ленинградцев — по количеству выданных карточек. А т. к. в выдаче карточек участвовали теперь простые граждане, нанятые на место умерших служащих, они не секретничали и разносили по городу сведения о числе погибших от голода…) От Садовой к цирку очень медленно двигались по снегу огромные сани, типа розвальней, только очень большого размера. На них были поставлены пять огромных бочек, наполненных водой. Вместо лошадей (которых давно съели) сани тянули женщины в платках и валенках. Они тащили сани за оглобли, густо облепив их, подталкивая с боков и даже сзади. И совершенно молча. Наверное, воду из Невы везли для госпиталя на Литейном….
ДОМ УЧЕНЫХ
В начале декабря (все еще продолжался темный 1941-й год!) меня отправили в Дом ученых за плавленым сыром. Куски сыра были зеленовато-серые, упругие, как оконная замазка, с большим количеством зернышек тмина; сыром совсем не пахло, только тмином. Ведал распределением сыра ученым крепкий «дядька», сидевший в холодной прелестной комнате у черной буржуйки. На письменном столе красного дерева, придвинутом к горячей печурке, были навалены грудой бумага, списки ученых и стопки коробок. В коробках лежали пакеты с зеленым сыром — его давали без карточек ученым за заслуги, для их «подкорма». Дядька довольно любезно протянул мне пакет с сыром, велел передать привет Ивану Алексеевичу, т. е. папе, и сказал, что он будет в Финансово-экономическом институте защищать кандидатскую диссертацию (ему даже зеленый сыр не поможет!), и отметил в списке, найдя папину фамилию, большой «галочкой», что папе спасительный сыр выдан. Как до войны было тепло, красиво и уютно в Доме ученых, как много семейств старых петербуржцев собиралось зимними вечерами на концерты, всегда неформальные, почти семейные. Выступали прекрасные актеры, знаменитые певцы. Они приходили сюда как будто не показывать свое искусство, всегда особенное, а отдохнуть и поделиться своими талантами — и милая аудитория их принимала, понимала, ценила и как бы обнимала своею благодарностью. Мы с Аликом Нечаевым иногда ходили в Дом ученых на концерты. Здесь я впервые услышала на маленькой сцене маленького зальца, поблескивающего тусклыми золотыми барельефами растений у потолка, с изящными пилястрами, декламацию актера старой школы Юрьева. Он читал монолог Гамлета. Сначала показалось странным видеть такого большого грузного Гамлета, но впечатление сразу менялось при первом звуке. Юрьев обладал таким благородным музыкальным голосом, наполнявшим весь зал, с тончайшими оттенками, с такой глубиной (это был великий артист), что я перестала замечать его возраст и не удивлялась больше тому; что он так неимоверно размахивает и трепещет руками; руки его с большими живыми пальцами — как крылья, то взлетали вверх, то опускались в печали, и голос Гамлета звучал из другого, далекого мира. И старый породистый Юрьев превратился в принца датского — молодого, стройного, задумчивого и несчастного… А теперь во дворце было так мертво, холодно; казалось, что камины никогда больше не запылают и особенная петербуржская, душистая приветливая толпа милых людей никогда больше не заполнит этих холодных комнат — все прелестные теплые люди превратились в лед… Встретила в Доме Иришу Пунину. Она тоже пришла за сыром и стояла тихо в сторонке с грустным бледным личиком; ее чуть раскосые глаза придавали лицу неизъяснимую прелесть. Ириша училась в тетиной школе, в нашем классе, но очень рано, еще в девятом классе вышла замуж и перешла в школу для взрослых, как раз когда мы с сестрой перешли в тетину школу, и мне не удалось с ней сблизиться, а она мне очень тогда нравилась — серьезностью, умом и мягкостью. Спросила Иришу о ее дочке — Ане. Как тяжко во время голода видеть детские голодные глазки. Ириша была исключительно одаренной математичкой. В школе ей прочили великие успехи в этой области. Но после войны ее имя стало появляться в печати совсем в другой области — она сделалась ученым-филологом. Очевидно, не без влияния своего отца и Анны Андреевны Ахматовой. После смерти своего отца, известного искусствоведа Николая Николаевича Пунина (я слышала в Эрмитаже несколько его блестящих лекций), она до самой кончины Анны Андреевны была ее близким другом, а дочь Ириши — Аня, девятнадцатилетней девочкой сопровождала Анну Ахматову в теплую южную Италию, когда Анна Ахматова была награждена высоким итальянским орденом за поэзию. В книге Лидии Чуковской об Ахматовой есть фотография похорон Ахматовой — «Златоустой Анны Всея Руси» — снежной зимой, на кладбище. Над открытым гробом склонился ее сын — Лев Николаевич Гумилев, а рядом такая печальная, как промерзшая, Ириша, так мало изменившаяся, похожая на ту, что стояла тихо в Доме ученых, как будто ее все еще не отпустила блокадная зима и русская беда… Я спросила Иришу, когда мы давно возвращались вместе из школы около Звенигородской улицы (она жила рядом, во флигеле Шереметевского дворца — со входом с Литейного, и квартира их выходила окнами в сад, в котором мы играли детьми под старыми кленами с корявыми ветвями и шишками на коре, воспетыми Ахматовой в «Поэме без героя»), зная, что Ахматова живет в их квартире, пишет ли А. А. и как она выглядит. Ириша сказала — нет, не пишет — и все курит, в комнате такой дым стоит, что «ничего не видно». Это так не вязалось с поэтическим образом прекрасной Ахматовой! Наверное, Ириша не хотела моих вопросов о трудной, трагической жизни самой ясной, самой мудрой, самой величественной русской поэтессы. Пунины ее понимали и берегли. Осенью 1949 года Николая Николаевича Пунина, пережившего блокаду и едва только не погибшего, арестовали. Н. Н. вскоре после ареста погиб… Папа в январе из Дома ученых получил талоны «для подкорма ученых» — на право несколько раз в неделю получать горячие супы и плавленный сыр. Это было большим счастьем и подспорьем. За супами отправляли меня с талонами, положенными для сохранности в рукавицу, и с бидоном. Дом ученых помещался на Дворцовой набережной, на Неве. Это бывший дворец Великого Князя Владимира Александровича, брата Александра III, дяди последнего Государя. В Дом ученых я шла через Семионовский мост, через Фонтанку, мимо цирка Ченизелли с большими сугробами, наметенными и обледенелыми перед входными воротами, мимо зашитого досками памятника Петру Великому, по Каштановой аллее и дальше, мимо Михайловского (Инженерного) замка выходила по Инженерной улице на Садовую, шла мимо застывшего заснеженного Михайловского сада на Марсово поле. Зимний, промерзший, но прекрасный город под огромным холодным синим небом, ледяным и далеким. В эти походы по заледенелому, ослепительно солнечному зимнему Ленинграду, когда на улицах, площадях не было никакого движения, ни трамваев, ни автомобилей, — только лежал белый снег и лишь двигались темные отдельные фигурки, идущие цепочкой по белым тропинкам на белых улицах, все внимание, несмотря на мысли об еде — они почти всегда присутствовали в сознании — все внимание живой души было направлено на впитывание картин величественного, раскинувшегося вдоль Невы города, с торжественностью дворцов, прелестью архитектуры зданий, черных решеток на фоне белого сверкающего снега с синими тенями под синим бледным небом, и огромных пространств и перспектив. Взор скользит по заснеженному Марсову полю (с кучей длинных белых холмиков — это траншеи без входа), через замерзшую Неву — к Петропавловской крепости, а правее, позади Дома политкаторжан — голубой купол мечети. (В 1952 г. мы познакомились в Нью-Йорке со строителем мечети — Васильевым. Это был совсем старичок с лысой головой и крашеными усами, с очень быстрым внимательным взглядом. Он с большим удовольствием показывал нам свои рисунки, перспективы, проекты, акварели в папках и на стенах. Васильев участвовал во многих американских и европейских конкурсах. Но ничего не строил: «Главное, всегда проектировать!» Он всю жизнь проектировал, но, кажется, ничего не построил после отъезда из России (после революции). Васильев очень радовался знакомству с моим мужем, с коллегой-архитектором, учеником академика В. А. Щуко, которого он, конечно, хорошо знал и помнил. Жил он в квартире знатока (и торговца) старых книг — Малицкого. Дальше мой путь идет по Марсову полю, мимо гранитных прямоугольников. Справа — неподвижный Летний сад, нетронутый снег и черные старые деревья. С осени сад был закрыт, и деревья остались не вырубленными на топливо. На Марсовом поле осталось стоять несколько ажурных металлических скамеек. К ним всегда былипротоптаны тропиночки, и на скамейках сидели дистрофики: путь через поле был длинен — без отдыха трудно пройти. Я не садилась на скамейку: мне казалось, что стоит сесть и уже не встанешь — замерзнешь. Каждый раз, когда я шла по Марсову полю, когда благодаря далекой перспективе и открытому небу особенно остро чувствовалась легкость и красота зимнего города, во мне неведомыми путями являлась уверенность, что мне не суждено погибнуть здесь, от голода и бомбежек. И это всегда связывалось с чувством красоты города — вечности этой красоты. Оттого на мой внутренний вопрос: «Неужели — погибну?» — был всегда ответ: «Нет буду жить — не могу погибнуть, раз мне дано чувствовать красоту!» Все мои серьезные мысли во время блокады являлись всегда на Марсовом поле. Под открытым зимним небом. Мысли о нашей судьбе, предчувствие нашего тяжкого пути впереди, проникновение в смутную беспокойную даль будущего. Казалось, что на Марсовом поле, где так просторно, где видна ледяная Нева, небо и даль, мне удавалось ощущать себя под прикрытием этого неба, как хранителя. После Марсова поля я не выходила на набережную, казалось, там холоднее — не укрыться от ледяного ветра; я шла по параллельной улице — Миллионной и во двор Дома, через двор на черную лестницу и к кухне. На черной лестнице была уже всегда очередь. Пожилые ученые. Совсем голодные исхудавшие благородные лица. Много бобровых шапок, как у папы, с черными бархатным верхом, и шуб с бобровыми воротниками. И у всех — или бидон в руках, или судок, или кастрюля с дужкой. Все они разговаривают на изысканнейшем русском языке. Иногда, очень поверхностно — о войне, а чаще всего их долгие разговоры до того, как повар отворит дверь кухни, полны воспоминаний. Воспоминаний юности и, чаще всего, случаев во время охоты. Очень занимательные охотничьи рассказы и описания ружей, всегда живые, интересные. Это были люди, много видевшие, богато одаренные, умевшие и рассказывать, и слушать. Когда открывалась поваром дверь на кухню, рассказы обрывались! С толстым поваром все очень вежливо здоровались, величали его по-имени-отчеству, желали ему здравия и спрашивали, как он себя чувствует. А повар — толстый-претолстый, с грубым лицом, небрежно разливал в бидоны и судки суп большой ложкой из большого дымящегося котла и отдавал команды помощнику — сытому парню, сколько граммов плавленого сыра (с тмином) отвесить ученому по числу иждивенцев в семье. Навсегда запомню худые фигуры в бобровых шапках, все устремленные вперед, к дымящемуся котлу с супом, их почти заискивающий почтительный взгляд и пузатого повара, о здоровье которого они справлялись. Бедные воспитанные, вежливые люди, — а повар говорил с ними самодовольно, чуть не на «ты». Недобитая арестами и высылками 34 — 37-го годов и вплоть до войны, дворянская интеллигенция Петербурга вымирала в первую зиму блокады. Еще осенью и в самом начале зимы ученые старались жить своей привычной академической жизнью. Были они даже предприимчивыми, упорно продолжали приходить в Академию наук, в институты на лекции. Раз, помню, по Литейному ехал легковой автомобиль, по уже заснеженной улице, а сзади, ухватившись за запасное колесо, пристроился пожилой человек в бобровой шапке, с очень худым печальным лицом и белой бородкой. Потом эти люди превратились в ужасных дистрофиков, но все-таки пытались еще вести свой привычный образ жизни: я встречала их иногда сидящих, а иногда лежащих на саночках, в тех же бобрах, но с серыми, одутловатыми лицами и черной точкой на носу. И их (саночки с ученым) с трудом тащила (на лекцию?) укутанная до глаз дама, сама уже превратившаяся в дистрофика. Особенно печально было на фоне всех гибнущих от голода видеть ученых-дистрофиков. Вымирал целый культурный бесценный круг людей, невосстановимый — такая страшная беда! Остатки потомственной русской интеллигенции уходили безвозвратно. В январе, когда уже вымерли так многие, в гостинице «Астория» открыли диспансер. Пытались спасти, подкормив, знаменитых людей — дистрофиков. Одною из первых туда попала балерина Мариинского театра Иордан, туда же определили директора папиного института Орлова. Он был высокий, крупный человек, а такие очень плохо переносили голод. И Иордан, и Орлова сумели спасти. А папу, хотя и беспартийного, назначили исполняющим обязанности директора Финансово-экономического института. Многие, оставшиеся чуть живые ученые попали в Асторию, и некоторых спасли. Ольга Берггольц, поэтесса, была там тоже…ЗА ВОДОЙ НА РЕКУ
Очень мучительно было добывание воды. Нас было четверо, и мы очень следили за тем, чтоб от голода и усталости не сделаться небрежным и не перестать умываться. Одним из условий выживания, кроме хлеба, конечно, была чистота физическая и духовная занятость; мы были внимательны друг к другу, и хотя все четверо мы были дистрофиками, пока не последних стадий, благодаря дружности семьи (и теплу) держались еще без признаков уныния и апатии. За водой мы с сестрой ходили на Фонтанку, спускаясь на лед по первому спуску перед дворцом Шереметева (когда-то мы выводили нашу овчарку Тумана на этот спуск). В нескольких шагах от спуска была пробита во льду Фонтанки небольшая прорубь, как колодец. Какой добрый человек пробил в толстом льду эту прорубь, которая поила ленинградцев водой Фонтанки? В нее спускалось на веревке ведро (или бидон) и вытягивалось обратно. Вода, расплескиваясь, тут же превращалась в лед. И по дороге вверх по спуску вода тоже выплескивалась и сразу замерзала. Весь путь от заснеженной набережной до проруби выглядел катком с наклонными плоскостями. Люди скользили, падали, ползли к проруби на четвереньках, а с посудой, наполненной водой, было еще труднее. Часто приходилось видеть — стоит женская дистрофическая фигура на краю спуска и молит налить ей воды в кастрюльку: добраться до проруби нет сил, а вернуться домой без воды — невозможно. Мы старались помочь — и какими добрыми милыми словами нас благодарили! Дойти с водою домой, внести кастрюлю или ведерко осторожно на пятый этаж было очень трудно. Мы все чаще делали остановки, особенно на лестнице.ЗА ХЛЕБОМ
У мамы началось что-то вроде дизентерии. Папа велел ей давать только чай, много чая и только чай. Но никакого хлеба, ибо он тяжел и груб, как железо. Я воспрепятствовала папиному приказу, решила лечить маму сама, на мою ответственность. И поставила свой собственный диагноз — голодный понос, и следила, чтоб мама ела чаще и больше, чем обычно, решила не жалеть еду — ничего не жалеть: там, как будет, а теперь надо спасать маму. У мамы и ноги страшно отекли, она жалобно и доверчиво смотрела на меня и слушалась меня, а не папу. Глаза у мамы сделались темные и почти испуганные, хотя она не жаловалась. Это был мой первый пациент, и я ее смогла спасти. Мама стала очень медленно поправляться. Во время маминой болезни нам пришла первая «посылка для спасения ученых Ленинграда», с продуктами. Было всего понемножечку — и мука, и масло, и сахар и даже сыр плавленый, но без тмина! Нам казалось, что это потрясающее богатство! Так оно и было. И мы спасли маму. Теперь мы следили, чтоб мама больше отдыхала и не вставала в стужу в четыре часа утра, чтоб идти в очередь за хлебом и стоять до открытия булочной. Теперь мы с сестрой, по очереди, выстаивали хвосты. Очередь в булочную, немая, устанавливалась еще ночью. Люди стояли тесно, прижавшись к спине впереди стоящего и чаще всего держась за локти стоящего перед тобой, чтобы никто не мог «втереться» сбоку, без очереди, да и теплее, и надежнее — не упадешь. Когда кто-нибудь умирал в очереди, он долго не падал, сжатый спереди и сзади. И мертвый, все стоял в очереди. Когда утром попадали в магазин, оглядывали полки — хватит ли на тебя хлеба. Самое страшное, если хлеб кончится, пока ты не подошел к прилавку — тогда нужно «бежать» в другую очередь, а уже безвозвратно ушли ночные часы. У прилавка все жадными глазами следят за хлебом и за стрелкой весов, чтоб не обвесили. И часто пререкаются и ругаются жалобными тонкими голосами с продавщицами, которые им грубо отвечают, и, сытые, презирают эту холодную, жадную и беспомощную толпу. Получив в руки норму хлебушка на четверых — один рабочий (папа с января как профессор стал получать 1-ю категорию), два служащих (мы с сестрой) и один иждивенец (мама), еще зорко следишь, чтоб довесок не смели в темноте и дали тебе с хлебом в руки. Прячешь все это в мешочек и суешь за пазуху. Хотя угрозы, как то было до конца ноября, что какой-нибудь юркий, грязный голодный мальчишка вырвет у тебя хлеб из рук и убежит, больше нет; нет больше юрких голодных мальчишек и никто не в состоянии бежать, но хлеб все равно прячешь как драгоценность и, более того, не хочешь, чтобы видели, что ты несешь хлеб домой: это почти нескромно — так много вокруг голодных, больных ненасытных глаз. Теперь около булочных больше стало умирающих от голода, тонкими больными голосами умоляющих дать хлебушка кусочек. Но никто никому ничего не дает: все мы дистрофики разных степеней и у всех нас одна судьба жителей осажденного города. Каждому умирать — в свое время. Но несмотря на то, что уговариваешь себя быть непоколебимым, бесконечно жалко видеть около булочной серые, закутанные в какое-то теплое тряпье фигуры, просящие беспомощными голосами: «Хлебца дай, хлебца…» Если кто-нибудь с горящими глазами кидается и вырывает хлеб, то сразу начинает запихивать его в рот и жевать — пока не отняли. Была в булочной на Литейном, недалеко от улицы Жуковского. Была в этой булочной первый раз, очевидно, она долгое время была закрыта; очередь была не слишком длинная. За прилавком — не обычная толстая грубая продавщица, а молодая, серьезная миловидная девушка, тоненькая, печальная и очень старательная: кто-нибудь устроил ее на хлебное место подкормиться. Когда я вышла из булочной с хлебом на груди, ко мне подступила исхудавшая женщина с умоляющими глазами и тоненьким тихим голосом стала молить: «Доченька, возьми, все возьми, дай хлебушка… хлебушка… дома сестра умирает…» и протягивала мне в открытых бледных ладонях золотую тяжелую цепь, золотые часы и еще что-то блестевшее, переливавшееся и все повторяла, и все тянулась за мной: «Доченька, возьми, возьми, это все мое, возьми — дай хлебушка… доченька, доченька…» Пробормотала, не останавливаясь: «Не могу — простите», и скорей, торопясь, пошла домой с нашим хлебушком! Меня дома с нетерпением ждали. (Этот тонкий умоляющий дистрофический голос ленинградки я и сейчас, полвека спустя, все так же слышу, и так же у меня замирает сердце от жалости и ужаса, что я ни крошки не дала ей от нашего пайка. Я забыть ее не могу — и стараюсь в память о ней искупить свою невольную жестокость.) В начале декабря был взят нашими войсками Тихвин (генералом Мерецковым). Появилась надежда, что блокада все-таки будет снята, но еще не скоро, а как дожить? Сейчас, в декабре (и январе) в день умирало 25–30 тысяч человек! Ждали и страстно верили, что к Новому году прибавят (увеличат) норму хлеба. Не могут не прибавить! Но ждали все-таки опять как чуда. В очередях говорили только об еде. В институте — говорили только об еде. И о смертях. О еде говорили как о несбыточной вкусной праздничной, — это было так нереально, что никого не тешило. Говорили об еде в настоящих, блокадных условиях: что хлеб дают такой сырой, что его необходимо подсушить на буржуйке, иначе ослабевший организм его не сможет переварить и усвоить. Подсушивать (поджаривать, как говорили) хлебушко нужно очень осторожно, чтоб ни одна крошка не обуглилась! Говорили, что лавровый лист, сваренный в горячей воде и выпитый, уничтожает отеки. И очень насыщает столярный клей, его распускают в холодной воде, потом варят с перцем, лавровым листом и дают застыть. Получается холодец. Все-таки клей делается из копыт и кожи! У нас со времен довоенных (как давно это было, казалось!) имелось несколько плиток столярного клея (купить его на толкучках было совершенно невозможно — он был съедобный!), мы варили холодец, и у нас теперь в нежилых комнатах стояло на паркете несколько мисочек с холодцом. Он был довольно пахучий, когда варился, но если положить много перца и лаврового листа, пахло меньше и можно было его есть. И мы ели. Я боялась, что у нас склеятся внутренности… Ничего — не склеились. В конце декабря, к Новому оду неожиданно выдали шоколадные конфеты. Когда мы их получили и разделили на четверых, каждому досталось по четыре толстых конфеты «Мишка на Севере». Решили, что каждый их будет есть так, как решит сам, и когда захочет, т. к. это дар неожиданный и семейному контролю не подлежит. Папа острым ножом отрезал тоненькие кусочки от своей конфеты, осторожно клал на язык и, закрыв глаза, сосал этот крохотный кусочек, все время думая только о конфете: «Когда сосредоточишься только на конфете, то она лучше усваивается организмом и пользы от нее будет много больше!» — поучал папа. Я свои конфеты тоже нарезала кусочками, правда, потолще, чем папа, и клала на горячий подсохший хлеб, получался бутерброд — абсолютная мечта!НОВЫЙ 1942 ГОД
Наступил темный вечер последнего дня темного 1941 года. Новый год! 1942 год! Нормы хлеба не прибавили. Посылка ученым — давно воспоминание. Мы в этот вечер, как и в каждый вечер блокадного декабря, были дома всей семьей. Папа на ночные дежурства больше не ходил — немцы не бомбили нас с конца ноября. Говорят, у них замерзает горючее в наши лютые холода. Мы рано справляли Новый год, сидя у коптилки. К сожалению, на столе ничего не прибавилось к празднику. Мы только ради праздника в этот вечер говорили и мечтали о мирном будущем, но мечты эти были очень неясными. К нашему великому изумлению сестра извлекла из каких-то тайников четыре свои несъеденные шоколадные конфеты и подарила каждому — по одной. Вот это был царский подарок! И какое мужество! Она только на них смотрела эти две недели, и ей доставляло радость думать о нашем новогоднем сюрпризе. Это был теперь воистину праздник! Решили ради новогодней ночи съесть по конфете целиком. Ели, сосали, облизывались по папиной системе с закрытыми глазами. Когда кончилось удовольствие, меня стало тошнить и напал страх, что я потеряю конфету. И огорчу сестру! Но обошлось — мама уложила меня и разговорами отвлекла внимание от страха. О еде (кушаньях) мы никогда не говорили. Хотя читали вслух, если попадались описания пиршеств, как нелепый курьез. Множество таких описаний было в гончаровском «Фрегате „Паллада“», — и было даже как-то неловко и удивительно читать плотоядные описания разных яств. «Фрегат» перечитывала с большим увлечением. Душа, почти лишенная тяжести физического тела, воспринимала все ярко, возвышенно, почти с восторгом. И мир, страны и люди, которые описывал Гончаров, казались волшебными и прекрасными. И сны мои были в это время тоже прекрасными, и во сне я много летала над солнечной зеленой цветущей землей с синими морями и озерами. И лететь было так легко — стоило лишь взмахнуть руками, как крыльями, и душа переполнялась счастьем и летела, как птица. Папа и сестра вечерами рассматривали карту европейской России, огромную и очень подробную карту (вплоть до названий деревень), висевшую у нас на кухне на стене. Карта была наклеена на холст и спускалась от потолка почти до пола, как географический гобелен. Папа и сестра выбирали место, куда мы поедем в эвакуацию, если представится для этого возможность. И право выбора. Папа сказал, что нужно подготовиться к выбору заранее. Они вдвоем очень подробно разбирали и обсуждали достоинства разных мест в смысле климата, густоты населения, географических (природных) данных, качества земли! Мы с мамой, отраженно, радовались их энтузиазму. Папа и сестра решили окончательно, что надо ехать в деревню у Сыктывкара. Это север, мордовская деревня, среди лесов, севернее вятской губернии, которую хорошо знал папа. Плодородные богатые места. Мордва к нам, русским, будет относиться хорошо: все-таки русский профессор с семьей к ним пожаловал — и выделят нам кусок земли. Утешительные мечты голодных людей! На этой земле мы не будем ни сеять, ни жать, а разведем кур. И свиней. Работы немного, а сыты будем всегда по горло! И, конечно, разведем огород. И вот тогда уж будет у нас этот замечательный, спасительный мешок картошки всегда! Мы никогда больше не будем голодать! А летом будем собирать ягоды, а осенью грибы. Грибы мы будем сушить на длинных белых нитках и зимой будем варить грибные супы. А ягоды (малину) будем сушить по-вятскому способу на зеленых листах малины и складывать их сухими стопками в белые мешочки, и всю зиму будем пить чай с душистыми ягодами, распаренными в нем, каждый день, а не только во время простуды, как в детстве… 10-го января подарила сестре на рождение браслет из уральских камушков. Я купила его еще в декабре в почти пустом ДЛТ («Дом ленинградской торговли»), на Конюшенной. Продавщица, совсем дистрофик, сказала мне, что «как это хорошо, что кто-то кого-то еще хочет порадовать!» В конце января к нам пришел неожиданно А.М. Хватовкер. Он приехал с фронта на один день в Ленинград. Хв. очень изменился, сделался мужественным внешне, обветренным. Выглядел много лучше, чем в мирное время, но и внутренне он тоже изменился. Он так был занят собою, своими успехами, опасностями, которых удалось избежать. Это, конечно, понятно — каждому хочется пережитым поделиться с друзьями, но неприятно резало ухо его все время повторяемое выражение «мои люди». Так чувствовалось, что он — начальство. Он часто самодовольно повторял: «Мои люди для меня все сделают!» Я его спрашивала, участвовал ли он в боях, соприкасались ли они с противником, видел ли он немцев своими глазами. Хв. много говорил, как он заботится о своих людях. Он, например, сквозь пальцы смотрел, как «его» сержант погрузил в военный грузовик мешок картошки для семьи в Ленинграде. (Не только папа мечтал о мешке картошки!) Как командир Хв. должен был бы сбросить мешок из грузовика, но Хв. этого не сделал; жаль, что он этим чуть хвалился. И жаль, что он не сказал, что подумал о нас в голодном городе, но не мог преступить закон. Как бы я была этому рада! Но он не сказал, потому что не подумал. Может быть, он не заметил, что город вымирает? Что и мы в беде? Он не спросил, как мы переносим блокаду. За несколько слов заботы о нас, тревоги о наших жизнях, за ласковое слово, обращенное к маме, которая выглядела очень больной и усталой, а мы с сестрой — совсем хрупкими, за одно ласковое слово я бы на всю жизнь сохранила о нем память, как о верном друге нашей семьи, как о моем внимательном друге довоенной и, самое главное, блокадной, молодости; и все годы его присутствия около нас и меня приобрели бы, испытанные бедой, совсем иной смысл… Потом он вытащил из заплечного мешка пшено в бумажном кульке и кость с мясом и попросил меня сварить ему кашу с мясом. «С завтрака ничего не ел!» — сказал Хв. С завтрака! Бедный Хв. даже не заметил, как мы удивились. Хорошо, что папа был в институте, он бы сорвался на нашего бестактного гостя. Я никогда в жизни не варила каши и вообще ничего не умела «варить». Мама мне стала говорить, а я исполняла. Когда гость, обжигаясь, ел сваренную мною впервые в жизни кашу (и даже кость разгрыз), мы сидели отвернувшись, читая, чтоб только не видеть его трапезы, но было все-таки слышно; отдохнув немного, он стал спорить с мамой, которая не выносит никакого показного патриотизма. Ее стал раздражать наш гость, ставший нахваливать боевой дух ленинградцев. Мама с горечью сказала, что свои бросили город на гибель, а немцам умирающий город не нужен. На что Хв. сердито заметил: «В вас говорит чувство голодного желудка!» Это моей маме сказать такое — совсем уж нехорошо! Хв. как ни в чем не бывало стал собираться. Просил меня проводить его до двери в переднюю. Я с зажженной свечей пошла его провожать по темному коридору до двери. И хотя я неоднократно отказывала ему в своей руке, он пытался меня поцеловать на прощание, но я поставила руку со свечей между нами — и он ушел. Позднее, уже на Кавказе, когда я лежала в тяжелом сыпном тифу, он нас нашел через папин институт и написал маме письмо. Она ответила, что у меня тиф, но я теперь вне опасности. Он вскоре прислал телеграмму: «Награжден орденом Красной Звезды. Рад выздоровлению. А. Х.» — именно в таком порядке. Это был последний «знак внимания» ко мне А. Хватовкера. Больше о его судьбе нам ничего неизвестно. Какая разница по сравнению с милыми простыми письмами моего школьного товарища Саши Зайцева из параллельного класса. После окончания школы он поступил в морское училище и мы с ним часто переписывались. Он в начале встал был послан на Черное море и издали сокрушался о трудностях, постигших ленинградцев во время блокады, боялся за нас, беспокоился из-за бомбежек, мечтал увидеться, просил быть осторожнее, а сам погиб с кораблем летом 1942 года.СЕННОЙ РЫНОК
Мы с сестрой стали пробовать все чаще ходить на толкучку на Владимирской. Там стали появляться крошечные прямоугольные тугие кубики, завернутые в бумагу с надписью «концентрат». Это — индивидуальная порция каши (гречневой или пшенной) солдатского сухого пайка, которая разводится в котелке с горячей водой. Нам несколько раз удавалось купить такие концентраты. Чаще, конечно, просили в обмен хлеб. Концентраты пахли мирной жизнью. На толкучку на Владимирской ходили люди с соседних улиц. И очень редко удавалось что-то купить. Когда-то в счастливое время, перед Новым годом, на этот же базарчик перед Владимирским храмом, в зимний снежный день я увела из школы мальчиков нашего класса, и мы веселой гурьбой пришли на этот базарчик, и купили громадную елку, и потащили ее к нам домой. Тихо падал огромными хлопьями снег, пахло хвоей и праздником, было очень весело и все встречные нам улыбались. Директор школы и учителя были так удивлены неслыханным происшествием, что никого из нас, подумав, не исключили из школы «за дурное поведение». И теперь была зима, и падали хлопья снега, и я на этот же базар принесла громадную коробку «Красной Москвы» — подарок А. М. Хватовкера на одно из моих рождений, увидев которую, папа немедленно велел мне очень гневно выбросить: «Это еще что за подношения! Не смей принимать подарков!» И я его понимаю — мне и самой было неловко! Но мама тогда поспешно унесла коробку в кладовку, где она стояла несколько лет. А. М. Хватовкер присылал мне на разные праздники корзины цветов — всегда огромные. Папа свирепел и приказывал: «Немедленно выбросить — что еще за актриса!» Мы с мамой быстро прятали корзину, смеясь, и высаживали цветы в Токсово на клумбу, которая называлась «подношения актрисе!» Теперь мама вспомнила о коробке Хв., подумала, что нельзя ли ее променять на хлеб. На базарчике мне предлагали за нее деньги, но никто не согласился дать хлеба! Пока наши базарные операции не дали ничего, кроме огорчений. Папа сказал, что теперь наступило время пробовать менять наш табак из обменного фонда на хлеб или крупу. С первой пачкой табака меня послали на Сенной рынок. Я никогда не бывала на этом рынке — только читала о нем. Сенной рынок очень отличался от маленького базара на Владимирской. И не только своею величиной: он расположен на большой площади, со снегом, затоптанным и утрамбованным многими ногами. Отличался он и толпою, совсем не похожею на дистрофическую медлительную кучку ленинградцев с дорогими мелочами в руках, никому не нужными во время голода — хлеба за них не давали. Здесь бросались в глаза такой теперь невиданный «деловой дух» рынка и большое количество плотных, тепло одетых людей, с быстрыми глазами, быстрыми движениями, громкими голосами. Когда они говорили, у них изо рта — шел пар, как в мирное время! У дистрофиков пар был такой прозрачный, незаметный. Я сначала походила по базару, рассматривая то, что вынесли продавать, от хороших теплых зимних пальто и обуви (и откуда взялось столько пальто — уж не с умерших ли?) до фарфоровых безделиц, правда, очень тонкой работы. Ни у кого не было в руках ни табака, ни папирос. Тогда я вытащила на свет Божий свою пачку табака. Сразу стали спрашивать, на что я меняю табак или же не продам ли за деньги. Спрашивали только плотные дядьки. Один — на вид дворник, с гладким, красноватым сытым лицом спросил меня, хочу ли я поменять пачку табака на лошадиное мясо. Мясо! Он даст мне за пачку (в полфунта) килограмм мяса. И вытащил из мешка настоящее мясо, завернутое в газету. Красное, с голубыми пленками и белой костью. Глазам своим не поверила. Это спасение — свежее мясо. Я радостно ему отдала табак, а он мне мясо. И спросил, есть ли у меня еще табак: у него дома есть для обмена пять килограммов лошадиного мяса! Если я принесу ему табак — они мои. И дал адрес — на Петроградской стороне, почти на Песочной, много дальше моего института. Договорились, что приду с табаком на следующий день. Так радостно шили домой с пакетом мяса в мешке, так хотелось скорее обрадовать всех дома! Мясо оказалось настоящее, лошадиное, мы его всем семейством внимательно рассматривали в лупу: в одном месте мы обнаружили кусочек кожи с рыжей шерстью. Запах, когда мы начали варить мясной суп, был очень необычный. Мы кость варили в супе, т. е. в пустой воде, потом вынимали ее, дробили молотком, чтоб все в ней съедобное легче бы вываривалось, и снова варили осколки кости. Когда ели суп, казалось, что мы на седьмом небе. На другой день меня снарядили в путь с пятью пачками табака и заплечным мешком. Серый без солнца очень холодный зимний день, но хоть нет снегопада. Дышу через шаль, закрывающую и шапку, и все лицо, кроме глаз. Самое трудное — перейти Неву. Многие жители переходят по льду: тянется редкая цепочка людей. На льду — менее ветренно, чем на мосту. Но я с детства боюсь замерзшей реки — видела на Неве несчастье: иду по мосту, так, как я ходила в институт. В такой, как сегодня, пасмурный день с низкой облачностью почти не бывает налетов. Да и в зимние месяцы совсем прекратились тревоги. Фронт около Ленинграда и война как будто замерзли. Налеты возобновились весной, но мы их уже не пережили — мы уехали. Обстрелы же продолжались всю зиму, почти ежедневно. К ним все привыкли, вернее не обращали внимания: от обстрелов гибло меньше людей, чем от голода. От голода гибло 30 тысяч в день в декабре-январе, так что гибель нескольких десятков человек при обстреле была сравнительно ничтожной. По Петроградской стороне я шла довольно спокойно. Самое страшное — мост — был позади. Если обстреливают мост, укрыться некуда, нужно ложиться на снег и ждать конца обстрела; если не будет прямого попадания, останешься жив — от снарядов нет взрывной волны и тебя не сдует в Неву. А осколки, дай Бог, тоже не заденут. По Каменноостровскому проспекту все шли по одной, более безопасной, стороне. Все дома — такие знакомые, знаю каждое окно, каждый камень, карниз, решетку. Все это имеет теперь такой молчаливый, замерзший, нежилой вид. И много домов с вырванными верхними этажами: видны обои комнат, на стене иногда спокойно висит картина, а комнаты — нет. Или сохранился угол комнаты с кафельной печью, а все квартиры и сверху, и снизу уничтожены; кафельная печь висит в воздухе, как бы прилипнув к одному оставшемуся углу стены. Обстрел Петроградской стороны, Каменностровского проспекта начался, когда я уже прошла пл. Толстого и приближалась к Песочной. Вот и дом мясного дворника. И тут мне сделалось не по себе: вспомнились все слухи о том, как еще здоровых людей заманивают в квартиры и потом из них делают котлеты. Решила быть очень осторожной. Дверь дворника была в нижнем, полуподвальном этаже. Я не стучала, а сперва припала ухом к двери — послушать, что делается внутри. Звуки были очень успокоительные, совсем мирные: веселые голоса — мужской, женский и детские! Настоящие детские голоса и смех! И, что самое убедительное, через замочную скважину пахло кисло-сладко вареным лошадиным мясом. И я решилась — постучала. Дворник сразу открыл дверь, и на меня пахнуло теплом, жильем, сытостью, здоровым воздухом жилой дворницкой. Крикнул в глубину квартиры: «Барышня с табаком». У двери мы произвели сделку. «Не беспокойтесь, здесь ровно пять кило». Я и меньшему была бы так же рада! Обратно с ношей было много труднее идти. Облачность рассеялась. День сделался к вечеру ясным. Морозным, звонким. Начались сумерки. По Каменноостровскому проспекту я шла опять обратно по более безопасной стороне, хотя вечером обстрелов обычно не бывало. Во многих домах на противоположной стороне прибавилось дыр, с утра мною не виденных, да и снег в некоторых местах улицы почернел от свежих разрывов снарядов. Но все так же было тихо, морозно, скрипел снег под валенками и все так же шли черные фигурки дистрофиков с саночками, мешками. Мне хотелось спешить, порадовать семью, но не было сил, ноги плелись, как и у всех ленинградцев. Мост теперь казался бесконечным — ледяная дорога в темноту. Железная ледяная решетка, мертвые фонари, — и лед внизу на Неве, на тротуаре — везде. И Марсово поле — один большой сугроб с тоненькими тропиночками; ничто не защищает от мороза — он проникает насквозь. Стало совсем темно. Около памятника Петру на Каштановой аллее перед Михайловским замком я поскользнулась и упала на спину, на заплечный мешок с лошадиным мясом. И так было хорошо и спокойно лежать на спине и смотреть вверх в зимнее, уже ночное безоблачное небо, с тысячами далеких холодных звезд. И все беды, заботы, желание выжить, буржуйки, лучины, супы, коптилки — весь блокадный ход жизни ушел из сознания — больной, мелочный, случайный. Оставалось только огромное небо, объемлющее весь затихший, опустевший город, всю землю и тебя, прижавшуюся спиной к этой земле — один на один с небом… Но надо нести мясо домой, надо вставать, а то замерзнешь. Уж недалек путь до дома. С трудом встала — и опять задвигались ноги. Все пошло своим блокадным путем. В феврале увеличили нормы выдачи хлеба и других продуктов: рабочая категория — 500 г; служащие — 400 г (студенты, как служащие); иждивенцы — 300 г. Стали выдавать маленькие количества крупы, масла, сахара и даже мяса. Во второй половине февраля на полках булочных стал появляться белый хлеб! По рецептам врачей (конечно, по карточкам, вместо обычного черного хлеба) — для больных и детей. Видеть на полке булочной кирпич белого хлеба было как чудо — глаз не оторвать: белый кирпич с желто-розовой корочкой. Докторша, пришедшая осмотреть маму (она все не могла оправиться окончательно от дизентерийных явлений), а визиты докторов — тоже чудо, прописала ей белый хлеб. И мы его все по очереди нюхали, а мама — ела.ЭВАКУАЦИЯ ИЗ ЛЕНИНГРАДА
Мама начала заметно поправляться и даже немного окрепла. При взгляде на маму сердце уже не сжималось в страхе. В самом начале ленинградского голода все больные язвой желудка вскоре поправились. К сожалению, от того же голода они позднее погибли. Судьба некоторых наших одноклассников (из тетиной школы у Звенигородской ул.) сложилась по-разному. В начале голода мы узнали, что погиб на фронте Вива Великанов. Он учился на историческом факультете университета. И почти одновременно, тоже на фронте, погиб его старший брат, приходивший иногда к нам в школу на танцевальные вечера. Как и Вива, он был высокий, с русыми волосами-кольцами молодой человек со светлыми спокойными глазами и очень атлетического сложения. И по очереди со всеми нами танцевал — к нашему большому удовольствию. Я хорошо помню их мать, она приходила иногда на вечера в школу — у нее было два сына и больше никого. И оба ее нежно любили. У Вивы была невеста — девочка из нашей школы — милая, очаровательная, скромная, красивая, на личике несколько родинок, как бархатки, и прическа — вся в темных кудрях, а сзади в волосах — бархатный бантик. У нее был очень несоветский вид. Жила она со своею бабушкой, которая в ней души не чаяла. Родителей не было: или погибли после ареста, или где-нибудь еще доживали свою несчастную жизнь, отрезанные от всего мира. И такая это была прелестная пара: темноглазая тихая девочка с кружевным воротничком на шейке и милый наш Вива, мечтавший, чтоб на улицах города, который бы назывался опять Санкт-Петербург, стали бы ездить коляски и всадники, как в XIX веке. И мужчины начали бы носить цилиндры… Невеста Вивы погибла во время обстрела города. Тоже в начале войны. О судьбе Димы Луппола тетя ничего не написала. Толика Ерастова и Володю Доломанова забрали в армию, как и Алика Нечаева — еще до войны. Не знаю, живы ли они. Про Ерастова тетя Маня ничего не ответила на мои запросы (уже из Америки), а Доломанов, по ее сведениям, вернулся с войны и, кажется, обзавелся семьей — дай Бог, хоть одному — счастье. Моя милая Шуля Гутина — растила с мужем сына! Еса Магид, наш одноклассник, большой, толстый, румяный с черными глазами и губастый, пришел к нам в начале войны, в армейской форме, и рассказал, что он уже устроился работать в полевую фронтовую газету. «Есть, конечно, риск, но все-таки мы не будем сражаться на фронте, и у газеты всегда есть транспорт — можно быстро отступить. Корреспонденты всегда первые отступают. Еще бы лучше устроиться в тыловую газету!» Мне было очень грустно слушать про его «устройства». Еса пережил войну и раз пришел к тете Мане, когда она о нашей судьбе еще ничего не знала, чтобы сообщить ей, что своими глазами видел нас с сестрой арестованными в товарных вагонах, едущих в лагеря в Сибирь. Какой жестокий человек! Очень интересна судьба Эмилии Винциславовны Яковлевой-Богучарской — бывшей нашей англичанки. Очень полная, очень пожилая образованная дама — вдова весьма известного дореволюционного деятеля — народовольца. (О нем есть статья в Большой Советской Энциклопедии.) Я ее очень любила и почитала за необыкновенную культурность, образованность и исключительную доброту. Быть с нею — было счастьем. Мама разрешила мне заниматься с Э. В. без сестры, одной. Мы обе любили проводить время вместе — в разговорах. Она была прекрасным рассказчиком, а я — жадным и благодарным слушателем. Э. В. рассказывала мне о своей жизни в Англии и путешествиях с мужем по странам Европы и Африки. Она так много видела людей и стран, с ними случались всяческие приключения, и все это она рассказывала интересно, живо, и всегда сопровождала свои рассказы показом альбомов с чудными открытками европейских городов. Я для уроков писала сочинения на разные темы, по ее выбору, длинные сочинения о прочитанных мною книгах, в которых я должна была употреблять идиомы и обороты речи, которым Э. В. меня учила. Она очень следила не столько за мыслями и чувствами моих сочинений, сколько за правильным и элегантным их изложением. Э. В. считала меня своею любимой ученицей и другом, а я ее — самой моей любимой наставницей и старшим другом. Она так же ласково относилась к Гуре Эверту — он тоже любил английский язык, литературу и Эмилию Винциславовну. Я почти с самого детства знала и любила «Песнь о Гайавате» Лонгфелло. А первую главу знала наизусть, по-русски, конечно. И когда Э. В. сказала, что хочет, чтобы я выучила наизусть первую главу «Song of Haiawatha», я очень обрадовалась. И мы стали читать с ней оригинальный текст. Как же я была радостно удивлена близостью русского перевода к оригиналу. Перевод передавал всю прелесть поэтического описания природы оригинала и всю таинственную мистическую связь людей с «духами природы». «Песнь» по-русски звучала так же хорошо и музыкально, как и английский текст… Англичанка, положив руку на раскрытую книгу Longfellow, улыбнулась мне особенно ласково: «Русский перевод мы делали с моим милым молодым учеником вдвоем — с Иваном Буниным»… Вот почему текст русской «Песни о Гайвате» такой прекрасный — его написал в молодые, восприимчивые ко всему прекрасному, годы поэт и писатель Бунин, замечательный русский писатель и поэт… А тогда, в молодости, любимый ученик Эмилии Винциславовны. Это она ему помогала понять и почувствовать прелесть Лонгфелло, поддерживала его, когда Бунин впадал в сомнения и отчаяние от непосильной, казалось ему, работы и бросал начатое. Э. В. мягко, но не отступая, помогала, снова и снова вдохновляла его своей верой в добрый результат усилий — и они довели работу до конца. И книга «Песнь о Гайавате» сделалась настольной книгой русского юношества, учила преданности, благородству по отношению к людям, животным и одухотворенной природе. Какое счастье было быть ученицей и другом Эмлии Винциславовны. В самом начале бомбардировок Ленинграда дом, в котором жила Эмилия Винциславовна в своей старой квартире верхнего этажа, был частично разрушен фугасной бомбой. Ее квартиры больше не существовало. Я видела дом после разрушения. Гура пытался расспросить соседей о ее судьбе, но никто ничего не знал. Э. В. жила на Большой Пушкарской улице, совсем рядом с площадью Льва Толстого. Рядом с ее многоэтажным домом, через проулочек стоял маленький деревянный особнячок с садиком, в верхнем этаже которого была большая несуразная квартира Каменских, наших очень близких друзей. С раннего детства и до войны мы проводили в этой квартире много приятных вечеров и детских праздников.СЕМЬЯ КАМЕНСКИХ
В январе (уже был 1942 г.) к нам неожиданно пришла тетя Вера. Мы не видели ее с самого начала блокады. Мама и тетя Вера были подругами еще с самых молодых студенческих лет. У тети Веры был муж, Александр Палыч (она его звала Абраша), сын Витя — ровесник моей сестры и дочь Олеся. Дети были серьезными, много читали, были по моим понятиям очень скучными; они ко всем относились чуть свысока, никогда не принимали участия летом в наших играх в казаки-разбойники, в волейбол, катании на велосипедах, лодках, и мы их перестали звать с собою в наши летние экспедиции. Тетя Вера везде ездила с детьми вслед за мамой, стараясь ее копировать: и на Кавказ, и в Крым и в Токсово снимала комнату у чухонки, чтоб днем дети проводили все время у нас на даче и учились бы у нашей англичанки. Мама и тетя Вера были совершенно разными людьми: мама серьезная, сдержанная русская дама, а тетя Вера — поразительная красавица, с тонким лицом итальянской Мадонны и с горячим ветреным характером. Так как Каменские не появлялись больше у нас с лета, то мы естественно решили, что они эвакуировались из Ленинграда. И вот вдруг, в самый ужасный голодный месяц к нам пришла тетя Вера, очень мало изменившаяся. Мама была еще слабенькая после болезни, но очень обрадовалась, особенно тому, что тетя Вера была все такая же полная и красивая. Не успела она обнять маму, как тут же залилась слезами: «Вчера умер Витя!» Оказывается, Ал-др Павлович и тетя Вера пытались устроить Витю куда-нибудь в военное учреждение, чтоб его не забрали в действующую армию, на фронт. Это им удалось. У Вити было множество свидетельств от докторов, что он плохо слышит (это правда), что он плохо видит (у него никогда не было очков), и т. д., так что угроза призыва была не очень велика и Витя стал жить в казарме, но приписан был к хозяйственной части — вроде «кухонного мужика» Тетя Вера рассказывала, что Витя был таким неприспособленным, что ничего толком не умел сделать: раз ему велели вымыть пол, а он не догадался надеть галоши на валенки и так и мыл пол в валенках. Весь вымок, но вымыв пол, он опять не догадался снять валенки и просушить их около печки, а так и лег спать, не снимая мокрых валенок. И заболел двусторонним воспалением легких в очень тяжелой форме. Тетя Вера приносила с места службы (она устроилась служить в военный распределитель) Вите и шоколад, и вино, и хлеба белого — все это могло бы спасти очень больного человека, но не Витю. И он погиб. Бедный Витя. Тетя Вера горько плакала и мама плакала, а мне было жаль Витю. Но было и некоторое удивление, что тетя Вера никогда за эти месяцы о маме не вспомнила, очевидно, ей не пришло в голову, что мы голодаем! А идти пешком и, правда, далеко!.. Теперь, когда у нее беда, она на маму изливает свое горе, а мама на глазах от сочувствия и слез прямо тает, мама такая еще некрепкая — это наша беда! Тетя Вера пила с мамой чай, и они, выплакавшись, спокойно разговаривали. Ал-др Павлович собирался с университетом (он был преподавателем на математическом факультете) эвакуироваться, чтобы спасти Олесю от бомбардировок. О голоде у них не было забот. Тетя Вера спрашивала маминого совета. На другой день она опять пришла и принесла маме чашечку риса. Это маме очень помогло. Несколько позднее Каменские уехали с университетом на Кавказ.КОНЕЦ ФЕВРАЛЯ 1942 ГОДА
Теперь стало ощутимым, что при покупке хлеба дневная порция на нас четверых стала побольше и хлеб выпекался лучшего качества и начал пахнуть душисто — хлебом, настоящим хлебушком. Нам пришла вторая посылка с продуктами, по «программе спасения ученых». Теперь мы знали: самое худшее для нас — позади. Говорили, что через замерзшее Ладожское озеро началась эвакуация населения города на грузовиках. Что немцы обстреливают поток машин, но не очень ретиво. А в обратную сторону на тех же грузовиках везут в город мешки с продуктами! Что около Ладожского озера по другую его сторону навалены целые горы мешков с мукой, с сахаром, крупой — все это предназначено для Ленинграда и называлось штабеля продуктов. И их так образно описывали, как будто они совсем близко, видны простым глазом или их уже везут к нам на грузовиках — спасать нас! Так хотелось верить, что спасение — не за горами. А уменьшившиеся очереди за хлебом, и хлеб на полках в булочных, не только утром, а целый день, говорили о том, что наступил перелом в сторону улучшения продовольственного положения! В нашей второй посылке был килограмм муки. Нам казалось это таким неслыханным богатством, которого хватит до конца жизни. Решили как можно экономнее расходовать продукты посылки, растягивая их, употребляя только как добавление к хлебушку. Папа разработал целую программу экономного употребления продуктов драгоценной посылки. Главное, он научил маму варить по вятскому способу кашу из муки, которая называлась «завариха». В кипящую воду тоненькой струйкой сыпется мука, воду все время размешивают, пока не получится густая мучная масса. Ее наливают в тарелку, в середине ложкой делают вмятину и наливают в нее подсолнечное масло (или суррогат). Есть нужно тоже по-вятски: ложкой брать завариху с края тарелки и обмакивать каждый раз в масло. Первая наша тарелка заварихи была съедена по вятскому обычаю: мы все ели из одной тарелки, обмакивая в лунку с маслом (из посылки) ложку: папа командовал, кому брать, остальные — ждали. Вкусно было очень. Но нам всем, кроме папы, не понравился деревенский способ еды. И хотя папа объяснял, что это самый русский, самый настоящий, артельный, дружный обед, мы решили, что будем есть завариху в следующие разы не артельным образом, а цивилизованным. Мама заметила, что, конечно, такой общий обед, может быть, выражает доверие, но не гигиеничен. Папа оченьогорчился. Должно быть, мама вспомнила, как во время голода 21—22-го года они с папой поехали в Вятскую губернию из Петрограда, чтоб подкормиться и спасти мою сестру. И прожили у родных папы несколько лет в деревне. Отец папы был очень необычным человеком: огромного роста и небывалой силы с замечательно красивым, тонким лицом и громадной бородой (он одно время служил за величавость и красоту в личной охране Государя Александра III). Он не занимался земледелием, а ездил с наступлением ранней весны с артелью плотников и столяров, которую он возглавлял, вниз по Волге и занимался строительными подрядами вплоть до глубокой осени. В своей деревне он выстроил для себя огромный двухэтажный каменный дом (и для своих братьев — каждому по дому). Каменные дома в Вятской деревне никто никогда не строил, это была неслыханная фантазия! Между своим домом и домами братьев был построен, вернее сооружен, висячий сад. Чудо из чудес! И в этом фантастическом доме поселились мои родители с сестрой. И там же я увидела впервые Божий свет. Маму не очень приняли вятичи и оценили ее по-своему — городская, да с гонором, да все лучше всех знает. Одна моя бабушка, тихая прелестная добрая, которую папа всегда вспоминал с глубокой нежностью и любовью, приняла маму. Папа рассказывал о бабушке за несколько часов до своей кончины, и мы оба плакали от умиления. Она любила своего самого младшего, непоседливого сына — самого ласкового и необычного, только она одна маму пожалела за ее «нездешность». А когда народилась я и мама не крестила меня — отказалась, мой дед не пожелал даже взглянуть на меня, и родителям пришлось вернуться в Петроград со своими маленькими язычниками. Наверное, моя добрая бабушка молилась над моей колыбелью и крестила издали крестным знамением меня, некрещеную. (Папа всю жизнь меня любил, потому что я ему каким то образом напоминала его мать.) Может, и мой суровый дед хоть издали, когда меня увозили, перекрестил меня? Разговоры об эвакуации институтов (всего, что осталось от профессорско-преподавательского состава и студентов) начали принимать более реальный характер. Теперь уже определенно решено было вывозить в глубь страны высшие учебные заведения. Надежды, что блокада кончится к лету — почти нет, а за вторую зиму блокады наверняка умрут все, кто пережил первую. Кроме того, как мы узнали позднее, партийное руководство города (и военное) предполагало, что весной немцы, которые не смогли взять Москву, попробуют занять Ленинград, поэтому нужно вывезти оставшуюся в живых интеллигенцию. До институтов и интеллигенции вывезли из города иностранцев, в первую очередь немцев, как ненадежный элемент. Их спасли таким образом в первую очередь, а нас, русских, надежных, продолжали морить. Мы в феврале не могли даже представить, что немцы могут пробовать взять Ленинград. Зачем им нужен мертвый город? Финансово-экономический институт было решено по одному варианту отправить в Астрахань, по другому варианту — на Кавказ. Папа повезет институт в качестве и.о. директора. Папа очень настаивает на том, чтобы его помощником по административным делам назначили Романовского. Сомнений у нас не было — вся семья хотела уезжать вместе с институтом. Кавказ рисовался сказочным раем. В начале войны папа как-то сказал, что одним война хороша для всех тех, кто был на подозрении или имел дореволюционные тайны, что для них теперь старые грехи отпадут: война отрезала старую жизнь. Теперь счет грехам начнется заново: они теперь будут рыться в том, как себя человек вел во время войны, что делал, как поступал, что говорил, что думал. Наша новая военная биография была у нас совершенно чистой. И папа радовался, что теперь он освободится от привычных страхов доносов, арестов и сможет спокойно работать дальше: надеялся после войны издать книгу, над которой работал уже много лет и которая была почти закончена (кроме последней главы); «Книга моей жизни» — как он иногда о ней говорил. Отдельные части книги — главы, которые он считал менее интересными, папа решал не помещать в основную книгу и издавал их отдельными книгами в течение последних нескольких лет. Многие люди с подмоченными, с советской точки зрения, биографиями во время войны решали вступить и вступали в кандидаты в партию. Вступление в кандидаты во время Отечественной войны считалось поступком патриотическим и происходило без особо тщательной проверки анкет, изучения документов — и отрезало дореволюционное прошлое навсегда. Папа это понимал и иногда даже говорил, что если б он решился поступить в кандидаты, то старые грехи были бы стерты и открывалась бы дорога в академики. Но, конечно, не захотел решиться. И когда секретарь парткома института, как и до войны, давил на папу: «Ну, как с кандидатством? Что же Вы, Иван Алексеевич, доктор экономических наук, профессор и беспартийный?» Папа, как и раньше, всегда отвечал свое: «Подумываю…» Когда мы уже очень серьезно готовились к эвакуации, продумывали, что брать с собою, что оставлять, как паковать, к папе на дом пришел его аспирант, собиравшийся писать диссертацию на соискание кандидатской научной степени. Он посидел, поговорил и попросил разрешения заходить к папе домой и обсуждать с ним свою кандидатскую работу. Аспирант был довольно серой личностью, но партийный и с какими-то связями во влиятельных партийных сферах, как говорили папе в институте знающие люди. Папу удивляло, что аспирант каждый раз во время своих посещений, а они сделались частыми, спрашивал папу, действительно ли профессор с семьей собирается эвакуироваться. Почему он это спрашивал? Папа стал беспокоиться и решил, чтоб аспирант доверился, предложить ему помощь, вернее почти написать за него кандидатскую работу. И аспирант клюнул на эту удочку (по-моему, ничего безнравственного в этом не было: все привыкли придумывать разные ходы, чтоб заглянуть в будущее. И никому папина хитрость не вредила, а аспиранту — явно шла на пользу). Папа ему написал за несколько вечеров первую главу диссертации. Аспирант разнежился и сообщил папе (под секретом), что его обязанность и задание (от соответствующих органов) — точно установить, не собирается ли профессор К. оставаться в Ленинграде, в надежде, что немцы займут город. И проследить, чтоб в последний момент перед отъездом профессор не переменил бы решения эвакуироваться и не остался все-таки в городе, отправив институт в эвакуацию без себя. Мы были удивлены нелепостью подозрения. Постепенно мы даже привыкли к соглядатаю и называли его «наш домашний шпик». Он весьма был полезен, охотно помогал передвигать полки в папином кабинете, да и был совершенно сытым — даже от чая отказывался. Решив уезжать, папа стал продуманно готовиться к отъезду семьи. Вечерами у коптилки обсуждались со всеми подробностями наши дальнейшие действия и обязанности. Первое определенное решение, вынесенное и «обнародованное» папой, — приведение в порядок библиотеки(!). Все книги нужно было сосредоточить в папином кабинете, по его точной системе и написать каталог. Безумная огромная работа. Мама и сестра наотрез отказались помогать. И мы с папой принялись за работу вдвоем. Все это происходило в промерзшей квартире. Греться мы ходили на кухню, когда пальцы (в перчатках) не могли удержать книги в руках. Диван из кабинета удалили (с помощью «шпика») — все стены были теперь заняты шведскими шкафами для книг и просто полками. Только перед окном стоял письменный стол и стул перед ним. Папа разбирал и приводил в порядок свои книги, многое выбрасывалось и уносилось к буржуйке. На мою долю выпала русская художественная литература и вся иностранная литература. Я все время открывала книги и начинала читать, забывая все на свете, пока папа не окликал меня: «Чтение, дочка, в наш план не входит, закрой книгу». Работали с папой мы дружно и очень упорно, мы оба умели зарываться в работу, забывая о еде (в мирное, конечно, время — не сейчас), отдыхе. Вечерами, в тепле, засыпали сразу же, сидя за столом, как только съедали полагающийся нам ужин, он же — обед. За десять дней мы закончили работу и любовались стройными рядами книг, поставленных по папиной стройной системе. И все было записано, зарегистрировано в нашем каталоге. Вторым решением по подготовке к отъезду была упаковка картин. Все картины мы вынули из рам и осторожно скрутили по музейным правилам — живописью наружу. Самое большое полотно — «Женский портрет» Петрова-Водкина от 1912-го года. И самое драгоценное. Написанный маслом портрет синеглазой женщины на сине-зеленом фоне. Цвет головы — характерный для П.-В., его ранних картин — золотисто-розово-рыжий. Большая, почти огромная голова — и ничего больше. Чуть видны плечи и одна рука, у шеи — размазана. Под этим портретом я выросла и очень его любила. Папе казалось, что у меня есть сходство с портретом — кроме него никто этого не замечал. Фотография этого портрета (черно-белая) хранится в ЦГАЛИ в Ленинграде. Портрет был в Русском музее на выставке Петрова-Водкина в середине тридцатых годов и тогда же был сделан этот снимок — для архива. Снимок воспроизведен в монографии П.-В., вышедшей в начале шестидесятых годов. Запаковали «Версаль» Александра Бенуа, «Садко» — декорацию Коровина, рисунок пером цыганки — К. Маковского, маленькую акварель М.В. Добужинского, которую я любила рассматривать, написанную очень просто, без деталей, почти эскиз: на большом ящике или сундуке сидит закутанная в платки, шали семья. Сидят согнувшись, опустив головы — как-то безнадежно. Кругом — зима, серые холмы вдали и одно сухое деревцо над ними. Мне с детства казалось, что очень страшно быть бездомными беженцами, и я, глядя на рисунок Добужинского, ощущала с детской радостью контраст жизни беженцев с защищенностью своей жизни, ощущала радость «крыши над головой», и во время ежовщины снова и снова рассматривала акварельку и боялась, что это может быть и нашей судьбой, если до папы доберутся. М.В. Добужинский говорил нам с мужем в Нью-Йорке, что у него было несколько рисунков и акварелей на беженскую тему. Скатали в трубочку чудесную картину малоизвестного художника 19-го века, мастерски написанную: солнечный летний день, деревья, склоненные над рекой, на крутом зеленом берегу — домик. Вдали — лес. Все так солнечно, празднично — сколько мечтаний было связано с этим русским пейзажем. Папа, смеясь, говорил, что купил эту картину из-за громадной золотой рамы. Но какая прелестная картина. Вынули из-под стекла большую акварель молодого человека, во весь рост, в итальянском или албанском костюме с красным шарфом вокруг пояса; запрокинув голову, он льет из глиняного сосуда, подняв его высоко над головой, струю воды или вина, и струя, переливаясь серебристо, падает прямо в его рот… На деревянных щитах, закрывающих окна магазинов, стали появляться написанные на кусочках бумаги (часто из школьных тетрадей, в клеточку) объявления о продаже имущества в связи с отъездом в эвакуацию. Некоторые объявления говорили о продаже вещей коренных ленинградцев (читай петербуржцев) или о продаже имущества интеллигентной семьи (читай — есть старинные вещи и книги). В некоторых объявлениях перечисляли продаваемые предметы: ковры, фарфор, картины и т. д. Все это явно «недобитые» дворянские петербуржские семьи или их остатки, вдовы, бабушки, дети, если такие сохранились. На улицах стали появляться люди с саночками, все с теми же детскими саночками, но теперь груженные вещами. Первые признаки начавшейся эвакуации из Ленинграда. Все эти уходящие из Ленинграда тянули свои санки с грудой привязанных к ним вещей в одном направлении — к Финляндскому вокзалу. Иногда двое саночек были связаны вместе, и тогда вещей было очень много — чемоданы, узлы, мешки. С собою уходящие везли своих доходяг — чаще стариков (или выглядевших стариками дистрофиков, почти умерших), как они могли их довезти даже до вокзала живыми, трудно представить. Безумная надежда на чудо. Эвакуация происходила по льду замерзшего Ладожского озера. От Финляндского вокзала беженцев везли по железной дороге до озера, до станции Борисова Грива. Здесь все (кто не умер до этого) перегружались в грузовики (крытые брезентом) и продолжали путь далее по ледяной трассе до Войбокола — на другом берегу Ладожского озера. Позднее этот ледяной путь через Ладогу стали в печати называть «Дорогой Жизни». Хоть и звучало это высокопарно, но зимой 41 — 42-го года эта была единственная связь с умирающим городом. К нему, к этому пути спасения тянулись люди, с каждым днем все в большем количестве. К Литейному, как ручейки, стекались люди с гружеными саночками и уже оживленным (в смысле количества идущих) потоком устремлялись к Финляндскому вокзалу. Саночки опрокидывались на снежных ухабинах нерасчищенных заледенелых улиц, узлы и чемоданы рассыпались, их собирали, снова грузили, и возки и дистрофики устремлялись дальше, к спасению. Все были, как одержимые, и несмотря на общую дистрофию, из последних сил старались вырваться из города-могилы. И мы, при виде этого бегства, тоже были захвачены беспокойством и жаждой как можно скорее бежать из умирающего города, пока это еще возможно (лед ведь растает весной), и стали еще более поспешно, теперь лихорадочно, готовиться к отъезду. Мы тоже приделали к деревянным щитам в нескольких местах центра города объявление о распродаже имущества. Папа тщательно обдумывал текст объявления. Чтобы оно было кратким и понятным, что вещи продаются ценные, семейные, что семья петербуржская. Мы решили продавать все, что нельзя везти в эвакуацию из-за хрупкости, и вещи, которые при бомбежке, даже если сохранится квартира, могут погибнуть. Библиотеку мы не думали продавать — хотели вернуться домой к разобранной и устроенной библиотеке, чтобы сразу же можно было бы начинать работать — «только пыль сдуть». Объявление о распродаже имущества, написанное мною крупным изящным почерком, начиналось так: «Имущество профессора и его семьи, уезжающей в эвакуацию… и т. д.» Мы в ожидании покупателей расставляли в ледяной столовой на огромном обеденном полированном столе хрусталь, фарфор. Все выглядело очень красиво, на стульях скатерти, ковры. За все время до отъезда к нам пришла только одна приятная молодая пара — явно не хищники-перекупщики. Они сказали, что у нас «не квартира, а музей — и очень жалко все это разорять». Они купили только мамину старинную синюю китайскую чашку — подарок тети Мани, и больше ничего. И больше никто не пришел. (Может, объявление нужно было писать коряво, наспех.) Пришлось весь «музей» оставить в Ленинграде. В марте смертность опустилась до 6 тысяч человек в день. Благодаря увеличению нормы хлеба и выдаче некоторого количества других продуктов, с середины марта начинаются разговоры и потом указы и приказы администрации города об общественных работах по расчистке города от снега, льда, по расчистке трамвайных путей руками ленинградского населения. Мне было совершенно непонятно, как могут дистрофические люди расколоть весь этот лед и вывезти его куда-то, очистив город. Нужны были не слабые руки, а машины — и целая армия здоровых крепких мужчин. Председатель жакта стал требовать, чтоб мама выходила на расчистку двора. Для мамы это было бы погибельно. (Мама и сейчас, почти через пятьдесят лет с удивлением вспоминает: «И почему Огуреев меня так возненавидел?» Огуреев был просто груб, неумолим и не желал знать, что мама еще очень слаба и подобная работа для нее смертельна.) Мы с сестрой вышли чистить снег и лед вместо мамы. Мы соскребали снег с ледяных гор, но нужны были кроме лопат еще и кирки и большая физическая сила, чтоб начать откалывать куски льда от огромных, каких-то доисторических ледяных глыб. Было страшно подумать, что случится весною, когда снег и лед начнет таять и все поползет, и растают нечистоты, начнут вытаивать погибшие, — и начнется эпидемия. Весенней эпидемии боялись все. И боялись нашествия крыс. Что и случилось весной, и пришлось с этим бороться не слабыми руками дистрофиков, а вызывать военные и специальные отряды, которые только и могли справиться с набегом полчищ крыс и предотвратить большие несчастья, с этим связанные. Пошла в свой институт, который тоже готовился к эвакуации, чтоб сообщить о моем отъезде с родителями. В деканате, где все лица были мне теперь незнакомы, мне сказали, что я должна эвакуироваться с Медицинским институтом, а не с родителями. И если я отказываюсь, меня вычеркнут из списка студентов института. Мы долго вяло пререкались. Наконец, мне разрешили ехать с институтом отца, но я должна была в эвакуации явиться в Медицинский институт и лично утвердиться заново в статусе «студента». Мне очень хотелось узнать о судьбе дочери профессора Александрова. Но в деканате новая секретарша пожала плечами и не стала со мной разговаривать, а голодного усталого человека просить об услуге не деликатно. Нужно было рыться в списках, открывать и закрывать ящики письменного стола, все это теперь трудная утомительная работа. Еще совсем недавно, сидя на кухне, я всегда мысленно подсчитывала количество шагов, которые нужно сделать, чтобы дойти до стола, на котором лежит книга или любой нужный предмет, и обдумывала, стоит ли из-за этого вставать со стула и отправляться в путешествие, состоящее из пяти-шести шагов, или подождать, пока наберется несколько дел, чтоб уж сразу все сделать за один «выход» со стула. Так что я нашу угрюмую секретаршу вполне понимаю. Мне хотелось узнать об Александровой потому, что она в январе предлагала мне присоединиться к ней и ее друзьям, которые решили все вместе идти пешком через Ладожское озеро (в белых халатах) на Большую землю. Мне тогда страстно захотелось к ним присоединиться — уходить всем вместе с друзьями! Но нельзя: не уходить же одной, оставив семью. Не знаю (и хотелось так узнать), удалось ли им добраться до мирной земли? Или же они отказались от этой затеи. Очень надеюсь, что отказались. Стало известно через некоторое время, что все, идущие через Ладожское озеро пешком, уже в начале пути умирали от холода, пронзительного ветра, ничем не защищенные. Рассказывали, что они так и лежат, замерзшие, со своими чемоданами — по обе стороны ледяной дороги. Помню похудевшее, но очень оживленное личико Александровой, когда она рассказывала мне о своей идее уходить с друзьями пешком по льду из мертвого Ленинграда. Она все повторяла: «Мы все будем в белых халатах — это безопасно!» И мне так хотелось тогда тоже с ними идти пешком, «в белом халате», как будто этот халат всех нас как волшебный охранит от пронизывающего насквозь ледяного ветра, замораживающего моментально легкие, охранит от голода, усталости и неизбежного одиночества (хотя и среди группы друзей) во время страшного зимнего перехода… А как же ее старый отец, семья? В студенческом общежитии нашего института было очень много смертей. Почти все общежитие вымерло. Как же жаль, что никого не выпустили из города, когда это было еще возможно. Как умоляли родители из еще «мирных» городов приехать домой дочерей! Не пустили. Всем было запрещено покидать город. Приказ. Нужно было городу иметь под рукой людей для копания окопов, тушения пожаров, расчистки улиц от снега и льда и т. д. Студенты, жившие в общежитии, были теоретически очень подходящим материалом для этой цели: готовые трудовые артели. И их, пока они могли двигаться, все время посылали — и на окопы, и на другие работы. А когда наступила суровая зима, они тихо начали умирать от голода, холода. Вечером, перед сном, натягивали на себя, что можно было одеть — на пальто, которое и днем не снимали, надевали еще плащи, халаты, галоши, шапки, руковицы и ложились на сдвинутые вместе кровати, одна подле другой, чтоб теплее было, а сверху закрывались одеялами с головой. По тревоге не спускались в подвал. Утром откидывали одеяла и считали, сколько человек за ночь умерло. И выносили умерших в коридор. К моменту эвакуации мед. института почти все студенты общежития умерли. Все студентки из нашей группы, кроме одной, Вали Витковой, погибли. Для меня они — не статистика, а живые, теплые, серьезные подруги, к которым я привязалась душою на всю жизнь и печаль о которых неизгладима. Ленинградским студенткам было чуть легче: чтоб их посылать на работы, их нужно было прежде всего найти; а найти их было почти невозможно: и искать некому, и адреса все время менялись. Из-за бомбежек и голода родные ютились в еще неразбомбленных квартирах, сходясь из разных частей города, к теплым буржуйкам, соединяя продуктовые карточки и готовя еду на всех, что было выгоднее. Даже если эта еда — чайник горячей воды с кусочком хлеба. Ленинградские студентки дольше других продолжали приходить на лекции, пока они еще «читались». Без пропусков приходила на занятия в институт моя приятельница Ира Стрекалова. Она переехала жить к своим теткам, совсем близко живущим от Мед. ин-та. В квартире, которую я помню еще в мирное время, было много маленьких кругленьких старушек — все они были на одно лицо. На столе, к чаю, появлялись баночки с чудным вареньем собственного изготовления, булочки, крендельки, печенья — все собственные. Эти милые старушки, как мышки, хранили в шкафах разные вкусные запасы, — и к ним то теперь переехала Ира, всегда очень упорно учившаяся, всегда серьезная, с большими очками на носу, через которые она смотрела на мир с печальным интересом. На занятиях она всегда все знала, как будто уже была когда-то врачом, но сама забыла об этом и теперь вспоминала… Ира целиком была поглощена изучением медицины и была бы (может быть, и сделалась) отличным лечащим врачом. Она всегда приходила на занятия, пока не эвакуировался институт (и были занятия), но не поехала в эвакуацию, осталась со своими старушками. Я так хорошо ее помню сидящей на занятиях в блокадном городе в своем черном пальто и белом вязаном берете, серьезной и спокойной, как всегда, только осунувшейся и побледневшей. На окопы она с нами не ездила никогда, и в госпитале тоже не работала почему-то, и в эвакуацию не поехала — жила как и раньше своей сосредоточенной замкнутой жизнью. С моими друзьями до войны начинала легко и доверчиво дружить и улыбалась им застенчиво и ласково. К концу февраля — к марту город стал заметно оживляться. Он перестал быть таким могильно-тихим. Стали в большем количестве появляться грузовики. И везли они мешки с мукой или зерном — мешки были большие и мягкие на вид, и грузовики ехали быстро. Темные на снегу улицы, фигурки ленинградцев останавливались, медленно поворачивались в сторону проезжающих грузовиков и долго смотрели им вслед. Еще, конечно, было много громадных грузовиков с умершими, но это было привычно, зато стали появляться грузовики, везшие расколотые ледяные глыбы. Город стали расчищать, пока это было незаметно на улицах — мы так и ходили по тропиночкам среди ухабов и ледяных нагромождений. На улицах стало побольше людей. И появились, наконец, военные — говорили, что в город стали присылать с Большой земли людей — в помощь. Город сделался заметно грязнее. Около многих дворов — кучи очень грязного снега, вытащенного дистрофическими иждивенцами из задних дворов. Мы понимали какую опасность они представляют собой для больного города, когда эти снежные замерзшие кучи начнут таять. Более сильные, обычно дворники, вывозили на санях (тащили сани несколько человек — это были большие ящики на полозьях) этот лед и снег, смешанный с нечистотами, из дворов и сваливали его через решетку на лед Фонтанки, совсем близко от того места, где мы брали воду для питья. Правда, был еще март, начало марта, было еще очень холодно, еще ничего нигде не таяло, да и расчистка дворов шла медленно. Все продолжали тревожиться, что весенняя эпидемия погубит еще живых, но ослабевших от голода беззащитных ленинградцев, если извне не пришлют помощь и не будут приняты экстренные крутые меры по очистке города до наступления тепла. Применять крутые меры руками ленинградских дистрофиков было и жестоко, и просто нереально. Хотя дворовое начальство старалось это делать изо всех сил. И все-таки весной, — чуть подкормив ленинградцев, город стали чистить их руками. А чтобы дистрофика вернуть к нормальному здоровому состоянию, нужен очень длительный период тщательного ухода и продуманной диеты. Мышцы, как и душа человеческая, после травм восстанавливаются медленно. Дневная порция душистого хлебушка на ладошке такая теперь тяжеленькая. Чтоб восстановить здоровье, нужно так много еще добавлять к хлебушку — и масла, мяса, и луковку, и много-много другого. Мы все продолжали быть внимательны к настроению друг друга. Как и в самое голодное время, мы не поддерживали разговоров о еде. И старались не только не говорить, но и не думать о еде, а думать всегда о вещах добрых, неогорчительных, о поступках хороших. Хотя я в душе знала, что Алика больше нет, но, все-таки, пока это только интуиция, чувство — неокончательная уверенность; может быть, интуиция и обманывает? С Тамарой Александровной с наступлением тяжелого голода связи больше не было, телефон замолк уже так давно, даже забылось, что было когда-то такое удобство, а идти в Нечаевскую больницу, не зная заранее, что Нечаевы-родители не уехали, было почти непосильно — и физически, и душевно. Я ждала, что, может быть, с окончанием голода, войны Алик вдруг вернется — как сама жизнь… В феврале, после стольких месяцев молчания и бездействия, пришла первая почта. Первые письма от тети Мани, от друзей, написанные несколько месяцев тому назад! От Алика — ничего, ни слова! Принесла почту молодая женщина — очень усталая. Мы ее напоили чаем. Она рассказывала, что носит почту, а почти все квартиры пустые, никто на стук не открывает дверь, никого нет — все вымерли. Она сидела у нас на кухне и отдыхала, вся обмякшая и поминутно засыпала. Мы ей не мешали и только подбрасывали щепочки в буржуйку. Она была для нас, «осажденных», не просто — молодая женщина, «выполняющая свой долг на своем посту», а была она для всех драгоценной ниточкой, соединяющей еще живых жителей города с далекими, ставшими почти нереальными, родными, друзьями на Большой земле, которые нас не переставали вписывать в свою жизнь, ощущать нас частью своей непрервавшейся жизни. Она, почтальонша с утомленным лицом, носила в своей почтовой сумке не просто письма, а надежду на дальнейшую жизнь, носила радость сознания для полуумерших людей, что Живая Жизнь их не вычеркнула, не забыла, не списала их, а помнит их, бережет память о них и скоро теперь, должно быть, примет их в свое теплое лоно… Мы не спрашивали ее о личных бедах: о личном в Ленинграде в блокаду не говорили, эти чувства прятались глубоко, глубоко — до других времен, когда сам будешь принадлежать жизни, а не смерти. В блокаду никто не плакал слезами: не было слез, и плач (мирного времени) не выражал бы глубину общего горя и не облегчил бы души. Теперь по квартирам ходят живые дворники и специально назначенные люди от госздравотдела. Ходят, проверяют, есть ли умершие в квартирах, и выносят их, еще замерзших, чтоб похоронить в огромных общих могилах. Процесс умирания все продолжается, хотя цифры (сравнительно) не такие катастрофические, как в декабре-январе. Но общая цифра блокадных голодных смертей в феврале шагнула за 2 миллиона[4]! За одну зиму, которая еще не кончилась, за первую зиму блокады, которая еще продолжалась. Хотя и не у всех дистрофиков, но у большинства происходило странное психологическое умирание: вся направленность мыслей была сосредоточена на добычу съестного, все понятия о ценностях сместились. Ценным сделалось то, что можно съесть или превратить в съедобное. И такие душевные, психологические сдвиги лечились медленно, отставали от восстановления физических разрушений. Попав в эвакуацию в «сытые» районы страны, бывшие дистрофики все ходили по базарам, говорили непрерывно о запасах (и делали их) и было в этом так много болезненной нервности и жадности! Это были еще очень больные люди, хотя внешне уже закруглившиеся и окрепшие. Мы встретили в Ессентуках (на Кавказе) во время эвакуации одного из наших соседей по даче в Токсово, Тартаковского («Дусю») — очень до войны элегантного человека, любившего все красивое в жизни. Он тяжело перенес блокаду и из молодого красивого человека превратился в старика, и хотя уже пополневшего, но все еще совсем больного: он ходил целый день по базару, шаркая по горячей летней пыли огромными растоптанными валенками, а за ним по пятам ходила его когда-то прелестная жена и так же, как раньше, до войны, его уговаривала: «Дусенька, пойдем домой,» но это было по привычке и звучало безнадежно, и сама она превратилась в серую старушку. К нам они отнеслись с полным безразличием, а раньше, на даче, чуть не каждый вечер приходили к нам играть в крокет и «попить чаю» в беседке у нас в саду, и нами полюбоваться и дать собой полюбоваться… Отец Нины Апухтиной (он попал со своим институтом связи с семьей — женой и Ниной — в тот же город на Кавказе, что и мы) долго был таким же дистрофиком с расстроенными от голода нервными и психическими функциями. Он вывез из Ленинграда чемоданчик с сухарями, к которому не давал прикасаться ни жене, ни дочери во время голода. И спрятал его во время эвакуации уже на Кавказе под свою кровать, «на черный день», на радость мышам. Ночью он просыпался, заглядывал под кровать — не украли ли его чемоданчик… Он с утра уходил на базар и скупал жмыхи. Жмыхи для него и теперь были символом и источником жизни! А базар был завален и желтым ароматным маслом, и белоснежной сметаной, и ряженкой, и яйцами, и овощами, и фруктами. В клетках гоготали гуси, продавали живых куриц, которых уносили с базара за ноги головой вниз, а они хлопали крыльями. А Апухтин ко всей этой благодатной и съедобной роскоши был бесчувственен, слеп — искал только жмых. Он потом немного пришел в себя, но был страшно нервный и кидался на Нину в припадках раздражения, хлопал ее чем попало по лбу, обычно ложкой, потому, что такие неистовые припадки у него случались во время еды. Он не терпел, когда его что-нибудь спрашивали и мешали ему есть. Жена его, как Нина бесцеремонно ее называла «старая барыня», превратилась, поправившись под южным солнцем, в «молодую барыню» и неимоверно кокетливую. Мама и папа к концу февраля хорошо окрепли: папа перестал ходить дистрофической походкой, этими ужасными шаркающими шажками с прямыми расставленными руками. И ни у кого из нас, благодаря двум «посылкам ученым» и уютной душевной семейной дружбе и помощи, не произошло психологической дистрофии. Мы все очень легко еще уставали, но уже могли думать об эвакуации и постепенно готовиться к ней. Наступил март 1942 года — первая весна (ранняя) после первой блокадной зимы. Последний раз получила в институте хлебные карточки. Обычно в день выдачи карточек в институте было довольно «оживленно»; было, конечно, грустно, но хотя бы приходили еще живые, встречались, разговаривали. Теперь, не об учении, лекциях, а о смертях: сообщали подробности — все подробности были почти одинаковы: еще утром говорил… хотел… двигался, а потом — не говорил…. ничего не хотел… не двигался. И всегда вспоминали, какой (или какая) это до войны был веселый, талантливый, сердечный человек — и мы, стоя группой, все мысленно согревались от воспоминаний и добавляли свое — всегда милое и теплое. Это было как отпевание — умиротворенное воспоминание о душе, уже ушедшей, но незабываемой в своей особенной, ей присущей прелести. Встретила мою ленинградскую подружку Тоню Мощину, всегда печальную и до войны, мою однокурсницу. Я называла ее Мосенька — у нее были большие влажные глаза, крохотный носик и шелковистые волосы. Она всегда рассказывала мне о своих бедах и печалях, и мы, вдвоем, часто только я одна, старались увидеть все ее печали в ином свете, как бы отойдя от события на расстояние, рассматривая его как звено целой, единой, неповторимой жизни. Тоня мне много о себе рассказывала — у нее не было родителей. Ее родители погибли давно, после создания коммунистического советского государства. Мы еще на первом курсе выбрали Тоню комсоргом нашей группы. Почти все студентки были комсомолками — не по убеждению, конечно, больше для «покоя», вроде как в сказках — «чур меня!» Мы часто в нашей группе говорили о вещах серьезных, о судьбе нашей страны. И Тоня принимала участие в наших разговорах. Для всех нас существовал кодекс чести! Русской чести. Как много молодых людей послереволюционного периода были лишены семейного счастья и материнского внимания и защиты. Были и у Тони только тетушки. Тоня из Ленинграда решила не ехать. И хотела, чтоб я поддержала ее решение, но решение подобное должен каждый сам принимать: как можно за другого решить, где жизнь, где смерть, где жизнь длинная, где короткая, где смерть близкая, где далекая. Все ее оставшиеся в живых после «ежовщины» родные тетушки, все до одной запасливые, работали в Гостином Дворе, и всю первую зиму блокады прожили очень уютно, не голодая. И Тоня склонялась к тому, чтоб остаться, ей казалось, что самое тяжелое время для города уже позади, а уехать, значит, скорее всего, навсегда, ведь могут и не пустить обратно в Ленинград. А тетушки все твердили: «Тонюшка, мы тебя прокормим, ведь ты наша единственная наследница. А институт когда-нибудь вернется и можно будет продолжать учиться!» Мы попрощались. Вид у Тони был печальный и растерянный. Дома уже почти все было приготовлено для отъезда. Главное было решено, что брать, что оставлять в Ленинграде дома. Мама складывала серебро, скатерти, постельное белье — вся эта тяжесть ехала с нами. Многие годы шилось, вышивалось постельное белье из тонкого полотна — это была мамина страсть. У нас, у каждого, было по собственному чемодану, который мы сами, на свое усмотрение, укладывали своими драгоценными вещами. И мы должны были сами и носить чемодан, и следить, чтоб он не потерялся. Все остальные вещи были упакованы и пронумерованы. Всего получилось пятнадцать мест. Громадный багаж. Прошли десятки лет с тех пор, приходилось укладывать, упаковывать вещи, переезжать из города в город, из страны в страну, но запомнился только этот, мой первый чемодан на пороге кочевой жизни. В него я складывала все, что хотелось сохранить навсегда: письма Алика, фотографии, дневники об осажденном Ленинграде, рисунки, сделанные во время блокады — вся история осажденного города, этап за этапом, сделанные карандашом и пером. И записи — день за днем писался дневник блокады. Папа велел записывать не только ежедневные события в жизни нашей семьи, но и цифры и числа — очень точно: «Без дат и без цифр твой дневник не будет документом». И я писала историю блокадного города и семьи в нем. Записывала дни, когда были налеты, обстрелы. Записывала нормы выдачи продуктов для различных категорий жителей Ленинграда. Подробно, с цифрами и датами записывалось умирание города. И зарисовывалось. Зафиксировала в дневнике, когда отключили телефон, исчезло электричество, исчезла вода, уменьшили паек хлеба, — и все стало умирать, замерзать, исчезать. От голода очень обострилась впечатлительность и зрительная память — запоминалось все, на что падал взор, и живое, и мертвое — и весь прекрасный мертвый город. Каждый раз, возвращаясь домой, зарисовывала все, что запомнил взор: и дома, с выхваченными кусками, рухнувшие этажи от разрыва фугасных бомб, разрушенные чугунные ограды на Фонтанке и пустоту вместо гранитных тумб, свалившихся в воду. И везде — кучи темного снега, который в начале блокадной зимы сбрасывали на лед Фонтанки. И очереди за водой. Сначала, до холодов к кранам и трубам во дворах, там, где еще была вода. А потом — к прорубям на Фонтанке и Неве. И люди с саночками. Везде люди с саночками. В начале блокады — бодрые, еще предприимчивые. А потом — доходяги. И покойники. Везде. На саночках, в сугробах, в грузовиках. Везде — умирающий и умерший Ленинград. И зашитые щитами первые этажи зданий, и булочные, в которых всегда темно: только коптилки горят. Вползаешь туда с голодной очередью как в темную, холодную пещеру, и сам себя чувствуешь первобытным человеком среди голодной, грязной, несчастной и жалкой толпы и грубых властно-жестоких продавцов. Все это и зарисовала, и запомнила навсегда. Все рисунки и тетради сложила в свой чемодан. К марту город уже сильно пострадал от бомбежек. Не было теперь ни одной улицы без разрушенных или выгоревших домов. Целые, не покалеченные дома все равно выглядели ущербными: от неухоженности — они все потемнели, потеряли цвет и были, как лицо человека после оспы, в больших или малозаметных рытвинках. Также выглядели и дворцы. Побитыми, какими-то усталыми, как и люди. И, конечно, этому виду способствовали выбитые стекла в окнах. Окна, забитые фанерой или зияющие, черные, если некому их было забивать, или закрывать одеялами, картоном… И дома стояли вечерами — как черная масса, только снег белел на крышах, на выступах камней под окнами. И все окна — темные, нежилые, слепые. Но дворцы не очень пострадали: на Зимнем не было заметно каких-либо разрушений. Снаружи. Стоял еще нетронутым Эрмитаж, хотя внутри, говорили, было много разрушений. Не видно было разрушений на Адмиралтействе, Петропавловской крепости (глядя издали, с Троицкого моста), в Инженерном замке, громадном длинном здании «Электросилы» («Ленэнерго») (бывшие казармы Павловского полка), растянувшемся вдоль Марсова поля. В музей Александра III (Русский музей) попала бомба во флигель, выходящий на Садовую. Бомба была, очевидно, небольшая: обвалилась лишь часть стены бельэтажа и выбиты были несколько окон. И ко всеобщему удивлению — на стенах были видны висевшие картины в золоченых рамах. Не вывезли! Не спрятали даже в подвалы! Картины висели и даже не сдвинулись с места от воздушной волны. А в начале войны так много говорилось о том, что музеи упаковали все картины и вывезли их из города, успели вывезти в безопасные места. Может быть, хоть самые ценные вывезли? Мне известно, что хранителям и кураторам музеев-дворцов в пригородах Ленинграда не разрешали самым строгим образом готовиться к эвакуации — укладывать картины и ценнейшие экспонаты, обвиняя встревоженных за судьбу музеев кураторов и хранителей в панике и пораженчестве. И так было во всех дворцах, одна и та же знакомая картина. Невежественные партийцы не разрешали «паниковать», кричали свои примитивные лозунги на собраниях и грозили всем служащим музеев расправой за непослушание. И все попало в руки немцев. Разрушено, разграблено, вывезено в Германию, пропало безвозвратно. Когда немцы вошли в Екатерининский дворец, целый, а не разрушенный во время боев (как всегда писалось после в советских книгах) с немецко-фашистскими захватчиками, все было на своих местах: у дверей в вестибюле стояли войлочные туфли для посетителей, на столике билетерши кипел электрический чайничек, и, конечно, все экспонаты были там, где им было положено быть, а в данном случае, где им не должно было быть в военных условиях. Немцы даже после войны удивлялись, что Царское Село, Петергофские дворцы достались им целыми, полнехонькими. А разрушены дворцы были, когда немцев выбивали из России с длительными и очень тяжелыми боями. И что могли сделать бедные хранители музеев, когда каждый их шаг, каждое движение истолковывалось как почти вражеская вылазка. Они все еще прекрасно помнили знаменитые процессы музейщиков, которых смяли, оклеветали, изничтожили за то, что они хотели всеми правдами и неправдами спасти драгоценные полотна, мебель, фарфор и другие ценнейшие вещи от продажи их советской властью за границу, за золото. Советской власти для дальнейшего построения будущего коммунистического государства нужно было много золота. И они стали торговать и «выкидывать» за границу все, что по мнению музейщиков законно принадлежало российскому государству и российскому народу. И музейщики прятали в глубинах хранилищ редчайшую мебель, картины, вписывая их в каталоги как малоинтересные. А для продажи давали под видом (по каталогу) ценных вещей что-нибудь похожее, что не так жалко. Наших грамотеев удалось обвести вокруг пальца, но «заграница» стала протестовать, требовала за свой мешок золота настоящую старину. И тогда взялись за наших музейщиков. Не поклонились им в ноги за дальновидность и храбрость, а стали судить, унижать — и сослали почти всех, а некоторых даже и ссылать не потрудились… Погибли великие знатоки русского (и нерусского) искусства — собиратели, реставраторы, хранители. Честные русские люди… В Мариинский театр попала (до марта) большая фугасная бомба и разрушила половину театра и зрительного зала — с его пепельно-голубым бархатом. Сколько торжественных и восхитительных вечеров прошло в этом театре, все детство и юность связаны с ним. Александринка, Публичная библиотека, Аничков дворец остались до марта месяца неразрушенными. Все ленинградцы очень надеялись, что бомбы попадут в здание НКВД на Литейном и уничтожат все архивы. Но здание с грандиозным мраморным входом так и осталось стоять — огромное, страшное. Мы, детьми, видели, как оно сооружалось — самое большое и роскошное здание в городе. Мы тогда не знали, нам не говорили, что значит это здание. И не ведал тогда никто, сколько жизней поглотит этот Серый дом на Литейном. Мимо него теперь шли и (редко) ехали ленинградцы к Финляндскому вокзалу — в эвакуацию. В нашей квартире мы сделали целый ряд приготовлений перед отъездом. Часть драгоценной посуды мы поместили на верх нашей огромной кафельной печи в столовой. Наверху было большое углубление, туда уместился чайный сервиз — снизу ничего было не видно. Папа туда же поместил копию (один экземпляр) своей рукописи без последней еще незаконченной главы. (Много глав этой будущей папиной книги я в начале голода по указанию папы переписывала от руки.) Оригинал рукописи он взял в свой чемодан. Мы надеялись, что кафельная печь, даже при прямом попадании бомбы в дом уж обязательно сохранится — вместе с рукописью. Папа каждый день ходил в институт. Он принимал все дела и готовил институт к эвакуации. Орлов немного оправился от дистрофии, проведя несколько недель в «Астории», в диспансере. Но ехать с институтом ему не разрешили, по распоряжению партии он оставался в Ленинграде. Папа, сделавшись и.о. директором, определенно решил, что спасение института, его преподавателей и студентов (находящихся в разных стадиях дистрофии) в том, что он и по прибытии на Кавказ (теперь уже мы знали, что нас везут на Кавказ, в Ессентуки) сразу должен начать занятия. Настоящие, серьезные занятия. Для студентов, для аспирантов — для всех обязательные. Только это сможет сохранить институт живым академическим организмом. Для этой цели по распоряжению папы уезжающий институт брал с собою документы, программы, учебники, книги и т. д. Все это тщательноскладывалось, нумеровалось, надписывалось. Это было не бегством из умирающего города — «лишь бы выскочить», а продуманным отъездом большой учебной организации для дальнейшей академической жизни на новом месте. (Из всех институтов, эвакуированных на Кавказ — на курорты Минеральноводческой группы — только папин институт в Ессентуках и наш Медицинский ин-т в Кисловодске сразу начали регулярные занятия. И сохранились. Другие же, а их было достаточно много эвакуировано на Кавказ, бездействовали, и реакция преподавателей и студентов на роскошь юга после голода в осажденном городе была очень печальной — институты распались как старое сукно.) К середине марта мы стали очень беспокоиться и волноваться — успеем ли уехать? Вдруг начнет таять лед на озере, вдруг весна будет ранней, вдруг замерзшее немецкое горючее растает, и они начнут бомбить ледяную дорогу через озеро. Пока дорогу только обстреливали, но, как говорили, не массированно. Хотя рассказывали о прямых попаданиях в грузовики с ленинградцами и о том, как перед грузовиком разрывалась бомба и грузовик прямо через дыру во льду опускался на дно. Но как всегда, страшные рассказы не пугали, слегка беспокоили, но им не очень верили: верили каждый в свою судьбу, а пока жив — веришь в жизнь. И даже самые слабые дистрофики, сидя на узлах груженых саночек, смотрели с надеждой в сторону Финляндского вокзала. Всеми, кто должен был эвакуироваться, овладела некая последняя энергия: все лихорадочно готовились к отъезду, торопились, нервничали, боялись, что не успеют дойти до вокзала вовремя, что опоздают, что о них забудут, их опять бросят! Все связи с городом, и психологические, и физические, были уже расторгнуты. Все или большинство были во власти одного желания, и только одного, лишь бы успеть выскочить. Как будто этим все решалось для полубольных, истощенных людей, как будто за Ладожским озером их ждало тепло, сытость, здоровье — жизнь вечная! Охватить же умом все трудности эвакуации при нашей системе и при войне никто, почти никто, не мог, мы за голод разучились думать в больших масштабах, думали теперь короткими блокадными отрезками. Хорошо, что папа окреп и в связи с наложенной на него ответственностью он был полон предприимчивости, энергии и твердо решил сохранить всех. И как хорошо, что его помощником был неистощенный очень живой Романовский, всегда любезно улыбающийся — у него сбоку блестел золотой зуб и он чуть картавил. Мы так отвыкли от лиц, на которых была написана уверенность и которые улыбались, усмехались и смотрели на всех живыми глазами. С городом постепенно обрывалась внутренняя связь — все помыслы мои были направлены на предстоящую эвакуацию, на жизнь в новом месте. На Юге. В тепле, не терзаемые войной. Неужели для нас уже кончилась война? Начало было таким суровым, быть может, мы уже исчерпали этим испытания, нам ниспосланные? Мы были преисполнены надежд… Город, частью которого я была, отошел на задний план моих чувств. Мы уже не принадлежали друг другу. Пятнадцатого марта папа пришел из института домой с вестью, что мы уезжаем 19-го марта. Днем. Привели квартиру еще раз, последний раз, в порядок. Запакованные вещи сложили в передней. Подолгу стояла в каждой комнате, одна. Впитывая все, что было так дорого — все детство и вся юность прошли на фоне этой квартиры. Старалась вспомнить голоса, звуки жизни, проведенной здесь. Запомнить все, что было так знакомо с детства, что почти не замечалось больше и теперь, на прощание, вдруг сделалось почти новым. Смотрела на тусклый блеск серебряных барельефов на красном дереве, пятна холодного солнца на паркете — пустые письменные столы в бывшей детской… из окон видно много неба — и это во время войны опасно: чем выше этаж, тем ближе к смерти… Зашла в папин кабинет — какой порядок; как жаль расставаться с библиотекой… Но за счастье жить я готова была бы отдать все — все, что мы имели, как мистическую плату за избавление от войны. Наступило девятнадцатое марта 1942 года. День нашего отъезда из Ленинграда. Утром пришла школьная подруга сестры Таня Крылова, родители передали ей дубликаты ключей от квартиры. Таня до войны жила очень скромно со своей старой бабушкой в одной комнате коммунальной квартиры. В комнате чувствовалась смесь страшной бедности и былой состоятельной жизни — смесь ширпотребной мебели и нескольких старых породистых комодов. И запахи, тоже смешанные — дешевой кухни и особенного старинного петербуржского запаха; я была уверена, в ящиках комода, если б я их открыла, я увидела бы бабушкины пожелтевшие от времени кружева, пересыпанные сухими розовыми лепестками. Бабушка говорила, что родители Тани в один год погибли от туберкулеза. (Мы переводили на более понятый язык — туберкулез дворянских семейств.) Бабушка была приветлива с нами, но строга с Таней и часто приходила к тете Мане, просила, чтоб она с Таней была бы требовательна и заставляла ее побольше работать. Таня называла бабушку Би-ба-бо, и мы, не задyмываясь, тоже вторили — и почтенную даму (правда, за ее спиной) — иначе не называли. С разрешения и согласия Таниной бабушки мы сделали Таню опекуном квартиры, о чем родители написали соответствующее свидетельство. Тане объяснили и показали как работает секрет на двери. Без знания этого секрета ключи не помогут — дверь не откроется и ее нужно будет выламывать. Таня обещала наведываться в квартиру. Вскоре умерла бабушка Тани. Таня писала нам на Кавказ, что наведывается в квартиру часто и много вещей перенесла к себе на наших велоcипедаx. Таня Крылова вышла (после войны) замуж. Ее фамилия Антонова. У нас есть ее адрес, но мы ей все эти годы не писали. К полудню приехал к воротам дома автобус, наполненный студентами и преподавателями института. За нами. Папа и Романовский даже автобус выхлопотали, и правда, институт ехал с институтскими пожитками. Все, что осталось от еще живых людей инcтитута, поместилось с багажом и семьями — в одном автобусе. Остальные не пережили первых зимних месяцев блокады. Нам помогли перенести багаж в автобус: удивительно, что были еще среди студентов довольно крепкие молодые люди. Пока переносили из квартиры и укладывали вещи в автобус, к нам с мамой подступили женщины из нашего дома — дворничиха, Жена Огуреева и активистки жакта. Они стали нас закидывать вопросами: когда мы вернемся, вернемся ли вообще, что мы будем делать с квартирой, с мебелью с вещами и т.д. Поразили меня их жадные горящие глаза — почти безумные (хотя они не были диcтрофиками). Я бы не удивилась, если бы они сразу после нашего отъезда заспешили наверх выламывать дверь нашей квартиры. Если б у них била сила в руках. Папа, установив на двери секрет, спустился к автобусу, и мы все разместились на тюках и медленно поехали по скользкому неровному ледяному пути к Финляндскому вокзалу. Прильнув к стеклу окна автобуса, я смотрела на медленно проплывающие здания симеоновской улицы, безмолвного бездействующего Храма Симеона И Анны решетку церковного сада. Прощалась c детством, молодостью, c городом и счастьем жизни, навсегда c ним связанным. Каждый дом знаком до мельчайших подробностей, каждое окно, двери, царапина на камне.ПРОЩАНИЕ С ЛЕНИНГРАДОМ
Совсем рядом c нашим домом на симеоновской, около заколоченной парадной — заснеженная, заиндевелая пустая и, как все здания осажденного города, помертвелая ниша… Давным давно, в мирное время я возвращалась домой после занятий в анатомичке в институте поздно вечером зимой. Крупные тяжелые снежинки медленно падали, не кружаcь, из темноты, покрывая улицу, тротуары, одежду пешеходов, крыши домов мягким белым плотным слоем. У самого нашего дома в этой нише я заметила темную, запорошенную снегом фигуру, почувствовала устремленный на меня через снежную завесу взгляд и приостановилась в удивлении. Фигура отделилась от ниши и быстро подошла ко мне, не отрывая от меня взгляда темных горячих глаз: «Ты меня помнишь?» Я узнала: «Аркадий». Это был сын нашей учительницы ручного труда в младших классах школы, Раисы Львовны Давыдовой, спокойной, всегда печальной дамы, учившей нас шить, вышивать, плести корзиночки, строгать палочки. Мне всегда казалось, что ее грустного чела не покидают глубокие заботы, что она прислушивается к чему-то, чего нам, детям, слышать не дано; она никогда не улыбалась. Ее мужа арестовали, и она растила одна троих детей. Старший, Аркадий, учился в нашем классе, третьем классе бывшей Таганцевской гимназии на Моховой улице. Раз, в самом начале урока труда, Р. Л. вызвала меня и во всеуслышанье сказала: «Для тебя на моем столе оставлен подарок — подойди и возьми его». Класс замер, а я робко подошла к ее столу. На учительском столе стояла небольшая синяя коробочка, на белой крышке круглым почерком выведена надпись: «Римочке от Неизвестного». Мне стало жарко. Грустно глядя на меня, Давыдова спросила: «Ты знаешь от кого подарок?» «От Аркаши?» — догадалась я испуганно. Д. кивнула головой и опять спросила, хочу ли я взять коробочку или сначала покажу ее классу. Конечно, нужно показать: всем любопытно. Подождала, пока дети обступили стол, многие встали на стулья, чтобы лучше видеть, — и открыла коробочку. В ней были конверты. В каждом — засушенный цветок или необычайный листок дерева. И на конвертах тем же ясным почерком написано название засушенного растения. Я открывала по очереди каждый конверт, громко прочитывая надпись, и показывала всем ее хрупкое содержание. Давыдова спросила: «Ты хочешь позвать Аркашу?» Искать его побежали несколько человек и скоро вернулись: «Он сидит в раздевалке и плачет…» Давыдова улыбнулась неожиданно ласково: «Он все лето собирал цветы и сушил их…» Когда Аркадий вернулся к следующему уроку, я подошла к нему, собрав всю свою храбрость, и при всех его поблагодарила: «Всем гербарий твой очень понравился…» Так боялась, что он снова расплачется. Через год оставшуюся семью Давыдовых арестовали и сослали в сибирские лагеря. И с этих пор никто о них не вспоминал. И вдруг теперь, когда мы сделались студентами, в последнюю зиму перед войной, ко мне из ниши сквозь снегопад подошел Аркадий Давыдов, в военной форме — взрослый, изменившийся — и смотрел на меня грустными темными глазами, глазами его матери — нашей учительницы труда. Вплоть до начала войны он писал мне печальные письма и иногда приходил к нам домой, когда его отпускали из казармы. Р. Л. и младшие дети были живы, но им был запрещен въезд в столицы (они получили статью 15), т. е. не имели права приближаться к городу ближе, чем на пятнадцать километров. С началом войны общение с Аркадием оборвалось… Я все годы детства, юности бережно хранила синюю коробочку с засушенными цветами и листиками; эвакуируясь из осажденного Ленинграда, оставила ее в ящике письменного стола. Мысленно попрощалась с Аркадием, этот раз, кажется, навсегда. Автобус свернул на Литейный. Трамвай (в мирное время), идущий по Симеоновской, при выходе на Литейный слегка замедлял ход, и я на ходу вскакивала на заднюю площадку, чтоб ехать в школу, около Звенигородской, в которой мы с сестрой учились последние три года, до поступления в институт. И на обратном пути я соскакивала на ходу перед бывшим домом Юсупова, переделанным в наше время в Лекторий. (Дом, полученный Феликсом Юсуповым от его бабки, будто бы самой Пиковой Дамы.) Как много интереснейших вечеров я провела в Лектории. Внутри дом был перестроен: в больших бальных залах были рядами поставлены венские стулья и устроены аудитории. А парадную дверь не заменили: она была из толстого стекла с бронзовой решеткой — узором растительного рисунка. На Бассейной (ул. Некрасова), на первой улочке, отходящей от нее слева, музыкальная школа Бариновой, где мы детьми учились фортепьянной игре. Во всех помещениях школы было сумрачно, неуютно; вестибюль и лестницы были плохо освещены, и хотя из-за классных дверей раздавались звуки рояля, школа производила впечатление запущенности. Ассистентки Бариновой давали уроки на дому. Но весенние экзамены приходилось сдавать в школе, в присутствии самой Бариновой, пожилой полной дамы, перед большой аудиторией. Экзамен всегда начинали с меня, как самой маленькой. Под густой смех набитой до отказа аудитории бородатый служитель клал толстую стопку нот на стул перед роялем, поднимал меня и усаживал на эту стопку, которая, как живая, скользила и разъезжалась при каждом движении. Видя мое замирающее от испуга лицо, сама Баринова, она всегда стояла у рояля, милостиво покачивала головой: «Ты не бойся, малышка! — здесь все свои». Я оглядывалась на «своих», а они все были взрослыми, сидели плотно и дышали и смотрели. Экзаменатор нажимал одну ноту (я должна была отвернуться от рояля и догадываться, сколько нот он нажимал — проверял мой слух), я говорила — одна, нажимал две, я говорила — две, нажимал три, я говорила — три, нажимал одну, я, увлекшись, говорила — четыре. И все ужасно, пугающе громко смеялись. Я очень не любила эту школу, хотя она вырастила много хороших музыкантов. На углу Литейного и Бассейной — старенькое здание с маленькими окнами. Из одного окна выглядывал давным-давно Некрасов и смотрел на большой желтый особняк, напротив, на другой стороне Литейного с ампирным входом в него, с колонками по бокам, и ступеньками, и женскими кариатидами, поддерживающими балкон. Бывшее здание Министерства Двора. Это был тот самый «парадный подъезд», у которого кому-то «размышлялось», а мы потом учили по этому поводу некрасовские стихи в школе. В доме Некрасова, в низочке, еще долго после революции сохранялся милый магазинчик тетрадей, карандашей, бумаги и, что мы очень любили — заграничных очень ярких выпуклых наклеек для альбомов — мы их школьным подружкам дарили. Этот магазинчик «Учитель» был всеми любим, последний «частник» в городе, как мы слышали от взрослых. И принадлежал он высокому пожилому, очень приветливому господину, которого все дети любили, потому что он кроме ласковых слов, к нам обращенных, всегда находил в ящичках своих шкафов необыкновенно красивые вещи из бумаги, елочные украшения, карандашики с разноцветными набалдашниками и, когда мама или наша учительница расплачивались, он всегда с самым любезным поклоном и милой улыбкой преподносил нам по яркой нарядной безделице. Нашего последнего петроградского частника все и в глаза звали Учитель, одни — господин Учитель, другие — товарищ Учитель. Я не знала, как его называть, и на всякий случай делала ему реверанс. Позднее его как окопавшегося классового врага уничтожили. По моим представлениям эта лавочка была живой частью дореволюционной России, которую я никогда в жизни не видела своими глазами, но знала по книгам и по этому магазину. И как грубо этого приветливого Учителя некоторые жители нашего дома называли «бывший нэпман». Медленно ехал автобус по Литейному к Неве, обгоняя ленинградцев, уходящих из города с гружеными саночками, шедшими в том же направлении. Пересекли Пантелеймоновскую. На Моховой — наша школа-семилетка, в которой мы с сестрой учились. Дети Корнея Чуковского — Лидия и Николай — учились в ней задолго до нас. Тогда это была Таганцевская гимназия. В этой гимназии училась Ариадна Владимировна Тыркова-Вильямс — прекрасная писательница, мы с нею, глубокой и просветленной мудростью старушкой познакомились в Нью-Йорке в квартире Добужинских. В Тенишевском училище учился Владимир Набоков. Все торжественные собрания нашей школы происходили в обширном актовом зале училища. В нашей школе, классом младше, училась дочь Константина Федина — маленькая копия отца… Справа, на просторной площади, большой пятиглавый классический Храм Преображения. Он обнесен оградой из пушечных трофейных стволов русско-турецкой войны 1828 года, а между ними — большие тяжелые темные цепи. Мы на них в детстве качались. Сидя на них, уже школьницей, проспорив Алику имя архитектора одного из дворцов, я должна была в наказание спеть старинный романс без аккомпанемента, что я и сделала, раскачиваясь на тяжелой цепи. Был осенний вечер, и под ногами нашими шуршали опавшие оранжевые листья, пахнувшие парками Царского Села. В этом храме венчался Мстислав Валерианович Добужинский и Елизавета Осиповна (Волькенштейн) в конце прошлого века. С семьей Добужинских мы с мужем после войны сблизились… Площадь теперь была в высоких снежных нагромождениях, деревья около храма — в снегу, кусты превратились в сугробы, цепей — не видно. Слева по Литейному, там где перед училищем стояли пушки, только горы снега и льда. На Кирочной, у самого Литейного — здание когда-то Офицерского Собрания, а при нас — Дом Красной Армии, когда мы проходили мимо на каток в Таврический парк, из освещенных дверей выходили оживленные военные; дом не был разбомблен, но выглядел мертвым, пустым, парадный вход был завален сугробом. Проехали мимо Серого дома. Так он и остался неразбомбленным, огромным, неуязвимым. И наш автобус стал взбираться на Литейный мост. С трудом тащили дистрофики на мост свои саночки с пожитками. На некоторых саночках сидели закутанные фигурки детей. Мы давно-давно не видели детей на улицах, а тут ехали сохранившиеся дети, правда, очень их было мало и выглядели они маленькими старичками. Жизнь в осаде — недетское дело. За Каменноостровским мостом — тоненький шпиль Петропавловского собора. А Биржи и Ростральных колонн не видно, они поглощены зимней снежной мглой. Как мы любили с Аликом ходить вдоль Невы вечером, любуясь городом, забывая, что наступила уже ночь — в разговорах, в радости и счастии быть вместе, разделяя это счастье друг с другом, забывая, что дома меня ждет мама (и тетя Маня, и ужас — папа!) и все они не спускают глаз со стрелки часов, а Алика ждет Тамара Александровна и тоже смотрит на часы! Но это было по возвращении домой, а до этого — наши прогулки по городу белыми ночами, по темному Петербургу, по весеннему, зимнему, осеннему, всегда с Аликом вместе, неразлучно… Слева от Литейного моста, уже на другом берегу Невы, Военно-медицинская академия в замерзшем безлюдном парке. Много корпусов — целый старый городок, и выглядит он холодным, покинутым. Как много знаменитых ученых и врачей воспитала Академия от времени Петра за долгие годы ее существования… Среди студентов-слушателей Академии было у меня несколько бывших школьных друзей. Самый давнишний, еще с детства, Гоша Николаев, мой одноклассник и друг со второго класса школы. Вернулся ли он с войны или он разделил темную судьбу нашего поколения? (Я с ранних лет — после поступления в школу знала, что этот высокий мальчик в темной курточке, с которым мы почти не разговаривали — мой друг: на переменках, во время общих игр он всегда был поблизости: стоило поднять глаза, оглянуться и я всегда встречала его приветливый взгляд. Перед войной, я была на втором курсе института, я встретила его на Литейном — в форме. Гоша весело смотрел на меня: «Вон ты какая стала!» И мы первый раз; почти взрослые теперь, долго дружески разговаривали, и было нам обоим хорошо! Была зима, Гоша спросил, не поеду ли я с ним, старым товарищем, на каток. Я радостно согласилась. Мы договорились встретиться в воскресенье. У стадиона Динамо. А я, забыв о Динамо, приехала на свой старый каток в Таврический парк: так мы и не встретились. И не попрощались перед войной. Может быть, мой старый друг Гоша пережил войну и служит врачом где-нибудь на русской земле.) В автобусе — знакомые по бомбоубежищу под Финансово-экономическим институтом. Студенты, некоторые очень дистрофичны, некоторые еще довольно крепкие, и они нас с сестрой рассматривали довольно бесцеремонно и с любопытством. Была в автобусе странная пара (он оказался преподавателем института Ягудиным): оба черноглазые, очень растерянные, и у нее на руках — закутанное в одеяло маленькое дитя. В блокадном городе, в холод и в голод — грудной малыш! Рядом с ними ехал в автобусе бойкий краснощекий «дядька» тоже с черными глазами, который все время хлопотал: «устраивал» их вещи под скамьи автобуса, усаживал пару, пересаживал, передвигал их чемоданы и все время нашептывал им что-то в ухо, а они оба слушались, молча исполняли все, что он от них требовал. Были они оба очень бледными, с очень черными бровями, но здоровыми, хотя выглядели потерянными и несчастными. Молодая мать вдруг ахнула — она вспомнила, что оставила на столе в квартире бутылку с молоком для младенца — все, что у них было для мальчика — последнее молоко: она сидела и тихо плакала, склонясь к ребенку, а Ягудин очень волновался, но никого не упрекал. Дядька их успокаивал, обещал «съездить» в квартиру и привезти бутылку, и он, правда, все успел: и устроить своих подопечных в вагоне поезда, и отправиться на квартиру за молоком, и появиться с забытой бутылкой за пазухой до отхода поезда. Удивительный дядька — он остался в Ленинграде сохранять их квартиру. На площади перед вокзалом — густая толпа людей с узлами, чемоданами, на саночках и просто на снегу. Громадная толпа. Когда же это все рассядется по вагонам, рассосется? Папа с Романовским ушли на вокзал, а мы с женой Романовского и его двумя мальчиками остались ждать их около вещей. Тут же сидели на вещах и стояли студенты и преподаватели. Мы с этого момента держались тесной группой, чтоб не растеряться. Долго-долго сидели на площади. Ждали. Уже начало смеркаться; холод мучил всех — негде было скрыться. Пока сидели на чемоданах и узлах, волнение, суета сборов, отъезда улеглись в душе и мне сделалось очень грустно, что мы решили уехать из Ленинграда. Мысленно я дала себе обещание — во что бы то ни стали вернуться обратно. Чего бы это мне ни стоило. Шептала обещание и смотрела на дома на другой стороне Невы: они из голубых, вечерних, превращались в серые, ночные. А пока мы сделались бездомным и никто нас нигде не ждал и ехали мы — неизвестно куда. Войне и страданиям, казалось, не будет конца, а длилась война еще только неполных девять месяцев, даже года не прошло, а казалось — полжизни. Толпа стала заметно редеть. Постепенно всех уводили на посадку в вагоны. И нас тоже, наконец, позвали и повели к вагонам. К составу дачных вагонов. Залезая в вагон, мама вспомнила, что забыла на площади свой чемодан. Разве теперь найдешь? Я вернулась на площадь поискать его — и нашла: мамин чемодан стоял одиноко на затоптанном снегу, на опустевшей, темной теперь, площади. Когда я вернулась к составу, наша группа уже разместилась в холодных неосвещенных купе, в обычных «твердых» дачных вагонах. Папа и Романовский стояли у двери вагона. Папа обрадовался, увидя меня с маминым чемоданом в руках — «вот умная дочка!» — и заторопил меня. Мы должны были скоро отправляться. Ехать ночью — безопаснее. Весь вагон был набит людьми и багажом, и даже не казалось, что слишком холодно. Перед отъездом папа и Р. получили на институт хлеб, и теперь все сидели на скамьях, на вещах, между. сиденьями, в коридоре и жевали свой последний ленинградский паек. Было тесно и очень тихо. И совсем темно, когда поезд тронулся. Не было ни звонков, ни гудков — просто вагон дернулся, и мы поехали. Папа наклонился к нам из темноты и тихо сказал: «Ну, вот, ребятки, — поехали из Ленинграда…» Мы должны были проехать не очень большое расстояние до Борисовой Гривы. Предполагалось, что прибудем туда утром. Поезд двигался очень медленно, совсем бесшумно, часто останавливался, как будто хотел прислушаться. Напротив нас на скамейке сидели Ягудины (Герш и Лиа), сидели очень тихо, не разговаривали между собой, не двигались. Она, прижав младенца к себе. Младенец тихо плакал и кашлял. Меня очень беспокоил этот странный, захлебывающийся кашель (вроде коклюша, но он такой еще маленький!). Шепотом спросила Ягудину, что с ребенком, не болен ли он. «Нет, он смеется, — сказала мать, — он поел и теперь смеется…» Всю ночь, склонившись к маленькому сыну, она тихонечко декламировала ему стихи Блока. Ночь темная, опасная, полна неизвестности, и младенец все реже и тише кашляет — и совсем затих. А мать над ним, как заклинание читает Блока:Северный Кавказ
Глава первая
НА БОЛЬШОЙ ЗЕМЛЕ
20 марта 1942 года. Войбокола. Недалеко от места, где остановились грузовики, были деревянные постройки, было много людей. Нам помогли выгрузиться и повели в барак, где каждому выдали сухой паек (хлеб, крупу, яичный порошок и большой кусок темной твердой копченой колбасы), и усадили за длинные столы. Перед каждым поставили миску с горячей похлебкой. Густой похлебкой — с кашей, мясом, картошкой… Царская похлебка! И дали несколько кусков хлеба, вкусного, душистого, настоящего! Мама предупредила: «Ешьте очень медленно», а колбасу сразу забрала от нас, чтоб мы не ели ее пока — мы все отвыкли от острой копченой еды, от всякой настоящей еды! Мы понимали, что съесть сейчас колбасу значит наверняка заболеть очень серьезно и, быть может, умереть. Я уверена, что люди, желавшие накормить ленинградцев, хотели все сделать лучше, но делали все по собственному разумению, часто невежественно, не посоветовавшись с врачами, и наделали беды. Ленинградские дистрофики буквально набросились на еду. Ели все подряд, быстро, жадно заглатывая все, что можно было положить в рот, не думая и не зная, что от длительного голода перерождается весь пищеварительный тракт… И началась повальная дизентерия и смерти. Сразу же, около барака люди заболевали ужасным образом. В тот же день, еще засветло, нам было сказано, что мы должны идти с вещами к железнодорожным путям, что состав уже приготовлен, вагоны распределены и мы можем искать свои вагоны. Папа и Романовский все время отсутствовали, они даже не ели с нами похлебку, вели все переговоры, оформляли документы, подавали списки людей — преподавателей, студентов и их семейств. Как правило, в составе семей ехали и друзья под видом кузенов, кузин и т. д. И к этому власти относились довольно спокойно — всем хотелось уехать, а также каждому хотелось помочь многострадальным ленинградцам. Самое трудное было попасть в списки эвакуирующихся с институтами, заводами. Было распоряжение по заводам, организациям, выезжающим из города, что со служащим может ехать лишь ближайшая семья — жена, дети. Родители, братья, сестры — это уже не близкая родня (!), ее было запрещено брать. Но, конечно, как всегда, все зависело от дирекции, от начальства данного учреждения: если человек с сердцем, то он брал «лишних» родственников, если же без сердца, то, ссылаясь на закон, был глух к мольбам. Если же ты оказывался в списках, то в дальнейшем степенью родства никто особенно не интересовался и препятствий не чинил. Нам помогали папины студенты: у всех них, часто некоренных ленинградцев, было мало багажа, и они охотно тащили наши тяжелые чемоданы. Не переставала удивляться, что есть ленинградцы в силе. Нас отправляли в самых обычных телячьих теплушках — состав был длиннющий. Ехало в этом составе несколько институтов, все, что от каждого осталось, и еще — учреждения со своими служащими. Достоинство теплушек было в том, что посередине в каждой из них стояла буржуйка и был насыпан. уголь перед нею. В теплушке были двухэтажные нары. Финансово-экономическому институту дали три теплушки. Наша называлась теплушкой профессорско-преподавательского состава и показалась мне довольно просторной. Казалась такою, пока ее не заполнили все преподаватели и их семейства. Нам четверым и пяти членам семьи Романовского (с ними ехала сестра жены) отвели верхние нары. Это, конечно, устроил энергичный Р.: у него два мальчика, им нужен свет. А единственное окошечко во всем вагоне, совсем крохотное, как отдушина, было над нарами второго этажа. Света было немного, но днем можно было лежать под окошечком и читать, а на стоянках, когда вагон не бросало из стороны в сторону, даже писать сидя. Сидеть на нарах было возможно, головой почти упираясь о потолок вагона. Спали мы, тесно прижавшись друг к другу — девять человек в ряд. Но все мы были относительно здоровыми, не запущенными физически и жили на своих нарах очень дружно, не спускаясь вниз во время движения поезда. Молчаливые Ягудины, печальные и замкнутые в своем горе, были под нашими нарами. Они тоже не подходили к буржуйке и лежали во время движения поезда в темноте на своих нарах. Ехали с нами в вагоне Пипуныровы — семья из трех человек. Пипуныровы были все трое белобрысыми, со светло-голубыми круглыми глазами и очень белой, грязной, немытой кожей. Дочке было лет 12, она походила на мать, с таким же острым вздернутым носиком и с таким же коричневым шерстяным платком вокруг головы, и выглядела очень голодной. П. был зырянин, друг знаменитого Питирима Сорокина, тоже зырянина, живущего в Америке, основоположника социологических наук. Пипуныров не доехал до Кавказа, а с семьей вылез из теплушки на одной из остановок, чтоб пробираться в свою деревню. У всех Пипуныровых были очень пронзительные голоса, птичьи, и пользовались они ими как только просыпались — с избытком. Но все трое были очень приветливыми, прямолинейными в суждениях, честными во всем и ласковыми. Папа к Пипунырову всегда относился очень сердечно, часто заходил к нему домой в Ленинграде (он жил напротив цирка) и любил с ним разговаривать, ценя его природный ум и простоту и честность. Он был талантливым преподавателем, очень эмоциональным в жизни, верным, надежным другом и беспартийным. Ехала с нами преподавательница немецкого языка в институте Ремизова, пожилая, немного жесткая худющая особа; она везла с собою сестру, такую же костистую, молчаливую и печальную, как она. Я Р. очень благодарна за то, что она меня раз во время голода накормила. Когда папа заменил больного директора института Орлова, она меня, страшно голодную, пригласила к себе домой, налила мне тарелку чудного золотого куриного бульона с лапшой и сухариками. А потом, когда я опустошила тарелку — до блеска, налила чашку чаю и поставила передо мною стеклянную банку апельсинового варенья. Я не могла глаз оторвать от банки с оранжевыми засахаренными корочками, хозяйка деликатно вышла из комнаты, оставив меня одну с вареньем. Я старалась не очень жадничать, съела одну, но огромнейшую ложку варенья — это была совершенно божественная мечта! На прощанье Ремизова дала мне большое коровье ребро для супа. Без мяса и без жил на нем, но совсем свежее. Мы варили ребро, раскрошив его на мелкие кусочки молотком! Ремизова совсем недвусмысленно сказала мне, что хочет взять с собою в эвакуацию свою сестру и что я это должна передать папе и уговорить его. Со всеми просьбами личного характера к папе все подступали ко мне. И я всегда уговаривала папу помочь, и он легко сдавался: все просьбы были очень человечны. Ремизова всю дорогу до Кавказа вынимала из чемодана белые полотняные мешочки с крупой, высыпала их в кастрюльку и варила на буржуйке ароматные кашки. Но мы не завидовали: нас на станциях прекрасно кормили и мы были теперь сытыми. Были в нашем вагоне и другие преподаватели с женами и одинокие. На противоположных нарах второго этажа, рядом с Пипуныровыми «поселилась» семья профессора Буковецкого. Он — очень сердитый колючий господин с жесткими рыжеватыми усиками под носом и злыми глазами. Студенты его недолюбливали, он всех обижал и над всеми насмехался, начиная с собственной семьи. Буковецкий сидел на краю своей полки, подобрав под себя ноги по-татарски, и смотрел весьма неодобрительно на жизнь вагона, очень часто комментируя свои наблюдения, ни к кому не обращаясь определенно, очень невежливо, неприятно и надменно. Ему никто никогда не возражал, но все ежились. Жена его — тихая, незаметная и послушная, а дочка — премилая, веселая, вся в веснушках — только при отце смотрела на всех исподлобья, надув губы. Звали ее Заза — она была еще школьницей, и мы очень подружились. Старостой вагона сделался большой серый неприятный преподаватель, партиец, считавший, что нужно все время отдавать приказы — большие и малые. Звали его Семашко. Когда кто-нибудь пытался с ним не согласиться, он разводил демагогию и хвастался, что он-то уж все знает: «своими руками»' совершал революцию. А руки у него были огромные, тоже серые и устрашающе мягкие, как у осьминога. Спорить с ним было даже страшно. Он недолюбил Ягудиных (раньше наверное их мало касался) за их замкнутость, интеллигентность и не пропускал случая, чтоб обидеть их. А они всегда отступали, поддерживая другу друга: «Лия, не спорь, не унижайся» или «Геша, отойди от буржуйки, не унижайся!» — и оба залезали молча на нары и не выходили до остановки. Ягудины были правы — спорить с Семашко было унизительно и безнадежно. Семашко все не любили. Судьба наказала Семашко ужасным унижением перед лицом всех «жителей» нашей теплушки. С тех пор он перестал на всех замахиваться, сделался вежливым и терпеливым, и к нему все стали относиться снисходительно. А серая кожа у него так и осталась, даже не оживилась под кавказским солнцем. В нашем вагоне ехал еще профессор Клупт, несколько напыщенный дубоносый господин. С женой — прелестной русской женщиной с огромной светлой косой. Она всю свою замужнюю жизнь ходила около мужа на цыпочках и шикала на прислугу и дочь, чтоб не шумели: «Веня пишет диссертацию!» Шли годы, дочь росла, а Веня все писал, а жена все тихо ступала и замирала, когда в кабинете скрипел стул. А потом наступила война, дочь услали в эвакуацию, а Клупт с неоконченной диссертацией и женой ехал на Кавказ, где она взбунтовалась и перестала ходить на цыпочках. Разместившись в теплушке и узнав, что состав двинется только вечером в направлении на Вологду, мы решили с сестрой пойти поглядеть на «штабеля» продуктов для Ленинграда, о которых мы слышали еще раньше, в феврале, в очередях, и о которых говорили теперь с большим энтузиазмом в нашей теплушке: «Спасение для еще живых ленинградцев. Только бы успели довести поскорее!» Эти склады продуктов под открытым небом были совсем близко, у самых железнодорожных путей. Когда мы шли первый раз к теплушкам нашего товарного эвакопоезда, я видела эту гору мешков и ящиков и не поняла, что это такое, думала, что это строительный материал. Оказалось, что эти аккуратно сложенные коричневые рогожные мешки содержали муку, сахар, крупу. Мешки высились, как здания, как стена, занимали огромное пространство. Были тут и ящики, сложенные рядами, один на другом. И, странно, не было никакой охраны. Кое-где мешки были прорваны и из них высыпалась часть содержимого. При нас к мешкам подошла неуверенным шагом худая мужская фигура в валенках и ушанке — ленинградский дистрофик, он пробуравил чем-то острым дырку в мешке, и оттуда белой струйкой побежал сахарный песок в баночку, которую он держал наготове. Когда баночка наполнилась, он подставил ладошку и, подхватывая белую струю, ссыпал сахар в рот, и снова подставлял ладошку. Мы поскорей отошли… Везде топтались дистрофические фигуры. Подъезжали все новые грузовики и выгружали ленинградцев, пересекших озеро. Их вели в бараки кормить. Около бараков — толпы ленинградцев. Много заболевших после горячего сытного обильного ужина. Снег кругом — грязный. Умерших сразу подбирали и уносили. Здесь было много крепких, здоровых людей, медицинского персонала, занятого только нами, вырвавшимися из блокады ленинградцами. Это было очень успокоительно — нас помещали в вагоны, нас кормили, везли — хоть и поздно, но старались тех, кого можно еще было, спасти. О нас кто-то начал заботиться. Как хорошо! А немного дальше всей этой больной суеты — чистые белые холмы, деревеньки в снегу, и тишина во всем: в вечерней дали, в воздухе, даже в спокойных голубых дымках из труб изб. Так близко от Ленинграда — и так мирно. Далеко, далеко опять залаяла собака таким давно забытым, вечерним лаем, без всякой причины, просто так — в тишину. Когда мы вернулись к нашему составу и в нашу теплушку, в буржуйке уже горел огонь и было тепло, и пахло сырыми дровами. Дверь не задвигали: Семашко и несколько крепких студентов носили в теплушку доски, чурки, уголь — все, что им удалось найти и могло сойти за топливо. Все «жители» сидели и лежали на своих нарах. Мальчики Романовские сладко спали, их мать сидела над ними молча и грустно. А отца и папы не было — оба они в эвакоучреждениях устраивали дела института. Опять с большим успокоением почувствовала, что хорошо, когда о нас кто-то заботится. Вернулись папа и Романовский. Мы вечером едем. Остановки будут ежедневными, по нескольку часов. На каждой станции работает эвакопункт. Для ленинградцев. Там весь состав кормят и дают с собою сухой паек. Все долгие месяцы блокады мы были очень внимательны не только к душевному состоянию каждого члена семьи, но и ввели в расписание обязательное купание, конечно из таза, но нагретой водой и с мылом (большим количеством мыла из обменного фонда; его было много — не жалко). И в пути на Кавказ мы на стоянках всегда находили возможность искупаться: нанимали в избе часть кухни с печью и устраивали банный день. Романовские следовали нашему примеру. Путь следования поездов с ленинградцами был хорошо продуман, и через определенные промежутки (получалась одна стоянка в день) были устроены эвакопункты, обычно в помещении вокзалов, где всем выдавали еду. Поезд на стоянке простаивал несколько часов, всегда заранее было известно, когда состав отправится дальше. Санитары из местных больниц обходили весь состав, все вагоны, уносили умерших (смертность была очень высокой еще довольно долго), а больных забирали в больницы, где они чаще всего умирали. Причина смерти и диагноз всегда один — умер от последствий голода. Если заболевал кто-нибудь в семье, то все просьбы семейных оставить больного в теплушке на попечении семьи, дав только лекарства, оставались без внимания. Больного забирали, а членам семьи не разрешали высаживаться с вещами и ждать его выздоровления: они должны были ехать дальше, к месту назначения. Многие в случае болезни и попадания в местную больницу терялись навсегда, если выживали. Особенно трагична была судьба детей, у которых в пути умирали родители, а они попадали в больницу на излечение, при выздоровлении их отправляли в детские приюты (детдома). Наш состав, постукивая колесами на стыках рельсов, шел ровно, останавливаясь раз в день, как нам сообщали в Войбокало. Мы ехали по Северной дороге в объезд Москвы. Во время первых остановок все в вагоне ждали, что местное население будет подходить к составу и обменивать на вещи ленинградцев масло, молоко, творог, яйца. Ремизова готовилась к обмену: вытащила из чемодана яркие платки, пестрые платья и сарафаны — фольклорные наряды для колхозниц. Мы. наблюдали с верхних нар за ее приготовлениями. Папа стал обдумывать, пустить или не пустить в дело наш «обменный фонд» — «табак» и сапоги, но решил, что рано и надо подождать, предполагая, что здесь население уже нахватало нужных вещей подешевке — у голодных и больныхбеженцев. Уже прошло несколько дней пути. Были длительные остановки в населенных местах. А местное население и близко не подходило к ленинградскому эшелону. Никто не приносил свежие продукты для обмена на вещи. В одну из таких остановок мы сняли кухню в избе, нам разогрели воду и мы с мамой купались из шайки. Хозяйка рассеяла все наши недоумения. Жители боялись подходить к составу, потому что ленинградцы больные и заразные, потому что вокруг составов, как она выразилась, сплошь «отхожее место», а по всему пути следования ленинградцев из теплушек выкидывают на ходу покойников и жителям страшно, что случится, когда стает снег. Она не преувеличивала — покойников действительно иногда выбрасывали из вагонов. В начале эвакуации, когда потянулись первые составы с дистрофиками Ленинграда, местные жители подходили к вагонам, но некоторые вагоны были без единого живого человека — все покойники. Иногда среди умерших — несколько чуть живых, их снимали и везли в больницу, где они все-таки умирали. Жители выходили смотреть на первые ленинградские составы и плакали: «живые покойнички», что это с народом понаделали, несчастненькие. Но постепенно жалость заменилась ужасом: они больше не подходили близко, не глядели, считая, что ленинградцы все вшивые (а на них даже и вши не жили — от голода вымирали), все боялись заразы, эпидемии. И стали смотреть на составы с беженцами с чувством страха, брезгливости и враждебности. Первая длительная остановка должна была быть в Вологде. Эвакуация наша шла, как нам объяснили, по Северному пути, в объезд Москвы, с севера. Самый близкий к Москве город, который мы будем проезжать, Орехово-Зуево. Потом будем двигаться на юг, на Сталинград. У Сталинграда переедем через рукав Волги и поедем на Кавказ, на Минеральные Воды. А там нас распределят по курортам. Папа сказал, что Финансово-экономический институт, очевидно, попадет в Ессентуки. Все знаменитые минераловодческие курорты расположены на речке Подкумок. Все это лермонтовские места, и теперь, весной, вдали от фронта, мы с ними познакомимся. В Вологду мы приехали утром. Серое пасмурное утро. Нам разрешили уйти в город на целый день. Как жаль, что не увидела я тогда ничего, чем так ценна Вологда. Ни Софийского собора, ни Кремля, ни набережной с ампирными особняками в садах, теперь зимних, ни церквей с колокольнями. Четыреста — пятьсот лет стоят вологодские храмы, отражаясь в водах широкой и спокойной реки Вологды. А мы ничего не увидели, кроме базара. Пропустила единственную возможность посмотреть этот старинный город с большой историей. И не знала я тогда, что на этой земле (вологодской) стоит Ферапонтов монастырь с фресками Дионисия, Кирилло-Белозерский монастырь… М-ме Клупт, или как ее за спиной называли Клуптиха, просила нас с сестрой сопровождать ее в город. Ей хотелось найти базар, чтоб купить «Веничке что-нибудь свежего для восстановления сил, а то он все пишет…», но вспомнила, что он давно ничего не пишет, а целыми днями греет руки у буржуйки и говорит капризным голосом. Мы втроем отправились в город. М-ме Клупт выглядела на фоне старого провинциального города очень эффектно и жалко, как потрепанная райская птица: в горностаевой шляпке с черными хвостиками, совсем серой от грязи, в котиковом манто, подпоясанном пестрым, тоже грязным шарфом, турецкой нарядной шали на шее и в рваных черных чулках и старых лакированных туфельках. Она скользила по снегу, торопилась, нервно глядела по сторонам и поправляла роскошную прическу, из которой высыпались шпильки. Мы с сестрой в своих старомодных «шлыках», в фетровых рыжих валенках на ногах, «расписных рукавицах», совершенно одинаково одетые, выглядели, как два опричника, ее телохранителя. Местные мальчишки все это сразу разглядели, оценили и засвистели, засунув два пальца в рот, и вплоть до базара бежали за нами толпой и гоготали вслед: «Голопятная герцогиня!..» Город был весь занесен снегом. Улицы, как во всех старых русских провинциальных городах — очень широкие. Много старинных деревянных домов; дома в один-два этажа с деревянной причудливой очень нарядной резьбой вокруг окон и под крышей (часто железной), заваленной снегом. С большими дворами за высокими заборами и воротами. Тихая русская провинция зимой. Все это стояло так сотни и сотни лет и было мило и знакомо мне по картинам Кустодиева, Поленова, Рябушкина. В центре города — каменные ампирные здания. Не останавливались мы у храмов, не поискали музеев (может, их тогда и не было), а мимо всей этой старины мы стремились, второпях, на базар, под свист вологодских мальчишек. Но впечатление от северного русского провинциального города осталось неизгладимым, очень было большое сходство с любимым мною Новгородом на Волхове, Новгородом Великим. В Новгороде мы жили и знали его как бы изнутри. Жили с тетей Маней, преподававшей в течение года в новгородской школе, в уютном двухэтажном доме, провинциальном, у старого милого Порфирьевича и его старенькой жены, ходившей в длинной темной юбке и с оренбургской мягкой шалью на плечах — такой доброй, круглой, с приветливым лицом и напевной речью. В их доме, в котором жили отцы и деды, все сохранялось так, как они, предки, устроили, по-старинному: тяжелые портьеры на окнах и дверях, вязанные скатерти на столиках, пухленькие комоды, затейливые пестренькие половички на крашеном, блестящем полу. В доме пахло воском, медом и вареньем. На столиках лежали альбомы в кожаных переплетах с тяжелыми бронзовыми застежками и золотым обрезом. И переплетенные по годам журналы «Нивы». И еще был у Порфирьевича чудный, лелеянный им фруктовый сад. В саду, под широко раскинувшимися ветвями фруктовых деревьев нам разрешалось играть и пить чай. Осенью ветки подпирались толстыми жердями, чтоб они не подломились под тяжестью фруктов. Мне до сих пор иногда снится дом Порфирьевича и он сам, такой доброжелательный, так охотно все нам, детям, объясняющий. Рассказывающий о том, как заботиться о деревьях, как их прививать, выращивать. И о людях, как их беречь, и я почти не различаю. что было на самом деле, и что приснилось, и что я прочитала в книгах о праведных людях. Порфирьич моего детства — это все самое хорошее, что есть у православного, мудрого и нравственно прожившего жизнь человека. И сдается мне, что он все еще в Новгороде, в своем фруктовом саду, подрезает, подвязывает ветки и с приветливой улыбкой, без удивления выйдет ко мне навстречу и ласково позовет в дом, к своей милой старушке. Базар в Вологде — скудный, несколько столов с луком, картошкой. Бабы-торговки шумят, перекликаются крикливо, кругом — толчея и довольно много ленинградцев с каким-то столичным тряпьем. И как все сразу находят базары и начинают рядиться! За несколько месяцев голода (правда, прошло уже девять месяцев войны) ленинградцы сделались, выжив, очень жадными до жизни. Думаю, что насытившись, успокоившись, все перестанут бегать по базарам. Ягудины никогда не ходили, мы только раз, здесь в Вологде, да и то только из любопытства и ничего не купили. Зато нашли действующую баньку и ходили с мамой купаться.ПУТЬ К СТАЛИНГРАДУ
В нашем товарном поезде мы совсем перестали бояться бомбардировок: ехали по мирной земле, далеко от войны. На стоянках — только на вокзале и около были военные, да и то не в большом количестве, а в деревнях и городках, как и по всей России, все женщины и старики, совсем не видно молодых сильных мужчин. Все на фронте. Или на Урале и в Сибири, на заводах, работающих на войну, на оборону. В вагоне на верхней полке мы читали мальчикам Романовским вслух, играли с ними в разные игры, которые они везли с собою, вроде «тише едешь — дальше будешь», и в детские карты. И много спали. Жизнь шла под стук колес. Подъехали к Орехово-Зуеву — центру текстильной промышленности России и СССР. Хорошо помню его по учебнику истории ВКП/б: это еще одна «колыбель революции», но поменьше. Поезд остановился, не доехав до станции, и долго стоял в поле. Было очень тихо. Но все насторожились, отодвинули дверь теплушки. Кто-то, проходя вдоль состава, сообщил, что сейчас бомбят Москву, и потому никаких составов Орехово-Зуево не принимает. Стояли мы много часов и боялись выйти из теплушки: вдруг дернется состав и поедет без предупреждения. Только стояли у открытой двери и слушали. Но ничего не услышали. Поздно вечером нам разрешили въехать в вокзал, и мы, гремя кастрюлями, устремились за супом в эвакопункт вокзала. Уже третью неделю мы ехали в нашей теплушке. Только из окошечка над нашими нарами видели страну. Все казалось однообразным и похожим: изо дня в день под стук колес мелькали деревушки в снегу, леса в снегу, бескрайние снежные дали. И станции, на которых нас кормили — одна похожа на другую; те же больные и выздоравливающие ленинградцы, те же большие котлы с «толстым» супом и сухой паек. Но все было организовано очень хорошо, и очереди к котлам были хоть и длинные, но спокойные и быстро двигались. И никто не ссорился. В одну из таких остановок была моя очередь идти с кастрюлей на станцию (мама всегда оставалась в вагоне). Мы ехали весь день и теперь уже наступила ночь, холодная, ветреная. Настоящий трескучий мороз и ветер, пронизывающий, сразу налетевший на меня, как только я отошла от теплушки. Когда я вошла в вестибюль станции со своей кастрюлей, на меня пахнул запах удушливого тепла, грязного человеческого тела, грязных ног и солдатских сапог. Весь широкий вестибюль был буквально набит красноармейцами. Они откуда-то пришли погреться. Когда я вошла, они расступились на мгновение и снова сомкнулись, и я оказалась сжатой со всех сторон людьми в пахучих шинелях. Мелькнула мысль: сейчас на меня поползут вши — я пропала! Издали, из столовой, меня увидел Романовский, пробился ко мне, схватил за руку и, расталкивая толпу, буквально выволок меня в столовую: «Вы не должны были входить!» Как же не входить, если я шла за супом? Когда Р. и я с наполненными кастрюлями возвращались из столовой, в вестибюле уже никого не было, все ушли, очевидно, на посадку, и тяжелый запах согревшихся тел уже выветривался. Двери почти не закрывались, ленинградцы шли за супом непрерывным потоком… Надеюсь, что и им, греющимся солдатам, кто-нибудь позаботился дать, как и нам, горячего «толстого» супа! Мы приближались к Сталинграду (Царицыну). Все дни и все ночи были похожи один на другой, часть дня поезд стоял на станциях, потом ехал без остановок остаток дня и всю ночь. В Сталинград приехали в конце четвертой недели нашего пути. В солнечный зимний день. Мне показалось, что это первый солнечный день за все время войны. Отправились с сестрой посмотреть на город. Долго ходили по улицам, площадям. Много новостроек, много ярко освещенных разноцветных старых зданий. Мне город понравился. И солнце тепло согревало лицо, и везде — много людей и все здоровые, быстрые. У меня заболела голова, сначала я думала, от обилия яркого солнца и много-цветности города, — мы вернулись на вокзал, к нашим теплушкам. Голова все сильнее болела, с трудом залезла на наши нары — и потеряла сознание. Память сохранила только отдельные куски остальной части пути до Кавказа. Выехав из Сталинграда, мы переезжали металлический мост, колеса стучали, лязгали, и каждый толчок был нестерпим для больной тяжелой головы. Мама приподняла мою голову к окошечку, и из далекого далека я услышала ее голос. «Посмотри — это Волга», но я только увидела мелькание переплетов железнодорожного моста и снег, везде снег. Потом, помню, меня поднимали, усаживали, подпирали сзади, а раскаленная больная голова все клонилась: в вагон пришла санитарная комиссия — снимать с поезда всех больных, и я должна была выглядеть здоровой. Смутно помню белые халаты, лица спутников, озабоченные, и бодрый голос Романовского. Он, улыбаясь, говорил: «В вагоне — все здоровы», и никто в вагоне не заикнулся, что я тяжело больна. (А у Романовского — два мальчика на нашей общей полке!) Еще раз очнулась, когда меня на носилках вытаскивали из теплушки: мама рядом, я ей пытаюсь объяснить, что я не хочу быть «безымянной» чтоб мама не отходила, а мама не понимает и чуть не плачет: «Ты же моя Римочка…», — думает, это я — в бреду. Мы приехали в Ессентуки — конец нашего пути. Приехали ночью, ночевали на вокзале, на скамьях, и только я — на носилках, а утром нас перевезли на извозчиках в школу, где мы временно должны были жить. Все было в тумане, и я, хоть и всматривалась, но видела только туман, мне так хотелось увидеть ласковое лицо — родное, но никто не появлялся, иногда — чужое лицо доктора, он сказал: «Тиф», а я не могу вспомнить, что такое тиф — наконец, поняла: тиф — это война, я больна войною… Меня перевезли в местную больницу за городом, в сыпно-тифозное отделение, где мне остригли волосы. Ко мне никого не пускали, иногда в окне палаты появлялась мамина голова — больница была одноэтажная; хочу ей улыбнуться — и нет сил. Целый месяц провела в больнице, и, когда меня выписали, было горячее благоухающее лето, все вокруг нарядно цвело — природа казалась обновленной и по-южному прекрасной. Я долго училась заново ходить, у меня болело сердце от всякого напряжения, на голове я носила пестрые шелковые косынки (из «обменного фонда»). Счастье возвращения к жизни меня переполняло, все люди казались ласковыми, милыми, и мне хотелось плакать от умиления. (Никто на нашей верхней полке в теплушке не заболел — я боялась за мальчиков Романовских.)ЕССЕНТУКИ — КИСЛОВОДСК
Пока я болела, мама и папа сняли верхний этаж (в две комнаты) в станице у местного казака. Сам казак жил с женой, детьми и разноцветными собаками-дворняжками в нижнем полуподвальном этаже. Почему выбрали дом в станице, а не в городе — не знаю, может быть, потому, что при доме был большой сад. С огромной старой алычой. Улицы в станице были широченные, поросшие густой травой, с другой стороны — не докличешься. По улице цепочкой, переваливаясь, вытянув шеи, шли белые гуси. Они были очень агрессивными, с шипением кидались на пробегающих с поджатыми хвостами собак и норовили нас ущипнуть за ноги. Утки серые с темно-синими шейками тоже пересекали улицу, гуськом, но были милыми, никогда не щипали и, покачиваясь, спешили уйти от нас подальше. Все преподаватели и студенты нашли комнаты в самом городке — очень нарядном, белом с ароматными цветущими липами по обеим сторонам центральной улицы. В местной школе институту было разрешено вести занятия. И институт уже работал, и все студенты и преподаватели были очень заняты. В городе же, в самом элегантном двухэтажном ресторане курорта с белыми колоннами и классическим портиком была устроена столовая для ленинградцев — к большой зависти местного населения. Сюда, раз в день, приходили все ленинградцы обедать: все очень нарядные, уже загоревшие, потерявшие дистрофический вид. Наш путь до города из казачьей станицы был долгим. Нужно было пересечь широченный тракт, потом, пройдя по зеленой улице мимо небольших домов, в густых садах за низкими заборами мы пересекали железнодорожные пути, проходили мимо станции и только тогда оказывались в чудном южном городе, зеленом, душистом, нарядном, с прекрасным старым парком, в котором гуляли курортники, пили нарзан, знакомились, развлекались с незапамятных времен — больше века тому назад и до сих пор, как будто не было на свете войны, разлук и печалей. Началась наша мирная жизнь в курортном городе, с питьем целебной воды, нарзанными ваннами, грязевыми ваннами для мамы — в знаменитой грязелечебнице, любоваться которой было принято ходить при лунном свете, когда архитектура ее особенно торжественно выделялась. Мы гуляли в парке, разговаривали с друзьями, сидели в беседках с греческими названиями и колоннами, читали друг другу стихи и поправлялись. В городе была хорошая библиотека, и я много читала, сидя в парке или в нашем казачьем саду под алычой. Около нас с сестрой образовалась группа молодых людей, главным образом ленинградских студенток и студентов, и мы каждый день встречались, но было двоякое чувство: спокойное, как бы заслуженное, что мы отдыхаем и приходим в себя после минувших испытаний, но и тревожное, что мы набираем силы — для последующих (война ведь не кончилась!). В ленинградской столовой увидела обедающую с родителями Нину Апухтину — и их эвакуировали в Ессентуки. Встреча была очень радостной, мы стали часто встречаться, Нина была теперь всегда с нами в парке. Родители же наши не подружились: папу Апухтины раздражали, а мама была для Нининой матери слишком серьезной и пугала ее. С Ниной вдвоем мы отправились на очень элегантной и быстрой электричке в Кисловодск. Электричка мягко и бесшумно неслась по долине Подкумка, а мы любовались кавказским ландшафтом через огромные окна вагона. Какая прекрасная природа, какие высокие горы, а за ними — гряды еще более высоких гор, голубых. В ясную солнечную погоду очень хорошо был виден двуглавый Эльбрус со снежными вершинами. В сердце же непрекращающееся чувство беспокойства-предчувствия, что время отдохновения в этом сказочном краю такое будет короткое, что мы опять будем в войне со всем своим народом вместе, в тяжелой войне, и наше, мое место — в войне, и война всосет нас обратно. Наш Медицинский институт приехал на Кавказ и осел в Кисловодске. Кисловодск был расположен на гористой местности, с тенистым старым парком, целебными источниками, гротами, обрывами, громадными лестницами, поднимающимися ввысь — к легким беседкам с колоннадами. Много старых и новых (просторных и элегантных) санаториев. И все это утопает в зелени, сочной, яркой, обильной, ароматной, с вечерними светлячками, стрекотом цикад, которые здесь, как и все на Кавказе, громче, больше, ярче, чем на нашем прозрачном скромном севере. Медицинскому институту отвели хорошее удобное помещение для администрации. Для лекций — залы при госпиталях, в разных частях города. Беспокойство, что меня не восстановят в числе студентов за ослушание, оказалось напрасным: когда мы с Ниной появились в деканате, нам искренне обрадовались — студентов-медиков было не так уж много, а институт должен был жить и действовать. Занятия велись ежедневно, лекции читались в разных зданиях, расположенных далеко друг от друга, и мы бегали с лекции на лекцию по гористым улицам Кисловодска. Студенческими группами ходили завтракать и обедать в местные чебуречные и недорогие ресторанчики. Мы, студенты, очень сблизились, очутившись в эвакуации и охотно проводили время вместе, часто занимаясь в Кисловодском парке, на скамейке. Домой возвращались с Ниной поздно, часто на последней электричке. Обычно меня на вокзале кто-нибудь встречал, чаще всего один из папиных аспирантов: южные ночи были очень черными, домой идти от вокзала было небезопасно, особенно после того, как на меня почти напала группа местного хулиганья — меня спасли мои быстрые ноги: когда толпа местных разбойников, завидя меня, бросилась с гиканьем ко мне через тракт, я не побежала назад, а наоборот — вперед, наперерез гикающей толпе, по косой и успела вскочить в параллельную нашей улицу и, обогнув квартал, влетела в наш дом. Занятия в институте происходили по полной программе третьего курса, даже захватывая программы четвертого курса. Клиники-терапия и хирургия должны были начаться зимой. Мы очень радовались, что хирургию будет читать знаменитый профессор Шаак, не имеющий равных себе среди хирургов Ленинграда, да и всей страны. В Ленинграде наш курс к нему не попал, о чем мы тогда очень сокрушались. Теперь, в эвакуации, я обязательно к нему попаду, его услышу. Отношения между студентами и профессорами несколько упростились: даже профессора, известные своей недоступностью, под кавказским солнцем сделались приветливыми и человечными. Ко мне раз на улице, когда я спешила на очередную лекцию, подошел, улыбаясь, профессор кафедры микробиологии Космодамианский — гроза факультета, его все боялись за язвительность. Он протянул руку и премило со мною беседовал, а пешеходы обтекали нас, и мне было удивительно и радостно. Жена профессора вела практические занятия по микробиологии в институте и была ему полная противоположность — тихая, — приветливая. И прекрасный преподаватель. Мы еще в Ленинграде были с нею в очень добрых отношениях: ей нравились мои альбомы с рисунками в красках срезов тканей под микроскопом. Она их у меня попросила и пользовалась ими как наглядным пособием кафедры на занятиях с другими группами студентов, всегда демонстрировала их и приучила всех студентов зарисовывать и описывать увиденное под микроскопом. На кафедре анатомии, в Ленинграде, чтоб лучше понять все соотношения сосудов, мышц, органов, я всегда рисовала большие таблицы, и это очень помогало всем студентам нашей группы Все увидеть в пространстве. Деканат в Кисловодске возглавлял преподаватель младших курсов, армянин со сложной фамилией Гологовазьян — прекрасный организатор, заботливый и очень деятельный человек. Это он нас с Ниной принял обратно в институт со всей доброжелательностью. Но почему-то забрал наши паспорта, какое-то новое правило. Папа, когда узнал об этом, очень рассердился: если мне не вернут мой паспорт, я не смогу никуда поехать вместе с родителями, если институт паны отправят в Астрахань, о чем поговаривали и чего очень желал папа (со своей дальновидностью он часто в семье говорил: «Кавказ — ловушка», а из Астрахани и пешком уйдешь в Сибирь). А теперь я должна буду остаться около паспорта и медицинского института без семьи — в случае военных катастроф. С фронта поступали очень беспокойные вести. С началом весны немцы опять стали активно наступать, особенно на юге. А наши войска — отступать. Летом (был 1942-й год) фронт подошел к Крыму. В Крым отступали войска Южного фронта. Бои были очень тяжелыми — наши войска спячивались к морю, в надежде переправиться на Кавказ. Но перевес был на стороне немцев, особенно в авиации. И в Крыму погибали войска армий Южного фронта. Мы тогда, на Кавказе, не представляли, какое в Крыму было избиение наших войск. Крым оказался действительно ловушкой, вывезти и спасти удалось очень немногих, главным образом, командный состав. Погибали армии, погибало вооружение. Долго потом рассказывали, что все побережье у моря, все дороги к морю завалены нашей техникой, орудиями — вооружением наших южных армий! Все брошено, разбомблено. Страшная картина разрушения и гибели наших армий, теснимых более сильным в это время противником, сокрушающим нас с воздуха, где у немцев тоже было преимущество. И все тысячи «пропавших без вести» в крымском мешке не должны были «пропасть», а могли бы быть и были бы боеспособными, если бы Сталин и его окружение не побоялись дело перевооружения и реорганизации армии оставить в руках талантливых, образованных и опытных полководцев. Но в своем трусливом невежестве и недальновидности они побоялись этого и ограбили армию перед войной, к которой давно готовились! Сталин в своем тупом безумии обезглавил жестокими чистками нашу армию, уничтожил весь ее цвет, все, что было опытно, образовано, талантливо. И Гитлер это прекрасно знал, о чем он неоднократно говорил в своей ставке, и этим воспользовался. Коварный враг! А Сталин искренне верил — не тронет, у нас «дружба». В войне постепенно выковались, вопреки Сталину, прекрасные полководцы, но каких жертв это стоило русскому народу! А этот сталинский лозунг «За Родину, за Сталина — вперед!» был нечестным. А честным был бы «Отечество в беде — поднимайтесь!» и гибнуть было бы легче — есть за что! За Отечество! А оно было уже более четверти столетия в беде. На Кавказе жизнь продолжалась — еще не потревоженной: у источников толпились курортники, по парку ходили загоревшие, окрепшие после смертельной опасности ленинградцы, ходили нарядные, сытые, бездельные и придумывали себе разные соблазны. В парках было полно праздных отдыхающих, лениво сидящих на скамейках вдоль дорожек. Но больше всего в парке было выздоравливающих раненых бойцов. Все эти поправляющиеся ходили группами по аллеям парка или тоже сидели на скамьях. Еще по Ленинграду мне так были знакомы эти повязки, лубки, шины, протезы. Невольно оценивала степень ранения — возможность или невозможность возвращения в армию. Все раненые были обриты, кроме командного состава, и все ходили в госпитальных пижамах. Эта ужасная манера хождения по улицам в пижамах на наших курортах (еще и до войны) и дам курортниц в халатиках (часто очень нарядных) меня всегда в детстве удивляла (в нашей семье были очень строгие правила поведения), когда нас возили летом на Черное море. Какая это узаконенная нескромность по отношению к строгому местному населению, очень нравственному. Каково было видеть, как эта разноцветная толпа курортников, нарядно полуодетая, устремлялась на базар по утрам за ягодами, молоком и другими ароматными продуктами Кавказа. В ленинградской столовой в Ессентуках я увидела студентку нашего Медицинского института, с которой я не была лично знакома, но я еще давно приметила ее в Ленинграде. Я встречала ее с Александровой на концертах в Филармонии. Мы с нею теперь познакомились, она меня тоже помнила по Ленинграду. Оказалась она дочерью профессора Данилевича. Имя доктора Данилевича я слышала с детства как моего спасителя. Он меня вылечил от тяжелой детской болезни в младенчестве. «Она у вас совсем на небо смотрела», — сказал он маме после моего выздоровления. Доктор Данилевич и папа работали в Александровском лицее, где в начале двадцатых годов был учрежден «Карантин». (Алексадровский лицей из Царского Села был переведен в 1843 году в бывший Александровский дом сирот на Каменноостровском. В этом, теперь, уже после революции, бывшем Александровском лицее и был учрежден «Карантин», в котором работали Данилевич и папа, по сути же это опять образовался дом сирот, но сирот тяжело больных, послереволюционных.) По городу собирали детей, голодных, больных, бездомных, привозили в «Карантин» и лечили их; больше всего попадало, конечно, сирот, родители этих детей исчезали после революции — потом спасенные дети попадали в детские дома. Но пока они, больные сироты, находились в «Карантине», их окружала, кроме медицинской помощи, ласка, внимание людей, работавших почти безвозмездно. Папа рассказывал нам, еще в детстве, о прекрасно образованных сестрах милосердия — ассистентках Данилевича, на бескорыстной работе которых держался весь «Карантин». Опытные, спокойные приветливые, они дни и ночи выхаживали детей, некоторые сестры заражались и гибли. Только недавно, в 1990 г., моя мама сказала мне, что Данилевич спас меня и второй раз, когда мама не смогла меня сама кормить и я стала опять «на небо смотреть» и чахнуть. Данилевич нашел мне кормилицу, которая меня и выкормила. Как жаль, что мама мне этого никогда раньше не говорила. Я даже имени ее не знаю, и, быть может, моя милая Катя Данилевич — моя молочная сестра? После «Карантина», когда его закрыли, пути моих родителей и Данилевича разошлись. У него тогда было две дочери — Вера и Катя — обе старше нас. И жена, биолог, его помощница. Потом появились еще две девочки — Ольга и Нюта. Доктор Данилевич был профессором Ленинградского педиатрического института. И вот через столько лет папа и доктор встретились. Восстановилась между ними дружба молодости. И мы с Катей подружились и полюбили друг друга. Никогда, ни раньше, ни после, не было у меня такого прекрасного преданного друга — я платила ей глубокой привязанностью, уважением и любовью. Катя была очень талантливой студенткой (вся в родителей), строгой, благородной, серьезной. Прекрасно знала музыку, много читала и была скромным застенчивым человеком, с нежной впечатлительной душою. Папа и Данилевич часто и охотно встречались и, когда опять наступило время испытаний, доктор приходил к нам поговорить с папой, посоветоваться, что же делать всем нам… Мы с сестрой занимались с Лией Ягудиной несколько раз в неделю разбором, чтением и историей создания «Фауста». Лия была большим знатоком творчества Гете и заниматься с нею было для меня великим наслаждением! Я начала относиться к ней как к старшему другу и охотно с ней вообще проводила время. Это был тонкий, воспитанный и образованный человек. Все наши уроки с Л. Я. и разбор «Фауста» велись по-немецки. Многие студентки нашего института в Кисловодске поступили работать медицинскими сестрами в госпиталя в Кисловодске. Это давало им небольшой заработок и уверенность, что, если придется еще эвакуироваться, то можно будет уехать с госпиталем в глубь страны, если почему-либо не удастся уехать с институтом. Госпиталь скорее повезут, чем институт. Но об эвакуации думалось так, на всякий случай, больше по инерции. Никто не верил, что немцы могут взять Кавказ! Только папа с его прозорливостью и пессимизмом думал об этом как о возможной реальности и, готовя студентов к выпуску, старался подготовить Финансово-экономический институт к дальнейшей эвакуации. Все время я слышала теперь разговоры папы, Романовского и преподавателей об Астрахани, как о городе, в который будет отправлен институт. Когда произошел выпуск студентов в начале лета, окончивших немедленно отправили с соответствующими бумагами в Астрахань. Это были первые ласточки, за ними должны были следовать все остальные. Успеем ли… Идея папы для вывоза института в Астрахань была в том, что выпускники, снабженные документами и инструкциями, добьются у партийной администрации города вызова и разрешения для переезда «работающего» института к ним в город. И, возможно, для дальнейшего следования — в Сибирь. Среди выпускников были энергичные умные люди, понимавшие, что нужно торопиться с вызовом из Астрахани. Что нужно «спасать институт», как им сказал папа конфиденциально, и что нужно торопиться изо всех сил… Фронт приближался к Кавказу. Крым был окончательно потерян. Немцы, конечно, хотели отрезать Кавказ. Папа: «Немцам нужна наша нефть. В Баку». Я пугалась: «Если так, то мы на их пути… Надо спешить!» Но как спешить официально? Среди раненых и выздоравливающих, наполнявших парки, началось беспокойство, это нам рассказывали и студенты, и сестры в госпитале. Раненые знали о катастрофе в Крыму, боялись захвата немцами Кавказа и неприязни местного населения к русским. Раненые, выходившие теперь в парк, гуляли толпами в своих пижамах, настроение их изменилось — больше не было добродушных шуток, они выглядели подавленными и обескураженными и становились дерзкими, зацепляли невоенное население, грубили и часто были навеселе. В Финансово-экономическом институте продолжались занятия в лихорадочном темпе. Преподаватели торопились дочитать, докончить курс, чтоб формально завершить семестр и хлопотать об эвакуации института в Астрахань, где окончившие аспиранты и уже посланные в Астрахань выпускники должны были добиться вызова для всего института в Астрахань. Разговоры об эвакуации без вызова были равносильны панике. Папа опять помрачнел. «Время работает против нас, — говорил он, — не успеют они (в Астрахани) нас вытянуть!» Две папины аспирантки очень ему помогали. Одна, Лида К., начала преподавать и вела секретарскую работу института. Часто приходила к нам в наш казацкий дом за инструкциями от папы. Всегда сияющая, веселая, энергичная — все мысли и распоряжения папы схватывала на лету, бодро повторяла: «Ясно, ясно!» и все исполняла быстро, точно и правильно. Папа нахвалиться ею не мог. Другая Анна, тоже помогала в институте и поступила служить в городское управление в Финансовый отдел. Она была партийной, очень замкнутой и тоже в ответ на папины распоряжения повторяла «Ясно, ясно!». Обе прекрасно шили и всегда отлично и нарядно одевались. К сожалению, женатый глава фин. отдела города влюбился в Анну и от этого произошло много бед. Среди профессоров и преподавателей других институтов, с которыми мы встречались в столовой каждый день, почти не чувствовалось почему-то беспокойства. Дамы, жены профессоров, всегда, как и раньше, садились обедать за профессорский стол. Этот стол, очень длинный, стоял на бывшей сцене зала, и обедавшие сидели лицом ко всему залу, как на торжественном заседании, в президиуме. А мы, все остальные и студенты — за обычными ресторанными столиками. Ягудины называли профессорский стол monkey-table. Ни они, ни папа с мамой никогда за этот стол не садились, Романовский с семьей — всегда и из «президиума» нам с сестрой весело улыбался. Все чаще с начала июня стали передавать очень тревожные слухи: немцы огромными силами двигаются на Сталинград. И что Кавказ отрезан! Но, конечно, можно еще отступать на юг, уходить в горы и, переехав Каспийское море (если это возможно), спасаться в Сибирь. (Говорят, что на Каспии очень дурная качка, совсем особенная, а меня и от простой страшно укачивает.) Это, конечно, пустяки — только бы переехать Каспий. Все в беспокойстве все чаще повторяли: нужно отправляться на Нальчик, пока не поздно, хоть пешком! Разве пойдет институт пешком в Нальчик? И папа должен всегда быть с институтом. И что делать с багажом? Что будет с нами всеми? Радость жизни опять, как в Ленинграде с начала войны, потухла, и щемящее беспокойство сделалось опять второй натурой, не отпускало ни днем, ни ночью. Безрадостно прошел день моего рождения, я только в этот день перестала носить косынки на голове и превратилась в стриженого мальчика. К Клуптам неожиданно приехала дочь из спокойного уральского города. Она по характеру походила на отца — была капризная. Ей не сиделось на скучном Урале, по ее недомыслию и подозрительности, ей казалось, что родители наслаждаются на кавказском курорте, едят, должно быть, ананасы в шампанском, а ее сослали, чтобы не мешала. И вот — появилась, с великим трудом и упрямством пробилась на Кавказ, и теперь будет с родителями делить все беды! И чего ей не сиделось в безопасности! Незадолго до этого приехал в Ессентуки папин ассистент-преподаватель Базаров с восемнадцатилетней дочерью Маргаритой. Папа их увидел из окна нашего казачьего дома: стоят неподвижно у забора и смотрят на окна. Папа всплеснул руками и, не сдержавшись, выбежал к тал с криком: «Какое безумие привело вас сюда, перед возможной катастрофой?» Базаровы-родители, дочь и сын уехали в эвакуацию из осажденного Ленинграда с учреждением жены и поселились в спокойной деревне. Но им было очень одиноко и тоскливо, Базаров стремился обратно в институт, томился без преподавания, Маргарита рвалась из деревни — и вот они вдвоем пробились на Кавказ к беде. Папа сразу восстановил Б. преподавателем, а Маргарита ходила за нами следом в столовую, не переставая беспечно улыбаться от удовольствия. Занятия в папином институте почти прекратились, хотя институт заседал чуть не каждый день, пытаясь разрешить неразрешимое — судьбу студентов и преподавателей. Но что можно «разрешить», если вся наша судьба зависела от передвижения фронта. «В конце июля — начале августа развитие событий на Севере-Кавказском направлении складывалась явно не в нашу пользу… Вскоре немецкие войска вышли на реку Кубань. …10-го августа вражеские войска захватили Майкоп. 11-го августа — Краснодар. Середина августа — Моздок и вышли на Терек. 9-го сентября овладели почти всеми горными перевалами. Сухуми». Так писал Г. Жуков в своей книге «Воспоминания». Преподаватели-коммунисты заметно нервничали и, как папа нам говорил, трусили, что если немцы захватят нас, «на них донесут и их повесят» или немцы, или местные население. Папа их всячески пытался успокоить и сосредоточить все их внимание на эвакуации института, но они все к папе подступали и, наконец, прямо спросили, выдаст ли их папа! (Неблагородно даже допускать такие мысли и в то же время — доверие, если спрашивают так откровенно; очевидно, перед лицом новых испытаний все чувства перепутывались.) Папа опять их, сомневающихся партийцев, успокаивал, что, конечно, он никогда никого выдавать не будет и, больше того, уверен, что никто в институте такого не сделает. А местное население этого не сделает уже потому, что не знает, кто коммунист, кто не коммунист. Им не докладывали! Все три коммуниста — Семашко, Алексеев и Гловацкий, видимо, успокоились. К Ягудиным приехал с фронта, проездом, их кузен — политкомиссар в больших чинах, перетянутый ремнями. Папа пытался с ним поговорить, узнать о положении на фронте, чтоб, уяснив всю обстановку, решать, можно ли еще чего-то ждать или уходить (выводить институт, как папа выражался) и сколько длят этого у института еще есть времени. И хотя Ягудины, его родня, были связаны с институтом, казалось бы, по-человечески можно было бы обрисовать обстановку, но папа от него ничего, кроме общих лозунгов, не добился! Зато политкомиссар все время шептал Ягудиным что-то на ухо, даже если и вблизи никого не было. Очень было странно (и беспокойно) видеть их в столовой и в парке со склоненными друг к другу головами, с очень серьезными лицами, шепчущимися. О чем они шептались? Что кузен знал и сообщал только Ягудиным? Всех это очень тревожило. Но Ягудин (а мы, наша семья, с ними очень дружили) на папины и наши вопросы о том, что же ему сообщал об общем положении комиссар, только отмалчивался и ходил мрачный. Папа решил, что комиссар ему что-нибудь по еврейскому вопросу нашептывал и советовал, как нужно себя вести. Почему Ягудины никому ничего не сказали? Почему не предупредили преподавателей-евреев, что им не следует оставаться? Почему не сказали хотя бы папе то, что они знали от комиссара, чтоб папа мог кому нужно дать правильный совет, чтоб мы с сестрой могли нашим знакомым еврейским студентам сказать: «Спасайся!» Непонятно и жестоко! Думали только о себе. Или комиссар запретил? Но когда он уехал, могли бы еще многих предупредить, не называя источника, из которого они узнали ужасные сведения. Все студентки, погибшие из-за молчания Ягудиных, на их совести! Когда я их вспоминаю, погибших еврейских студенток, я не могу забыть бледного замкнутого лица Ягудина, когда папа спрашивал его, что комиссар говорил о положении на фронте и что он советовал делать институту. Ягудин молчал! Даже своим не помог! Папе же вскоре Ягудин сообщил, что он лично с женой будет уходить, если немцы будут приближаться, и стал укладывать вещи. Объяснил, он это тем, что не уверен в местном населении, что местное население будто бы враждебно к евреям. Что к нему в открытое окно (они жили на краю Ессентуков) заглядывают мальчишки и кричат грубости и удирают. Папа его успокаивал, что это — просто хулиганство, Ягудин отмалчивался, но о немцах не говорил ни слова, гонялся с палкой за мальчишками и молча укладывался. И ушли, никому не сказав ни единого слова, ни с кем не попрощавшись — даже привета никому не передали! Хозяйка сказала нам, когда мы с папой пришли их навестить, что они ушли налегке, ночью, оставив все запакованные вещи у нее, на сохранение. Ушли тайно. Наверное, в чемодане у хозяйки осталась книга «Фауст» по-немецки, которую мы вместе с Лией Ягудиной читали и разбирали. Я рада, что они ушли, хотя и жаль было потерять старшего друга. Я к Лие очень привязалась. Хозяйка сказала нам, что сдержит свое обещание и сохранит все вещи до возвращения Ягодиных. Какая хорошая женщина! К папе в столовой стали подходить евреи-преподаватели и спрашивали совета — уходить или оставаться. Разве можно советовать? Папа считал и говорил, что, если есть силы и возможности, конечно, надо уходить. Но возможности для людей пожилых и семейств с маленькими детьми почти не существовало. Папа, как мог, успокаивал искавших совета: все-таки немцы культурный народ, европейцы — не звери же! Самое большее — ну, наденут желтую звезду Давида — этим, наверное, все и ограничится. Как все ошиблись! Наша жестокая политика скрывать от населения все, что можно скрыть, привела к гибели многих тысяч ни в чем не виноватых людей. Все страшнее новости с фронта. Теперь уже все знают, что Кавказ отрезан немецкими войсками. Немцы огромными силами идут на Сталинград. Мы, дома, себя уговариваем: Москву не взяли, Ленинград не взяли, если Сталинград не возьмут, то, считал папа и мы за ним, немцы покатятся обратно. Но сможем ли мы отсидеться на Кавказе? Папа считал, что для немцев спасение — дорваться до нефти около Баку и что они сделают все возможное, чтоб захватить Кавказ. Если мы не уйдем, через нас перекатится фронт и всех раздавит! Господи! Говорят, что Кавказ не оказывает сопротивления, советские войска отступают поспешно на юг, чтоб успеть пересечь Каспийское море. Выздоравливающие раненые бурлят, пьют и очень опасны. Тяжелых раненых пытаются отправить по железной дороге на юг Кавказа. Но железная дорога далеко, перегружена — до нее не добраться! На улицах кучками стоят местные жители, передают новости и недружелюбно смотрят на нас, ленинградцев. А ведь могли же нас вывезти из Ленинграда за Урал! И были бы мы сейчас далеко и вне опасности! Так нет же — не судьба, теперь мы застряли! Что-то будет? Наш хозяин, который очень часто хвастался, что он — красный партизан, сделался тихим и задумчивым. Спрашивал папу, как он думает, будут ли немцы арестовывать старых большевиков. Ну что папа может ответить, что он знает о немцах? Наш партизан разоткровенничался и сказал, что хочет своей собственной земли и казачьей воли: «Сколько лет в нищете и страхе!» Он, оказывается, не очень-то красный партизан, партизанство-то его тоже, видно, не настоящее. За несколько дней до прихода немцев, когда все коммунистические местные правители сбежали, наш красный партизан вымыл окна, постелил на столе белую скатерть, повесил в красный угол иконы в серебряных окладах и затеплил лампаду (где-то все это было припрятано). Сам же хозяин появился в чистой новой рубахе, на жене — новый платок, и вся она посвежевшая. Партизан, улыбаясь, заявил папе: «Пришел, наконец, советской власти — конец». Мечты о свободе многим поначалу слегка кружили головы. Слухи ползут ужасающие. Немцы захватили станицу, в которой жили родители жены Шумакова, Марфы Захаровны. Она бежала из станицы задолго до прихода немцев, бросив родителей в их станице. Отец ее — бывший партизан (настоящий). Местное население стало ему угрожать расправой за его участие в революции на стороне коммунистов. А ей, М. 3., прямо заявили: «Ты коммунистка — мы тебя повесим, как немцы придут». Ждать М. 3. не стала, а с детьми, мальчиком Геной и маленькой дочерью, стала пробиваться на юг. Проезжая через Ессентуки, заехала к папе и все ему рассказала. Она папу очень почитала (я ее не видела — была в Кисловодске), мама же сказала, что ее коммунистическая вера нисколько не полиняла, а сама она сделалась озлобленной. Перед войной, в Ленинграде, партия определила ее на работу в архив — разбирать старые архивы антибольшевистских и других дореволюционных партий. Она подбиралась весной 1941 года, как раз перед войной, к спискампартии, в которой состоял отец. Папа как-то осторожно спросил Шумакову, что она сделает, если в списках найдет близких друзей, которые давно-давно были в оппозиции к большевикам. Она не колеблясь заявила, что долг большевика — быть выше дружбы, и всех бывших врагов необходимо выявить и соответственно покарать. И что она послужит Родине, и никого не покроет, ибо партиец непоколебим. Господи! Какая жестокая порода. К началу войны она уже изучала список членов партии, в которой состоял отец. Скоро дойдет до буквы «К». Папа ходил чернее тучи и часто повторял: «Погубит! За лето до меня докопается!» Не успела сгубить нас — война все перемешала и Ш. с детьми эвакуировалась к родителям на Кавказ. (После войны тетя Маня писала нам, что вся семья Шумаковых пережила войну, вернулась из эвакуации в свою неразбомбленную квартиру в Ленинграде. Но несчастье настигло их все-таки: мальчик Гена выбежал один из дома на улицу и погиб под колесами грузовика. Шумаков безнадежно запил, а Марфа Захаровна сделалась «мягкой, робкой и все плачет…») В Медицинском институте в Кисловодске декан сказал, что институт уже не успеет эвакуироваться: не на чем и некуда! Но если кто-нибудь решит идти через горы, на юг, или сумеет присоединиться к госпиталю, он не будет отговаривать. Профессора, преподаватели и большинство студентов решили держаться вместе, институтом, в надежде, что институт удастся сохранить скорее, если он будет находиться в живом организованном состоянии. Очень надеялись на Шаака — он сам немец, известный в Европе хирург, быть может, он отстоит институт. С утра до вечера проф. Шаак проводил в операционных Кисловодска, а вечером его молодая жена никого к нему не допускала — берегла его покой. Катя Данилевич, бывавшая на операциях Шаака, рассказывала, что он сделался очень раздражительным. Он и раньше, в Ленинграде, когда ему не вовремя подавали инструменты, ругался по-немецки. В Ленинградской столовой появились студенты т. н. неработающих институтов. Они часть лета провели на совхозных полях, куда их мобилизовали для уборки урожая. (Сестра тоже провела там несколько дней — полола свеклу.) Вся эта группа, сработавшись и сдружившись, решила уходить на юг пешком. Вместе. Я им завидовала. Мама сдала в стирку в городскую прачечную все наше столовое и постельное белье — мамину гордость и заботу многих лет. Когда мама пришла забирать белье, ей сказали, что все пропало! Что сейчас такое время, когда враг приближается и все спуталось и жаловаться некому. Первые признаки своевластия, или междувластия. Теперь наш багаж будет полегче, хоть и жаль маму, ее, конечно, в ожидании немцев просто обокрали! Мы подружились в Ессентуках с семьей очень милой дамы — доктора и преподавателя Педиатрического института. Она эвакуировалась в Ессентуки с институтом и взяла с собой девочку-племянницу и племянника Гуру. Гура (Гурий) был наш приятель детства, еще по Токсово, где его родители построили дачу. Его не призвали пока в армию, потому что он был немецко-эстонского происхождения. Мы и здесь много времени проводили вместе. Его тетя Агнесса была умным и приятным (и очень милым) человеком и, хотя и понимала мотивы Гуры, решившего уходить пешком, очень о нем сокрушалась, но не уговаривала его остаться: если Гура останется при немцах, будучи немецкого происхождения, он навеки себя свяжет с немцами и должен будет с ними отступать, если они будут отходить. Если же его освободят наши, в его биографии навсегда останется темное пятно: «Он, немец, и остался, чтоб быть с захватчиками». — Гура твердо решил отступать, а тетя Агнесса с девочкой решили ему не мешать и остаться: их немцы не тронут, тетя — доктор и владеет немецким отлично — найдет службу и они продержатся, а когда наши придут, ее не будут преследовать: не могла же она с девочкой десяти лет уходить пешком, через горы, а единственный мужчина в семье — ушел. Апухтины решили оставаться: отец слишком слаб и неуравновешен, мать — никак не могла расстаться с багажом, со всеми своими «кружевными барскими платьями», и, ко всеобщему удивлению, приводила оригинальное основание, чтобы не отступать: «Идти пешком под лучами солнца, значит, загореть и погубить нежную кожу лица». И это во время военного кризиса! Мы невесело смеялись, но сами были в беспокойстве и нерешительности. Внутренней панике. Данилевичи решили оставаться — и сам он не молод, и жена очень некрепкая, и четыре дочери, да и все преподаватели Педиатрического института старые и немощные — не бросать же их! Нужно держаться всем вместе — помогать друг другу! Доктор Данилевич всегда думал о других прежде всего. И так воспитал своих детей. В Кисловодске нам с Катей и Ниной возвратили паспорта — на случай, если мы решим уходить. Без спора, без нравоучений — просто по-человечески. Вообще, все сделались более открытыми, рассказывали о своих сомнения, не боялись спрашивать совета и в общей на нас надвигающей беде перед неизвестностью становились доверчивей и внимательней. Как будто с души стала слезать корка, под которой таилось тепло, самое простое — человеческое, живое. Из Кисловодска эвакуировались госпитали. Тяжелораненых успели увезти, легкораненые ушли незадолго до вступления немцев пешком, через горы. И с ними — наши студентки, поступившие работать сестрами. Ушла красивая Н. вслед за раненым солдатом, в которого без памяти влюбилась. Она мне рассказала всю свою историю, ища оправдания себе. Я знала по Ленинграду ее жениха — молодого человека из петербуржской семьи с серьезным русским лицом. И другая студентка В. — такая отличная, умная — невеста ушедшего в армию нашего студента, тоже привязалась к раненому солдату, капризному и дерзкому. Какая грустная судьба петербуржских девочек, после голода, без семьи, без старших друзей, оказаться на курорте — опять перед возможностью реальной гибели; они потеряли чувство принадлежности к культурному обществу и, беззащитные, рады были склонить свои одинокие головки на любое подвернувшееся мужское плечо. Огромное дерево в саду нашего хозяина, под которым я сидела с нераскрытой книгой в один из последних дней июля, было усыпано золотой алычой. Алыча — маленькая слива, когда она созревает, то делается прозрачной, сочной и сладкой. Под деревом — благодатная тень. В густой некошеной траве заливаются сверчки, трещат кузнечики, пахнут душистые травки, дикие цветы. Все так пронизано солнечными лучами — не хочется думать, двигаться. Курицы хозяина нашли тень и почти зарылись в пыль под деревом, сидят молча, неподвижно, открыв клювы и затянув круглые глаза голубой пленкой. В небе над головой послышался странный звук, как будто звук пропеллера, но какой-то очень непривычный, сухой и медленный. Выглянула из-под дерева. По небу медленно тянул самолет, но совершенно непривычной формы: вместо хвоста позади маленькой кабинки рама, самая настоящая четырехугольная рама. Немецкий аэроплан! Над самой головой. Прижалась к стволу алычи: рама летела низко, медленно, слегка покачиваясь из стороны в сторону, как будто присматриваясь к тому, что происходит на земле. Самолет летел так медленно, с таким ненавязчивым звуком, даже курицы в пыли не шелохнулись, и, описав большую лугу, застрекотал обратно, в сторону Минеральных Вод. Разведчик! (Это был немецкий разведывательный аэроплан «Аист». Он летает очень низко над землей, если нужно может лететь очень медленно; почти планируя. В русской армии его так и называли — «рама».) После этого дня до первой недели августа события стали развиваться очень быстро. Когда я вбежала в нашу квартиру, чтоб рассказать о немецком аэроплане, папа уже знал, что Минеральные Воды в руках немцев. И через два, три дня немцы будут здесь! За папой прислали — состоится последнее решительное собрание, наконец решат, что же нам делать. По большому тракту непрерывно едут на юг телеги с красноармейцами, очень торопятся. Иногда появляются грузовики, наполненные вещами, узлами (даже мебелью!) и детьми. «Партийцы спасаются», — шепчут старые казачки, кучками стоящие у тракта. Папа, уйдя на собрание, не велел нам никуда отлучаться, на случай, если придется ночью отступать. Зашел папин аспирант (он меня встречал на вокзале, когда я возвращалась из института) спросить, уходим ли мы ночью, и что если да, то он с группой друзей пойдет с нами. Он решил уходить обязательно — он был не русский. Так мы ничего еще не решили, он отправился на институтское собрание. Папа очень долго не возвращался. А тем временем мы решали вопрос отступать или не отступать сами, без папы. Мне казалось совершенно ясным, что надо сделать все, чтоб уходить и не попасть к немцам. Что все тяготы отступления — временные, и мы скоро будем опять все вместе — со своими. В беде, но вместе. Нельзя дать себя завоевать! Мне казалось, что мы сумеем попасть в Сибирь и там отсидимся. Сестра с возбужденным лицом возражала мне, спорила: ей казалось, что перед нею открывается дорога на Запад, в Европу. Я решила уходить. Тогда мама, которой казалось, что уходить — почти нереально, слишком поздно — ей казалось, что больше шансов выжить, оставшись, решила «ничего пока не решать», а подождать папу и, если он откажется уходить, то предложить ему разделить семью: он с сестрой останется, а мы с мамой будем уходить. Я тогда в горячке не подумала, что мама так говорит, чтоб успокоить меня, а сама заранее решила поступить, как скажет папа. А у папы было не очень здоровое сердце. Я тогда не думала (разве о таких вещах в такой момент думают), что, собственно, выбирала себе судьбу дочери профессора, оставшегося «ждать немцев». Если институт и папа вынуждены будут остаться, никто иначе не будет судить, никто и спрашивать не станет: «А могли ли уехать?» Рисовалась мне тогда только мирная Сибирь, вдали от фронта, среди «своих». Буду работать в госпитале, пока не кончится война, пока немцев не изгонят из русской земли. Тогда можно будет вернуться в Ленинград и жизнь потечет, как и прежде. Вернулся папа — уже было совсем темно. На собрании голоса разделились. Студенты (не все) и часть аспирантов решили уходить этой ночью. Все преподаватели (кроме Романовского) решили остаться. Особенно, когда папа заявил: «Мои ноги двигаются медленнее немецких танков». Папа, как всегда, говорил о фактах. И оценивал факт правильно. А о стороне душевной, национальной — он не говорил. Он (как Кутузов, принимая трагическое решение оставления Москвы) считал, что для русского человека такой вопрос не может даже и обсуждаться, не может даже быть поставленным: ясно, что никто не хочет оставаться под немцами, но факты — вещь упрямая. Семашко решил уходить. Гловацкий со старой женой — оставаться. Алексеев тоже решил остаться. Все обещали, что скроют, что они оба партийцы, если этим кто-нибудь будет интересоваться, оба приободрились. И никто, конечно, не нарушил обещания, (Папу раз вызвали в немецкое Гестапо и спрашивали, есть ли коммунисты среди его бывших коллег, папа твердо сказал, что — нет.) Когда папа услышал, что я хочу отступать и мама решила быть со мною, он очень рассердился и запретил даже думать об этом: «Мы сможем выжить, только если будем держаться вместе, семьею. Если разделимся — погибнем. И больше того, оставшись при немцах, мы свою судьбу связываем с ними: когда они начнут отступать, мы должны будем тоже отступать. Остаться на территории, захваченной немцами — независимо от причин, — значит, подписать себе приговор, в случае когда советские войска займут Кавказ. То, что нас бросили здесь — никого интересовать не будет. А факт, что мы были на оккупированной территории, сделает нас на всю жизнь предателями!» Я проплакала всю ночь.Глава вторая
ОТСТУПЛЕНИЕ КРАСНОЙ АРМИИ
Рано утром папа (и мы за ним) пошел на базарную площадь Ессентуков. Отсюда должны были уходить все, кто решил идти на Нальчик. На базаре — толпа. Плачут, прощаются. У уходящих студентов — встревоженные заплаканные лица. Романовскому папа передал институтские бумаги и деньги: Романовский уходил, а его жена, сыновья и сестра жены — оставались. Стояло несколько телег, груженных чемоданами — лошадки выглядели некрепкими. Около телег — студенты, работавшие в совхозах. Это совхозные лошади. Студенты увели. Гурина тетя Агниесса с девочкой ходила по базару, — утешая кого-то, и сама плакала на моем плече, и я тоже плакала. Мы все вместе пошли с базара домой, очень грустные. Навстречу шла знакомая студентка с огромным рюкзаком на спине и двумя чемоданами в руках. А сама — на высоких каблуках. Еле идет — ей даже до базара не дойти. Она еврейка, боится оставаться. Мы ей советовали бросить вещи у хозяйки (хозяйка предлагала ее прятать, пока немцы будут в Ессентуках) и идти налегке, как можно скорее, чтоб присоединиться к студенческим группам. Расстаться с вещами было выше ее сил. Она пошла к базару, но по дороге передумала и вернулась, в надежде, что все обойдется. (В первые недели оккупации мы знали, что хозяйка прячет ее. Что было дальше — мне неизвестно. Думаю, что она спаслась: те, кто укрылись первые недели, потом жили спокойно — их не преследовали.) А я не знаю ни одного случая доноса на евреев. (В Польше население — часто доносило.) Через несколько дней, еще до вступления немцев, прошел слух и повторялся много раз, очень упорно, что будто бы немцы обстреливали уходящих на Нальчик. Что много студентов убито. Что весь путь отступления «усыпан чемоданами». Что последние группы отступающих студентов погибли. Не хотелось верить, что Гура Эверт погиб; может быть, и прорвался к своим? Никогда не узнаю о его судьбе. Мы уныло, медленно шли домой. Тракт был совсем пустым. Только издали, с севера, показалась приближающаяся телега, запряженная одною лошадью, которая неслась во весь опор; телега страшно грохотала и моталась, а в телеге во весь рост стоял красноармеец, без пилотки, полупьяный, с выпученными глазами на белом лице, и неистово хлестал лошадь, которая тоже с обезумевшими глазами пронеслась мимо нас, храпя и дико подскакивая. «Остатки Красной Армии», — грустно произнес папа. Остались мы на произвол неизвестной судьбы. Опять, как в Ленинграде во время осады, было чувство, что нас бросили, что мы никому не нужны. Как было обидно и горько. Пока мы пересекали тракт, увидели столб черного дыма, густым облаком, медленно увеличиваясь, он поднимался вверх, в чистое небо. Отступающие войска Красной Армии. подожгли запасы нефти; отступая, они сжигали запасы продовольствия, фабрики, заводы — все, что не могли вывезти. Скот тоже угоняли. Если успевало, население пыталось спрятать хоть козу. Об остающихся никто не заботился — они уже были вне закона, их списывали со счета. Свои — своих. Еще несколько столбов дыма стало подниматься над городом. Казачки стояли у ворот своих домов и сердито смотрели на пожары. За предыдущий день город покинули те, кто решил уходить пешком. Одним из последних, почему-то замешкавшись, выехал из Ессентуков грузовик Финансового отдела города, набитый вещами, служащими и их семействами. Анна со своим багажом тоже сидела с семьей директора в грузовике. Грузовик уже покинул город, когда жена директора накинулась на Анну с ужасными обвинениями и грубостью. Анна остановила грузовик, молча собрала свои вещи и, не обращая внимание на мольбы директора, пешком вернулась обратно в город, к радости Лидочки, которая ни за что не хотела отступать на Нальчик. «Хочу сама посмотреть на немцев, — весело заявляла она, — больше такого случая — не представится!» По тракту больше никто не ехал. Наступила совершенная тишина. И столбы дыма тоже улеглись. Как будто все затаилось, затихло, и никого не видно. Папа не позволял выходить из дома: «Сейчас происходит безвластие». Странное чувство — одни, свои, нас бросили, другие, чужие, еще не прибрали к рукам. И мы жили в эти дни в непривычной пустоте. После полудня на улице послышались звуки большого оживления. Из окон нашей квартиры было видно, как казачки тащили мимо наших окон мешки, чем-то набитые, разных форм и размеров. Им навстречу шли и бежали еще женщины и дети. Какие-то старики везли пустые тачки. И очень торопились. Мы не понимали, что происходит. Пришел к нам наверх наш хозяин в своей новой хрустящей рубахе: «Идите скорее — консервную фабрику не подожгли, не успели, и там полно продуктов, народ все разбирает — не доставаться же немцу!» Мы с сестрой пошли посмотреть — фабрика была совсем рядом, за углом — небольшое каменное здание за всегда закрытыми воротами. Ворота теперь были раскрыты настежь. Оказалось, что в глубине, за воротами большие склады, сараи. На дворе около построек было полно местного населения: женщины, старички, дети, и они разбирали мешки, банки, ведра, наполненные продуктами. В середине одного из зданий находился огромный бассейн, а в нем густо плавали светло-зеленые огурчики, пахло укропом. Никто не нагибался, чтоб схватить огурчик. Только смотрели — и мы смотрели. Мы пошли к выходу и встретили у ворот нашего партизанского хозяина с очень возбужденным лицом. Около него стояло несколько небольших бочонков. Он выкатил нам под ноги маленький бочонок: «Абрикосовое варенье! Катите домой, барышни! Мамочка спасибо скажет». Мы шарахнулись в сторону, но он буквально вцепился мне в руку и так смешно восклицал: «Катите, катите, а то все немец съест!» И я решила покатить бочонок, благо близко — за углом наш дом. Мама потом долго вспоминала не то с ужасом, не то с веселым изумлением картину, которую она увидела из окна: «Моя Ромочка катит по дороге бочку, а сама смеется!» Мы долго ели варенье к чаю. Фабрику к концу дня разобрали. Мы больше туда не возвращались. Я только спросила хозяина, забрали ли малосольные огурчики? «А то как же — все до одного! Ох, и вкусные огурчики!» Целый день после короткого оживления около консервной фабрички стояла гнетущая тишина. На следующий день, 9-го августа 1942-го года (опять жаркий летний день) продолжалась эта томительная, полная тишина. Где-то шла жизнь, быстрая активная, но уже без нас. Наши студенты шли по горным тропинкам, прятались, пробирались на юг, наверное, и им было страшно, но они активно действовали, боролись и были вместе. А мы — в бездействии, только со своими горькими мыслями. Мы совсем мало разговаривали — так были подавлены, даже сестра сникла. Я же никогда не видела папы таким печальным и бездеятельным. Вся жизнь его рушилась. После кипучей деятельности последнего месяца — выпуска и попытки вывезти и спасти институт — наступила безнадежность и неизвестность. И папа — затих. Было непривычно это видеть и страшно. Я все пыталась быть поближе к маме, не умела утешить папу — и сама нуждалась в утешении. Хозяин пришел сказать, что Пятигорск взят немцами. Без сопротивления. Скоро они будут здесь. Как передавались сведения так быстро, без радио — совершенно непонятно. Но местные жители всегда знали, где и что происходит, безошибочно. Из города к нам никто не приходил. Мы встречали нашу судьбу — одни. С «партизаном».НЕМЦЫ В ЕССЕНТУКАХ
Наступило 11 августа. Папа решил, что нечего нам сидеть в квартире, лучше всего сидеть в саду, под алычой. «В доме — опаснее. Вдруг по домам будут стрелять. А в саду мы за кустами скроемся!» Мы доверчиво сели в тени дерева и стали ждать. Все говорили почему-то шепотом. Время тянулось очень медленно. Осторожно, по очереди, бегали в дом, за хлебом, за питьем и возвращались под тень алычи. Под этой алычой мы закопали наши с сестрой комсомольские билеты. Но не сожгли, а вдруг потребуются. Хозяин все это время ожидания сидел в своей квартире в нижнем этаже дома, у крытого белой скатертью стола. Мы в окно видели горящую мерцающую лампаду. Хозяин сегодня утром сказал нам, что де вот, наконец, наступает свобода! «Столько лет притворялся. Мы ведь из богатых казаков». Он пошел к тракту, посмотреть не видно ли чего нового. И скоро вернулся с новостями: в Ессентуках — немцы! И ни одного выстрела! Кому же было стрелять? Мы выглянули из-под дерева и решили дойти до тракта, чтоб только послушать — нет ли вдали звуков войны. Когда мы дошли до угла, услышали звук гусениц вдалеке. Медленно, из боковой зеленой улицы, со стороны вокзала, на тракт выехал небольшой танк. Зеленый, как и наши. Крышка танка была откинута и видно было стоящую фигуру — немецкий танкист. Танк остановился. Еще один танк выполз, тоже медленно. Около него появилось несколько фигурок. Танки постояли, постояли и, медленно развернувшись, поползли обратно. Сразу же на улице появились женщины в платочках, они стояли у своих ворот, переговариваясь. Очень скоро и до нас дошли новости: немцы заняли город, ездят по улицам в открытых автомобилях, рассматривают население — улицы полны людей и очень оживлены. Немцы никого не трогают и очень приветливы. Сестре захотелось — поглядеть. Мама неохотно пошла с нами. Папа тоже решил пойти, встретиться с преподавателями, проверить, все ли у них благополучно. И мы отправились в город. До вокзала мы никого не встретили, идущих из города. Но в город шли небольшие группы людей. У всех на лицах было написано осторожное любопытство. Все шли торопливо, почти не разговаривая. И мы шли так же. Когда прошли вокзал и вышли на главную улицу Ессентуков, нашему взору представилась незабываемая картина. По знакомой улице, обсаженной большими липами, вверх и вниз ездили небольшие военные автомобили непривычной нам формы, мотоциклы с люльками и без люлек. И в них сидели немцы. В серых и серо-зеленых формах и фуражках с приподнятым верхом, не похожих на наши, — плоские. И «капуста» на околышке была большая, серо-серебряная. Лица были, как правило, скорее приятные, мне показалось, что много интеллигентных лиц. Со светлой кожей — даже у многих румянец, светлоглазые, с тонкими, часто с горбинкой, носами. Похожи на лица молодых людей из петербуржских старых семейств, к сожалению, почти исчезнувших. Немцы рассматривали нас, русских, а мы — их, немцев, которых наши газеты называли фашистскими захватчиками. И на наших, и на их лицах — любопытство. На улицах было очень много ленинградцев. Немцы, оказывается, уже успели узнать, что на Кавказе и (в Ессентуках) много «петербуржцев». Удивительно было видеть у тротуаров немецкие открытые военные автомобили, пустые: немцы или стояли в стороне, разговаривая с жителями, или заходили в дома и магазины, если их приглашали. А в автомобилях, на сиденьях лежали их пояса с пистолетами в кобуре и кожаными портупеями (патронташами) с патронами. Какая непривычная доверчивость — или наивность! И около каждого автомобиля собиралась толпа, и все с удивлением, почти с испугом, смотрели на оставленное без присмотра оружие. «Господи, — сказала женщина из толпы, — да у нас бы за такое расстреляли!» Но никто не трогал оружие, немцы возвращались, приветливо кивали головами и на ломаном русском языке что-то восклицали. Папа пошел к Базарову. Мы повернули на улицу, где жили Лида и Анна. На противоположной стороне улицы стояла группа молодых немцев, очевидно офицеров, с группой русских девиц. Они все смеялись и размахивали руками, стараясь объясниться. Один из офицеров, совсем мальчик, увидя меня (я шла сбоку), крикнул мне через улицу по-немецки: «Вы говорите по-немецки?» Я от неожиданности ответила: «Говорю». Он махнул мне рукой — «идите сюда, помогите перевести». Я, не думая, ему сказала: «Если вы ищите помощи, потрудитесь перейти улицу и спросить меня, что вам нужно». Немцы весело встрепенулись и бегом перебежали улицу. И первое, что они сделали, извинились, что кричали мне через улицу, поклонились маме и стали нас закидывать вопросами, рассказывать о себе: почти все они были студентами в разных городах Германии, призванными в армию. Они буквально изголодались по возможности разговаривать с девушками по-немецки. Такие молодые, как и наши мальчики, призванные в армию. И никакой враждебности, заносчивости. И у нас к ним — тоже никакой враждебности. Опять меня вблизи поразила породистость их лиц. Не у одного-двух — все они выглядели холеными, красивыми и очень приветливыми. Когда мы двинулись дальше, они щелкали каблуками, кланялись и благодарили за удовольствие разговора. Мы потом узнали, что войска, которые заняли Кавказ, были отборные, среди них было много альпинистов. Альпийские войска «Edelwess», с белым цветком сбоку пилотки, — лучшие войска немецкой армии. Их очень берегли и употребляли в самых трудных местах. Эти войска, немного позднее, участвовали в боях за Эльбрус. И их очень помяли и побили наши войска. И эти молодые, свежие, веселые военные пользовались огромным успехом: местные девицы (да и ленинградские) повлюблялись в них, а немецкие молодые люди — в девиц. На улицах — все, смешавшись, ходили гулять, разговаривали, смеялись. Все на время как будто забыли о войне. И русские, и немцы. Лидочка, когда мы до нее добрались, сияя во все свое розовое лицо, сказала, что у их хозяйки снял для себя комнату молодой немецкий офицер и что зовут его Hans. Все его зовут Ханзик, и ему это нравится. Он пришел к ним на двор напоить лошадь (были части верховые, на очень хороших лошадях) и, пока лошадь опустила морду в ведро, Ханзик, по-видимому, успел сразу в двух влюбиться: и в Лиду, и в замкнутую молчаливую Анну. И прожил у их хозяйки две недели, пока его не отправили дальше. Лида рассказывала нам, какой Ханзик и его друзья — корректные, воспитанные и веселые. Он их очень благодарил за знакомство, за дружбу, когда его послали дальше воевать. Лидочка говорила, что она очень рада, что не отступила и сама посмотрела — какие немцы, и что, как ни печально, но они и воспитанные и образованные, нашим не чета. И правда, очень грустно! Но это, конечно, не так: поверхностные наблюдения часто обманчивы. Я видела сама в наших госпиталях, что под грубостью, похвальбой, раздражением таится другое — во время испытаний эта поверхностная броня защиты спадает и из-под нее прорывается такая теплая человечность, доброта и сердечность, которые мне ни в каком другом народе не приходилось видеть. В мирное время это не так заметно. Что же касается немцев, то мы видели в первые недели оккупации Ессентуков только передовые, самые лучшие немецкие части — цвет немецкого народа и немецкой армии, как немцы их сами называли. К концу лета 1942 года «Wehrmacht» пополнялся уже не профессиональными боевыми частями, а резервом: студентами, людьми очень нужных профессий, которых в первые годы войны Германия не призывала. Их берегли. Теперь же — их тронули. И мы, русские, в Ессентуках эти первые недели оккупации видели не регулярную армию, не армию фашистов, как их называли в наших газетах, а простой немецкий энергичный народ в форме, таким, каким этот народ был в Германии до власти Гитлера, и таким, каким этот народ сумел остаться вопреки его безумным национал-социалистическим идеям. И этот народ жителям Ессентуков — нравился. До тех пор, пока не появилась сама национал-социалистическая партия. И Гестапо! За три недели оккупации картина жизни в Ессентуках начала меняться. Передовые альпийские войска покинули город. Стали появляться более пожилые и старые солдаты и офицеры. Это были хозяйственные части. Их отправляли в бывшие совхозы и колхозы, где они селились и должны были приводить хозяйство в рабочий порядок. На краю города у Подкумка заработала маслобойка. Чинилась фабрика — кожевенная, взорванная отступающей Красной Армией. Заработали грязевые и нарзанные ванны. Но в них лечились и купались теперь только немцы. Русское население должно было довольствоваться только городской баней. Библиотека больше не открылась. Электричка больше не работала: говорили, что при отступлении наши войска сожгли все вагоны! Как жалко — такая элегантная удобная электричка! Немцам электричка не нужна — у них автомобили. А нам остается — ходить пешком. На третьей неделе оккупации я шла по главной улице, а мне навстречу шел в хорошо разглаженном костюме немец средних лет в штатском. Он как две капли воды походил на наших «партийных товарищей»: плотный, такой «квадратный» с сытым, тоже квадратным лицом, с выражением надменного самодовольства. Шел он хозяином — и все ему почему-то уступали дорогу. Штатский немец шел ни на кого не глядя, никого не замечая, как будто он — один-единственный пешеход на улице, наполненной бестелесными тенями. Руки он держал почти по швам, не сгибая в локтях, ладонями назад. Так ходят и наши — директора, главки и прочие партийные начальники. В петлице у штатского немца был круглый значок — красная рамочка и на белом фоне — черная свастика. Стало мне очень не по себе. Вспомнилось, как один из немецких офицеров на удивление Лиды и Анны, что мы все слышали такие страшные описания немцев, а оказались они такими милыми — вдруг весь поежился и неохотно сказал: «Когда после нас придут штатские и Гестапо, все очень изменится. У вас есть партия и НКВД. У нас тоже — партия и Гестапо. Но немецкие люди — не Гестапо и не партия, а такие же, как вы…» Вот теперь приехали настоящие хозяева — партия фашистская и Гестапо. А воины — ушли. Базары начали снова оживать. Но советские деньги вышли из употребления. Вместо них появились специальные немецкие марки для оккупированной территории. У нас их не было. И мы начали опять ощущать голод, конечно, не такой сильный, как блокадный. Встал вопрос — как зарабатывать на пропитание. В городе открыли Городскую управу. Русскую Городскую управу, которая будет, как все надеялись, решать русские дела. Всем это было приятно: мы хоть и «под немцами», но хотелось своей, русской, самостоятельности хоть в каких-то нас непосредственно касающихся вопросах. В управу поступили служить многие преподаватели из ленинградских институтов. Папу новые русские администраторы пригласили служить в финансовый отдел управы — папа согласился. Подумав, в свой отдел устроил сотрудниками своих коллег — папа им сказал, что все-таки «управа русская, хотя немцы в городском масштабе, все решают по-своему. Может хоть что-нибудь удастся отстоять! Хоть какие-нибудь русские интересы — охранить!» Вскоре после появления штатских немцев в городе на воротах взорванной отступающей Красной Армией и теперь восстановленной хлебной пекарни появился большой плакат, напечатанный по-немецки, обращенный к ленинградцам. Им, ленинградцам, будет выдаваться хлеб. Папа забеспокоился: «Что они с нас потребуют за хлеб? Никто ничего даром не дает!» По улицам были расклеены листовки, где было сказано, чтоб эвакуированные в Ессентуки ленинградцы явились бы в назначенное время к воротам хлебной фабрики. Мы с сестрой пришли (родители отказались слушаться — остались дома) — у ворот уже собралась большая толпа ленинградцев, собрались и местные жители в большом количестве — послушать. Все ждали, переговариваясь, старались догадаться, зачем нас вызвали. Перед воротами пекарни лежал пустой ящик — на него взобрался немец и, возвысившись над толпой (он держал в руке лист бумаги), махнул рукой (как на наших собраниях, призывая к порядку) — и все сразу замолкли. Немец спросил, есть ли среди присутствующих кто-нибудь, владеющий немецким языком, кто сможет перевести приказ (он потряс в воздухе бумагой) на русский язык. Никто не вызвался — все немного оробели. Тогда из толпы раздался голос преподавательницы института иностранных языков Бонч-Бруевич (из знаменитых народников, писателей) — немолодой дамы с рыжеватыми пышными волосами; она сказала, что переведет текст приказа на русский язык. Толпа расступилась, и она с достоинством подошла к немцу на ящике, взяла бумагу и громким ясным голосом (как на уроке) стала переводить. Но потом вдруг переменилась в лице, стала что-то неразборчиво бормотать, вернула приказ обратно и поспешила скрыться в толпе. Но стоящие впереди все слышали и поняли и сразу передали услышанное стоящим сзади, те — дальше, и через несколько минут все знали: хлеб некоторое время будет выдаваться только ленинградцам. Не местному населению и не евреям! Стало очень страшно. Начинается: чужие хозяева — чужие законы. Мы захвачены. И никто нас не защитит! Ко мне подошла знакомая студентка-медичка — высокая, темноглазая, спокойная (мне она всегда очень нравилась), она была очень бледная, только по ее щекам медленно ползли слезы — она их не замечала, сказала мне: «Мы будем теперь вне закона», — и пошла прочь от толпы. Мне позднее рассказывала моя приятельница-еврейка, что когда всех евреев заставили надеть на одежду звезду Давида, они, молодые женщины, работали в саду немецкого учреждения. Моя приятельница догадалась снять звезду и спрятаться у друзей, пока карательные немецкие организации не уехали. И потом жила спокойно — никто ее больше не трогал. Среди работающих в саду была и так нравившаяся мне высокая студентка-медичка. Работающих охранял один немец, молодой. Моя знакомая медичка, владевшая немецким, часто с ним разговаривала. Они подружились и часто сидели вместе на скамеечке и оба плакали. Может, он ее и спас? Немцы не так боялись Гестапо во время войны, как мы наше НКВД — всегда! Прошла мимо меня Бонч-Бруевич с очень расстроенным лицом, каким-то смятым и постаревшим, я слышала отрывок фразы: «Знала бы — ни за что не вызвалась бы!» Подошла ко мне знакомая девушка — жительница Ессентуков Хая. Мы с нею в парке часто встречались, разговаривали, сидя на скамейке. Она тоже много читала, и с ней было хорошо говорить, такая она была разумная и приятная. И очень милая: со светло-голубыми глазами, прекрасными черными ресницами — длинными стрелками. Она очень походила на мою школьную подругу — милую Шулю (Суламифь Гутину). Хая мне тихо сказала: «Я ведь еврейка, что же мне делать?» Сказала с таким недоумением. Я ей так же тихо и испуганно сказала в ответ: «Ни за что не признавайтесь, говорите, что русская, не показывайте паспорт и утеряйте его. Вас никто не предаст, если будете молчать и перемените имя». Что я могла ей сказать, кроме импровизированного плана действий — ничего. Зимой, когда уже давно прошла волна арестов евреев, в парке я встретила милую Хаю. В зимней меховой шапочке, очень миловидная, она шла под руку с немецким офицериком, тоже молодым и тоже миловидным. Хая, издали приближаясь, смотрела на меня внимательно и пристально, не отрываясь. Я не знала ее теперешнего имени, а потому, подойдя к ней, просто обняла ее и поцеловала. А ее немецкому (чуть удивившемуся) спутнику сказала, что мы давнишние друзья и я рада и с ним познакомиться. Мы постояли, поговорили и разошлись, на прощание — еще раз обнялись. По городу в середине сентября развесили приказ: все евреи должны зарегистрироваться, и нашить на верхнюю одежду звезду Давида; и выходить на работу каждый день — чистить немецкие учреждения. Евреев в Ессентуках почти не было. Среди ленинградцев — очень мало, но были. Ленинградским студенткам иногда удавалось спастись — их в «живых институтах» выдавали за русских, и деканы, профессора убеждали их не регистрироваться евреями и помалкивать и «потерять паспорт». С институтом доктора Данилевича приехали две сестры — обе докторши, обе очень старые, какие-то засохшие. Они обе преподавали в Педиатрическом институте. Они были еврейками, обе с длинными культивированными некрасивыми лицами. Когда началась регистрация евреев, принудительные работы, вывоз и гибель евреев, обе сестры находились на излечении в больнице. Обе долго и тяжко болели новой болезнью — от последствий голода. Когда же они выписались из больницы и узнали о судьбе, постигшей евреев, они решили кончить жизнь самоубийством. Их вовремя спасли друзья (не без участия Данилевича). Тогда обе сестры отправились в немецкую комендатуру и заявили немецкому коменданту, что они еврейки, хотят чтоб их арестовали и предали той же участи, что постигла других евреев. Комендант просил их идти домой, спокойно жить, не заявлять нигде, ни в каких учреждения, что они еврейки: «Вас никто больше не тронет — карательные отряды (выискивающие евреев) давно уехали и больше не вернутся. А мы этим вопросом не интересуемся. Прощайте и идите спокойно домой». Обе сестры продолжали жить очень замкнуто и печально, работали в местной больнице, их никто не трогал и они ни с кем не общались, только Данилевич к ним заходил — проверить, все ли у них в порядке! По городу были расклеены объявления немецкой комендатуры — обращение ко всем, знающим немецкий язык, с просьбой поступить на службу в качестве переводчиков. Мне в голову даже не пришла мысль, что это может как-то касаться нас с сестрой. Мы никогда не служили, только учились. И свою будущую профессию и службу я рисовала себе только на медицинском поприще. Да и поступать на службу, да еще к немцам, казалось мне диким и страшным! И нелогичным по отношению к жизни прошедшей, привычной до сих пор. Но жизни привычной больше не существовало! Мы теперь должны были жить и работать среди таких же, как все, брошенных и завоеванных. Мы попали, волею судеб, в другой мир — и в этом мире мы должны были существовать! Папа считал, что для сохранения семьи нужен заработок и что, служа, можно делать русское дело… Сестра тоже считала, что хорошо бы — попробовать: папиной более чем скромной заработной платы нам не хватало. Мама пока не высказывала своего мнения. Но через некоторое время, услышав, что многие ленинградцы поступили работать переводчиками, получают заработную плату, высказалась за поступление нас на службу. А папа даже торопил нас и на мои испуганные возражения коротко говорил: «Теперь ваша очередь знания применить на практике — вас так долго учили!»СЛУЖБА В ПРОМСЕЛЬХОЗЕ
Наконец мы решили пойти, попробовать поискать работы. Душа буквально уходила в пятки, когда мы приближались к немецкому бюро. Мне казалось, что я вдруг позабыла весь немецкий язык. В бюро никого не было, кроме старой сердитой дамы — бывшей учительницы немецкого языка (она была немкой). Мы ее в ленинградской столовой встречали. Она довольно недружелюбно спросила нас, чего мы хотим. Мы сказали, что пришли по объявлению, что мы могли бы работать переводчиками. Дама очень на нас рассердилась! Мне показалось — за наш вид и молодость, и очень резко сказала: «Нам нужна только прислуга и женщины для мытья полов! Если вы не заинтересованы — уходите» Мне резануло ухо это «нам» ленинградской дамы. Очевидно, она так действительно чувствовала! Она и немцы — это «мы»! Мы только собрались уходить, как в комнату вошел довольно молодой немец с бумагами в руках, увидел нас, широко улыбнулся и спросил, не владеем ли мы немецким. Дама не дала ему закончить и почти крикнула: «Вы нам не нужны». И к нему: «Мы ищем только прислугу». Но немец на нее только рукой махнул — она сердито отступила, и мы уже с ним начали разговаривать о возможности устроиться служить переводчиками. Немец был очень обрадован: ему были нужны переводчики для отдаленно лежащих в горах хозяйств (бывших совхозов), где во главе каждого хозяйства было посажено по немцу, чтоб приводить все хозяйство и людей в рабочее состояние: «Хозяйства должны кормить немецкую армию и быть продуктивными». Без переводчика немцы хозяйственных частей не могут столковаться с местным населением. И очень просил прийти завтра утром за назначением. Мы пошли домой — решать с родителями, что же нам делать. На семейном совете решили, что мы обе должны принять предложение и начинать работать! Если не понравится, можно вернуться домой — об этом следует предупредить нанимателя. Очень неспокойной легла спать. Какие противоречивые мысли терзали меня! Утром в бюро вчерашний немец ждал нас с назначением на службу. Обе службы — в отъезд. Сестра будет жить и работать в небольшом хозяйстве, в долине Подкумка. Хозяйство — главным образом, фруктовое. Жить она будет в том же доме, что и немецкий управляющий, и кормиться будет за его столом. Управляющий — пожилой офицер хозяйственных войск. Кроме заработной платы, комнаты и стола — можно для семьи брать продукты хозяйства, по усмотрению управляющего. Мне немец дал назначение в большой бывший совхоз, называемый Промсельхоз. Немцы, не умея расшифровать слово, так и называли хозяйство по-советски Промсельхоз. Это был большой совхоз, с большим населением, собственным управляющим (местным), подчиненным немецкому (моему шеф). Хозяйство молочное, свиное, овощное, фруктовое. Очень обширное, расположенное далеко от Ессентуков среди гор, холмов, высоко над рекой. Потом оказалось, что Промсельхоз находится в совершенно сказочной местности. С домами, вольно расположенными на большом расстоянии друг от друга — среди полей, громадных фруктовых садов на склонах холмов, прекрасно ухоженных. И все это окружено близкими и далекими кавказскими горами, как на лермонтовских картинах: с ущельями, зелеными долинами, горными дорогами. Благодатный, богатый, не тронутый войной край! За сестрой в тот же день приехал и забрал ее из бюро в своем автомобиле старый седой офицер, очень высокого роста, тощий и прямой, с длинными опущенными вниз полуседыми усами, кустистыми черными бровями, из-под которых не очень приветливо, как-то деловито глядели голубые небольшие глазки. Мне он очень не понравился. Было беспокойно за сестру. За мной на другой день приехал мой «шеф», приехал в нашу станицу на телеге, запряженной крепкой рабочей лошадью, рыжей. Немец оказался фельдфебелем в грубых широких солдатских сапогах, с простым рыжеватым лицом в белых морщинках — от солнца, со светлыми рыжеватыми волосами и огромными, тоже рыжеватыми, руками. Он был не устрашающим, скорее — наоборот был приветлив, очень вежлив с родителями, обещал им заботиться обо мне, беречь меня и привозить маме продукты из Промсельхоза. И со мной он обращался вежливо и как-то испуганно. Погрузили мой чемоданчик в телегу, я попрощалась с родителями и поехала «в отъезд». Было сначала очень неловко ехать по улице в телеге с немцем, громыхая по мостовой, и очень твердо на скамейке. Но когда выехали из Ессентуков, переехали через Подкумок у маслобойной фабрики, моста здесь никогда и не было — речка очень мелкая и не широкая, и не быстрая, меня охватила радость: природа была совершенно прелестная. Поля благоухали, хлеба стояли высоко — будет прекрасный урожай. Фруктовые деревья в садах были усыпаны плодами, разогретыми, поспевающими на жарком солнышке. Мы ехали на телеге, которая перестала грохотать и подпрыгивать и катилась неслышно по мягкой немощеной дороге. Лошадь не торопилась, немец ее не подгонял, только изредка похлопывал вожжами по закругленным бокам, пахло кожей вожжей, особым приятным запахом лошади, сеном со дна телеги, как в детстве, когда мы с пристани на Волхове ехали на все лето в деревню Горбы. Точно на такой же лошади и телеге — и запахи были те же. Я совсем успокоилась. Мы не спеша, спокойно разговаривали. Немец оказался рабочимсталелитейных заводов Рурской области. Всю жизнь проработал на тяжелой работе. Завел себе домик — мечта каждого немца, женился на вдове с двумя детьми и смиренно думал, что вся жизнь — это тяжкий труд. Но наступила война, и все изменилось. Его послали в хозяйственные войска фельдфебелем. Он не воевал, а сидел маленьким начальством сначала в Польше — в селах, а потом — в России, в бывших колхозах и совхозах. Потихоньку сколачивал в своем сундучке маленькое «богатство»: кожу, мягкую, черную блестящую на сапоги — всего на одну пару высоких сапог! Какой маленький объем счастья немецкого рабочего! И для жены он тоже приобрел кусочек коричневой кожи для сапожек. И обещал мне показать сундучок с «богатствами». Я не сразу поняла, о каких «богатствах» он толкует и почему так доверительно хочет их мне показать, воображение нарисовало мне кованый разбойничий сундук, набитый старинными монетами, жемчугом, самоцветными камнями, но немец не походил на лихого разбойника, он был смирный простоватый работяга и рассказывал о своих маленьких радостях с почти наивной гордостью. Звали моего «шефа» Людвиг Вааг. Он хорошо знал дорогу в Промсельхоз, ни разу не сбился. На самом краю плато, по которому мы проезжали, медленно взобравшись на него, мы шли по обе стороны телеги пешком, чтоб лошадка не очень уставала — над самым обрывом вытянулся ряд маленьких домиков. Около них не было ни садов, ни огородов, и хотя, казалось, места везде было много, домики ютились у самого обрыва, без единого деревца, без единого кустика. Только какие-то женщины в длинных черных одеждах были заняты около дверей и бегали вокруг голоногие дети. Вааг сказал, что это греки, жившие здесь с незапамятных времен. Позднее мне рассказали, что греки после коллективизации отказались вступить в колхозы и их дети — тоже. Поэтому их всегда теснили и дотеснили до обрыва, они живут в большой бедности, занимаются мелким ремеслом, продавая свои изделия на базаре, и, как уверяет местное население, занимаются «разбоем на больших дорогах», — это уж, наверное, местное население для романтики придумало или чтоб спихнуть греков в овраг. В Промсельхоз рыжая лошадка привезла телегу уж в сумерки. И пока я и мой спутник выбирались на твердую землю и входили в дом председателя Промсельхоза, совсем стемнело. У председателя Вааг и я должны были ужинать. А в дальнейшем жена председателя будет стряпать и на Ваага, и на меня, и кормиться мы будем со всей семьей за их столом. В обширной комнате большого дома вся семья была в сборе. Она состояла из самого председателя — горбоносого украинца с очень хитрым лицом, по фамилии Спивак, его пышной жены — совершеннейшей Солохи в пестром платке на голове, завязанном по-украински — вроде тюрбана, и двух дочерей: одна, румяная, чернобровая — копия отца, только глаза темные, живые, а не водянистые, отцовские; другая — вылитая мать; в совхозе до войны она была свинаркой молодняка — у нее была легкая рука — розовые поросята быстро росли под ее «руководством». С этим семейством Вааг и я должны были довольно тесно жить и общаться — и это меня пугало. Когда Вааг и я появились в доме Спивака, обед был уже приготовлен, стол накрыт с большим старанием (и изобилием), и на столе красовалось множество бутылок со спиртным, тарелки с горками хлеба, масла, мисочки с салатами, закусками, дымящимся картофелем. Ко мне отнеслись очень учтиво, даже более того — как будто я тоже начальство. И началась трапеза, но какая обильная, жирная — поистине можно было накормить роту солдат. И все без исключения ели много, запивали водкой, крякали, хвалили, накладывали на тарелки, потели и снова нагребали. Вааг ел и все более краснел и лоснился, семейство Спивака, не исключая дочерей, тоже не отставало. Я же, после тарелки борща совершенно разболелась — еле сдерживая боль, досидела до конца ужина и к огорчению хозяйки ничего не ела больше. Я не привыкла к такой жирной еде, особенно после ленинградского голода — и от вида громко жующих, глотающих, облизывающихся ртов у меня кружилась голова, как при морской качке… Наконец-то пиршество закончилось, и телега затарахтела к большому темному одноэтажному дому, типа барака, но я его, правда, плохо разглядела в темноте. У двери на крылечке с навесом стоял в овчинном тулупе большой усатый парень с винтовкой в руке — это была охрана. В бараке, как я утром выяснила, было несколько помещений — бывший «кабинет» председателя совхоза, комнаты заседаний, еще какие-то помещения, около входа — маленькая кухонька. Моя комната — самая последняя в коридоре, перед нею, по той же стороне — комната Ваага. В этот темный вечер я только мечтала добраться до кровати. В бараке во всех его помещениях не было электричества. Полная тьма. Ощупью отправилась искать кровать, как хорошо было лечь, натянуть на себя колючее одеяло, подушка оказалась мягкой, боль от борща утихла, и я заснула. Последняя мысль — как я далеко от мамы, совсем одна… Утром меня разбудила стуком в дверь милая пожилая русская женщина. Она приставлена к Ваагу, а главным образом ко мне — убирать, стирать и т. д. Как я ей обрадовалась! Такая приветливая, в белом платочке — совсем успокоительная. Попросила ее принести воды, теплой, таз, кувшин, ведро — и началась моя рабочая жизнь. Ваагу я сказала, что не буду ходить к Спивакам, что наша пожилая хозяйка согласна сама стряпать и будет три раза в день готовить и кормить нас в кухонке. Моя милая хозяйка, ходившая за мной как нянюшка, считала, что «барышне не пристало сидеть за столом с солдатом», и все устраивала по-своему, и мы с ней много времени проводили вместе и от нее я узнавала, что происходит в Промсельхозе и его окрестностях. В девять часов утра я появилась в комнате, где уже были Вааг, Спивак и много мужчин и женщин — бригадиров и бригадирш. Вааг меня представил — я всем поклонилась и начала переводить. Я, конечно, не знала как перевести на немецкий специальные сельскохозяйственные выражения, употребляла описательный прием. Вааг был очень терпелив. Поначалу мне было очень непросто понимать Ваага — он говорил не на «литературном» немецком языке, а на наречии провинций, которое я не сразу научилась расшифровывать… С утра бригадирам говорилось, что нужно сделать каждой бригаде за день. Часто бригадиры возражали и говорили, что правильнее делать и в каком порядке — их выслушивали — и часто, обдумав, меняли план дня. Я все переводила — и кое-как справилась. В дальнейшем такие совещания происходили вечером — и с раннего утра совхозники прямо выходили на работы. Вааг каждый день обходил, по возможности, все хозяйство Промсельхоза. И я его иногда сопровождала. На дальние участки он меня не брал. Мне очень нравилось ходить на маслобойку: там чудно пахло свежим маслом и было очень чисто. Мне не переставал доставлять удовольствие весь процесс производства масла. Служащие были приветливы и никаких недоразумений никогда не было. Ко мне стали по утрам приходить женщины с разными небольшими просьбами. «Уж ты скажи своему немцу-то, чтоб он моего мальца на работу не посылал»… и другие просьбы. Сначала я очень старательно все исполняла и всегда уговаривала Ваага внять моей просьбе. Вскоре одна из женщин принесла мне черничный пирог — бабка сказала: «Это тебе за то, что народ жалеешь». И я была очень тронута и мне в голову не пришло, что это вроде бы взятка. Я это сообразила, когда женщины на другой день после пирога пришли ко мне утром в большом количестве и все — с подношением. Очевидно, разнесся слух, что я «пользуюсь». И я тут же, набравшись мужества, сказала, что не могу принимать подарков, что я — на службе, что немец — «не мой немец», но, если они со всеми просьбами будут приходить к Ваагу в часы приемов, я буду не только им переводить, но и просить Ваага быть к их просьбам внимательным. Но все это должно быть в рамках моей службы. Так с этих пор и повелось. Но за каждой едой в кухонке моя хозяйка-нянюшка, пока я ела, рассказывала мне обо всем, что делалось в Промсельхозе в смысле человеческих отношений, интриг и советовала мне, кому хорошо бы помочь, кто в беде, а кто ворует и т. д. Я очень прислушивалась к ее разговору и старалась помочь. А до воровства — не касалась. Ко мне иногда все-таки приходили женщины с жалобами друг на друга и особенно на Спивака. Его, кажется, все невзлюбили: он вел себя маленьким царьком и сильно воровал. Устроил своих дочерей — одну на маслобойку, другую — на птичью ферму. Бабы приходили и жаловались, что каждый день дочь Спивака несет домой тазик с маслом, накрытый полотенцем, я и сама это видела. Но не пойду же я докладывать Ваагу о том, что русские воруют у немцев масло, которое немцам не принадлежит; это не мое дело — я не полицейский! Подружилась с бухгалтершей Промсельхоза (бывшей до захвата Кавказа). Приятная молодая женщина высокого роста с темноглазым умным лицом. Мы стали часто встречаться. Она меня неоднократно с удивлением спрашивала, почему я оказалась здесь одна, в глуши: «Что же ваша мать смотрела, как она вас сюда отпустила одну?» Меня этот вопрос иногда тоже занимал — как могла мама (и папа) отпустить меня одну, девочку, с неизвестным немцем в неизвестную глушь. Мы ведь до этого слышали, что в горах есть партизаны, да и вообще я была здесь совершенно беззащитна. Бухгалтерша работала в совхозе много лет, растила маленького мальчика — ее муж был в армии. Она знала всех в совхозе, все интриги, знала местные нравы и все время повторяла: «Вам здесь не место. Уезжайте — пропадете…» Я о ней с благодарностью вспоминаю и о ее словах, настороживших меня. Неоднократно слышала, что партизаны нападали на немецких управляющих, иногда убивали их. И только в Промсельхозе было совершенно спокойно. Наверное, потому что не было никаких столкновений между Ваагом и населением, и очень многое спускалось служащим. Он никого не притеснял, был по природе добрым и нежадным человеком. Вааг ходил теперь за мною по пятам и это выглядело глупо. Приходилось ездить с ним в соседние совхозы, иногда за много километров — для переговоров с другими немцами-управляющими. Мне, собственно, ездить для переводов не нужно было, немцы между собой отлично говорили, но я никогда не отказывалась от поездок: Кавказ с горами, долинами, ледяными речками меня покорил; когда же мне дали для пользования верховую лошадь, это было необыкновенное удовольствие — ездить по холмам, вдоль полей на лошади, с которой я хорошо справлялась, приучив ее и себя к галопу, когда мне одолжили прекрасное седло. В промежутках между переводами, когда Вааг был занят, я любила уходить в поля, особенно в поля поспевающих помидоров. Кусты помидоров не подвязывались к палкам, и плети расползались по земле. И в поле пахло терпким помидорным листом, нагретым солнцем. Я никогда не рвала помидоры, вообще ничего не рвала и не собирала, хотя Вааг сказал, что я могу брать все, что захочу, но это было невозможно — пользоваться его расположением ко мне. Громадные площади на холмах были заняты сливовыми деревьями, совсем сизыми от созревающих слив. Деревья стояли правильными рядами и были молодыми, ухоженными и очень плодоносящими — голубые деревья на фоне голубых далеких кавказских гор. В траве под деревьями трещали летние цикады и зеленые кузнечики выскакивали из зеленой травы. В душе поднималось чувство несправедливости того, что на нашей земле мы теперь не хозяева, хотя и раньше мы ими не очень-то были — больше теоретически и в песнях. Несправедливость того, что нам теперь не свои, а чужие, говорят, что нужно делать и срывают плоды нашей земли — для себя. Мы так погибельно для нас не защитили нашу землю, а только гибли и гибли, а немцы пол-России захватили… Когда коммунисты грабили нашу страну — это была болезнь, когда немцы стали обирать нашу страну для немецкой армии — это было нашествие, насилие. И хотя мы надеялись, что коммунистической власти пришел конец (или ее изменение), но наши русские сердца хотели видеть свою страну свободной от иноземцев, принадлежащей нам… По праву! Ездила с Ваагом за пять километров в хозяйство, где снимали с деревьев урожай яблок. Мы скакали на наших резвых лошадках с холма на холм. Я не переставала любоваться природой Кавказа. То, что со всех сторон были видны высокие горы со снеговыми вершинами, действовало успокаивающе: как будто эти горы защищали от всех бед. И конь подо мною — такой быстрый, легкий и послушный. По-моему, он радовался возможности скакать не по дороге, а по зеленым мягким холмам и убранным полям. Вааг тяжело трясся на своем коне, он не любил скачки, да и у него не было седла, одно солдатское одеяло, привязанное веревкой. Сады с фруктовыми деревьями раскинулись на громадных пространствах — и опять меня удивил порядок. Деревья росли на одинаковом расстоянии одно от другого, ровными параллельными рядами. Все деревья — одного возраста, все молодые и крепкие и посажены по сортам. Деревья с зелеными плодами, одно за другим, деревья с красными, розовыми желтыми яблоками. Рядами. Под яблонями — ящики, в которые укладывались яблоки. Яблоки собирали небольшие бригады с лестницами. Куда-то отправят эти ящики? И все холмы, и весь воздух был напоен ароматом яблок. Я подобрала спелое яблоко с земли и дала своему коню — ему понравилось, он долго откусывал и хрустел яблоком. А губы у коня мягкие и теплые и осторожные. В Промсельхозе появилось и расположилось до осени кавалерийское подразделение. На великолепных лошадях. Кавалеристы были кавказского происхождения, — эмигранты, оставившие Россию во время гражданской войны. Фамилии многих кавалеристов были очень звонкие, известные, княжеские. Все они были образованными, воспитанными людьми с прекрасной внешностью, и все говорили на чистейшем русском языке. У нас сразу установились очень теплые дружеские отношения, отеческие с их стороны. Они тоже, как и моя милая бухгалтерша, удивлялись, каким образом я оказалась в Промсельхозе, одна, переводчицей у такого «неотесанного фельдфебеля». Бедный Вааг. Вот они-то и одолжили мне прекрасное седло. Французское. Возглавлял это небольшое подразделение полковник О., пожилой князь. Может быть, он не был пожилым, но его усы и кудри были с сильной проседью. Я рассказала ему, что перед самой войной ходила в Эрмитаж, где слушала лекции о живописи, которые читал академик Орбели, — это оказался его родственник! Они до революции были владетельные князья, и полковник вступил в ряды немецкой армии, чтобы попасть «еще раз, последний раз в жизни» на любимый им Кавказ, где он провел свое детство и юность, учился же он в Петербурге. Он совершенно не верил и не допускал мысли о победе немцев и спокойно говорил: этого не будет… Его подразделение несло вспомогательную роль, в боях их на конях не употребляли. И в бой они не стремились. О. показал мне книгу, подобранную им на полу конюшни, куда были выброшены все книги из красного уголка клуба. Книга, изданная до войны о кавказском деятеле, с большим портретом на суперобложке — портретом его отца, связь с которым порвалась после революции, — он даже не знал, что его отец был жив еще многие годы после Октября. Книгу он, как реликвию, собирался привезти в свою Францию семье. Мы много времени проводили вместе после моей службы в разговорах на русские темы на скамеечке перед конюшней. (По-моему, они и жили там, около коней — я их всегда видела входящими и выходящими только через ворота конюшни и больше нигде.) Кавалеристы рассказывали мне о жизни во Франции, но больше старались расспрашивать меня о жизни в Ленинграде (Петербурге). И учили меня правильным приемам верховой езды, тут же, на маленькой пыльной площади перед конюшней. Теперь я не уставала так, как в начале, и могла ездить с Ваагом в более Отдаленные совхозы и в Ессентуки, к маме на несколько часов, раз в неделю, но всегда в сопровождении Ваага, он никуда не пускал меня одну, опасаясь партизанских нападений: на Украине он пережил несколько раз налеты партизан на вверенные ему хозяйства, которые он восстанавливал и которыми руководил. Родители тем временем переехали из казачьей станицы в город, сняли большую комнату в каменном доме у хозяйки. Зять хозяйки был бывший красноармеец. Пленных красноармейцев — жителей занятых немцами областей немцы часто отпускали домой из-за колючей проволоки, чтоб они возвращались в свои деревни — работать. Но для этого нужно было сдаться в плен без оружия в руках. Армии же и подразделения и отдельные солдаты, захваченные с оружием в руках, отправлялись за колючую проволоку под охраной вооруженных немцев, чаще всего в лагерь под открытым небом; их не кормили и не поили — многие-многие тысячи были обречены на смерть от голода, болезней. Их даже никто не использовал на работы — их жребий был умирать. Местное население пыталось помочь — бросали за проволоку хлеб. Но немцы по ним стреляли. В этом же доме, что и родители, снял комнату Базаров с Ритой. Мы, завоеванные русские, во время оккупации старались держаться ближе друг к другу. Все время встречались и без конца решали «русский вопрос». И ничего решить не могли. Во флигеле двора жила хозяйка дома с дочерью и ее мужем, который, как нам сообщили, дезертировал из армии, отъелся до необыкновенной толщины и занимался спекуляцией; у него в закутке на дворе рос и тоже жирел украденный им (все соседи утверждали, что непременно украденный, а не купленный) — поросенок. Поросенок рос не по дням, а по часам, превращался в большую свинью и громко хрюкал — как раз под окном Базарова, что его сердило. Окна нашей комнаты выходили на улицу. Коня своего во время поездок в Ессентуки я привязывала к дереву перед окнами и проводила с мамой (и папой, когда он возвращался из управы) несколько часов, пока Вааг ездил в комендатуру и по своим делам. Вааг всегда привозил маме из Промсельхоза продукты — капусту и помидоры. С помощью хозяйки мама засолила капусты, помидоров и сделала некоторые запасы на зиму. Все запасы оставили хозяйке, когда мы уехали. Я собиралась вскоре уйти со службы в Промсельхозе — кончалось лето, приближалась осень с дождями. Бухгалтерша меня предупреждала, что осень в горах — страшная, месяцами все тонет в грязи. Бухгалтерша познакомила меня с бывшим (до захвата Кавказа) директором Промсельхоза. Это был высокий старик с сухим орлиным профилем и пушистыми усами. Все годы после революции он скрывал, что он князь. Ходил князь в широкой черной длинной накидке и большом берете, как на ренессансных портретах, и выглядел испанским грандом. У его семьи были большие семейные угодья на Северном Кавказе, где-то вблизи Промсельхоза. Он никогда не хотел эмигрировать — говорил, что готов был работать просто пахарем, свинопасом, кем угодно — только бы жить на этой родной ему земле. Он теперь, при немцах, пошел в немецкую комендатуру, открыл свое происхождение и просил восстановить его директором совхоза. Но ему не поверили: как правило, люди корыстные не верят бескорыстию, они назначили во главу Промсельхоза хитрого Спивака, заискивающего перед немцами и обкрадывающего совхоз. А князь умел быть хозяином: я видела, как было все прекрасно поставлено, это было без преувеличений до войны образцовое хозяйство. В наших откровенных разговорах с бухгалтершей и князем я в большом беспокойстве за него очень советовала ему не открывать русским и местным жителям своего происхождения, ибо немцы недолговечны, и ему следует свою биографию сохранить чистой, в ожидании возвращения своих. Как я ему мысленно желала возможности возвращения в Промсельхоз и еще долгой работы на своей, любимой им, кавказской земле. С моей милой Катей Данилевич я очень редко виделась теперь, лишь иногда успевала заехать к ним ненадолго, пока Вааг занимался своими делами, к великой радости младшей сестры — Нюты, очень блестящей, всегда сияющей девочки, с которой у меня установилась трогательная дружба. Ей очень нравилось, что я езжу к ним через весь город верхом — всем на удивление и что немцы дали мне очень романтичное имя Die schone Reiterin. Катя рассказала, что Шааку удалось отстоять институт и что он вскоре открывается для дальнейших занятий под новым именем: 1-й Петербургский медицинский институт. Профессора Шаака назначили директором института. Он продолжает оперировать и, собрав всех студентов и преподавателей и наняв местных врачей для практических занятий со старшекурсниками, приготовил институт к открытию.ОТКРЫТИЕ 1-ГО ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА
Официально институт открывался в октябре, это было началом первого зимнего семестра. На расширенном семейном совете вместе с Данилевичами было решено, что мы с Катей снимем в Кисловодске комнату (на двоих) с правом пользования кухней и будем ходить из Ессентуков в Кисловодск и обратно — пешком. В воскресенье вечером — в Кисловодск, в следующую субботу — обратно. Расстояние между городами, приблизительно 15 км, мы в дальнейшем покрывали в четыре часа быстрого хода (за плечами у нас были рюкзаки с продуктами) от дома до Кисловодска, и в три часа из Кисловодска — домой (с пустыми рюкзаками) налегке. Катя побывала в институте, зарегистрировала нас обеих и сняла недорогую комнату у хозяйки — стареющей красивой дамы, которая зарабатывала на жизнь раскрашиванием анилиновыми красками фотографий, очень ярко. Работу ей доставлял местный фотограф, для которого она еще до войны работала. Раньше на карточках располагалась сверху яркая раскрашенная лента с надписью «Привет из Кисловодска», теперь «без привета» с фотографий смотрели лица и личики населения Германии с ярким анилиновым русским румянцем. Дом хозяйки был расположен на склоне скалы, со множеством очень крутых, почти вертикальных каменных ступенек с улицы, прямо к ее входной двери. Из кухни дверь выходила на крошечный дворик, расположенный на таком же крошечном плато, на котором в уголке, под тенью скалы примостился маленький флигелек, почти вросший в скалу. С улицы никто бы не догадался, что скала охраняет не видимое ниоткуда, только из двери дома нашей хозяйки, жилище. В нем жила с маленьким ребенком очень редко появлявшаяся во дворике и никогда не спускавшаяся в город, таясь, жена секретаря коммунистической партии города Кисловодска. Он, конечно, бежал перед немецким нашествием второпях, не смог взять с собою жену с младенцем. Наша хозяйка ее устроила очень удобно во флигеле, покупала ей запасы еды и, усмехаясь, говорила нам, что она на этом хорошо выиграет, когда немцы уйдут, а если останутся, то она ее прокормит своей работой (и мальчика, конечно), сейчас ей даже удобно и приятно: жена секретаря вечерами, уложив ребенка, приходит к ней и, такая прекрасная компаньонка, разговаривает и читает вслух и сообщает сведения «с другой стороны» — эти сведения ей передают по партизанской линии. Иногда появлялись какие-то женщины с корзинками, очевидно, связные. Вечером в домике под скалой никогда не зажигался свет, выглядел он из двери дома хозяйки пустым и заброшенным. Заказчики-немцы или просто знакомые немцы, если такие были у нашей хозяйки, никогда в ее доме не появлялись. И вообще к ней никто никогда не заходил. Когда мы сняли комнату, она нам с Катей сказала, что не позволит нам принимать немецких друзей. Мы очень удивились, не знали обидеться ли нам, но просто ей сказали, что у нас нет немецких друзей. Хозяйка очень честно охраняла покой политической дамы. И то, что она рассказала нам про жительницу флигелька — не предательство, а прямой расчет: если б мы не знали тайны, мы могли бы в случайном разговоре проболтаться, а доверенную нам тайну мы, конечно, хранили свято. На половине нашей хозяйки неожиданно и к великому нашему смущению поселился наш бывший учитель физкультуры в институте в Ленинграде. Я его помню чуть не с детства — он был физкультурником в нашей школе, потом в институте, потом он неожиданно решил поступить на первый курс нашего института, задумав сделаться врачом! Но тут его забрали во флот, и он приходил в своей морской форме в институт — прощаться — и всем подолгу жал и мял руки. Он был молод, хорош собою, невероятно мускулист и влюбчив. И теперь он появился у хозяйки, в штатском, сильно раздобревший, нам было с Катей неловко, ему — тоже. Путь на половину хозяйки шел через нашу проходную комнату, и они оба до ночи бегали на кухню и обратно. Мы с Катей ложились спать в темноте и старались до вечера заниматься в институтских помещениях, чтоб поменьше бывать дома. Наш физкультурник очень отравлял нашу жизнь! Горько и громко рыдала наша хозяйка, когда при приближении советских войск физкультурник ушел к партизанам, где он должен был ждать освобождения, прощения и поощрения. Тем временем моя полуторамесячная служба в Промсельхозе благополучно подходила к концу. Вернула седло моим кавказским друзьям. Людвиг Вааг очень огорчился, что я покидаю Промсельхоз, но утешался тем, что будет в Германии рассказывать своим друзьям, что его переводчица будет доктором! В виде благодарности за мою кратковременную службу он взялся отвезти нас с Катей с нашим багажом в Кисловодск, все на той же скрипучей телеге и на той же рыженькой рабочей лошадке. Вааг перед нашим отъездом в Кисловодск прощался с мамой, он долго тряс ей руку, благодарил за доверие, произнес очень прочувственную речь и сам растрогался до слез. Когда я много лет спустя спрашивала маму, как она могла быть такой неосторожной и послать меня одну с неизвестным немецким фельдфебелем за тридевять земель, мама всегда вспоминала речь Ваага: «Вааг так меня благодарил — видишь, я была права, что послала тебя работать в Промсельхоз! Очевидно, небо было ко мне милостиво…» А сестра вернулась со своей службы домой через две недели — ее старый шеф с насупленными бровями начал за ней очень упорно «ухаживать» и, когда она отстранила его старания, он рассчитал ее. Пока я собиралась и переезжала в Кисловодск, сестра нашла себе новую службу — в хозяйственном учреждении, очень большом, имевшем дело с починкой немецкого транспорта и находящемся в самом городе. Теперь сестра могла жить дома, что было очень успокоительно. В учреждении сестры работало много русских. Во главе стоял лейтенант Макс Хальбшефель — спокойный молодой человек лет тридцати с небольшим, хороший музыкант и любитель классической музыки. Сестра служила у его фельдфебеля, крикливого, веснушчатого Вилли, довольно грубоватого, но незлого немца, в больших широких сапогах, как у всех солдат, которыми он неистово топал, если мотор починенного им автомобиля не заводился. В ведомство этого учреждения входил также кожевенный завод, который при немцах опять заработал. Немецкие офицеры заказывали там себе сапоги по своей, немецкой, колодке, очень не похожие на наши — пятка была у сапога высокая, неподвижная, как протез. Сестра иногда ездила на завод — переводить. Я тоже там раз была с Ваагом для перевода, но неудачно: от запаха моченых шкур, влажной кожи мне сделалось нехорошо и я, чтоб не заболеть, сбежала. Вааг предложил мне заказать для меня на заводе, сапожки, но я отказалась — я очень строго держалась в рамках службы и заработной платы, которую я всю отдавала маме, и никогда не пользовалась никакими «возможностями», которые мне открывались довольно часто. Я не помню, сколько мне платили, но знаю, что весьма скромно. Лида К., папина аспирантка, поступила на службу в бюро труда и при ее умении работать очень скоро сделалась начальницей и все дела забрала в свои руки. У нее было много помощниц. Бюро труда регистрировало желающих работать, а их было много — нужно было жить, кормить семью, особенно туго приходилось неместному населению — без службы и заработка они не могли существовать. Меня, как и раньше, не покидало чувство временности всего происходящего — как будто пришли в театр, скоро представление закончится и наступят будни. И все, что происходило, я непроизвольно рассматривала с точки зрения этих буден. Мне казалось, что стоять во главе Бюро труда очень опасно. И хотя Лида делала для населения города доброе и хорошее дело, но с точки зрения этих буден (с точки зрения коммунистов) — это была смертельно опасная работа: она вела работу по созиданию жизни, устроению жизни, а не разрушению ее. «Устраивать» жизнь без коммунизма — преступление! Арифметика простая — советская: погубить одного немца и с ним сто русских — это героический поступок, это хорошо. А не погубить одного немца, а устроить и прокормить сто русских — это предательство, это плохо. И мне было страшно за Лиду, страшно думать, что будет потом! Ее подруга Анна нигде не работала и вела очень уединенную, замкнутую жизнь. Анна решила себя ничем не компрометировать. Ее кормила Лида. Моя служба в совхозе — смертный приговор. Помощь врагу восстановить хозяйство! Что восстановленное хозяйство давало заработок и жизнь своим — это просто не аргумент. Существовала только первая часть правды. Мы знали, что до возвращения наших нужно уходить на запад. Вскоре после вступления в Пятигорск немецких войск у нас появились Каменские — тетя Вера, Александр Павлович и Олеся. У А.П. в паспорте стояло, что он русский. Во время последней паспортизации каждый взрослый мог ответить (имел право выбора) на вопрос о национальности и вероисповедании то, что он считал для себя правильным. Многие евреи, особенно преподававшие в университетах, писали в графе национальность — русский. А.П. тоже написал — русский, Олеся — тоже. И хотя их внешность была ярко еврейская, особенно у Олеси, их не тронули в Пятигорске, а у красивой тети Веры — в паспорте было написано, что она — еврейка, и ей пришлось надеть желтую звезду и ее отправили на работу. Каменские решили бежать к нам и искать помощи. И приехали. Мама с помощью хозяйки нашла для Каменских комнату, совсем изолированную, с отдельным входом, на той же улице, на которой жили мы. На общем совете с Каменскими решили, что тетя Вера (папа очень на этом настаивал) не должна поступать ни на какие службы. Хотя немцы документов не спрашивают — всему верят на слово, но есть еще местное население — вдруг кто-нибудь что-нибудь сболтнет. Лучше перестраховаться. Папа предложил устроиться А. П. в управу — он осторожный человек, паспорт у него в порядке, а если его внешность вызовет подозрение, он может говорить, что он караим — оседлый кавказский еврей, их Гестапо не трогало. Каменский охотно согласился работать в Русской управе. Олесю решили устроить в Бюро труда. Сестра должна была отвести Олесю к Лиде и устроить ее на работу клерком под началом (и защитой) Лиды. Это было небезопасно: по немецким законам помощь и сокрытие евреев карались очень строго. Но несмотря на немецкие законы, все помогали — и никто никого не выдавал. Сестра с некоторым беспокойством повела Олесю в Бюро труда, но все обошлось благополучно — Олесю приняли, хотя некоторые служащие упрекнули сестру, что она привела девицу с такой типичной внешностью — ей следовало подыскать более тихое место, где ее не будут замечать, а здесь каждый день проходят десятки людей, особенно много местного населения, ищущего работы, и немцев, ищущих служащих для разных предприятий. Олеся такая заметная — к ней могут придраться. К сожалению, и Олеся не была тихой девочкой. Не могла сдержаться и вела себя несколько вызывающе: со всеми русскими была отрывиста и неприятна, а с немцами дерзка и заносчива и все время делала им замечания: в ней был дух разрушения себя и ненависти ко всему, что спокойно живет. Служащие понимали ее состояние, жалели ее, терпели все ее выходки, старались помочь ласковым словом, но Олеся не успокаивалась. Тетя Вера сказала маме: «Только теперь я поняла, что Советский Союз — моя страна». Только теперь? А что же было раньше? Каменские замкнуто и благополучно жили в Ессентуках около нас, общаясь только с нами, и с ними при немцах ничего плохого не случилось. Что их ждало при возвращении советских войск, мне узнать не удалось. Мы очень редко, только в начале оккупации, видели жену Романовского и мальчиков. Они переехали жить на окраину — никогда не появляясь в городе. И никого к себе не приглашали, адреса не сообщали. Через сестру ее мы знали, что они не терпят недостатка и благополучны. Очевидно, Романовский, отступая, дал им наказ, никак и ничем себя не компрометировать. И Романовская ни с кем не общалась. Связь ее с внешним миром происходила через сестру Зою, с которой мы продолжали дружить. Сестра Зоя, конечно, не могла не служить — ее ежемесячное пособие за мужа, офицера Красной Армии, теперь прекратилось, и на ее руках было трое Романовских. Она нашла себе место на кухне немецкого ресторана (Люба помогла) и была вполне довольна — очень пополнела и носила своим трем иждивенцам каждый день обеды. Они, конечно, остались ждать своих после отступления немцев. В одном из экономических журналов, издаваемых в Советском Союзе, папа, уже в Америке, увидел статью за подписью Романовского. Надеюсь, что вся семья благополучно соединилась. Храню о них добрую память. Когда я кончила служить в Промсельхозе, поступила обратно в институт и жила с Катей в Кисловодске, я близко познакомилась со всей ее семьей, с которой я часто, возвращаясь в Ессентуки, проводила воскресные дни. Только старшей сестры не бывало дома: она еще до немецкой оккупации служила в Кисловодске. Какая это была прелестная дружная семья — культурная, великодушная. Они жили в маленьком белом домике дачного типа с застекленной верандой, на которой в солнечные дни полулежала мать Кати (биолог), она всегда была нездорова — с тонким умным лицом, мягкими печальными глазами, приветливая и ласковая. Все они: и старый доктор, и все дочери (может быть Катя, исключение, духовно она походила на мать) были вполне современными, здоровыми, веселыми, но все — мягкими. А мать никак не вписывалась в жизнь Советской России середины двадцатого века. Как будто ее прибило к нам из века прошлого, когда молодые женщины шли учиться на Высшие женские курсы, получали образование и бескорыстно и преданно служили народу, своей стране, оставаясь женственными, мягкими и приветливыми при любых испытаниях. И разговоры с нею были всегда интересны. Что бы она ни говорила, было всегда обобщенно, говорилось не торопясь — не путаясь в мелочах. Разговоры с нею меня всегда облагораживали, и я тоже начинала думать без осуждения, стараясь понять причины происходящих и происходивших событий. Катя всегда участвовала в разговорах, и глаза ее были полны ласковости и глубокой привязанности, когда она смотрела на мать. Дочери ее называли всегда мамочка, даже заочно. Две младшие дочери Данилевичей были веселые, румяные, очень милые; у самой младшей, Нюты, с очень тонким личиком, был живой ум, яркое воображение и узкие, как у отца, чуть татарские глаза. Она весело рассказывала, как сестры закапывали в землю под кустом в саду свои комсомольские билеты и сверху, чтоб не забыть, поставили маленький, деревянный крест. Похоронили… Мы обжились с Катей в Кисловодске. Очень привыкли к жизни вдвоем в комнате дома с крутыми каменными ступенями. Возвращались с занятий поздно. На кухне был всегда страшный беспорядок — все было заставлено банками, бутылками, кастрюлями, мытыми и немытыми. На столе, на стульях, на полках, на плите — везде что-то стояло, сохло, тухло. Мы решили с Катей не стряпать: есть утром и вечером простоквашу с хлебом и только днем, в какой-нибудь столовой горячее. Мы так и поступали: рано утром по очереди бегали на базар за ряженкой и хлебом, чтоб позавтракать перед занятиями. Как работал институт финансово, я не знала. Мы так привыкли, что государство все оплачивает, что по молодости не задумывались, как же теперь, без государства работает большой институт? Быть может, профессор Шаак, теперь директор института, получил от немцев какие-нибудь субсидии? Если да, то этим Шаак подписал себе смертный приговор — такого наши ему не простят! Так или иначе, но институт действовал. Читались лекции, студенты приходили на занятия и в клиники. Катя ходила на операции — оперировал Шаак. Для группы, в которую зачислили меня, хирургия была предметом следующего семестра. У нас было много часов микробиологии, лекции профессора Космодамианского. Во время лекции он рассказывал, забывшись, о своих студенческих годах в Германии, о приезде опять в Германию уже врачом из Петербурга, о жизни в Германии, о ее городах. Мне было за него страшно: столько лет хранил он в тайне свои секреты — простые и милые, полные человеческого тепла. А для нашей власти это была связь с заграницей, за которую жестоко карали. Космодамианский, почувствовав свободу, стал воспоминаниями делиться с нами, на лекции. В его возрасте он знал и помнил, что такое свобода: и думать, и чувствовать, и говорить все что думается — и легко вернулся к простому человеческому бытию, оно-то и было для него нормальным. А для нас, никогда не испытавших ни на людях, ни в школе, ни в институте этого чувства свободы (живу как понимаю, без оглядки на «не пришили бы мне статью» за то, что я думаю так, а не иначе), всегда на людях бывших осторожными и начеку, это было пугающе новым! Наш заботливый декан сохранил и спас, записав опять в институт, всех студентов-евреев. Мы очень за это стали его не только любить, но и почитать. Очень радовалась за приятельницу покойного Юли Венделя — Мусю Хайкину, у нее была очень заметная внешность, но декан ей фамилию переделал и спас ее этим. Катина группа занималась практикой в клиниках. Целыми днями она теперь пропадала в больнице. Присутствовала на операциях, при обходе больных и раненых и возвращалась в нашу комнату с сияющими глазами, восхищенная, радостная и с порога начинала рассказывать об интересных случаях и событиях дня. Моя группа должна была начать клинику за неимением мест в больнице только в январе. Ходили пока на лекции, пытались записывать все, что читалось, книг и учебников не было. Никто нас не пугал предстоящими экзаменами — о них просто никто не думал. Практические занятия были не на высоте. Помню, на занятиях по патологической терапии молодая самоуверенная местная докторша должна была демонстрировать опыт с перевязыванием сосудов на собаке. Все было готово для операции. Помощники докторши в белых халатах и колпачках на голове ждали. Служитель привел в зал веселую собаку с высунутым розовым языком, белую с черными пятнами, хвост кренделем. Она сама вскочила на стол и, пока докторша объясняла суть операции, смотрела на нее, на нас и помахивала хвостом. Потом ей дали наркоз и, когда она успокоилась, началась операция: докторша что-то резала, что-то тянула, что-то зашивала и все приговаривала — объясняла, что и для чего она делает. Потом закончила, но мы только смотрели на белого барбоса и плохо слушали. А он все не просыпался. Докторша его потихоньку подталкивала, потом стала трясти — пес не просыпался. Ее охватило беспокойство — служитель вдруг громко и грубо сказал ей «на ты»: «Не тряси — не видишь, штоль, что он сдох!» Мы все молча ушли домой — так жалко было веселого пса и так стыдно и больно за невежественность докторши. После первой недели нашей жизни в Кисловодске мы с Катей шли домой пешком с рюкзаками за спиной. Шли по тропиночке, вдоль единственного шоссе, соединяющего Кисловодск и Ессентуки. Наступила холодная ветреная осень. Тропинка то поднималась к шоссе, то спускалась к Подкумку. Мы вышли сразу после занятий, но когда стали приближаться к Ессентукам — измученные, со стертыми ногами — наступила ночь. Семейства наши не спали, очень беспокоились о нас — все может случиться в военное время на длинном пути. Мы знали, что если б мы шли не по тропинке, а по самому шоссе, мы бы скорее дошли до дома и идти было бы легче. Но мы пока не рисковали пользоваться шоссе — мы чувствовали себя более защищенными на тропинке среди кустов и деревьев. Осень становилась все холоднее, в парке уже давно никто не занимался, было пусто и ветер мел по аллее сухие листья. И в квартире у хозяйки было тоже холодно — она топить не собиралась. Во вновь открытых кафе и столовых было полно народу. В некоторых столовых-ресторанах, более дорогих, играла музыка: когда мы проходили мимо, из отворяющихся дверей слышны были звуки вальса и кто-то пел гортанным голосом. Везде было много немцев — и на улицах, и в кафе. У немцев были, конечно, свои рестораны, в наших бывших отелях-санаториях, где они жили, но они любили смешиваться с местным населением, разговаривать, знакомиться — очевидно, далеко от своей страны, в войне, они стремились к иллюзии мирной жизни. Мы с Катей иногда между лекциями заходили в кафе — выпить кофе с булочкой, на большее у нас не было ресурсов, и согреться. Раз, когда мы уже выпили кофе, проглотили булочку, но все еще не уходили — было так тепло, к нашему столику подошел официант и протянул мне подносик, на котором лежал сложенный лист бумаги, и сказал, что это мне письмо. Мы с Катей удивились и не поняли — какое письмо? Откуда? И без конверта? А лакей сладко заулыбался: «От немецкого офицера — он просит разрешения с Вами познакомиться». И, правда, издали стала кланяться нам довольно красивая фигура немца с усиками. Мы с Катей, метнув на него сердитые и, наверное, испуганные взгляды, снялись с места и помчались к выходу. И потом еще долго бежали, оглядываясь. А, успокоившись, смеялись над западноевропейской «дикостью». Но в кафе мы больше не ходили, да к тому времени и денег больше не было на излишества, и мы жили на ряженке, хлебе и еде, которую несли в рюкзаках из дома, как правило, винегрет из овощей Промсельхоза. Часто на улицах слышала, что нам вслед местные жители довольно громко говорили: «Переводчицы». Для них все, кто одет по-столичному, переводчик. Пока это говорилось без злобы, без зависти, без угрозы. Психология людей не сразу меняется. В первые же дни немецкой оккупации местное население забегало в немецкую комендатуру с доносами (письменными) на тех, кому они хотели досадить (чаще на коммунистов). Но немцы к удивлению доносчиков не принимали доносов, как то делали наши советские органы, и возмущенно, часто с криком, выгоняли их. И постепенно доносы прекратились. Когда приехало Гестапо, тогда, может, их доносы бы и брали, но тогда уж никто не лез доносить. Очень было стыдно знать, что немцы видели, как русские на русских доносят. Но было страшно подумать, как местное население будет мстить ленинградцам, когда советские войска займут Кавказ и другие оккупированные немцами территории и начнется над всеми нами расправа! Папа, конечно, прав — оставаться нельзя. В Ессентуках жизнь была более спокойной и провинциальной, чем в Кисловодске: немцев было гораздо меньше, наверное потому, что не было таких огромных, как в Кисловодске, отелей и санаториев, расположенных в живописных горах, над обрывами, в парках с широкими лестницами, удобными подъездами, внутренними дворами с клумбами, цветами,экзотическими растениями. Все в Кисловодске было устроено очень красиво и на широкую ноту. Многие санатории — самые большие — построены при советской власти. Было известно все эти годы, что в эти благоустроенные санатории простые смертные люди не попадали, лишь крупные партийные сановники и особо отличившиеся — в награду. И все это теперь занято немцами. По парку снуют немецкие военные. И много немецких женщин в форме служащих воздушного флота, очень элегантно выглядящих. Вся одежда на них, как и на всех военных, очень добротная и хорошо подогнанная. Женщины все в очень тонких заграничных чулках и в прекрасной обуви — начищенной. Меня очень интересовали лица немецких женщин-военных. Как и у мужчин, лица удлиненные, светлокожие, со светлыми глазами. Ненакрашенные губы. И все — очень чисто вымытые. Кожа у всех блестит так, как будто они только что вышли из бани, все на них сверкает чистотой, разглажено, ремни скрипят, обувь новая, скрипит, и, кажется, тронь лицо пальцем — и оно от чистоты заскрипит. Удивительно чистая и аккуратная нация! И хорошо накормленная. Женщины называются Blitzmadel — исполняют секретарскую работу при штабах. Потом мы узнали, что к ним сами немцы относятся не очень с большим уважением, из-за их многочисленных романов, это как бы их вторая специальность. Но к женщинам в форме медицинских сестер Красного Креста совсем иное отношение — им уступают дорогу, с ними вежливо здороваются и отдают им честь. И о них никто плохо не говорит. Живут они не по отдельности, а всегда группой, под начальством старшей сестры, с собственным уставом, порядками, и очень берегут честь формы Красного Креста. Я видела их потом, во время исполнения ими обязанностей сестер: и в госпиталях, и на эвакопунктах, и при кормлении населения Германии в городах сразу после ужаснейших бомбежек английскими и американскими бомбардировщиками. И всегда они вежливы, быстры, приветливы, всегда чисто вымыты, когда все кругом почернели от пожаров и пыли взрывов, в разглаженных чистых белых накрахмаленных передниках. И работают они прекрасно, не за страх, а за совесть. А теперь мы смотрели на немецких военных, мужчин и женщин, с интересом и не без чувства грусти — они спокойно ходили по нашей земле в своих новых начищенных сапожках и туфельках и даже не смотрели на нас, хозяев завоеванной ими страны, как будто мы — воздух. Кисловодск, в отличие от Ессентуков, жил очень энергичной жизнью: все больше открывалось ресторанов и новых магазинов. Открылся одним из первых магазин ковров. На дверях и окнах — непривычные для глаза надписи и вывески, как из другой жизни, — с именем собственника. Магазин частника! Так было, наверное, во время НЭПа, когда разрешили частную торговлю, когда вдруг стала открываться жизнь, полная богатства, возможностей: заработали фабрики, хлебопекарни, магазины… Потом, когда оправилась экономика страны благодаря частной инициативе, всех частных предпринимателей раздавили и память о них очернили, а на карикатурах изображали хищниками, толстыми на тонких ножках вроде отъевшихся клопов. Мы с Катей пошли посмотреть на первого частника — в магазин ковров; хозяин магазина — армянин. И откуда у него такое количество ковров? Ходили смотреть на вновь открытые антикварные магазины. На окнах-витринах — прекрасные вещи: серебро всех видов и назначений, драгоценные украшения, вазы, очень тонкие, книги в тяжелых кожаных переплетах. Где это все до сих пор хранилось? Наверное, здесь было немало семейных вещей петербуржских семейств, превратившихся в истощенных ленинградских беженцев. После занятий в институте группа наших ленинградских студенток позвала нас с Катей в местную чайную, чтоб спокойно поговорить, посоветоваться по вопросу, их некоторое время занимавшему… В чайной было тепло, парно и очень уютно. Мы пили чай и мирно разговаривали о наших институтских делах. Одна из студенток была мне знакома по Токсово. Она со старшим братом и его женой каждое лето проводила в Токсово на даче и приходила с братом вечерами играть с нами в волейбол. В. разгладила на столике афишку и дала нам прочитать ее: это был призыв к русским молодым людям обоего пола записываться в ряды добровольных рабочих для отправления в Германию: строить великое Германское государство. Листовка была напечатана по-русски с небольшими неправильностями в оборотах речи, несколько неуклюжая листовка. Обещала листовка работу, оплату за работу, удобное жилище, питание и радостное сознание, что помогаешь великой стране. Немцы очень неумело соблазняли — русскому человеку, как бы он не относился к советской власти, не очень-то радостно отдавать свои таланты и силы чужой стране, даже «великой». Мы об этих листовках уже слышали — слухами было полно все, слухи были столь разнообразны, что можно было выбирать любой подходящий под настроение и утешаться им. Мы все слышали, что на оккупированных немцами территориях работоспособное население насильно «вербуют» на работы в Германию. На Кавказе пока население не трогали. В. и ее подруги решили, что раз все равно наступит момент, когда всех будут забирать на работы, то может, лучше будет поехать добровольно и быть «на особых условиях», иметь возможность выбирать службу. Но, конечно, главным было их желание уехать в Европу. Само слово «Европа» таило в себе столько романтики, ласкало слух и волновало сердце. Уехать от нависшей угрозы, возвращения советских войск и неизбежной расправы. Нашим студенткам хотелось любой ценою оказаться в Европе, о которой мне сдается, они судили по фильму «Маленькая мама» и «Катерина» с Франческой Гааль в главной роли, а также чудесному австрийскому фильму «Петер». Многие смотрели в Ленинграде эти фильмы по пятнадцать раз и каждый раз заново наслаждались happy end — счастливейшим концом фильма. Правда, в фильме «Катерина» цензоры грубо отрезали конец — самый восхитительный конец, но мы по оборванной музыке, по повороту головы Катерины и бегу ее возлюбленного за нею, чтоб не опоздать, знали, что не хватает последних аккордов музыки в фильме, не хватает улыбки на засветившемся счастьем лице Катерины и последних скачков влюбленного «буржуазного» молодого человека — и дорисовывали это все красочно в нашем воображении, на посрамление пролетарских цензоров. И в эту Европу наши студентки решили ехать и хотели нас с Катей увлечь в свою авантюру. Но у нас были семейства, мы не были одинокими — и никакие наши индивидуальные мечты не котировались — это было бы не по-семейному, единоличной инициативой, почти эгоизмом. Мы с Катей советовали им не подавать только письменных прошений, пока не станет с очевидностью известно, что всех увезут в Германию, а не бросят где-нибудь на полпути. Или, что тоже опасно, если немцы при отступлении их не возьмут на службу в Германию, а все документы, прошения — бросят и они попадут в советские руки. Это было бы катастрофой. Наши с Катей беспокойства и предупреждения не имели никакого успеха: В. и ее подруги на следующий день подали прошение на отъезд в Германию на работы и, возбужденные, полные надежд, стали ждать приглашения «ехать в Европу». В. и ее подруги не успели уехать в Германию. Немцы поспешно стали собираться отступать и, конечно, меньше всего беспокоились о русских студентках, которых даже в лицо не знали.ПОДГОТОВКА НЕМЦЕВ К ОТСТУПЛЕНИЮ
Приближалась середина декабря 1942 г. Мы с Катей очень много занимались. Немцы готовились к празднованию Рождества, самого их большого праздника и почитаемого. Нам рассказывали, что из Германии им присылали посылки с домашними рождественскими сладкими кулинарными изделиями. Сестра говорила, что каждый немец обязательно в посылке получал зеленую еловую веточку, даже иногда крошечную, с ноготок, но эта была зеленая веточка с родной стороны, перевязанная обязательно красной ленточкой или просто красной ниточкой. Может быть, под елочкой, на которой выросла веточка, сидело или будет сидеть семейство солдата, пребывающего в России на военной службе, и будет петь, вспоминая его немецкие рождественские хоралы, которые и он сам пел в детстве. Мы проходили раз вечером по площади, между санаториями, в которых жили немцы; мы с Катей возвращались с лекции и сделали небольшой крюк, чтоб посмотреть, как выглядит немецкий жилой район перед праздником. Нам с Катей бросилось в глаза, что хоть добротны и элегантны были формы военных, но они не были зимними. На некоторых военных были шинели, на некоторых — не было. Как будто им не холодно. Но не было настоящих теплых зимних шинелей, защищающих их от нашей русской стужи! Окна санаториев освещены, по площади группами и поодиночке быстро, по морозу, шагают немецкие военные, много женщин — все оживленные и почти у всех пакеты в руках — подарки. Наверное, они возвращаются с полевой почты — с приветом из их заботливой страны. Мы, проходя с Катей, видели жизнь чужих нам людей, занятых своими радостями и заботами на чужой стороне (на нашей земле), жизнь, нас не касавшуюся, по-видимому, по-своему счастливую. Все они выглядели довольными людьми, о которых их страна привычно заботится. У них есть их Отечество, которое они беззаветно любят и которое их любит в ответ. Мысли о наших воинах всегда присутствуют в сознании. Наше поколение — все под ружьем. И зимой, в холод, когда мы с улицы стараемся скорее вернуться домой, даже если этот дом временный, согреться, выпить горячего чая, всегда неизживаемое чувство ужаса — за них: а каково же им, затаившимся в напряжении, без сна, в окопах, неделями, без отлучки, без горячего, в снегах, один мороз кругом — и не согреться! Как тяжко быть солдатом! Все, с кем прошло наше детство, все, с кем связана наша юность, все в армии. Или — погибли… Мы с Катей думали и чувствовали — одинаково… И опять овладело мною чувство заброшенности и ненужности, как во время блокады Ленинграда, печаль, что наша живая, теплая одна-единственная жизнь никому не нужна и никого не интересует, и наша привязанность и чувство принадлежности к нашему Отечеству всегда у Отечества под сомнением, и мы должны вечно доказывать, что это так, а не иначе. Дома холодно и неприглядно. Забрались в свои кровати в теплых шапках, носках и рукавицах и из-под одеял долго переговаривались с Катей. Она рассказывала мне о своей любимой нянюшке-кормилице (не она ли и моя кормилица?), рассказывала сказку, любимую ею, которую нянюшка им, детям, на сон грядущий рассказывала, пока они не выросли. Про храбрую собачку Фунтика, пожертвовавшего своею щенячьей жизнью ради спасения жизни детей, и я утыкалась лицом в подушку. Обе мы прятались или черпали силы в милом детстве. Возвращаясь в субботу перед «немецким» Рождеством, утром, в Ессентуки, мы любовались с Катей, идя по шоссе (мы теперь всегда ходили по шоссе — больше не боялись), — кустами, деревьями, веточками, травинками, превратившимися за ночь в сверкающее на солнце ледяное кружево. Никогда не видела такой сказочной прелести: каждый листок, каждая веточка, каждая соломка и былинка превратилась в льдинку, не изменяя своей формы, и вся эта сказочная красота не только сверкала, но и звенела, тонко, мелодично и тоже сказочно. На дорогах не было снега, но все вокруг было ледяное и поющее. Мы с Катей как будто вошли в зимнее царство Андерсена. И мы шли, неторопясь, по этой звенящей дороге к родителям. Нас обогнал большой легковой автомобиль, затормозил и задним ходом быстро спятился обратно и остановился около нас. Дверца распахнулась, и показалось немолодое лицо немецкого генерала, сидевшего на широком переднем сиденье рядом с шофером. Сзади — молодой офицер, очевидно, адъютант. Генерал очень любезно предложил нам место в своем автомобиле и очень оживился, когда мы, отвечая ему, заговорили на хорошем немецком языке. Генерал, очевидно, возвращался после сытного завтрака и приятно проведенного времени: был немного слишком румян и слишком радовался дорожной встрече, но был безукоризненно корректен. Я влезла со своим мешком на переднее сиденье, когда он сдвинулся к шоферу и пригласил меня любезным жестом занять место рядом с ним. Катю он таким же жестом пригласил на заднее сиденье, и мы поехали. Генерал начал задавать мне сначала нелепые вопросы, вроде того: «Чьи солдаты Вам больше нравятся, немецкие или советские?» Я сказала, что «задавая такой вопрос русскому человеку, он рискует получить ответ, могущий огорчить его». Катя ткнула меня в плечо. Еще: «Какая страна Вам больше нравится Германия или Россия?» Я ему: «Германию мы знаем только по книгам Гете, Шиллера, но с тех пор она изменилась, современной Германии мы не знаем. Россию мы знаем тоже по книгам, а живем и знаем СССР и поэтому не можем сравнивать». Меня начали понемногу раздражать его вопросы — мы с Катей были серьезны, вежливы, но потом меня стало «заносить», в ответ на его похвальбу, что нет лучше солдата, чем немецкий, а советский — просто не умеет сражаться и бежит с поля боя, тут уж я и остановиться не могла. Катя еще раз тихонько пихнула меня в плечо, да и перестала. И я стала говорить ему горькую правду о том, почему мы отступали в первой фазе войны и что теперь, наконец, наступает перелом в ходе войны во время борьбы за Сталинград и началось наступление, которое вы, немецкая армия, никогда не остановите: теперь только поднялся глубоко скрытый за годы советской власти дух национального самосознания и остановить армию, объединенную единым чувством, изгоняющую со своей земли вторженцев, показавших только свое захватническое, антирусское лицо, немецкая армия не сможет! Генерал слушал внимательно, не перебивал и сделался серьезным и стал задавать умные вопросы, по существу. Согласился, что вести замечательно выученного немецкого солдата на «захват» других стран, дав ему основанием для расширения немецкой державы только его, немецкое, превосходство, это значит «обокрасть» духовно этого солдата, что в этой тренированной гордости таится погибель и солдата, и Германии. А наши солдаты в это время окрепли за месяцы страшных неудач, и ведут теперь войну освободительную, а потому — священную. Оглянулась на Катю, а она сидит белее снега, шофер-солдат кидал на меня довольно сердитые взгляды, но следил за выражением лица своего генерала. А лицо это делалось все более серьезным и как ни странно отечески сердечным. Генерал стал расспрашивать, откуда мы, кто наши родители и, узнав что мы обе из Петербурга, сделался совсем уютным. Велел шоферу привезти нас к двери родительского дома, помог нам вылезти, вышел сам из автомобиля, пожал нам руки и просил меня передать поклон отцу, г-ну профессору — щелкнул каблуками, поклонился и укатил… Катя сначала корила меня за мою несдержанность, — а потом начала смеяться, и мы долго стояли у порога нашей двери и не могли остановиться — все смеялись. Потом, обещав Кате, что буду теперь очень осторожна в разговорах, я пошла в дом. Папа делался все мрачнее и все менее разговорчивым. Мама нам передала, что папа, предвидя немецкую катастрофу, считает, что нужно уезжать как можно скорее на Запад. Но уезжать — не на чем. Железные дороги не начали работать на Кавказе. Нам говорили, что железные дороги по европейской части России восстановлены и функционируют, вплоть до Ростова-на-Дону, а дальше — и к Сталинграду, и на Кавказ движение идет только на грузовиках и на аэропланах. Партизаны взрывают железнодорожные пути, но немцы их быстро восстанавливают, и поток грузов, военного снаряжения не прерывается. Но даже в Ростове населению (гражданскому) не разрешено пользоваться железной дорогой, все используется только для нужд немецкой армии. Как же уезжать, как спасаться, да еще с багажом. Зима суровая, снежная. Автомобили — только у немцев. В хозяйственном учреждении, в котором служила сестра, ее начальники обещали при отступлении забрать с собою служащих и их семейства. В отступлении немцы не сомневались и об этом не горевали: «Чем скорее будет отступление, тем скорее будем в Германии». Им было куда отступать — домой. А нам — в пугающую неизвестность. От своих — к чужим. Уехать с учреждением ремонта транспорта была наша единственная надежда. Шеф учреждения много раз торжественно обещал вывезти всех служащих, включая кухарок и прислугу учреждения, толстую молодую кривую Феклу. Папу именно это пугало и вызывало недоверие: «Не может отступающая армия связывать себя по рукам и ногам обязательством спасать русское население». Папа ничему не верил и ходил насупившись. А в это время немцы готовились к празднованию своего Рождества 25-го декабря. В доме у Хальбшефеля готовились к празднику, украшали елку, пригласили всех служащих на торжественный вечер. Начальник транспортного учреждения познакомился со своею будущей военной женой Ольгой очень необычно: он проходил по улице Ессентуков и в открытое окно услышал звуки рояля — прекрасное исполнение музыки Шуберта. Он замер, заслушался, а когда кончилась музыка, постучался в дверь и попросил разрешения познакомиться с исполнителем любимого им Шуберта. Увидел исполнителя — и влюбился. У шефа учреждения — прекрасного пианиста и очень спокойного тонкого человека была теперь «военная» жена Ольга, наша знакомая по ленинградской столовой, окончившая ленинградскую Консерваторию, очень интересная молодая дама. Каменская божилась, что она еврейка. Так или иначе, роман был серьезный, Ольга жила в доме Хальбшефеля и вся русская прислуга учреждения служила ей. Ольга тоже подтверждала, что Хальбшефель никого не оставит. И мы верили ее чарам и нашей доброй судьбе. Немцы ходили по городу праздничные и беспечные, с подарками, которые они носили своим дамам сердца. А мы, испуганные и неуверенные, ходили как неприкаянные. Каждый день к нам приходил Данилевич и подолгу совещался с папой. Старшая дочь обещала забрать семью со своим отступающим учреждением. Старых родителей и трех сестер. Доктор не знал на что решиться, очень нервничал и беспокоился о здоровье жены. Катя как-то внутренне замерла и не имела своего мнения, все твердила, что поступит так, как решит папочка. Ее две младшие сестры очень хотели уехать, но на всякий случай пока сложили свои немецкие реликвии — письма и фотографии в мешочек, чтоб закопать в мерзлую землю, если придется остаться. Сам Данилевич склонился к тому, чтобы остаться и не рисковать здоровьем жены и благополучием дочерей, и отчаянно пугался, когда на неофициальных встречах с преподавателями ленинградских институтов преподаватели-коммунисты папиного института (теперь опять переставшие быть испуганно-заискивающими и ставшие самоуверенными и демагогичными — ожившие «хозяева» нашей страны) стали уговаривать папу остаться: «Чего Вы волнуетесь, И. А., что обе Ваши дочери работали переводчиками, вон у Данилевича — четыре дочери-переводчицы, да и то он остается». Что было совершенно неправдой, но, очевидно, таков будет донос. Данилевич опять впадал в сомнение и шел к папе советоваться. Выступления и советы коммунистов укрепляли папино решение — отступать: «Донесут — и на нашей гибели сделают себе карьеру, а на клевете заработают прощение. Только бы успеть выскочить, пока Кавказ не отрезали!» Все ленинградцы были в замешательстве, страхе, сомнениях. Мирная, такая временная, короткая «жизнь под немцами» заканчивалась. Нависла опять угроза войны, ее возвращения, со всеми ее тяготами, и теперь еще — с угрозой расправы! Передышка окончилась. Родители опять стали запаковывать вещи, готовясь к отъезду, который, как мы понимали получше немцев, может быть внезапным. Сходили с Катей в институт, попросили вернуть нам наши документы. Милый наш армянский декан было очень взволнован всем происходящим, сказал, что если есть возможность отступать с немцами на Запад, обязательно отступайте: хуже чем здесь не будет: «Не теряйте возможности к отступлению». Он очень надеялся на Шаака, что, может быть, ему удастся вывезти институт через немцев целиком. Но это не наверняка: «События могут развиваться очень быстро, может быть, не успеем, пользуйтесь любым случаем, чтоб уехать. Быть может, свидимся, когда-нибудь», — и грустно пожал нам руки на прощание. Наша квартирная хозяйка с нами любезно распрощалась. Она (кажется единственная из знакомых) совершенно была спокойна — себя «обеспечила». В последний вечер пребывания в Кисловодске меня пригласила на чай знакомая ленинградская студентка нашего института. Дочь известного профессора, крупнейшего глазного специалиста. Елена просила прийти обязательно, ее отец очень болен, в ужасном состоянии от всей безвыходности своего положения и хочет знать, что думает и что будет делать мой отец в создавшейся ситуации. Мы провели в откровенных разговорах весь вечер. Старый петебуржский доктор, с прекрасной породистой внешностью, сидел в кресле, опираясь на палку, с закутанными в плед ногами и теплой шалью на плечах. С черными прекрасными печальными глазами на тонком в морщинках желтом лице с горбатым носом. Елена отходила от него только, чтоб похлопотать о чае, и сразу возвращалась к нему, поила его, все время держала руку на его плече, на его скрещенных на палке руках, гладила его и вся льнула к нему, а он часто вскидывал на нее глаза с любовью и нежностью. Я все рассказала ему о нас, о папином решении отступать. Единственное утешение, которое я могла ему сказать: что он был уже болен, когда советские войска отступали — его никто не взял в эвакуацию, хотя могли бы присоединить к больным и раненым в госпитале, где работала Елена. Такого большого специалиста, просившего взять его с собою, — бросили. Елена при немцах нигде не служила и ничем себя не скомпрометировала. И на очень осторожный и деликатно поставленный вопрос, не было ли возможности для нашей семьи взять с собою Елену, я ответила, что это делать нельзя: вдвоем они могут спастись, пересидеть трудное время. Разделившись, наверняка погибнут, и если Елена физически спасется (с нами), то всю жизнь будет себя мучить, что оставила отца. И я видела и знала, что Елена не уедет от отца. (А как бы мне хотелось иметь ее сестрою, с ее нежностью, привычкой к доброте, доверию, справедливостью.) Даже советской власти в случае Елены и ее больного отца не к чему прицепиться. Старый доктор немного успокоился, и мы еще долго говорили о войне, о блокаде. Какие это настоящие драгоценные люди! В последний раз мы вернулись с Катей из Кисловодска «домой». Перед немецким Рождеством приходил Людвиг Вааг — прощаться: его из хозяйственных частей (это удовольствие кончилось — не было больше хозяйств) перевели в пехоту, и на другой день он со своею новой частью и винтовкой за спиной отправлялся «по назначению». Он не говорил больше речей, а сидел с мамой (нас никого не было дома) и плакал, оставил ей свой адрес в Германии и «полевой адрес», просил, чтобы я в полдень вышла бы на главную улицу и нашу улицу: чтоб он, проходя мимо с пехотой, издали мог посмотреть на меня — на прощание. Мы все вышли на улицу в назначенное время и постояли у дома. Вдали, стуча сапогами по обледенелой дороге, проходила колонна в серо-зеленых шинелях — серая безликая масса, покидавшая Кавказ. А мы все еще оставались. (Когда мы были в Польше, мама и сестра по доброте написали письмо Baary и сообщили, что мы живы и — где находится семья. Вааг вскоре ответил, писал, что он горько плакал от радости при получении письма мамы с сообщением, что мы на западе. Вааг легко плакал, потому что был добрый, простой и привязчивый человек. Не знаю, писали ли ему мама и сестра в дальнейшем, не знаю вернулся ли он к себе в Германию или сложил свою голову на русской земле…) Пока учреждение готовилось к празднику, мы с папой и мамой сидели дома, очень невеселые. К нам пришли Каменские — и всем нам сделалось тоскливо. Каменские безумно волновались за Олесю. Тетя Вера хранила как зеницу ока свою желтую звезду, которую она носила в Пятигорске на груди. При немцах это была — смерть, а теперь тетя Вера называла свою звезду — «паспорт на право жизни». Много наметившихся между немцами и русскими девушками и местными молодыми женщинами романтических привязанностей было поставлено в связи с возможным немецким отступлением под удар. Участники этих романтических знакомств переживали печальное время. Время прощаний. Даже наша милая соседка — Маргарита, дочь Базарова, пользовалась, несмотря на ее молодость, большим успехом. Молодые немцы называли ее Gratchen и часто вечерами пели ей нежные серенады, стоя на улице. Но так как окна комнаты Базарова выходили на двор, все серенады пелись под нашими окнами первого этажа, выходящими на улицу, и мы бежали за Маргаритой, чтоб она «по праву» могла насладиться пением, сидя в нашей комнате, хотя папа громко и сердито фыркал. Апухтины решили оставаться потому, что не с кем было ехать. А Нина и мать ее, по природе кокетливые, были окружены множеством поклонников, но поклонники разъехались — все их бросили… Мать Нины всем с восторгом рассказывала совсем еще недавно, что ее дочь обручилась с немецким офицером (!) и что жених (почему-то) переехал к ним в их беженскую квартиру и спит в гостиной на (хозяйском) диване в роскошной пижаме и они ему по утрам приносят в постель (диван) горячий кофе: «Он такой интересный в пижаме!» Они показывали фотографию офицера — часть ее была отрезана ножницами, но я усмотрела кусочек женского платья, не совсем отрезанный, очевидно, очередной невесты. Через две недели «интересный жених» со своей пижамой уехал дальше (на другой диван?). Были и трагикомические случаи романтических авантюр. Жила в Ессентуках ленинградская молодая дама. Настоящая Венера со светлыми белеными локонами на красивой голове. Она была так хороша, так великолепна, так голубоглаза, так розово-пышна — глаз не отвести. Незадолго до отступления Красной Армии в Ессентуки к ней приезжал ее муж — тоже большой красивый военный, и они гуляли по парку, красовались, и все ими любовались. А Венера усмехалась, поглядывала на знакомых, поводя плечами: «Вот приехал — глаз не спускает с меня». Через некоторое время, когда немцы заняли Ессентуки, наша русская Венера появилась в том же парке, за ней шел такой же, как она, великолепный голубоглазый высокий офицер в форме войск СС. Венера встречным друзьям, усмехаясь, говорила: «Это мой жених — глаз с меня не спускает» и всем показывала свою пухлую белую руку — на пальце красовалось большое кольцо. с черепом — символом войск СС. Это, конечно, исключение. Немцы очень оценили высокую нравственность и целомудренную строгость русских женщин. Говорили, что видели в Европе женщин разных национальностей, но нигде не встречали такой порядочности и такого скромного поведения. Забегаю вперед в повествовании. Во Львове я раз стояла перед витриной фотоателье и рассматривала выставленные фотографии польских жителей. Много фотографий красивых польских панн. Подошли два немца и тоже стали рассматривать женские лица, и, не обращая на меня внимания, обменивались впечатлениями. Очень лестными для панн. Потом один из них вздохнул: «Но нет ничего достойнее русских женщин — и красивы они, но главное, красивы спокойным целомудрием… добры, но недоступны! Не то, что наши немки…» О немках отзывались небрежно. Я не пожалела, что подслушала их разговор. И еще один, чрезвычайно трогательный случай встречи и привязанности немецкого молодого человека и прелестной русской барышни, дочери преподавателя ленинградского института. Отец был очень больной человек, безнадежно, его нельзя было трогать, когда немцы стали отступать. Молодой лейтенант и дочь больного доктора были очень привлекательной, тихой приятной парой. Молодой человек, Эрик, сделал все, чтоб эвакуировать больного доктора с дочерью, но возможности у него были невелики — он был летчик, не хозяйственник, подчиненный и военный человек. Без отца прелестная его барышня отказалась уезжать. Когда транспорт, с которым мы покидали Ессентуки, выехал из города, на багаже в грузовике лежал Эрик лицом вниз и горько плакал. И на всех остановках и ночлегах в избах, Эрик ложился сразу на пол, клал свою светлую голову на руки — и снова плакал. Через несколько дней Эрика послали на Сталинградский фронт — он с радостным отчаянием поехал на фронт, как будто надеялся, что может отбить Кавказ обратно и вернуть счастливую жизнь.Глава третья
НОВЫЙ 1943 ГОД
Наступил канун Нового года. Мы с папой и мамой втроем посидели вместе, пили чай, разговаривали невесело о том, что может принести нам 1943-й год. На душе было смутно — страшно остаться, но и бежать — тоже страшно. Успеем ли — возьмут ли нас с собой отступающие немцы, не обманут ли; страхи сковывали мысли. Сестра была на встрече Нового года в доме Хальбшефеля. Мы не стали дожидаться двенадцати часов и легли спать. Но сон к нам не шел. Папа вздыхал, я знаю эти тяжелые вздохи папы — признак глубокой тревоги и безысходной тоски, так вздыхал папа в своем кабинете по ночам во время ежовщины; должно быть, половина ленинградцев так вздыхала по ночам. Мама, очевидно, тоже не спала — было слишком тихо в ее углу. И вдруг среди ночи послышалась стрельба. Мы все сорвались с постелей, и папа ужасным голосом воскликнул: «Катастрофа! Бои уже в городе! Мы пропали! Все кончено!» Стрельба все усиливалась — далекая и близкая… Помню, какой ужас придавил меня — жаркий ужас. Теперь и правда — конец! Уже не выскочишь! И сестры дома нет — празднует со своим учреждением. И что празднует! Она же первая погибнет. Зажгли керосиновую лампу. Папа метался по комнате, не знал, что ему делать, бежать ли за сестрой, одеваться ли. Мама сказала каким-то особенно спокойным голосом: «Потуши свет, я постою у окна — посмотрю, что делается на улице». Потушили свет… Стрелять стали меньше… Слышались теперь только отдельные выстрелы. Потом и они заглохли, наступила полная тишина. Мама: «Наверное, были только разведчики, я не слышала звуков танков и артиллерии…» Мы слушали тишину. В это время послышались издали и стали приближаться веселые голоса, кто-то пел, кто-то смеялся, подойдя к нашему дому, веселые голоса стали прощаться по-русски и по-немецки, желали друг другу спокойной ночи и счастливого Нового года! Господи! На пороге комнаты появилась сестра, очень оживленная, и пожелала Нового, счастливого года! Мы были бессловесны. Папа первый очнулся, зажег свет и накинулся на сестру: «В городе стрельба, нас вот-вот захватят, а ты с глупыми немцами празднуешь! Они ж идиоты!» Но папа сразу же успокоился и повеселел, когда сестра сказала, что это немецкий обычай прощаться со старым годом выстрелами в небо из пистолетов и теми же пистолетными выстрелами отмечать приход Нового года. И добавила: «И, кроме того, мы через неделю отступаем с учреждением Хальбшефеля. Берут нас всех со всем багажом. Поедем в крытых грузовиках. Вся прислуга тоже едет. И мы должны быть готовы к этому сроку». Спалось нам в эту новогоднюю ночь прекрасно. Со следующего утра началась упаковка, перепаковка — мы теперь собирались уезжать совершенно серьезно. Утром пошла к милым Данилевичам. Настроение у них было тяжелое: жена доктора больна, ехать никуда не может, да и никто их не берет. Начальник Катиной сестры сказал, что заедет за ней проездом из Кисловодска в своей легковой машине, но заберет только ее с одним чемоданом. Она с красными глазами и с красным носиком мерила комнату большими шагами, куталась в шаль и то восклицала, что решила ехать со своим начальником, то горько плакала сызнова и вздыхала со стоном: «Нет, не могу». Все три сестры смотрели на нее испуганно, а Катя шептала: «Милая, не езди — пропадешь!» Доктор Данилевич ее уговаривал не ехать без семьи: шеф ее — военный, его в любой момент могут отправить на фронт или куда угодно, он же не потащит ее с собой, а оставит где-нибудь в незнакомом месте, в деревне, на полпути — и что же она будет делать одна на всем белом свете? Катина сестра плакала, прислушивалась, не остановится ли автомобиль перед домом, и замирала перед чемоданом у двери. Я пошла домой — помочь было нечем. Катя обещала придти к нам вечером. Вечером к нам пришли доктор Данилевич и Катя. Ее сестра осталась с семьей. Катя — с рюкзаком. У Данилевича в руках — палка. Как посох. Они решили на семейном совете, что Катя и Данилевич будут отступать. Пешком! А три дочери и мать — останутся. Затея была нелепой — идти пешком, от наступающей Советской армии, в суровую и снежную зиму, в январе с небывалыми морозами, без помощи немецких друзей! Второй вариант решения на данилевическом семейном совете — отправить Катю вместе с нами; хоть одну дочь, самую любимую спасти. Какое это было бы для меня счастье. Мы могли это сделать — транспортное учреждение соглашалось взять кроме служащих, их семейств несколько друзей. Но Катя решительно отказалась оставить отца и всю семью. И рассудила логично: «Ни я, ни папа себя ничем не скомпрометировали — и мы сможем защитить младших сестер. Ведь они тоже не скомпрометированы. А старшая до немцев работала в Кисловодске — ее здесь не знают. А мамочка без папы и меня не выживет». Они стояли посреди комнаты в какой-то глубокой растерянности, но очень внимательно слушали папины советы. Мне казалось, что их в душе успокаивают папины слова о том, что разделять семью нельзя. Успокоившись, они выпили чаю и стали обсуждать, как нужно приготовиться к приходу. советских войск. Папа им очень дельно говорил, что нужно и можно сделать, какие документы он им сможет достать через управу, подтверждающие, что они не служили у немцев, что было сущей правдой. А для младших сестер обязательно иметь удостоверение, что они работали санитарками в местной больнице, что тоже сущая правда и т. д. Мы решили оставить им все, что им могло пригодиться, а нам было трудно брать с собою. До нашего отъезда мы носили им вещи, которые на первых порах они могли бы обменять на продукты. И мы и они были уверены, что с приходом советской власти наступит опять голод, поэтому оставили им «обменный фонд». Накануне отъезда ходила к Данилевичам прощаться. На прощание подарила Кате фотоаппарат. Катя легко сможет его обменять на продукты. Было очень грустно последний раз сидеть со всей семьей за чайным столом. Решили, что будем искать друг друга через тетю Маню и их, Данилевичей, квартиру в Ленинграде. Катя вышла со мною на улицу, чтоб попрощаться. Обнялись, и я почти бегом, оторвавшись от нее, стала уходить! Бедная Катя — редкий прелестный человек. Ей — ждать беды, нам — еще бороться, спасаясь от беды. Нам — легче. Жизнь наша с Катей навсегда осталась в памяти, как самое дорогое воспоминание моей ранней молодости. Никогда, ни раньше, ни позднее, не было у меня такого прекрасного, такого верного друга. Мы вечерами или во время спокойных дней, когда не было занятий (и мы не брели пешком с рюкзаками за спиной домой или в Кисловодск), могли с нею обо всем разговаривать — ни одного воспоминания, ни одной мечты не осталось неразделенной. С ней одной я могла говорить об Алике… Я наслаждалась небывалой доселе радостью делиться всем, чем полна была моя душа. И ее умное умение слушать, воспринимать, радоваться и печалиться со мною позволяло мне не только раскрываться, но и делало мои суждения более глубокими. В Кате все было — великодушие, внимание, очарованность жизнью. И ее рассказы, чувства и мысли, сначала робкие, нежные, крепли и делались тоже ясными и сильными и звучат в моем сердце по сей день. Прелестное, умное, женственное, великодушное существо! Всегда буду жалеть, что война оторвала меня от нее и я не смогла больше наслаждаться ее дружбой.ОТЪЕЗД ИЗ ЕССЕНТУКОВ
По улицам уже несколько дней проходили немецкие войска — большими подразделениями. Проезжали военные автомобили и грузовики. Немецкая армия отступала. Вдоль дорог толпами стояло местное население. Молча. С печальными лицами, с испуганными, иногда — со злыми. Никто не переговаривался, никто в толпе ничего не восклицал. Только молча смотрели. Сначала свои бросили, теперь, — чужие. А отвечать за все придется населению. На завтрашнее утро, 7-го января, назначен отъезд учреждения Хальбшефеля. Все вещи с утра перевезли к большим крытым грузовикам и сложили их внутри. К сожалению, нашу семью не поместили вместе: родители ехали на заднем сиденьи легкового автомобиля, на переднем немецкие военные — служащие учреждения. Я вообще никого не знала кроме сестры и Ольги, — ни немцев, ни русских. Сестра ехала в кузове полугрузовичка рыжего Вилли. Я, как Золушка, со всеми русскими служащими, их семействами, кухарками и прислугами, — на вещах. В крытом грузовике. Ехал с нами заведующий хозяйством учреждения — начальник русских служащих. Я этому была рада — он выглядел толковым, спокойным и решительным человеком, и, главное, с ним ехал его пятнадцатилетний сын, которого он хотел увезти подальше от возможного вскоре призыва его в армию. А сам отец выглядел человеком тоже призывного возраста. Жену и дочерей он оставил в какой-то деревне, а сам с сыном решил уходить на запад. Жена Хальбшефеля Ольга ехала в его легковом автомобиле, укутанная в теплые лисьи меха, как всегда, со спокойным, чуть надменным лицом. Прощаться с нами и с отъезжающими пришли близкие друзья. Милая знакомая Эрика, пришли студенты папиного института. Пришла папина аспирантка и ассистентка Лидочка. Все были грустные, и только Лидочка при прощании навсегда не теряла мужества и улыбалась весело, и говорила нам, что нисколько не жалеет, что осталась при немцах. Теперь она все сама посмотрела, увидала простых (не партийных) немцев и всегда будет всем говорить, что это здоровый, воспитанный и добрый народ. «Даже если меня расстреляют, я и то не пожалею, что осталась! И не забуду Ханзика». Наконец наш караван тронулся и спокойно поехал по заснеженной, заледенелой дороге. По обочинам стояли молчаливые местные жители. Кончились дома, не стало больше видно жителей у дорог, кругом — заснеженные горы, заледенелые деревья. Мы все сидели или лежали на багаже и не разговаривали — каждый со своими невеселыми мыслями. Брезент был крепко застегнут сзади грузовика и было очень холодно. Я в маленькую щелку сзади смотрела на дорогу, на следующий грузовик. Было очень грустно одной — с чужими. И было похоже на поездку через Ладожское озеро: я тоже там была одна со студентами — на багаже. Но я знала, что мама — в кабине. А здесь — все в разных машинах. И там тогда — мы были все едины, все были в блокаде, все голодали, все были брошены, все теперь спасались. И была у всех одна надежда — уехать в глубь своей страны, продолжать свою работу, вернуть мир и ускользающую жизнь. Как теперь все иначе — и горько. Мы бежали из своей страны, оставляя милых сердцу друзей, ехали с немцами, которые спешили из русской страны, вставшей им поперек горла, и ехали мы в полную неизвестность. Единственным внутренним для нас оправданием было то, что мы, как и большинство русских не приняли коммунизма, навязанного нам во время Великого Октября людьми, не любившими Россию с ее тысячелетним укладом, темпом, особенностями и эволюцией, желавшими лишь разрушить до основания Россию, а затем пришли и голод, и страдания, и расправы, и безнадежность. Этот мир был не наш мир, а коммунистический мир, не русский мир — и мы его покидали. Какие грустные мысли! Под покачивание грузовика, под шум мотора стала выглядывать в щель между брезентом и вертикальной рамой: ехали мы по маленьким дорогам, очень извилистым и ухабистым, не выезжая на большой тракт. Очевидно, по тракту шел поток военных немецких машин, орудий, танков и т. д. Ехали мы очень медленно, машины скользили по обледенелой дороге. Справа от дороги поднимались круто горы — скалистые и обледенелые, а слева — глубокий обрыв, и где-то внизу извивалась горная незамерзающая речка. Дорога стала спускаться к мосту через речку. И вдруг кто-то, приподняв другую сторону брезента в нашем грузовике, ахнул, и почти одновременно я увидела, как легковой автомобиль, потеряв на льду контроль над управлением, начал криво скользить под гору, прямо под откос, минуя мост. В этом автомобиле на заднем сиденьи находились родители. С похолодевшим сердцем стала ползти через мешки, через пассажиров к задней брезентовой двери грузовика — грузовик остановился. Пока я вылезала, спрыгивала на землю, не надеясь увидеть легковой автомобиль, кто-то крикнул: «Зацепился!» И правда, автомобиль почти висел над обрывом: передние колеса свободно крутились в воздухе, брюхо было на земле, а одно из задних колес наехало на большой придорожный камень, врытый у обочины для безопасности, и он удержал автомобиль от падения в пропасть. Папу и маму осторожно вытащили из автомобиля, сидевших впереди — тоже. Когда родители глянули в обрыв из висевшего над ним автомобиля, они буквально лишились дара речи — и так и стояли, теперь молча, на дороге, пока автомобиль втягивали обратно с помощью грузовика. Легковой автомобиль поставили на дорогу, носом к мосту, в него опять все залезли, включая молчаливых родителей, и караван поехал дальше. Первую ночь провели в избе — все спали на полу в одной комнате, было тесно и тепло. Только Эрик всхлипывал тихонечко, уткнув лицо в сложенные руки. Мы много ночей провели в разных деревеньках, в разных избах. Днем — ехали. Природа несколько изменилась: стало меньше высоких гор, и дорога была более ровной. Но холодная зима не делалась мягче. К счастью для нашего каравана, не было больших снегопадов и дорога была без заносов. Не доезжая до Ростова, в заснеженной деревне прожили три дня. Все разместились очень вольготно по разным избам. В нашей — было довольно чисто и тепло, дверь открывалась из комнаты прямо в хлев, где жевала и пережевывала сено корова, а за ситцевой занавеской, вместе с хозяевами, жил теленок. Немцы поражались русской дикости — теленок в жилой комнате! Но теленку было тепло, он не мог бы выжить в хлеве в такую суровую зиму. На улице стоял трескучий мороз, солнце было зимнее — не грело, но снег на солнце сверкал и избы были с крышами, покрытыми толстым, тоже блестевшим снегом. Из труб поднимались уютные дымки, совсем прямые, уходящие в морозную высь. Деревня походила на кустодиевские картины, и это усиливало чувство, что никакой войны и близко нет. Только на хозяйской половине комнаты велись беспокойные разговоры и виднелись озабоченные лица. Хозяин, уже не молодой, на будущее смотрел пессимистично: «Вот он (немец) уходит, а что с нами будет? Свои не пощадят…» Ни к немцам, ни к нам, людям городского мира, никаких враждебных чувств не было. Хозяин с видимой охотой разговаривал с папой. У него и у всех местных жителей было чувство печали, какой-то обреченности и безвыходности. Было и нам очень грустно. Х. и Ольга заняли отдельную избу, хозяйка им стряпала, стирала эти три дня (за все это ведь ей придется расплачиваться). Ольгас каким-то невероятным чутьем разнюхивала, кто и где продает продукты, шла в эту избу и покупала все, что ей было нужно, причем ужасно торговалась. Она говорила, что если не торговаться и хитро; и крикливо, то нет для нее никакого удовольствия в покупке (может тетя Вера и права насчет Ольги?). Наконец, через три дня мы двинулись дальше. Мы уж были не так и далеко от Ростова, и папа начинал опять нервничать и клясть немцев на все корки, «что они засели в деревне, и дождутся таки, что Кавказ отрежут и все по их глупости погибнут». Ехали к Ростову без особенных приключений, лишь мороз донимал и было щемящее чувство поездки в никуда. Иногда по утрам нельзя было от холода завести промерзший мотор какой-нибудь машины — весь наш караван ждал, а рыжий Вилли топал в ярости сапожищами и ужасно орал. Солдаты бежали в избу, за горячей водой, чтоб разогреть мотор. Утром, подъезжая к Ростову, увидела вдали над долиной, по которой шла дорога, в морозной розовой дымке, на высоком плато — город и возвышавшийся над ним, почти над обрывом плато, к нам лицом, озаренный лучами рассвета, но окутанный бледным морозным облаком, огромный храм с поблескивающим золотым куполом. И хотя расстояние было дальнее и храм казался легким и бестелесным, он был центром всего ландшафта, притягивал взор и доминировал над городом. И, казалось, зазвони его колокола, благовест потек бы по всей земле и был бы слышен на краю света. Мы проехали, минуя город, на товарную станцию Ростова. На путях стояли товарные вагоны, и около них копошились люди: и военные немцы, и штатские. Составы на запасных путях, стоили без паровозов. Это были, главным образом, платформы, нагруженные чем попало, все вперемешку: тут были и орудия под брезентом, около них, сбоку — деревянные ящики разных форм и размеров. Некоторые платформы выглядели как крепость — по краям платформы вертикально стояли двери — разного цвета и размеров, одна подле другой, как забор, крепко сбитые досками и обтянутые для крепости проволокой. А в середине — горы ящиков, громадные мешки. На одной из платформ среди ящиков стоил, привязанный к платформе, легковой автомобиль, немецкий, очень элегантный (вот уж, правда, как из заграничного фильма). И в нем сидел за рулем тоже довольно элегантный офицер. Выглядело это почти смешно. Позднее, в пути, мы познакомились, оказалось, что он привез (тоже по железной дороге) свой автомобиль в Россию, чтобы после работы ездить осматривать русские окрестности с удобством. Но по нашим дорогам (кроме шоссейных) лучше ездить на крепких военных автомобилях — они хорошо переносят ухабины, рытвины, кочки и их легче вытягивать из нашей непролазной грязи. А теперь хозяин легкового автомобиля вез его к себе обратно в Германию. В составе было кроме платформ несколько товарных (обычных) телячьих вагонов. С этим составом мы должны были отправляться на запад. Учреждению Хальбшефеля отвели телячий вагон, как раз перед платформой с разноцветными дверями. За платформой ехал легковой автомобиль со своим хозяином. Как он мог выдерживать, сидя неподвижно в такой мороз, совершенно непостижимо. Немцы помогли внести в теплушку багаж всех служащих. Я заметила, что своих вещей они не вносили — очевидно, закинут их или на платформы, или в последнюю очередь. Теплушка была точно такая же, как и та, в которой мы ехали из Войбоколы на Кавказ, с буржуйкой в середине. Только не было нар. Голый пол, и как и в той, давнишней теплушке, крошечное оконце под потолком. С горечью подумала — уезжаем в русском телячьем вагоне, маленькое утешение — в Киев. Немцы и мужчины нашей группы отправились искать топливо. Вскоре вернулись с ведром угля и досками, разной величины, обломанными, расщепленными — наверное, вытянули из какого-нибудь разбомбленного дома. Все это сложили у буржуйки — и стали прощаться. Мы очень беспокоились, что случилось и почему они нам раньше ничего не говорили? Они получили приказ присоединиться в Ростове к частям, которые отправляются в Сталинград. Знали об этом уже несколько дней, но не говорили нам, чтоб не волновать нас понапрасну. Они должны были немедленно выступать. Попрощались очень печально. Х. уверил нас, что вагон этот теперь наш и об этом на столе у немецкого диспетчера есть оставленный документ: «Служащие учреждения (название) продолжают путь в вагоне учреждения в Киев». Он, кажется, постарался Ольгу окружить вниманием и после своего отъезда из Ростова. И они ушли, а мы остались одни-одинешеньки, предоставленные самим себе. Ольга рыдала, закрыв лицо меховой муфтой. Все были грустными и обеспокоенными. Мы были рады, что нас везут в Киев. Казалось, что Киев находится почти за краем опасности. Только бы — повезли. К нам в вагон влез (как он сказал, по просьбе немцев, служащих уезжающего на восток учреждения) довольно приятный человек, армянин, в форме войск инженеров Тодта (саперов), средних лет, тепло одетый, с приветливым лицом. Весь он был спокойный, душевный, какой-то надежный. Он ни о чем не беспокоился, делал все и говорил, не торопясь, подавал дельные советы и как-то очень уютно разжег буржуйку. Всем (и папе) он очень понравился и говорил он на отличном русском языке. Он сразу высмотрел Ольгу и устроился около нее, и они стали доверительно разговаривать. У Ольги высохли слезы. Армянин оказался очень добрым и предприимчивым человеком. И в дальнейшем сделал многим добро. Уже наступили сумерки. Мы никуда не уходили из теплушки, кто-то бегал вдоль состава к его голове — паровоза не было. И никакого движения в смысле отъезда не замечалось. Еще стояло несколько составов, груженые платформы и теплушки — с немцами и русскими. Тоже без паровозов. Дверь нашей теплушки отодвинулась, и несколько немецких офицеров заглянули внутрь и спросили, не могли ли мы им позволить поместиться в нашем вагоне. Папа стал думать, а наш армянин сказал папе: «Соглашайтесь, с немцами в вагоне безопаснее». И папа согласился. И немцы с благодарностью влезли в нашу теплушку со своими мешками, сели на них вокруг буржуйки, впрочем не загораживая собою нашу сторону вагона, протягивая к теплу закоченевшие руки. И были очень учтивы с нами. Наступила ночь, зимняя звездная ночь. Теперь уж до следующего дня ни один из составов, вероятно, паровоза не получит. Можно располагаться на ночь, никто никого никуда отправлять не будет. Мы как сидели, так и спать решили, только привалившись к вещам. Немцы были в одной части вагона, мы — в другой, хотя нас было и больше. Я никак не могла заснуть: кривая кухарка навалилась всей своей тяжестью на мои ноги и захрапела очень громко — не пошевелишься; ноги стали затекать; далеко, далеко послышался гул аэропланов. Гул приближался. Немцы, те, что не спали, насторожились и стали в темноте тихо переговариваться, с явным беспокойством. Это были советские бомбардировщики, и они летели бомбить станцию, железнодорожные пути, составы на путях — больше в Ростове нечего было бомбить, город был разрушен. Ночь была ясной — на белом снегу, сверху, конечно, хорошо были видны составы. Началась бомбардировка. Рвались бомбы, казалось совсем рядом, перед теплушкой, по крыше вагона стучали осколки (может быть, и пулеметные очереди) — все гудело, выло, тряслось, ухало. Где-то вдали захлопали немецкие зенитки — без успеха. Где-то разорвалась бомба, действительно совсем близко, вагон сильно содрогнулся, рванулся, но не повалился, кухарка заголосила, кто-то тонко заскулил, было очень страшно — дотянулась до мамы и уткнула голову в ее колени. Несколькими группами прилетали бомбардировщики — кидали бомбы и улетали, чтоб уступить место новым. Но все-таки, хотя и было очень страшно, потому что бомбили именно нас, все-таки впечатление было, что это не грандиозный налет (как было в Ленинграде), когда город бомбили немцы, а так только, чтоб не оставлять в покое отступающих и, если удастся, разрушить железнодорожное полотно. Улетели самолеты и больше не возвращались, и мы все целые, остались, чтоб продолжать прерванную ночь. Вагон наш не пострадал, за исключением некоторых царапин и завязших в досках осколков. Мы их утром не выковыривали, чтоб взять на память. В состав стоящий немного впереди нас на соседних путях попала бомба, расщепила несколько теплушек (пустых) слегка поковеркала платформы. Очевидно, бомбы были маленькие — железнодорожные пути нигде не пострадали. Утром мы тронулись в путь.ПУТЬ ИЗ РОСТОВА-НА-ДОНУ
В вагоне все успокоились. Снаружи — белые заснеженные поля, деревни под снегом и бесконечные белые дали. И мы, и немцы занимались своими делами: читали, спокойно разговаривали под стук колес. С нашими немецкими соседями мы очень скоро познакомились. Старший и по возрасту, и по чину был любезным без навязчивости, вежливым без рисовки и с внешностью барина — медлительного, уверенного, что все его приветливые слова будут встречены с такой же приветливостью. Он много читал, сидя у буржуйки, и давал нам свои книги читать. Очевидно, поехав на войну, он заботился не об оружии, а о том, чтобы ему хватило книг для чтения; у него было два мешка с собою — один был набит книгами. Он распорядился, чтобы его денщик, ехавший с ним и варивший всем им, немцам, обед, увеличил бы порцию обеда и пригласил всех нас, русских, быть участниками этой восхитительной трапезы, состоящей всегда из супа с хлебом. Он попросил маму разливать суп по плошкам и быть во главе стола, которого не было. Мама вытащила из багажа нашу разливательную ложку (тогда еще серебро ехало с нами), и Бишоп (так звали барина) шутил: «Золотой суп разливается серебряной ложкой». Он очень привязался ко мне, выбирал мне для чтения свои любимые книги и просил маму разрешить мне сидеть рядом с ним на скамеечке перед буржуйкой, чтобы удобнее было беседовать. И бесконечно рассказывал о Мюнхене, где жила вся его семья, где он вырос, учился. Город этот и Баварию он любил горячо, а о Германии как-то говорил вскользь и не очень охотно. В Мюнхене жил его единственный сын — студент девятнадцати лет. И отец, сидя у буржуйки, в беспокойстве делился со мною своими печалями — увидит ли он сына, забрали ли его уже в армию и как он, такой молодой, будет со всеми молодыми людьми сражаться в России. Вздыхал глубоко и дивился неумности Гитлера, губящего людей с обеих сторон. По-моему, он Гитлера совершенно не переносил, при упоминании о нем милое и приветливое его лицо делалось жестким и холодным. Я была почти ровесницей его сына, и он утешался беседой со мною. Следующий по чину был очень немолодой (или сильно поживший) человек с некрасивым, но очень талантливым лицом. Родом из Штутгарта, музыкант. Играл и соло, и в оркестре, но не помню, на каком инструменте. Он печально следил глазами за сестрой, иногда вставал и, смущаясь подходил к ней и протягивал ей или конфету, или пряник, и извинялся, что дар так мал и в неупакованном виде, шаркал ногой по грязному полу теплушки и удалялся еще более печальный в свой угол. Походил на большую обезьяну, чахнувшую в неволе. Мы все его жалели. Потом был собственник легкового автомобиля — очень холеный господин, он нас сторонился и держался только своих немцев. По ночам он рассказывал о романтических встречах во время войны (о своей жене — очень мало между прочим). Почему-то он не подозревал, что мы с сестрой его рассказы слушаем (и понимаем) — мне эти чуть грустные, чуть смешные рассказы очень нравились: не было в них ничего, чтобы обижало наш слух, все было полно пылкого поклонения (очень сентиментального, как правило) объектам его воздыханий. Мне очень нравилось слушать, как он, с удивлением, часто восклицал: «Русские женщины совершенно на наших не похожи — очень целомудренные, строгие и ласковые!» Днем он продолжал сидеть в своем «лимузине», даже если валил снег, а ночью, закутанный в одеяла, его сменял ставший общим денщик Бишопа — ему давали с собою спасительный пузырек и утром, на первой же стоянке, он влезал в теплушку с красными щеками и синеватым носом, устраивался у буржуйки и, согревшись, начинал варить суп. Остальных спутников я плохо помню — с ними у нас личных контактов, кроме коротких фраз, сказанных изредка, не было. Всего немецких спутников было семь или восемь человек. С русскими у нас были бесконечные разговоры о жизни, войне, судьбах. Но ближе всего к нам была и привязалась кривая кухарка. Она теперь сидела около мамы и от нее не отходила, вернее не отсаживалась, и сообщила маме, что больше никуда и никогда от нас (от мамы) не уйдет и не отстанет — будет всегда с нами, до конца жизни — будет стряпать, стирать, убирать. Говорила, что она молодая, сильная, только что кривая, но все, все будет делать. «И платить мне не надо!» Она была некоторое время под маминым «покровительством», и мы старались ее как-нибудь пристроить в Польше на хорошую службу. Но она всегда возвращалась: «У вас лучше». Наконец удалось ее устроить стряпухой в дом для украинских сирот. И тут она прижилась, привязалась своим добрым простым сердцем к сиротам (и сама-то сирота, только постарше) и приходила рассказывать о своих подопечных, но больше к нам жить не просилась. Поезд ехал очень неровно: короткими отрезками и очень подолгу стоял. Иногда наш состав переводили на запасный путь, и тогда стояние было очень долгим, не меньше суток. В путь отправлялся состав тоже без всякого предупреждения, свистка — дергался, скрипел и начинал ползти, набирая скорость. Мы от вагона (состава) никогда не отходили, чтоб видеть в случае, если состав пойдет, прицепиться к какой-нибудь подножке. Отходили, только если нас на запасных путях серьезно «затирало». В таких случаях Ольга и армянин устремлялись на базар, а мы с сестрой бродили около станции, осматривали ближайшие окрестности и возвращались обратно грустные в наш «единственный дом» — теплушку, наполненную чужими людьми. Вокзалы были почти все повреждены, некоторые — до основания разрушены; видно война прокатилась по этой части страны с жестокими боями — с той и другой стороны. Вокзалы были кое-как залатаны и на всех — громадные стандартные плакаты (на фанере), обращенные к поездам, идущим на восток и возвращающимся на запад, всегда с одной и той же фразой: «Räder müssen rollen für den Zug» (колеса должны крутиться для победы). Теперь они крутились в обратном направлении. На станциях были устроены пункты немецкого Красного Креста. Чистейшие сестры в чистейших формах кормили немцев супом и давали им сухой паек. Отступающие составы не бомбили — очевидно, все силы Красной Армии были заняты серьезными боями у Сталинграда. А охотиться за составами, которые везли неценный груз и очень мало людей, не имело смысла. Мы все, русские, в вагоне, были грустными всегда. После Ростова мы всего один раз были свидетелями бомбардировки около станции небольшого городка. Налет не повредил ни составов, ни железнодорожных путей: он был направлен на фабрику, расположенную вблизи станции. Фабрика работала, конечно, на немецкую армию. Мы с сестрой только что вышли из теплушки, чтобы размять ноги и подышать свежим воздухом. Был очень холодный день с низкими свинцовыми облаками. Мы пошли вдоль путей, по направлению к станции. На путях стояло много составов и было много людей на снегу — все куда-то спешили, были с озабоченными лицами, только мы шли без всякой цели. Навстречу по шпалам шла группа военных — немцев и военных в невиданной нами доселе форме — золотистой, с золотыми пуговицами, странных шапочках с золотым позументом (каких-то театральных, четырехугольных) и в блестящих сапожках невероятно красивые, тоже театральные лица: фарфоровая кожа, темные усики, темные глаза, прекрасные брови и румяные губы. Они смотрели на нас, улыбаясь, остановившись, и даже поклонились — все так же совсем не по-военному, а как будто на балу — вот подойдут и пригласят на танец — блестящий вальс. Мы прошли, оглянулись, а они смотрели вслед, улыбаясь, а немцы тоже стояли и терпеливо ждали, когда кончится «представление». В такой разбитой войною стране, полной страданий, потерь и всегдашнего присутствия ужаса, вдруг кусочек иного мира — беззаботного, красивого, и что их сюда занесло. И не помяло! И не приморозило. Это были румыны — союзники немцев. Они, завоеванные, вынуждены были участвовать в войне на стороне немцев, но воевали более чем неохотно, стараясь не попасть на фронт, всячески ловчили, плохо сражались и охотно сдавались в плен. Немцы их не любили и им не доверяли. Прорывы немецкого фронта чаще всего случались в местах, где фронт сдерживали румыны. Позднее в сводках (немецких) стали упоминаться румынские войска в местах катастрофических прорывов и отступлений. Казалось даже, что их упоминают в сводках, чтоб свалить в глазах немецкого населения вину (если это вообще было возможно при явной начавшейся гибели немецкой армии) на румынов. Румыны, и правда, совсем не хотели воевать — с какой это стати и ради каких целей? И при наступлении советских войск кидали оружие на землю и поднимали руки вверх. Пока мы с сестрой удалялись от нашего состава, разговаривая о румынах, вдруг совсем неожиданно из-за низкого облака вырвался аэроплан и с ревом пролетел над нами, буквально над головой. Через секунду загрохотали взрывы, рвались бомбы совсем рядом, мы сразу попадали в снег. За первым бомбардировщиком выскочил с ревом из того же облака второй — пронесся низко, темный на фоне серого облака, он показался мне огромным — и опять послышались взрывы, и черный столб дыма медленно пополз в серое небо. Больше налетчиков не было — мы встали и, не очищая снег с одежды, побежали к составу, чтоб убедиться, что никто не пострадал; родители были в вагоне и, очень испуганные, начали готовиться бежать искать нас. Успокоившись, мы с сестрой пошли посмотреть, куда потали бомбы. За составами, стоящими на путях, начиналось заснеженное поле, за полем — фабрика. И оттуда поднимался черный дым. А по полю бежали, спотыкаясь, падая в снег, снова поднимаясь, оглядываясь, черные фигуры с совершенно черными лицами, рабочие фабрики, главным образом женщины, и все они кричали, поминутно оглядываясь на черный столб дыма. Они не просто кричали, а выли в ужасе — только один голос кричал членораздельно: «Вале обе ноги оторвало… о-о-о». Они бежали, поддерживая друг друга, как-то путаясь, бесцельно — с черными лицами, белыми глазами и розовыми открытыми ртами, из которых несся этот ужасный крик ужаса… Несчастная неизвестная Валя… Мы поспешили обратно в вагон, а в ушах звенел крик — и самому хотелось кричать о гибели страны, о нашем бегстве и о хрупкости жизни. Но интуитивное чувство подсказывало: нельзя, наши испытания впереди, надо беречь силы для будущего… Немцы нашего вагона сидели грустные, подбрасывая в буржуйку сухие веточки. Русские спутники тоже притихли. Каждый думал о своей судьбе. Опять дернулся наш состав, заскрежетал, залязгал, и мы поползли прочь от злосчастной станции. И, как и прежде, мы часто останавливались, иногда надолго, и потом опять ехали небольшими отрезками. Папа говорил, что если мы благополучно проедем район Донбасса, то можно будет считать, что мы от главной беды избавились: в районе Донбасса не только бомбили, но советские войска довольно глубоко прорвались за линию отступающих немецких войск и была опасность, что они отрежут железнодорожные пути, по которым шли составы отступающих немецких частей, а также — свежие пополнения немецких войск. Мы стали чаще на стоянках встречать составы (те же телячьи вагоны), наполненные молодыми необстрелянными немецкими солдатами. Солдаты были очень молодые, совсем мальчики — с очень серьезными бледными лицами, часто откровенно испуганно смотревшими из открытых дверей вагонов. Ехали они на восток. Встречные составы, отправляющиеся в сторону тыла, были частично наполнены сопровождающими грузы солдатами, проведшими не один год в строевой службе, на фронте. И они очень грубо, веселясь, шутили над молодыми солдатами, их пугая, и как будто мстили им за ужасы, пережитые ими самими. Непонятная жестокость — сами выскочили из мясорубки и теперь смеялись над теми, кто туда отправлялся. Может быть, война разрывает не только тела, но и души? Или это немецкий юмор? В стиле Вильгельма Буша? Наш добрый Бишоп слушал все эти «шутки», отложив книгу, покачивая осудительно головой, но только раз подошел к двери теплушки и, печально глядя на молодых новобранцев, стоявших в дверях противоположной нам теплушки, сказал: «Мальчики, там, впереди очень тяжко, это совсем не шутки!» («Es ist kein Spab»). И мальчики ему улыбнулись — за правду, каждому и жить и умирать хочется с достоинством, с серьезным лицом. К вечеру состав наш несколько раз останавливался ненадолго и опять полз на запад. На одной из таких остановок на довольно большой станции папа решил сходить за водой на вокзал. Мы его просили не уходить, тем более, что был уже вечер и никакой острой надобности в воде не было. Но папа упорствовал, взял бидон и соскочил из вагона на заснеженную землю. Никто, кроме него, не оставил вагона. Папа быстро-быстро удалялся в сторону вокзала, а я из теплушки смотрела ему вслед, и сердце почему-то сжималось недобрым предчувствием. Я не отходила от двери и с беспокойством ждала возвращения папы. «Что, не видно?» — спросила мама, и в ее голосе я почувствовала тоже тревогу, но папа не возвращался, как исчез. Состав наш дернулся, лязгнул и поехал, а папы не было, и никто не бежал за двигающимся составом. Поезд набирал скорость, колеса стучали на стыках рельс все быстрее и быстрее. Папа отстал! Остался один на неизвестной станции, без документов, без денег, с одним бидоном, и мы мчались без него. И ничего-то мы не обусловили заранее — ни города, где бы стали ждать его или он нас искать. Мы ничего не предвидели и ничего не оговорили заранее. Это была действительно катастрофа! Мама остановившимися глазами смотрела на закрытую дверь вагона, сестра накрылась с головой одеялом, и одеяло вздрагивало от ее рыданий. А я видела в воображении нашего несчастного, в отчаянии, папу, его мечущуюся по оставленной нами станции фигуру — и с ужасом чувствовала его ужас, когда он понял, что потерял нас. И мы не могли ему помочь. Никак. Поезд наш первый раз без остановок ехал как-то особенно быстро, как устремился: вперед — несся всю ночь, ни разу не замедлил хода, не остановился. И ехал весь следующий день. Немцы нам очень сочувствовали и пытались утешить: «Господин профессор нагонит наш состав, и вы будете все вместе!», но и они, чувствовалось, не очень этому верили — разве встретишься! Проехав всю ночь и следующий день, мы остановились на большой станции. Все такая же закоченевшая и неподвижная мама запретила нам выходить из вагона. Мы сидели, накрывшись одеялами, и молча и безразлично ждали, когда мы поедем дальше. И боялись и не могли думать, что будет с нами дальше. Немцы тоже сидели и лежали под своими одеялами на своей половине и были нам под стать — апатичны. Русские спутники тоже молчали, высказав все свои соболезнования еще вчера вечером. Только Ольга с армянином тихо переговаривались. Поезд все не трогался, как будто отдыхал после пробега, для него столь непривычного… Прошли уже сутки без папы… Вдруг послышался стук в закрытую дверь вагона — с противоположной стороны, в дверь, которая никогда не открывалась. Стук был громкий-громкий — и потом крик, почти плач: «Рая, открой дверь, Рая…» Весь наш вагон повскакал на ноги с самыми разными возгласами радости. Мама, себя не помня, тоже стучала в закрытую дверь и как-то билась о дверь и все повторяла: «Ванюся, Ванюся…» Кто-то выскочил из вагона и, пролезши под ним, привел папу, почти обезумевшего от радости, с бидоном в руках — к нам. Он по очереди кидался и обнимал нас, маму и сиял во все стороны — с благодарностью и умилением. Немцы кивали ему головами, а милый уютный Бишоп стоял, сложив руки на животе, и все радостно приговаривал: «Ну разве я вам не говорил, что господин профессор нас найдет?» И на нашей половине все тоже радостно повторяли, что они и не сомневались, что Ив. Алексеевич нас догонит! Когда все поуспокоились и папу накормили, он рассказал свою короткую, но потрясающую эпопею. Вернувшись к месту стоянки нашего состава с бидоном воды, он увидел пустое место — состава не было. Папа бросился искать состав со стоячими розовыми дверьми на одной из платформ, думая, что он ошибся — перепутал пути, но и на других путях ничего не нашел — кинулся спрашивать каких-то мужиков, не видели ли они состава, что стоял здесь. Да они видели состав со стоячими дверьми: он только что ушел. Пока они разговаривали, рядом стоящий состав стал двигаться в том же направлении, и папа, не задумываясь, вцепился в ручку подножки товарного, последнего в составе, вагона, и вскочил на подножку. Папу окликнули, на открытой площадке вагона была скамеечка, а над ней — будочка застекленная, чуть поднимающаяся выше крыши вагона (очевидно, наблюдательная), и в ней сидел человек, окликнувший папу: «Садись на скамейку, как замерзнешь, я пущу тебя погреться, а сам посижу на скамейке. Так и поедем — вдвоем веселее». Папа рассказал ему о своей беде. Человек, с виду мужик, был молодой и успокоительный: «Не бойсь — нагоним, если не разбомбят!» Так они и ехали ночью, меняясь местами — без этого замерз бы папа. Поезд его тоже несся без остановок, пока не случилась беда. Папа был в будке, мужик — на скамейке, когда впереди послышались разрывы (бомбардировка) и поезд замедлил ход. В это время сзади их нагнал другой состав, начавший тормозить, но не сумевший остановиться. Он врезался в вагон, на задней площадке которого были папа и его спутник. Папу выкинуло из будки на снег, и он не пострадал, отделавшись синяками, даже испугаться не успел. А его доброму молодому спутнику, сидевшему на скамейке, переломало ноги. Папа нес его, почти без памяти, с какими-то людьми — в ближайшую деревню, где над ним стали хлопотать в избе женщины. Папа и сам был, как помешанный, а бедный раненый — в тяжких страданиях, но папе между стонами говорил: «Иди, иди, а то не нагонишь своих-то»… И папа пошел под утро к железнодорожному полотну и опять прицепился к подножке состава, идущего мимо места ночного столкновения очень медленно. И так и ехал, повиснув на подножке, совершенно проледенев. На каждой остановке смотрел, не увидит ли он состава с розовыми дверями, пока не догнал нас — увидел наконец стоячие двери и, не помня себя от радости, стал колотиться в наш вагон. Бедный его спутник — за папу пострадал… от доброты. Теперь мы ехали в неизвестность опять семьею в полном составе. Понимаю мою тихую бабушку, которая привязывала своего любимого, страшно непоседливого сына за ногу веревочкой к табуретке, потому что, как он только научился ходить, он всегда — уходил, а на веревочке сидел — не терялся… и играл в чурочки, которые ему нарезал дедушка… На следующий остановке армянин и Ольга ушли из нашего вагона. Они решили, что лучше им вдвоем пробираться на юг, в Румынию, и, если будет опасность — глубже, в Европу. Армянин не сомневался, что он будет очень скоро в Европе. И они ушли, а мы очень жалели, что потеряли такого ценного спутника. И нашу Ольгу увел! Но мы еще с ним свиделись в будущем, он нам оказал неоценимую услугу. А в это время в Сталинграде шли тяжелые бои. Уже в конце ноября 1942-го года Советские войска в Сталинграде начали контратаки и отрезали двадцать дивизий генерала Паулюса (6-й армии). 2-го февраля (1943 г.) после тяжелейших боев современной военной истории все, что осталось от армии Паулюса — 91 000 человек — сдались. (Из них только 6 тысяч вернулись после войны обратно в Германию.) Сталинград сделался поворотным пунктом войны. Советская армия с этого времени только наступала и не переставала наступать до самого конца войны. И на других фронтах и в других частях земли тоже наметилось изменение в соотношении воюющих сил. Началась медленная и очень постепенная гибель Германии… Зима была такой суровой — как раз для войны, чтоб сильнее мучить воюющих. Не переставая, ледяной ветер мел колючий мелкий снег. От такого колючего снега нет спасения — дохнешь и, кажется, он попадает в самую глубину легких и начинает все внутри замораживать. В такие ледяные колючие дни я думала о наших солдатах, среди снежных полей безвыходно проводивших долгие, многие дни недели без связи с командными центрами — в проледенелой земле, без движения, без горячей еды, без возможности обогреться! Какое нужно мужество, чтоб выдержать такой ужас и не погибнуть от холода, да еще сражаться с неприятелем! Как несправедливо и ужасно, что я не могу работать в госпитале, вместе со всеми вкладывая свою лепту в общее дело освобождения нашей страны, а несусь на запад — неизвестно зачем, ради надежды выжить? Как судьба перегнула, переломала все понятия русского человеке: — все это теперь для нас невозможно! Нас мело, как снежинки по воле ледяного ветра, и мы не могли изменить его движения. Мы перестали управлять своею судьбою, судьба владела нами, мы перестали быть людьми, имеющими дом, город, страну, мы были бездомными беженцами. Во время нашей бездомной скитальческой военной жизни я все чаще стала в мечтаниях обращаться к жизни довоенной, спокойной, непотревоженной. Петербург, неизменно прекрасный в любое время года — с дворцами, торжественными ансамблями, колоннадами, отраженными в воде каналов и рек, с пышными зелеными садами, легкими мостами — присутствует в сердце всегда, я как бы срослась с ним. Все детство и юность вплетены в жизнь города — давно сделались частью его. Чувства и мысли мои неосознанно складывались во мне, принимали формы под влиянием стройности, строгости, широты и легкой красоты города, вливавшихся в меня и на всю жизнь давших мне чувство духовной принадлежности городу. Он — свой, драгоценно привычный и всегда — неожиданный… И всегда теперь — только в мечтах. Как праздник вспоминала я и пышную южную природу Кавказа и Крыма — после зимы нас возили летом к Черному морю. С гор и холмов к морю спускались густые пахучие леса и парки с цветущими магнолиями, от запаха цветов кружилась голова, каждый цветок — громадный, как чаша белый, розоватый снаружи, с оранжевыми тычинками внутри; листья дерева — плотные, темно-зеленые, блестящие. Если срежешь ветку с цветущими бледно-розовыми олеандрами с экзотическим запахом, ее нельзя было оставлять в комнате на ночь: благоухание не давало уснуть, тревожило и томило… Смолистые кипарисы защищали дом от солнца… Юг, горячий, душистый, гористый меня никогда не манил. Только море притягивало, покоряло бескрайностью своею, спокойно набегающее с легким шуршанием на песчаный берег и уходящее в далекое марево — за горизонт. Или штормовое, пахнущее солью, водорослями, темно-синее, ревущее, покрытое белыми барашками, обрушивающееся на влажный песок. Я всегда считала волны и ждала, когда же разобьется о берег с каскадом пены и брызг девятый вал! Но чаще всего мой внутренний взор обращался к новгородской земле, к Волхову. Кажется мне, это самая моя любимая земля на всем белом свете. И образы России — для меня это образы, запахи, звуки новгородской земли, ее вольные просторы, тишина, спокойный полноводный Волхов с чистейшей водой, отражающей белые круглые облака. И белые храмы. Их стены вырастают прямо из разогретой солнцем сочной зеленой травы, высокой, с ромашками, васильками, колокольчиками. На некоторых стенах — каменные скромные орнаменты и шлемы-купола — сизые, иногда с остатками золочения. А все двери в храмы— закрыты, все узкие окна— заколочены и даже тропинки— заросли… По другую сторону Волхова — торжественная новгородская Святая София, с тускло-золотыми куполами, белая, на холме, над рекой, открытая взгляду со всех сторон… Белый храм, отраженный в синей воде, такие же белые кучевые облака спокойно плывут по синему небу. Прозрачная северная природа, добрая и спокойная русская земля с белыми церквями, украшающими и объединяющими ее с ее особенной умиротворяющей и вечной силой. Мы жили несколько лет подряд длинные летние месяцы в деревне Горбы под Новгородом Великим, на Волхове. Поздно вечером мы погружались в железнодорожный вагон в Ленинграде и ехали ночью до станции Волховстрой, расположенной у самой воды. С рассветом мы переходили на пристань и плыли на речном колесном пароходике вниз по течению Волхова — в сторону Новгорода, ранним утром. Пароходик сидел в клубившейся туманом воде глубоко, хлопал по воде лопастями колес, двигался медленно, и закругленные зеленые берега неторопливо проплывали мимо. Мы стояли на палубе, любуясь окрестностями несколько часов: пароход иногда останавливался в виду деревянных Пристаней — вернее, помостов, к которым были привязаны лодки, и ждал посреди реки, когда лодочники подъедут к его борту и примут пассажиров и грузы, и неспеша отправлялся дальше, попыхивая белым дымком из длинной трубы. Я смотрела на деревни, расположенные вдали от берега, на поля и холмы, на рощи, спускающиеся к самой реке, на белоснежные стволы берез, лесочки, сады, заросли душистой черемухи. С пристани мы ехали в Горбы на телегах, возница давал мне подержать вожжи. Лошадь была рыжая, спокойная. В деревне Горбы мы снимали просторную, хорошо построенную избу у молодой женщины и ее брата-подростка, единственных детей, оставшихся в живых после раскулачивания и гибели родителей и старших братьев. Наша теперешняя хозяйка была во время раскулачивания деревни еще маленькой девочкой, а младший братец — ползунком; они спаслись, потому что их успели скрыть у себя соседи. Теперь она жила с братом в большой родительской избе с несколькими хоромами, громадной кухней, с русской печью, и сдавала на лето дачникам всю избу, сама же жила в маленькой комнатке, за кухней, с видом на Волхов, а брат — на сеновале. В деревне говорили, что она смогла, подросши, вернуться в родительский дом и жить в нем спокойно с братом, потому что ее опекает и защищает командир — начальник военного городка, расположенного на другом берегу Волхова, ближе к Новгороду. С нами на все лето в Горбы приезжала тетя Маня; папа появлялся лишь наездами на короткий срок. Все лето проводила с нами тетя Маруся (Мария Германовна Радлова), которую я всегда любила за приветливость, ум и давнишнюю со студенческих лет ее дружбу с тетей. У тети Маруси, как и у нашей тети тоже, не было своей семьи, и она была к нам сердечно привязана. Голос у тети Маруси был серебристый, переливающийся, необыкновенно привлекательный, и она умела делать изумительный белый тягучий пудинг, который назывался «конский волос». Приезжала с нами на часть лета одна из наших учительниц немецкого или английского языка. И всегда с нами ехала или няня Лина, или домработница. Мы выезжали из города целым «двором» и жили в Горбах все длинное лето до глубокой осени, когда начинались непрерывные затяжные дожди и синий Волхов делался серым. За нашей избой, отделенной от проезжей дороги высокими кустами сирени и садом с вишневыми деревьями, начиналось картофельное поле, за полем — мягкий спуск к реке, с сочной зеленой травой, весь покрытый полевыми цветами. От дома к реке вилась тропинка через цветущее поле, по которой мы бегали к реке — к узкой полоске золотистого, мягкого, речного песка. По субботам, к вечеру, наша молодая хозяйка звала меня в свою комнату смотреть, как она наряжается. Мне это очень нравилось. Хозяйка натирала ладони, щеки, ноздри, мочки ушей каким-то розовым снадобьем, отчего она вдруг делалась совсем юной, розово-прозрачной, как будто она сумела поймать последние лучи заходящего солнца в ладони и умывалась ими, и делалась — сказочной. В розовые ушки она подвешивала длинные поблескивающие серьги, одевала шуршащее шелковое очень яркое, платье и бежала босиком по тропинке к Волхову с нарядными туфлями в руках, вскакивала в лодку, привязанную у берега, улыбалась мне на прощание и начинала грести. Лодка беззвучно скользила под всплеск весел по синему Волхову в голубой вечер. Я долго стояла на берегу, слушая удаляющийся скрип уключин; когда лодка растворялась в сумерках, из далекого далека по глади Волхова доносилась до меня песня, которую она пела счастливым голосом… Вечером, у реки пахло черемухой: вниз по течению были густые заросли цветущих деревьев, у самой воды. Ветви с белыми цветами свешивались к самому Волхову, как будто хотели прикоснуться к его тихой воде. В середине лета, когда поспевали темные, сладкие терпкие ягоды, вяжущие рот, не было лучшего места на свете, как в густом дереве на его ветвях. Мы ходили, как и все деревенские дети, с которыми мы за лето успевали подружиться, с расцарапанными ногами и руками, темно-синими ртами и ладонями. Речь наша за лето приобретала местный колорит: нам разрешалось бегать босиком по всей деревне с местными детьми. Я подружилась с худенькой девочкой с острым серьезным личиком, моей ровесницей, она служила в «мамках» у своих состоятельных родственников — мужиков. Она всегда появлялась с годовалым толстым ребенком на руках; когда мы стайкой бегали по деревне или сидели на песчаном берегу Волхова, она никогда не выпускала его из своих тоненький рук. И только когда мы всей гурьбой шли на сеновал, забирались по приставной лестнице на второй этаж и оттуда прыгали в стог сена на земляном полу сарая (это называлось «фукать с сеновала»), маленькая «мамка» доверяла мне толстого младенца, и я, напрыгавшись, сидела с ним в душистом сене и смотрела, как моя тоненькая подружка с испуганным криком прыгала сверху — в сено. Поначалу было очень страшно решиться прыгнуть вниз — амбар был очень высокий. Мы с нею часто сидели в тени у ее кривой темной избушки на краю деревни. Избушка была совсем маленькой, с низкой дверкой, как в сказке — избушка Бабы-Яги. Но в этой избушке жила ее мать, совсем больная, и больше никого. Мы не спеша разговаривали с нею о наших детских делах, по очереди держа младенца на коленях. Дитя было спокойное и не отравляло нашей жизни криками и плачем, как будто чувствовало, что мы тоже — только дети. Когда же появлялась после полевых работ его мать, он, завидя ее еще издали, начинал «базлать» низким басом. Моя худенькая, как кузнечик, подружка, к которой я за лето искренне привязалась, рассказывала мне о жизни деревни, всегда с серьезным личиком, перечисляла печальные истории — никогда ничего веселого. Говорила, кто в деревне обязательно скоро помрет «от груди», у кого рука «сохнет», кого раскулачили давно, кого еще не раскулачили, но скоро обязательно раскулачат, кто в деревне злой, кто просто — сердитый, а кто — добрый. Все это рассказывалось просто по-деревенски, без всякого волнения, без рассуждений — почти безучастно. Иногда на дороге появлялись дачники большой группой. Они снимали двухэтажный дом у «еще не раскулаченного кулака». Дамы одеты в белые платья, в белых шляпах на головах, с белыми раскрытыми зонтиками, их сопровождали в белых костюмах молодые люди в старомодных канотье, некоторые — с тросточками. Глядя на них, я вдруг остро чувствовала себя «опростившейся», деревенской, загоревшей, поцарапанной, стыдилась своих босых, черных от загара и пыли ног. Мы с моей подружкой, схватив нашего младенца, прятались в прохладной баньке на огородах за ее избой, пока белое шествие не удалялось «в поля»… На Волхове я первый раз увидела, как рыбаки очень ранним утром, когда небо было еще желто-розовое, рассветное, ловят рыбу сетями. Несколько человек держат невод, зайдя в воду выше колен, один из рыбаков выезжает в лодке далеко, на середину реки и, постепенно сбрасывая в воду невод, сложенный в его лодке, описывает большой круг, охватывая «пол-Волхова», возвращается, держа конец невода — на берег. Рыбаки начинают очень медленно вытягивать невод. Через некоторое время на светлом песке, в сети, сверкая на утреннем солнце, уже поднявшемся над рекой, лежит улов: большая и маленькая трепещущая рыба, живое блестящее серебро, рыба прыгает, извивается, бьется — темные спинки, бело-голубые брюшки — и красноватые плавники; у крупных рыб — желтые круглые глаза. Мне жалко рыб — им трудно дышать, рты открыты и жабры вздрагивают… Но радость от свежего утра, раннего солнца, полноводного Волхова с живыми солнечными влажными бликами, запаха рыбы, запаха воды — сильнее, как само счастье жизни. Какая прелестная спокойная река Волхов…От колючего снега, от пронзительного ветра, воющего, которому, казалось, не было преград, и от всех земных невзгод нас защищала лишь тонкая деревянная стенка вагона. Даже не утепленная. Изнутри вагон был покрыт инеем. Мы повесили на стену ковер, чтоб хоть немного отеплиться. Казалось, что ветер стал не так злодейски продувать теплушку и в нашей русской половине сделалось уютнее. Этот телячий вагон был нашим домом — нашим единственным домом, и мы к нему привыкли — и сжились со всеми русскими, судьбою сделавшимися нашими спутниками и друзьями в несчастье. Поезд ехал, снег мел — изо дня в день тот же холод. На одном полустанке в вагон постучались замерзшие, покрытые белой коркой льда немецкие солдаты и попросились в вагон. И «наши» немцы их не пустили, сказали, что «нет места». Мне показалось это жестокостью — своих не пожалеть и не пустить хоть обогреться, хоть до следующей станции. (Может немцы, особенно, Бишоп, нас оберегали — он мне часто говорил, что так жалеет, что не может ничего сделать, чтоб облегчить и скрасить мое, наше существование в беженстве. «Если б я был в Мюнхене, и Вы бы оказались в Мюнхене…») Но мы все были далеко от Мюнхена, и поезд ехал сквозь метель, но у буржуйки было тепло, книг было непрочитанных еще много, и мы ехали, как в библиотеке, и забывались над книгами. Наши русские спутники говорили, что все, едущие на ступеньках и между вагонами (беженцы), превращаются в лед, и их на станциях просто скидывают в снег, как льдины. И как только Бог спас папу! И привел обратно в семью. Мы теперь проезжали через район Донбасса, самое опасное место нашего пути. Советские войска старались не только бомбить города Донбасса, нарушая добычу угля, который шел на снабжение немецкой армии, но так же как можно скорее прорваться и захватить Донбасс, чтоб начать его опять эксплуатировать, уже по праву — для себя. Передвижение наше сделалось спазматическим, ехали короткими кусочками: несколько часов едем — несколько часов стоим на месте. Папа нервничал и тихо ругал всех немцев «абсолютными болванами». Мы таким медленным путем доползли до маленького полустанка по названию Спичкино. Наш поезд проехал станцию — и остановился. Прошла спокойная ночь. Все спали, но кто-нибудь, как всегда — бодрствовал у буржуйки, не давая огню заглохнуть. Наутро — мы все стояли без движения. Бишоп, позавтракав, улыбнувшись в нашу сторону, в совершенном спокойствии начал читать у буржуйки очередной роман. Беспокойный папа отправился с сестрой на станцию, узнать, когда нас отправят, и вернулись они оба расстроенные: мы стояли на запасном пути, нашпаровоз отцепили и перецепили к другому составу, который уехал. Похоже, мы застряли в Спичкино. Вести были очень тревожные: фронт был близко — всего не более чем в двадцати километрах от нас (ближе чем от Ленинграда до Токсово — час езды на поезде и два часа по ухабистому шоссе!). Из близлежащих деревень жители бежали — деревни были пустыми, бежали, боясь боев и, конечно, расправы за то, что остались «под немцами». В деревнях — ни телег, ни саней, ни лошадей, все пусто, никого нет, ничего не достанешь. И все грузовики уж давно уехали на запад. Папа потребовал, чтобы я объяснила Бишопу создавшуюся обстановку — я все ему перевела с папиных слов, опустив «болвана». Бишоп только ласково улыбнулся и просил передать г-ну профессору, чтоб он не беспокоил себя тревогами, что мы обязательно уедем, нас не оставят — целый состав. «Конечно же, кто-то об этом позаботится!» — и опять погрузился в чтение. Что нам было делать? Мы решили еще ждать. И ждать пришлось два дня. Эти два дня были невероятно трудными для всех нас — русских. С утра папа бежал вдоль состава и потом по шпалам на станцию проверять, не сбежал ли диспетчер и не появился ли паровоз. Паровоза не было, диспетчер был на месте, но очень нервный — он уже был во власти паники! Советские же войска методично приближались. С ними приближались звуки канонады тяжелой артиллерии, а в моменты тишины слышен был гул танковых гусениц — это было самым катастрофическим звуком. Значил этот звук то, что через час-два танки будут на станции. Наша половина (русская) была в совершенно глубоком отчаянии. Наш единственный мужчина — служащий учреждения Хальбшефеля со своим сыном не выдержал напряжения и, взвалив свой багаж на спины, ушел пешком. Он совершенно правильно сказал на прощание: «Если нас захватят в вагоне с немцами, расстреляют на месте и разбираться не будут. А если уйти пешком, есть еще надежды спастись, смешавшись с местным населением, а тем временем, можно еще найти способ сберечься, уйти, спрятаться». Ему так хотелось избавить единственного сына от призыва в армию и себя тоже… Не выдержали напряжение еще две женщины из нашего вагона. Они тоже решили уходить пешком и осесть где-нибудь в деревне, пересидеть войну и потом, быть может, как-нибудь Бог поможет — сумеют вывернуться. Мы тоже от страха и напряжения почти потеряли голову. Папа воскликнул, что еще раз попробует «этому круглому болвану» объяснить, что если он не перестанет читать свою идиотскую книгу, то его вот-вот прикончат. И всех — вместе с ним. Что он должен немедленно идти на станцию и вызывать помощь. И наконец, Бишоп понял отчаянность положения, схватил свой пистолет и бегом побежал на станцию. А мы молча слушали шум гусениц советских танков. Они были еще не видны, но слышны с большой отчетливостью. Наш конец приближался, и мы были как в ловушке. Через час Бишоп вернулся и сказал, что паровоз нашелся, его отцепили от проходящего состава с ненужным хламом и обещали прицепить к нашему. Обещали! Папа просто взвился и налетел на Бишопа в гневе: как он посмел не остаться на месте, около паровоза, и не проследил, чтоб его при нем прицепили к нашему составу, а ушел, удовлетворившись одним обещанием. И Бишоп не обиделся, а опять бросился бегом на станцию с пистолетом в руке, чтоб силой, если нужно, заставить прицепить паровоз. А время кончалось — уже слышны были ружейные выстрелы и звуки пулеметной очереди. Мы не успевали… Гибель стояла совсем рядом и дышала нам в лицо. И тут вдруг дернулся состав — паровоз прицепили! Прибежал возбужденный Бишоп и только успел влезть в вагон, как мы поехали. В обратном направлении… Русские тихо плакали. Папино лицо просветлело: «Господь помог — спаслись!..» Жалко было тех, кто не выдержал напряжения и ушел пешком. Это отравляло нашу радость. Бишоп сидел победителем и сиял в нашу сторону. Но скоро опять погрузился в чтение своей книги. Мы ехали без остановок несколько часов — на восток, до узловой станции, где после нескольких часов ожидания Бишоп побежал узнавать, когда нас переведут на другой путь, чтобы южнее, обходным путем, опять пробиваться на запад. Через несколько часов мы опять ехали, объезжая с юга опасное место по направлению к Киеву. Папа сказал, что пока он не доедет до Киева, он будет неустанно давить на Бишопа, а сам будет все время нервничать. Но поезд ехал ровно, без длинных остановок. На перегонах все чаще попадались встречные составы с пополнением — все такие же молодые тревожные лица. К сожалению, «наших» немцев мы скоро лишились; на одной из станций пришел им приказ возвращаться на фронт. Они еле успели похватать свои пожитки. Бишоп, уже стоя на снегу, передал мне записку со своим полевым номером и просьбой написать ему, не дать ему потерять нас — было грустно видеть его огорченное лицо и глаза в слезах, он улыбнулся, и дверь теплушки закрылась… Мы еще много дней ехали с большими остановками — в опустевшей теплушке. И везли за собой на платформе пустой элегантный легковой автомобиль, запорошенный снегом.
КИЕВ
Стали наконец подъезжать с юга к предместьям Киева. Как и все, что мы видели из двери теплушки до сих пор, начиная с Ростова, было картиной израненной, исковерканной страны — везде черные руины, трубы печей, высовывающиеся из-под снега; города — не похожие на города; под сугробами руины — стены с пустыми окнами, через которые видно темное, серое, зимнее небо, и везде вместо зданий, вместо силуэтов домов — кучи, огромные, камней, кирпича, закрытые снегом, а под ними — могилы жителей города… В Киев мы приехали на товарную станцию — поезд дальше не шел. Мы выгрузились со всем нашим багажом и долго сидели у разбитого вокзала с мамой, пока папа и сестра пытались узнать, где и как можно устроиться, нет ли какой-нибудь гостиницы для беженцев… Мы с мамой с платформы, на которой сидели на вещах, рассматривали окраины Киева. Сидели понурые, усталые, точь-в-точь как беженцы на картине-акварели Добужинского, только над нами не было сухого дерева, а был за нами разрушенный и покореженный вокзал… а перед глазами — руины, снег и — вдали — пешеходы, закутанные, с саночками, как в Ленинграде, и мешочками в руках. Растерзанный войною город. Казалось, и город и вся наша страна больше никогда не зазеленеют, не согреются, не будет больше весны у нас, и птицы не прилетят к нам вить гнезда. Папа и сестра вернулись. Мы переезжаем в бывшую школу, теперь превращенную во временное пристанище для беженцев. Беженцы могут там ночевать, там их кормят и устраивают на работы и на настоящее жилье. Не перевелись еще добрые люди на нашей земле — кто-то заботиться, думает о бездомных беженцах. Как хорошо. С папой вместе пришел мужик с большими санями и мальчиком — внуком, которых папа подрядил перевезти наши вещи. Мы шли пешком в Киев из пригорода — папа с мужиком тянули сани, внук толкал их сзади, а мама и мы следовали гуськом за ними. Часть Киева, по которой мы шли, представляла печальное зрелище разрушения. В течение следующих дней мы ближе ознакомились с городом, но впечатление было все такое же грустное. Картина опустошения, разрушения, смерти. Когда бы я ни думала о войне во все последующие годы, война для меня — всегда зима: зимние дороги, бесконечные зимние дороги, разъезженные, раздавленные, с потемневшим грязным снегом, деревни под снегом, темные ночью, тихие молчаливые днем, в голубых сугробах, лишь иногда с голубыми тонкими дымками из труб. Кругом — мороз трескучий. Города — под снегом, руины домов — под снегом. И нет для нас — ни угла, ни дома, ни страны, ничего — только голод, бегство, страх, бомбежки и никакого будущего. Война — это бездомная зима… В большом здании неразбомбленной средней школы был устроен «Центр для беженцев». В бывших классах были общие спальни — вместо парт стояли походные, раскладные кровати. В гимнастическом зале была устроена столовая. И в одном из классов — бюро регистрации беженцев, где давали временную карточку-удостоверение беженца. Теперь мы получили законный статус бездомных. Это же бюро постепенно всех старалось устроить на службу, работу — кому прелагали работу в городе, кому предлагали подаваться в деревню, на деревенские работы. Весною потребуются рабочие руки. Если будет весна. И давали пропуск в столовую, где можно было кормиться. Очень скромно, но совершенно достаточно для нас, беженцев. Мы как-то постепенно, за время бегства с Кавказа, перестали заботится о еде. Мы не были сытыми, но и не голодали. А когда было голодно, это не беспокоило: мы думали и заботились о других вещах — больших и серьезных. Свершалось то, что должно было свершиться — немецкие армии стали отступать, русские армии начали освобождать свою страну от агрессора. И я радовалась успехам наших войск, надеялась на неизбежные изменения в нашей стране и скорбела о нашей судьбе. Кроме русских и украинских беженцев были в школе немцы-колонисты, т.н. фолькс-дейче (Volks-deutsche). Я первый раз увидела этих людей. Они составляли довольно большую группу, держались обособленно, на нас смотрели свысока, говорили между собою в нашем присутствии на немецком языке, с ошибками и провинциализмами. Мы их очень плохо понимали, да и нисколько не стремились с ними знакомиться и сближаться. В бюро регистраций и устройства на работы нам сообщили, что если мы хотим, можем ехать на работы в Германию. Или же в Польшу, во Львов. Нас и в Германию, и во Львов как беженцев повезут бесплатно. Но в Германии о нас «позаботятся»: нас устроят на работы и дадут нам место жить в лагере вместе с рабочими из восточных областей Ostarbeiter (она промолчала, но мы уже слышали, что всем рабочим нашивается на одежду нашивка с тремя буквами «ost» и что живут эти рабочие за колючей проволокой — лишенные права выхода из лагеря и лишенные всякого права вообще, нечто вроде рабов, вывезенных в Германию — на работы). И мы не рвались делаться немецкими рабами. Если же мы поедем во Львов, сказали нам, то во Львове мы будем сами устраиваться, никто о нас заботиться не будет, мы будем предоставлены самим себе, в Польше нет лагерей для беженцев и рабочих. На семейном совете мы решили ехать во Львов. «Хоть славянская страна», — решил папа. За эти три дня, оставшиеся до отъезда, мы пробовали познакомиться с древним городом. Но видели очень мало. Я знала, конечно, о существовании древней Святой Софии, но нам сказали, что она закрыта, внутрь не попасть. Жалко, что не попробовала найти ее и проникнуть внутрь как-нибудь. Как я потом жалела об этом, когда по книгам, по репродукциям пыталась представить и изучить мозаики и фрески храма. Но мы нашли без труда Крещатик — старинный торговый центр Киева. Но Крещатик больше не существовал. Эта была большая площадь, и окружена она со всех сторон руинами под снегом, а до войны эти руины были старинными зданиями. Когда советские войска отступали из Киева под напором немцев, советские саперы заложили под здания Крещатика и под многие другие здания и храмы мины очень большой взрывной силы, которые активизировались издалека — по желанию саперов. Взорвали здания Крещатика не сразу после отступления советских войск, а много времени спустя, когда немцы устроились и обжились и дома на Крещатике были полны немецкими служащими и офицерами высоких рангов. Взрывы, как рассказывают местные жители, были очень сильными. Рухнули здания старого Крещатика, рухнули другие здания, погибло много сот людей и среди них — много русских, но они-то не в счет, они, оставшись, как бы вычеркнули себя из жизни. Но храмы и Святая София не взорвались: инженеры-саперы, закладывавшие мины под них, сознательно не присоединили провода к взрывным аппаратам. Как писал в западной прессе один из инженеров, закладывавший мины под церкви: «Рука не поднялась уничтожить храмы… уничтожить Св. Софию…» Но в советской истории все советские злодеяния приписываются исключительно немецко-фашистским захватчикам. Участников же и свидетелей событий, таких, какими они были в действительности (если они не оказались на западе), давно сгноили в лагерях за то, что они остались под немецкой оккупацией и знали многое, чего им не полагалось знать. А тем из живых свидетелей, которые опять сделались «честными» советскими гражданами, приходится помалкивать; своя, единственная жизнь дороже исторической правды, и никто их за это не осудит; не все же могут быть героями. За развалинами Крещатика — целый ряд новых домов, построенных в последнее десятилетие в стиле советского классицизма, некоторые — частично разрушены бомбардировкой. Мы не очень далеко удалялись от места нашего временного жилья: улицы то поднимались в гору, то устремлялись вниз, и были заснеженными, закатанными и очень скользкими. И было очень холодно. А после того, как мы чуть не потеряли папу, расставшись так ненадолго, мама просила нас быть все время вместе и не уходить далеко, чтоб при экстренных и неожиданных событиях быть всегда всей семьею вместе. В беженской «школе» рассказывали, как из окрестных деревень вывезли на работы в Германию всю молодежь и даже целые семейства с маленькими детьми. Вывозили в большинстве случаев насильно, но не всегда. Деревня окружалась вооруженными немцами, всем, кто может работать, приказывали собраться на площади — давали иногда день-два на сборы — и отправляли на работы в Германию. Обещали, что условия работы, жизни, оплата будут хорошими. Иногда отправление в Германию совершалось довольно мирно, иногда — трагично, когда увозили подростков, а матери с плачем и криком бежали за грузовиками с увозимыми детьми, а немцы их отгоняли прикладами. Мы только раз видели отправляемых на работы в Германию, на одной из коротких стоянок перед Киевом, мимо нас медленно прошел товарный состав — в дверях стояли молодые девушки и пареньки, некоторые совсем еще почти дети, и они молча, без улыбок смотрели тревожно на наш стоящий состав. Вспомнились лица немецких мальчиков-солдат, также недоуменно и тревожно смотревших из телячьих вагонов, ехавших в противоположном направлении. Тогда, еще на территории нашей страны, мы ничего не знали об ужасной судьбе наших военнопленных — обреченных на голодную смерть под открытым зимним небом, загнанных, как скот, за колючую проволоку, под вооруженной (очень немногочисленной) немецкой охраной. И женщины из местного населения, пытавшиеся подойти к такому открытому лагерю, чтоб бросить за проволоку хлеба пленным, грубо отгонялись. Все наши впечатления были ограничены узкой полоской земли, вдоль железнодорожных путей, по которым мы двигались на запад. Мы тогда еще не знали (и их не видели) о бесконечных толпах — потоках наших пленных, шедших по зимним дорогам под охраной немцев к лагерям — и к смерти… В нашем временном киевском пристанище к нам прибилась немолодая русская пара. Он — тенор Мариинского театра, но пел главным образом в провинции; она — прекрасный концертмейстер. Мы очень быстро подружились. Очень живые, быстрые и легкие на подъем, с неиссякаемым запасом самых невероятных историй и приключений, с ними случавшихся, оба они страстно любили жизнь, со всеми ее неожиданностями, любили. гастроли, новые города, новых людей, новые приключения и новые базары. Дубягин был тенором с сильным чистым голосом и большой музыкальностью. Его коронным номером был — Хозе. Весь театр наполнялся звуком его прекрасного голоса. Дубягин, правда, был несколько коротковат и кругловат, но ведь все певцы и певицы в расцвете таланта не обладали юношеской фигурой; зато профиль у Дубягина был великолепным и, когда он надевал на лысую голову парик, он очень был хорош! Во время гастролей администраторы театров знали особенности характера Д. и, если за полчаса до поднятия занавеса его не было в театре, администратор и его помощники торопясь бежали прямо на базар и приводили его — гримироваться и переодеваться. Д-ны ничем не огорчались, не унывали, ехали в неизвестность, не задумываясь, и ждали еще в будущем множества приключений. И когда находили слушателя, забывали обо всех бедах и наперебой рассказывали о. смешных и печальных событиях своей жизни. Дубягина очень гордилась своим французским аристократическим происхождением[5], и, правда, выглядела француженкой: маленькая, быстрая, с горбатым носом и густой челкой, которой она все время потряхивала, костюмы ее были полутеатральными, потрепанными одеяниями — очевидно, уловом базаров. Оба Д. были очень бойкие. Папе они скорее нравились, очевидно, по несходству характеров, а маме — по их незлобивости, необидчивости, хотя где бы они не появлялись, начинали потихоньку интриговать, совсем по-театрально-закулисному, но всегда беззлобно. И об этом, смеясь, нам сами рассказывали (думаю, с большими прибавлениями). Без «аудитории» они просто увядали, а мы были все смешливыми — и лучшей награды они себе не могли пожелать. Наступил день отъезда из Киева. На санях, запряженных лошадкой, нанятых папой, мы с Д-ми погрузили багаж и отправились на киевский вокзал. Шли по скользкой дороге, превратившейся в каток. И у лошадки, и у нас разъезжались ноги, мы скользили, но добрались наконец до вокзала под серым зимним небом, без крыши. Было 19 марта 1943 года. Прошел ровно год, как мы покинули Ленинград. Хотелось взять с собою горсть русской земли — на память. Но везде был только лед и снег, и руками в варежках я не могла докопаться до земли… В суете, хлопотах наконец погрузились в телячий вагон, который должен был вывезти нас за пределы России. И стали ждать. Весь вагон был набит украинскими беженцами. Украинцы были очень громкими: все говорили одновременно, друг друга не слушали — как на базаре. И все говорили по-украински. И все время ссорились. Определив, что мы русские, они начали нам задавать всяческие вопросы по-украински, хотя владели русским не хуже нас, конечно, но делали вид, что им незнакома москальска мова. Если же мы к ним обращались по-русски, они пожимали плечами, с недоумением разводили руками — этакий дикий язык им совершенно «неведом». Поезд выехал из Киевского вокзала — и потянул на запад. Ссоры в вагоне не прекращались — ни днем, ни ночью. По всяким вздорным ничтожным пустякам. Если кто-нибудь приоткрывал дверь вагона, чтобы выглянуть на свет Божий, ему сразу начинали кричать: «Мусимо зачинить дверь!»Под звуки ссор в вагоне мы проехали бывшую границу Советского Союза. Совсем незаметно. Никто даже и слова не сказал по этому поводу, не примолк ни на минуту. Мы уехали из России. И сердце не разорвалось, а все так же мирно билось в такт колесам. Только папа прошептал: «Ну и слава Богу!» И мы оказались — «за границей». Наше Отечество осталось позади. Мы остались без Отечества, так, сами по себе, как перекати поле — куда ветер, туда и мы. Было бесконечно грустно. Я не знала тогда силы связи всего моего существа со своею землею. В боковое окошечко я смотрела на землю, которая была уже не русской. Меня удивил контраст по сравнению с нашей землею: и деревья те же, и поля такие же, но есть неуловимая разница; поля лучше ухожены, они более аккуратные, как будто над ними лучше и дольше трудились. И постройки тоже похожи на наши, но иные, как будто «довольные»: крепкие большие избы, крепкие хозяйственные пристройки. Снега на земле совсем мало, как будто и климат здесь мягче. По деревенской дороге, направляясь к железнодорожному полотну, шла молодая крестьянская женщина в пестром платке на голове, в темно-вишневом теплом жакете, широкой серой плотной юбке с красной каймою. На ногах — высокие черные кожаные сапожки. Крестьянка точно вышла из иллюстраций к русским сказкам Билибина. Для нас — это был театральный костюм. Наши колхозницы носят серые ватники, серые платки. И вся одежда наша — серая а тут — одежда теплая, удобная и — красивая: крестьянская жизнь, не тронутая еще жизнью под лозунгом «Кто был ничем — тот станет всем». Здесь крестьяне все еще ходили в состоянии «был ничем» и были этим вполне довольны и не боялись, и могли носить красивую одежду; а мы из страны, где все сделались «всем» смотрели на них с интересом удивлением и почтением. И искренне желали им остаться «ничем» как можно дольше и как можно сильнее бороться за свое право не становиться «всем».
Львов
Глава первая
ЛЬВОВ
20 марта 1943 года. Мы приехали во Львов днем. Вещи перетащили в главный зал ожидания, сложили их посередине и усадили на них маму. И я села рядом, чтобы, если к маме кто-нибудь обратится, отвечать (по-немецки). За долгое время нашего пути — это был первый неразбомбленный вокзал. И очень оживленный — так много народа вокруг снует, и все с «довоенным видом», непривычным для нашего глаза — беспечные лица. И невероятно хорошенькие польки — светлые панночки, как русалки. Папа и сестра устремились с вокзала в город, «устраиваться». Дубягины решили отправиться искать какой-нибудь беженский украинский отдел «ли центр, в который они „вступят“ как украинцы. Свою фамилию они чуть переделали и произносили теперь Дубяга. Мы долго сидели с мамой на наших вещах, до сумерек. В широко открытые двери вокзала был виден город с непотушенными огнями. Окна освещены, фонари зажжены, и на улицах — толпы людей, и, как бывает только вечером, толпы не снуют, не торопятся, а умиротворенно плывут, звенят трамваи, дома на улицах небольшие со странно высокими крутыми крышами… Мы очень устали. Положив голову маме на плечо, я ей пела тихонечко песни, которые она любила. Мама мне потом говорила, что в эти тихие часы на львовском вокзале она поверила, что все наши трудности уже позади и теперь начнется мирная жизнь. Мама так ошиблась… В зал ожидания вошли быстрыми энергичными шагами папа и сестра: „Собирайтесь!“ Они нашли нам пристанище в католическом женском монастыре, в их доме для престарелых женщин. А получилось все вот как: папа и сестра искали какое-нибудь учреждение, ведающее делами беженцев. И нашли такое. В учреждении кроме большого количества польского персонала сидел начальник учреждения — толстый немец, хорошо поевший и, главное, очень хорошо попивший. Он очень обрадовался, увидя молодую девицу (в сопровождении почтенного отца), говорившую отменно на его родном языке. Ему очень повезло — он умирал от скуки, а тут случилось негаданное удовольствие. Немец усадил папу и сестру перед собой и стал расспрашивать: „Откуда, куда и зачем?“ — и сам все не переставал удивляться необычным посетителям. Когда же узнал, что перед ним — петербуржцы, ему вдруг стало все понятным: „Петербург — немецкий город! Вы, наверное — немцы, поэтому так хорошо говорите на родном языке!“ (Особенно, папа — ни единого слова: он за все дальнейшие годы только и выучил две-три фразы — и это все!) Сестра, смеясь, говорила, что нет же, мы не немцы, мы — русские, но раскрасневшийся немец только руками махал и больше ничего не желал знать, все уверял сестру, что ему совершенно ясно, что у нас, даже если родители не говорят по-немецки, то бабушки и дедушки-то, конечно, владели родным немецким. Да и внешность у сестры и папы — немецкая: „Ведь все русские — примитивные, с узкими глазами!“ Тогда сестра решила пошутить или подразнить его и сказала, что, конечно, у нее бабушка с материнской стороны была немка. „А как ее звали?“ — спросил немец. „Эрна“, — придумала быстро сестра, вспомнив имя своей немецкой знакомой студентки в Ессентуках. Немец прямо захлопал в ладоши и почти зарыдал: „Я же знал! Я же сразу догадался, как увидел вас!“ Сестра хотела его на всякий случай охладить: „Но, мы все документы давно утеряли!“ „Конечно, потеряли“, — немец не унимался: у него нашлось теперь дело — вернуть своей великой стране заблудших овец. „Мы вам новые документы сделаем!“ И предложил семье переехать немедленно в католический монастырь. В монастыре находится дом для престарелых одиноких женщин. И домом заведует его приятельница — немецкая дама. Он ей тут же позвонил по телефону и велел приготовить нам в монастыре временное помещение (папа, очевидно, по его понятиям легко мог сойти за престарелую женщину) и позаботиться о нас. Сестра весело вдохновилась идеей устройства нашей жизни в новой ситуации на основе неожиданной выдумки. Некоторое довольно длительное время мы жили в монастыре, пока монастырская дама не выхлопотала для всех членов нашей семьи „удостоверение иностранцев“, дающее право свободно жить на территории Польши (и даже в случае приглашения от живущих в Германии — и в самой Германии). Мы теперь из бездомных беженцев, о которых город и беженские организации обязаны заботиться во время войны, делались свободно живущими в стране иностранцами, и заботиться о себе мы должны были теперь сами. Искать службу, искать квартиру. А пока мы устроимся, мы можем жить в монастыре, с легкой руки немца. Немецкая дама помогла нам с сестрой довольно скоро найти службу. Жизнь наша после этого потекла хоть и очень скромно, но независимо. А пока мы оказались в католическом монастыре на краю Львова, за высокой каменной стеной, с будочкой при входе — со стражником. Монастырь старый, с каменными постройками, с темными дубовыми дверями и окнами. И внутри стены обшиты черным дубом, на потолке — черные балки. И мебель — черная, тяжелая, дубовая: и обширные кровати, и скамьи, и столы — все черное и заполированное до блеска. По застекленному широкому проходу-коридору с темным кафельным полом можно пройти в костел. Пока идешь по этой застекленной галерее, можно любоваться на сад с ползущими по стенам монастыря ветвями; наверное, они превратятся весной в виноградные ветви. Но монахини, по утрам и вечерам плывущие в своих черных монашеских одеждах по галерее в костел, всегда смотрят только вниз — и перебирают белыми руками черные четки. На головах у них — белые накрахмаленные до звона головные уборы, очень затейливые. В костеле — длинные черные скамьи с высокими спинками, тоже темные, балки на потолке, черные колонки и белые статуи святых. За алтарем, наверху — витраж. Неожиданно ярко цветной в темном храме, цветные стекла сияли разноцветно — как пели… Я любила ходить в костел, когда там никого не было — просто посидеть. В абсолютной благоговейной тишине, глядя на витраж… со своей печалью. Я только один раз была в живой русской действующей церкви. В барочной церкви Симеона и Анны, напротив нашего дома в Петербурге. Повела меня туда няня Лина, когда увидела, что в церкви — венчание. Перед входом в церковь — на Моховой — стояла большая застекленная карета. Я первый раз увидела настоящую карету на улице, запряженную двумя белыми лошадьми. „Это для „молодых“, богатая свадьба!“ — заметила няня и пошла в церковь со мною — посмотреть на венчание. Церковь — со множеством золота, свечей, пел хор, и в середине стояла в белом платье, вся воздушная, невеста и в черном — жених. Кругом — много людей. Мы обошли сбоку гостей, чтоб посмотреть на лица молодых. К удивлению, жених оказался совсем не молодым, а старым, а невеста — молодая, и по лицу ее текли слезы. Мне было ее очень жалко. Когда венчание кончилось и молодые уходили из церкви, за невестой несли ее длинный шлейф; в церковь вошла еще одна пара — тоже венчаться, но в верхнюю церковь („там дешевле“). Оба были по-настоящему молодые и очень веселые. Невеста в коротком белом платье и белых спортивных туфлях — сияющая. В раннем детстве я просыпалась и засыпала часто под благовест этой церкви. Скоро церковь закрыли и замолкли колокола. Но иногда, вплоть до самой войны, по ночам, когда поздно возвращалась из концерта, я видела на ближайшем к алтарю окне — оранжевый отблеск колеблющегося огонька. Я так любила этот теплый успокоительный живой свет в церковном окошке: мне казалось, что кто-то очень старый и добрый зажигает по ночам, пока город спит, лампаду и молится за всех нас — грешных и некрещеных. И еще раз я была в церкви, но уже в Москве в храме Христа Спасителя, девочкой, с мамой. Храм — весь белый и внутри светлый — должны были вскоре снести. Мы вошли в церковь — она была совершенно пустой, и шаги так гулко отдавались в пустом храме. Я, слушая звук своих шагов, побежала на галерею. И когда я скакала, бездумно, по каменному полу галереи — настоящий маленький язычник — и подняла глаза на стену, я увидела освещенное лучом солнца лицо во всю стену — голова Божьей Матери с младенцем у щеки на золотом фоне — золотистое светящееся лицо, все мерцающее, и глаза смотрели на меня, внутрь меня, так печально, так скорбно и так спокойно — тепло. И мальчик к лицу приник. Я не могла оторваться от взгляда — вся затихла, а печальный взор смотрел на меня, проникая вглубь… Я тихо пошла обратно, потрясенная грустью взора — и всей красотой увиденного. И никому никогда не рассказала об этом. Но впечатление печальной красоты так и осталось жить во мне и со мною — всегда… Когда у нас уже рос Сашенька, я рассказала моему мужу о храме Христа Спасителя и об освещенной солнечным лучом стене с огромной иконой Умиления, так потрясшей мою детскую душу и на всю жизнь давшей мне чувство светлой печали о прекрасном и непостижимом и чувство защищенности. Муж не только хорошо знал храм, но и знал икону, и сказал, что икона была маленькой — в две ладошки! В монастыре нас разместили в разных местах: маму и папу — вместе, в отдельной комнате в нижнем этаже. Нас с сестрой — в разных комнатах второго этажа со старыми одинокими женщинами. Все это были старушки, польки. В комнате, где нашлась для меня кровать (все кровати черного дуба, как и все деревянное в монастыре, с огромными белыми пуховиками — пуховики лежали горой на каждой кровати и из-под каждого выглядывало маленькое старенькое любопытное личико в необыкновенно смешном чепце с рюшками), было четыре кровати, в трех — по старушке, четвертая — для меня. Старушки переговаривались очень быстро по-польски (я ничего не понимала), и все повторяли снова и снова: „Прошу пани“. И я недоумевала, что они друг у друга просят. Одна старушка, моя соседка, все время что-то бормотала — она была помешанная, но очень тихая и мирная. Под громадным легким пуховиком было отрадно-тепло, уютно, чисто, как-то надежно, и я уснула. Утром сквозь сон я долго слышала какое-то тихое кваканье и звон посуды, пока я не проснулась окончательно: по комнате метались старушки в чепцах и халатах и восклицали: „Кава, кава!“ Искали в своих столиках что-то и устремились к двери с кружками в руках. Еще была такая рань — не хотелось вставать, и я осталась в постели. Рядом, в своей постели лежала моя полоумная соседка, оказавшаяся совсем не старой, она перестала бормотать, повернулась в мою сторону, заметила меня и долго смотрела мне в глаза и вдруг улыбнулась — доверчиво и радостно, я тоже ей улыбалась и приговаривала по-русски, что ей нравилось — разные милые пустяки. Вернулись старушки с полными кружками кофе, сразу увидели наши дружеские улыбки и радостно закивали головками. Меня, пока мы жили в монастыре, часто стали оставлять с больной: она при мне была очень тихой и довольной и хорошо ела с ложечки, когда я ее кормила, как птичка в неволе, которую погладили по перышкам. В этом католическом доме для старых женщин жила русская пожилая дама Наталия Николаевна — жительница Львова (ее семья до захвата Польши жила на Волыни). Очень приятная и милая дама. Вдова польского офицера. Ее сын — тоже офицер польской армии. Она скрылась в монастыре, когда советские войска заняли Польшу, в 39-м году. Сына ее арестовали вместе с другими польскими офицерами в 1939 г. и вывезли из Польши. А она все ждала, что сын ее вернется и заберет ее из монастыря и заживут они опять вместе. Она не знала, что в лагере офицеров в Козельске около Оптиной Пустыни у Катыни и двух других лагерях польских арестованных офицеров все были расстреляны (одинаково — пулей в затылок — со связанными сзади руками). В одной Катыни — 4400 польских офицеров! Немцы обнаружили тела расстрелянных 13 апреля 1943 г. Они создали комиссию докторов из двенадцати нейтральных стран и стран, оккупированных Германией, вторая комиссия была из польского подполья. Польское правительство в изгнании (находящееся в Англии) потребовало у интернационального Красного Креста соответствующего расследования. Но Красный Крест без разрешения Советского Союза отказался что-либо расследовать. Обе комиссии пришли к выводу, что расстрелянные 4400 офицеров были частью 230 000 военных, плененных Советским Союзом осенью 1939 года. Из них от 12000 до 15000 польских офицеров исчезли бесследно. Ни один не вернулся. По расследованию комиссии был установлен факт: все убитые были расстреляны весной 1940 года, т.е. за год до вступления немцев в этот район. Все расстрелянные были из лагеря около монастыря Оптина Пустынь, около Козельска. Арестованные, бывшие в двух других лагерях, „Осташков“ и „Старобельск“ — никогда не были найдены. Где находятся их братские рвы-могилы, неизвестно. Когда советские войска заняли эти места после немецкой оккупации, Москва назначила свою комиссию по расследованию расстрелов в Катыни — и все свалила на немцев и включила расстрел в Катыни в обвинительный акт (как одно из злодеяний немцев) на нюрнбергском процессе. И только в 1990-м году советские правители признали, что вина за расстрел офицеров в Катыни лежит на совести Сталина. Старенькая Наталия Николаевна очень радовалась, что мы поселились в монастыре и что она каждый день могла теперь „ходить в гости“, то к маме, то ко мне, и рассказывать о своей счастливой молодости и печальной одинокой старости. Немецкая начальница „дома“ послала за нами с сестрой — познакомиться. Это была еще довольно молодая полная дама, жившая в монастыре, в большой комнате, неожиданно светлой, обставленной светлой деревянной мебелью, очень элегантно, просто и с огромным диваном-кроватью, накрытым пушистым, как пух, светло-серым одеялом. Дама нам обрадовалась — и ей было страшно скучно в монастыре. Зачем ее послали „руководить“ старческим домом? Без нее, наверное, все было бы для монастыря и проще и привычнее. На столе стояли рюмки, бутылки — и дама решила прежде всего и себя и нас утешить, а уж потом разговаривать и налила себе и нам изумрудно-зеленую жидкость с золотым огоньком, которая очень лениво густой струей текла в рюмки. Это был яичный ликер, который дама сама изготовляла: „Никто лучше меня не делает!“ И мы не сомневались — напиток был восхитительный! Приступили к обсуждению нашего положения беженцев. В планы дамы входило устройство нас с сестрой на службу, что давало право на получение квартиры. Во Львове не было квартирного кризиса и можно было найти пустые брошенные квартиры. Львов никто еще не бомбил. Папе никто службы не предлагал искать, со знанием только одного русского языка он просто никому был не нужен. А его профессия и ученые степени вызывали только почтение — и это все. Теперь мы делались кормильцами семьи, накрепко. Сначала подыскали службу моей сестре. Быть секретаршей и переводчицей в бюро для беженцев из славянских областей. Сестра попала в центральное учреждение, где беженцам из восточных районов давали документы, удостоверения иностранцам, свободно живущим в Польше, устраивали на службы, на работу. Через это учреждение прошли очень многие наши друзья и знакомые по Кавказу — ленинградцы, добравшиеся до Львова, русские, как и мы, но владевшие немецким языком, а потому предприимчивые, могущие работать по специальности. В этом учреждении также легко давали временный документ для иностранцев, у которых, быть может, есть немецкий предок. Кто и когда это сможет „выяснить“ — никого не тревожило: выяснять было собственно нечего, ни у кого из них никаких доказательств о национальности не было и никогда не будет. Мы, живя в монастыре, подыскали небольшую и очень скромную пустую квартиру с высокими потолками и большими окнами, бельэтаж городского трехэтажного дома. Мы долго жили просто на полу квартиры, пока не обставили ее постепенно подержанной и разнокалиберной мебелью. И даже, когда и я начала служить в больнице, взяли внаем довольно сносный рояль. Из окон квартиры был виден зеленый холм, за ним — верхушки деревьев. За холмом разбивали новый парк, а работали в этом парке — пленные французы, все в черных беретах, очень плотные, ленивые, державшиеся независимо. Они оживлялись, когда по улице проходила девица, все они очень резво подбегали к подножию холма, отделенного от улицы низким забором, и громко галдели на своем галльском языке, размахивая в воздухе беретами. Все остальное время они по очереди поковыривали землю, пока все остальные лежали и отдыхали. Жили французы беззаботно: их правительство заботилось о них, состоя членом международного Красного Креста. Как потом через Красный Крест заботились о своих военных, попавших в плен, правительства Англии, Америки и в конце войны — Германии. А о наших, русских, никто никогда не заботился — их просто „не существовало“! Советский Союз не был членом конвенции Красного Креста, потому что у Советского Союза не может быть ни солдат, ни военных вообще, попавших в плен! В присяге советского военнослужащего ясно говорится, что красноармеец не сдается в плен. Он бьется до последней капли крови и умирает, но не сдается! А все, кто оказался в плену — предатели, а следовательно, они не существуют и кормить их и заботиться о них — нечего! Поэтому целые армии русских пленных погибали — их никто не кормил, ни Красный Крест, ни, конечно, немцы, они были — вне закона человечности. И они все гибли очень быстро: все от них отказались — и свои, и чужие. Свои бросили их в бой плохо вооруженными, с неопытными и неталантливыми командирами, а когда они попадали в плен к более сильному врагу, свои от них отказывались. А немцы только ждали, чтоб они погибли и от голода, и от болезней — в ледяную зиму, без крыши над головой, без возможности согреться! Продуманное истребление! Во Львове я несколько раз видела на окраине города темный поток наших пленных — их вели на товарную станцию, чтоб переправить в лагеря военнопленных. Пленные не шли, а медленно ползли, плечо к плечу, человек десять-пятнадцать в ряд, бесконечной вереницей, грязные, в рваных шинелях, обвязанные тряпками, давно немытые лица, опухшие, измученные, еле волочившие ноги. И шла их тьма тьмущая — без края, без конца. И без всякой надежды. А у меня с собою не было даже куска хлеба. Моя сослуживица была со мною — ее муж, призванный в Красную Армию перед самой войной, с первых дней войны был на фронте и пропал без вести в первые месяцы войны. А она с родителями и сыном, маленьким мальчиком Борей, оказалась во Львове. Теперь она стояла, как завороженная, около медленно проходившей молчаливой замученной толпы пленных — и громко выкрикивала через короткие промежутки времени имя своего мужа. Каждый вскрик — как биение сердца: может быть, вдруг откликнется, выйдет из темной безликой толпы и подойдет к ней — молодой, радостный. Но толпа проходила молча. Никто не откликнулся. Я тоже стояла, как зачарованная. Вдруг я увижу и узнаю дорогое мне лицо, но все это было подобно сну, который часто видела: вижу его издали, он смотрит на меня печальными глазами, я рвусь душою к нему, но подойти не могу — нас разделяет большая толпа, и он исчезает, как растворяется, а я просыпаюсь в слезах. Мы не дождались, когда иссякнет поток пленных — уже потемнело, наступил вечер, а поток пленных все медленно лился, как река. Казалось, из раны на теле нашей страны выливалась теплая жизнь… Сталин в своей недальновидной жестокости отказался от них, объявил их несуществующими, „предателями“. Так он отрекся и от оказавшегося в плену своего старшего нелюбимого сына Якова (Джугашвили), заявив Красному Кресту, пытавшемуся обменять Якова на генерала Паулюса, что „сын Сталина не может быть в плену“ и что никаких переговоров о спасении жизни его, если он действительно жив, он вести не будет. Яков покончил жизнь самоубийством, бросившись на электризованную проволоку, окружавшую лагерь с „важными“ пленными. Я видела его фотографии в немецких газетах: грузинский молодой человек с горбатым носом и огромными темными восточными глазами, в армейской форме, пилотке, без каких-либо знаков отличия. В сопроводительной статье было, написано, что держался он гордо, независимо и отказывался за обещанные ему блага, чины, свободу передать по радио призыв советским войскам сдаваться в плен и бросать оружие. Отверг очень гордо. Может быть, надеялся, что Сталин его все-таки обменяет, а может, даже и на это не надеялся: знал отца. Но предателем не сделался. Предпочел погибнуть.БОЛЬНИЦА ДОКТОРА КЭМПФ
Меня определили, учтя мое медицинское (неполное) образование, на службу в женскую больницу города Львова. Это было большое многоэтажное здание. Каждый этаж посвящен особой теме. В первом этаже — административные кабинеты и квартира начальницы больницы (главного врача), очень известной в Германии, хирурга доктора Кэмпф, еще довольно молодой женщины, лет около сорока, с внешностью (и ростом) Рихарда Вагнера: немецкий породистый нос, светлые глаза под нависшими веками и огромный выпуклый умный лоб. И всегда усталое спокойное лицо. Во втором этаже родильное отделение: палаты для ожидающих матерей и само отделение, откуда выкатывали в люльках на колесах новых младенцев. В третьем этаже — палаты матерей, их держали в больнице десять дней, и палаты новорожденных. С помещениями для осмотра, взвешивания, ежедневного купания и лечения новорожденных. Еще выше — операционные и палаты для больных и выздоравливающих. В самом верхнем этаже помещались комнаты немецких медицинских сестер. И комнаты дежурных врачей. Когда я поступила в больницу, все врачи, кроме Кэмпф были местные (главным образом, львовские украинцы). Часть медицинских сестер тоже была местная львовская. И среди пациентов было много украинцев и полек. Но постепенно картина начала меняться: уже через полгода после моего поступления в больницу местные врачи были заменены немецкими врачами из Германии, местные сестры тоже исчезли и весь средний персонал сделался немецким, в форме Красного Креста. Незадолго до моего поступления в больницу в детском отделении (для новорожденных) служила бывшая русская медицинская сестра (фронтовая сестра, попавшая в плен). Во время ночного дежурства с нею вместе в качестве ученицы оставалась новая молодая сестра из Германии, только что закончившая выучку. Новенькая положила в ноги слабенькому новорожденному грелку с горячей водой, но по неопытности налила слишком горячую воду и за ночь ножки младенца тяжело пострадали от этого. Немецкая виновная в несчастьи сестра донесла на русскую, что это сознательно содеянное ею преступление, сделанное из ненависти к немецкому народу. Русскую сестру арестовали, она не смоглаоправдаться — ее посадили в тюрьму. Сначала ей носили друзья передачи, потом она исчезла — ее отправили в концентрационный лагерь и след ее потерялся… Зная об этой истории, я была очень осторожна, сдавая дежурство, я все передавала медицинской сестре очень внимательно: все данные о каждом младенце, очень подробно. Чтоб мне никто ничего не смог бы „пришить“. И все данные о младенцах записывала и давала немецкой сестре прочесть. Так как у меня уже было довольно значительное образование и статус студентки медицинского института (когда я получила паспорт у нашего декана, он сказал, что мы считаемся студентами, окончившими третий курс, хотя и без прохождения экзаменов), я была не на положении сестры, а на особом положении — практиканта и не носила формы медсестры, а просто — белый халат. Доктор Кэмпф мне доверяла, оберегала меня и по-своему ко мне даже привязалась, обещала провести меня постепенно по всем „этажам“ в качестве моего ментора и дать мне возможность работать и учиться. Выучить меня на практике всему, начиная с родильного отделения, ухода и болезней новорожденных, болезней после рождения, женских болезней и кончая операционной — всякими операциями. И через год или два дать мне соответствующий документ о прохождении мною практики под ее наблюдением и рекомендацию для продолжения и заканчивания медицинского образования в Германии. И все свои обещания доктор Кэмпф выполнила — вплоть до документа и рекомендации. Я очень многому научилась за время моего пребывания в больнице под ее началом. Научилась участвовать в таинстве рождения, уходу за беспомощными маленькими новорожденными. Научилась распознавать болезни, которые охватывают женский организм. И научилась участвовать в разных операциях. Моя первая операция, в которой я участвовала не как зритель, а как участник (мне доверили инструментирование), — очень сложное кесарево сечение. За несколько дней до операции я очень серьезно засела за книги и знала и представляла себе с закрытыми глазами всю последовательность операции, все возможные осложнения, все приемы хирурга и знала в совершенстве все инструменты, их назначение, особенности, их возможную замену в исключительных ситуациях и т. д. Когда наступила операция, К. сначала, по привычке, громко говорила, что ей нужно, но заметила, что я все предвидела, и, скоро, не глядя, молча протягивала руку и получала нужный инструмент. Операция прошла гладко и много быстрее, чем обычно. После операции К. сказала при всех очень добрые слова о моей работе. Я теперь часто давала наркоз при операциях. И раз ночью вместе с молодым украинским доктором мы принимали труднейшие роды с осложнениями, требовавшими хирургического серьезного вмешательства. С нами была только русская, но „настоящая“ медицинская — сестра — моя старшая приятельница Хильда, она давала наркоз, а мы вдвоем — спасали мать и младенца. Я до сих пор с содроганием вспоминаю эту ночь! Но и мать, и ее сын вышли из этого ужаса живыми и даже — здоровыми! Среди матерей и больных у меня образовалось много друзей — милых, сердечных, с которыми мы продолжали встречаться до самого нашего отъезда из Львова. Эта больница во Львове, в которой я провела больше года, была изолированным островком, очень замкнутым, но в котором кипела собственная жизнь и кипела интенсивно. Я стояла в стороне от этой жизни и только издали наблюдала интриги, борьбу за власть — люди всегда и везде стремятся к власти, в данном случае — боролись за расположение К. А она сама была в зависимости (сама д-р. К. относилась к породе людей, ничего не ищущих в смысле власти, — образованный спокойный врач, очень хороший и порядочный человек) от жен крупных национал-социалистов, от которых зависела судьба больницы, средства на ее содержание и т. д. Все это выглядело, как жизнь государственного аппарата в миниатюре — одни поднимались, другие падали, все потихонечку кипело, страдало, боролось, но дело все-таки делалось. Благодаря уму и хирургическому таланту д-ра К., больница начала пользоваться большим успехом и на операции стали приезжать жены сановников и военных в больших чинах. Для д-ра К. это было источником больших страданий — у нее никогда не было времени для спокойного отдыха. И хотя немецкие сестры очень ее оберегали, это не всегда удавалось. Помню, после дня операций, некоторые были трудные, она удалилась в свою квартиру, чтоб прилечь перед вечерним приемом. В этот день приехал с фронта ее друг — военный-полицейский — очень простой милый человек; не прошло и пяти минут, как в больницу на консультацию подкатила жена высокопоставленного нациста. И потребовала д-ра К. немедленно: она не привыкла ждать. Для нее доктор — обслуживающий персонал. Старшая сестра Эльза попросила даму подождать: „Доктор только что пошла отдохнуть“. Но нацистская дама, оттолкнув сестру Эльзу, буквально ворвалась в квартиру д-ра К. и заорала на нее. Д-р К. прилегла на диван, даже туфли не сняла, как была, в белом халате, а ее друг в это время выходил из кухни с чашкой кофе для докторши. Не стесняясь, свирепая дама, продолжала кричать и пригрозила, что отомстит д-ру К. за то, что „она лежит на диване, а я вынуждена ждать“. И в гневе ушла. И она своеобразно отомстила: через несколько недель, когда друг д-ра К. был опять на фронте, во время серьезной операции пришла телеграмма на имя д-ра К. Сестра Эльза, по просьбе докторши, открыла телеграмму и дала ей прочесть. Д-р. К. только взглянула на текст, тяжело вздохнула и продолжала оперировать. В телеграмме сообщалось, что ее друг убит на фронте. Ничего не изменилось в жизни больницы, только чувствовалось, что все подавлены, а сама докторша была все такая же, только очень похудела и мало улыбалась. Мы все ее искренне жалели. Опять засияла наша докторша через неделю, когда ее полицейский друг приехал в отпуск — цел и невредим. Телеграмма была местью нацистки. В общей радости о ней никто и вспоминать не захотел. По просьбе матери и бабушки новорожденной девочки д-р К. поручила мне — славянке — возить через весь город эту девочку в колясочке к очень известным польским ортопедам — у девочки были вывернуты внутрь ступни ножек. От рождения. Профессор-ортопед и его коллеги выкручивали ступни в обратную сторону: они считали, что пока связки, суставы и косточки — молодые и нежные, можно чисто физически, без операции поправить частично дефект, чтоб потом с помощью ортопедической обуви она смогла бы ходить. Матери не позволяли присутствовать на этих сеансах, которые выглядели экзекуцией. Она бы не выдержала, ребенок так кричал от боли, что и мое сердце замирало от ужаса. Я возила девочку дважды в неделю в ортопедическую больницу и очень к ней привязалась. А мать и бабушка, доверив мне свое сокровище, привязались ко мне и доверяли мне свои страдания, милые доверчивые женщины, очень ласковые и очень испуганные. Я им раз поведала свой сон: во сне я видела, как их девочка на здоровых ножках бежит ко мне, протянув ручки и улыбаясь. Меня и во сне не покидала вера, что такие страдания младенца дадут в дальнейшем положительный результат. Доктора говорили, что это очень возможно. Ножки постепенно выпрямлялись. Но профессор-поляк и его коллеги, хотя и делали свое медицинское дело превосходно, очень издевались словесно над бедным ребенком: „Вот, поглядите, безупречная немецкая нация, супернация — и родила уродца!“ И обращаясь ко мне: „Вы видите, что это гнилая надменная нация?“, я видела только несчастного ребенка и отмалчивалась, чтоб их не раздражать, они могли девочке помочь и помогали. Ортопеды меня научили, как производить эту „экзекуцию“, и я делала это упражнение под их руководством. Когда они увидели, что я могу теперь сама справиться, они только изредка принимали девочку, а я два раза в день производила над ней эту „гимнастику“, так общими усилиями выправляли дефект, пока мать, бабушка и дитя не вернулись в Германию. Мы еще долго переписывались. Девочка хорошо поправлялась… Постепенно в больницу перестали принимать пациенток не немецкого происхождения. И украинских врачей начали рассчитывать. Из Германии приехали два врача. Д-р Кэмпф послала меня на экзамен, пройдя который без труда, я могла носить форму сестры Красного Креста. Мне в форме было очень неловко, потому что на улице солдаты и офицеры отдавали честь. Когда я вскоре ушла из больнице, я форму никогда больше не тронула. Ушла я из больницы, когда исчез патриархальный тон, созданный д-ром Кэмпф, и из Германии приехало „партийное руководство“ — нацистское начальство, чтоб встать во главе больницы. Д-ра Кэмпф стали теснить, появились новые сестры из Германии, не говорившие на человеческом языке, а больше употреблявшие цитаты и лозунги. Знакомая порода! Всех настоящий людей с душой и сердцем стараются унизить: они непереносимы для них. Вскоре (я уже ушла из больницы) д-ра К. отправили на „лечение“ в Германию, придравшись к тому, что она морфинистка. Это было правдой. Иногда ночью мы вдвоем с украинским доктором бегали по местным врачам, поднимая их с постелей, и просили (по рецепту) несколько ампул морфия — для начальницы больницы, которая очень больна и в страшных страданиях. И мы доставляли нужные ампулы. В эти ночные походы посылали меня в надежде, что если я попрошу — мне не откажут. А я и не подозревала тогда, что д-р К. постоянно употребляет морфий, я искренне верила, что она тяжко больна и что ей нужно лекарство от болей — и всегда вымаливала ампулы. и еще торопила сонных докторов. Очень надеялась я, что когда спадет с ее плеч непосильное напряжение и она отдохнет, надобность в морфии исчезнет сама собою…МЕСЯЦЫ СПОКОЙНОЙ ЖИЗНИ ВО ЛЬВОВЕ
Уйдя со службы в больнице, я решила больше не искать новой службы и стала давать частные уроки разговорного немецкого языка. У меня было несколько девочек-учениц, русских. Папа в это время очень много писал, как в мирное время, писал статьи, посылал их в Берлин в газету на русском языке. Статьи были на экономические и статистические темы. Вскоре папа стал получать из Берлина газеты — в некоторых газетах „подвалы“ были отведены папиным статьям. С этих пор папины статьи довольно часто появлялись в газете. Получая теперь регулярно берлинскую газету, мы немного лучше ознакомились с происходящим на фронтах войны. Союзники начали бомбить Германию очень тяжелым образом: 24–29 июля и 2 августа 1943 года были особенно разрушительные налеты на Гамбург: сброшено было 9 тысяч тонн бомб! Разрушение города было очень тяжелым: 1 миллион жителей лишился крова, 25–50 тысяч жителей погибло. На Гамбурге союзники испробовали новый тип бомбардировок: днем и ночью, не переставая. Американцы бомбили днем, англичане — ночью. В Гамбурге же стали применять в большом количестве фосфорные бомбы, которые создавали „огненные ураганы“, или „вихри“, как их называли через несколько часов после окончания бомбардировки, убивавшие население в огромных количествах, в значительно больших, чем сама бомбежка. Население выжигалось. Мы в это время мирно жили в маленьком стареньком Львове. Дубягин уговорил нас брать у него уроки пения. И мы начали заниматься очень успешно. Я всю свою жизнь мечтала петь. Мне казалось, что если б я могла петь — я бы перестала разговаривать, а только бы пела. И вот — неожиданно наши голоса стали развиваться, крепнуть и расширяться. У сестры оказалось очень красивое меццо-сопрано с низкими очень глубокими нотами, мой голос — сопрано. Д. сказал, что будет колоратурное сопрано. Мы работали с увлечением, исполняли ежедневно все упражнения, и Д. начал давать нам петь маленькие не очень трудные романсы и дуэты. Наши голоса прекрасно подходили друг другу. Коронным номером сестры были ария Полины и две арии Далилы. Моим — колыбельная Моцарта, единственная вещь, которую я пела без ошибок. Во всех же других вещах — ариях Марфы, Чародейки, Лизы — я всегда на высоких нотах забиралась то выше, то ниже — очевидно, слух мой был очень несовершенен. Но петь я очень любила. 24-го августа 1943 г. была тяжелая ночная бомбардировка Берлина. Район Курфюрстендама, в котором я буду жить в дальнейшем, очень пострадал: он был не только разбомблен, но и частично выжжен. 1 сентября 1943 г. — четвертая годовщина начала войны Германии и Европы. Союзники жестоко бомбили Берлин. Германию понемногу начали уничтожать, еще не заметно, казалось, что это — отдельные несчастья. И, живя во Львове, окруженные славянским населением, которое только интересовалось событиями на востоке, мы меньше всего думали о судьбе Германии. Я очень удивлялась, когда папа предсказал скорую гибель Германии и сетовал на немецкую ограниченность: „И почему они Гитлера не пошлют ко всем чертям!“ А мы разве смогли это сделать со Сталиным. У меня появилось много знакомств среди семейств львовских жителей. Многие прекрасно владели русским языком и мне было с ними легко и интересно. Мы часто посещали львовскую оперу — даже папа раз отправился послушать Дубягина. Он сделался первым тенором оперы и пел регулярно. Его жену Инну Владимировну не сделали концертмейстером, как она хотела, она поступила служить „на вешалку“ — в гардероб, принимая и выдавая пальто зрителям. И рассказывала нам пресмешные истории, „с уровня гардеробной“. Папа не одобрял ее занятий: „Как же так, жена первого тенора — и подает пальто!“, но Д-а только отмахивалась и рассказывала театральные сплетни с большим увлечением — она была в своей стихии, а Д. смеялся: „Инурка без закулисного духа просто жить не может, пусть развлекается!“ 19-го сентября „объединение немецких офицеров“ передало из Москвы обращение к немецким военнослужащим, предлагая сложить оружие. Подписано несколькими генералами, попавшими в плен под Сталинградом. Дубягину очень хотелось показать успехи своих учениц, и он устроил в нашей квартире маленький концерт. Приглашены были наши друзья Мелик-Пашаевы (он — брат дирижера в Москве). Они оба смотрели на нас с одобрением, когда мы пели, каждая свой репертуар и дуэты, под грохочущий аккомпанемент Д-ой и морщились, когда сам учитель пел свои арии — он пел великолепно, но так громко, как на сцене — во всю силу, и в нашей небольшой комнате от „силы“ просто лопалась голова. Д. входил легко во вкус — и тогда пел весь свой огромный репертуар. Во Львовской опере он пел только на украинском языке, это было условием его приема. И раз, когда он пел арию Хозе, он по ошибке, вместо „а квитка ця…“ начал по старой памяти: „Цветок, что бросила тогда ты, в своей тюрьме хранил я свято…“ Его за „москальскую вредну мову“ чуть из театра не выкинули — еле замяли скандал. Мелик-Пашаев был прекрасным карикатуристом. Я помню его карикатуры в „Известиях“, очень злые, смешные — на политические темы, подписанные Эмпе. Теперь он рисовал для украинских изданий и русских газет. У него была книга со всеми его карикатурами, изданная „Известиями“. (Книгу он прятал от нашего взора, я ее случайно увидела у него на столе открытой, когда у него был очередной запой.) Он пользовался теми же карикатурами, только менял текст и головы — вместо головы Гитлера он рисовал голову Сталина с натопорщенными усами и все свастики заменял звездами. Он был глубокий пессимист, печальный робкий человек — очень несчастный. Жена же его, дама с сильным характером, много лет провела в советских лагерях в Сибири и ненавидела советскую власть. Она служила, отбыв срок лагерей, в театре Радлова в Ленинграде, костюмершей, была хорошей портнихой, это ее спасло в лагерях и после дало ей прекрасное положение у Радлова, с которым она была в каком-то родстве. У нее был очень острый недобрый язык, прекрасно сшитые платья и страстная нетерпимость ко всем „невоспитанным, необразованным людям“. (После войны М.-П. уехали на юг Франции. В Америку они ехать не пожелали — „в такую дикую страну с невоспитанным населением!“ М.-П. вскоре скончался — он, бедный, не переставал пить. Она умерла много лет спустя в той же, ставшей ей милой, Франции. Детей у них не было.)СЕМЬЯ ВИННИЦКИХ
Больше всего времени я проводила в семье доктора Романа Винницкого, местного зубного врача. Знакомство началось, когда он в клинике лечил зуб сначала маме, а потом мне. И так как мое лечение было длительным (по-моему, он лечение изо всех сил растягивал), он пригласил меня лечиться в своей „частной практике“. Что я и сделала. После каждого очередного постукивания по зубу он назначал новый прием, делал рукой знак прислугам, и они летели накрывать стол — для чая „панночке“. Квартира была огромная, старинная, в центре города на площади Святого Бернарда, где стоял потемневший барочный костел и перед ним замысловатый фонтан с веселыми струйками воды. Все улочки, отходящие от площади, были узкие, мощенные булыжником, кривые и тесные, все дома — с высокими острыми крышами, черными балками, поддерживающими крыши, и балками, перекрещивающимися на внешних стенах. И окна с черными наличниками. Двери тоже из темного дерева. Старый католический город. Очень часто встречались на улице молодые монахи — с босыми ногами, летом и зимой, только апостольские сандалии на ногах, в длинных светло-коричневых сутанах, подпоясанных крученой шелковистой белой веревкой с кистями на концах. В руках или у пояса — четки. Монахини производили совсем другое впечатление, всегда в черном, с белоснежными головными уборами, они очень чинно и скромно плыли по улицам — по двое, по трое или стаями. И лица всегда бледные, тонкие, со спокойной приветливостью. Мне они очень нравились и, казалось, их молитвы должны быть услышаны. В доме у Винницких было очень приятно, просто и интересно. В доме всегда кто-нибудь на чем-нибудь играл. Или ставились пластинки с музыкой в прекрасном исполнении. Все в доме преклонялись перед Бетховеном, и музыку Бетховена я слышала у Винницких чаще всего. Если никто не музицировал, время проводилось в разговорах. Кроме доктора Романа Винницкого всегда, все вечера, проводил в доме его друг — профессор истории Львовского университета, швед по происхождению. У него была очень редкая коллекция старинных ковров, которую он собирался передать России. Он с детства, читая русские книги, слушая русскую музыку, любил Россию. И ждал встречи с Россией — страстно. А пока он во мне увидел представителя России и, как он всех уверял: „С совершенно шведской внешностью“. Доверчивый швед совсем не боялся прихода советских войск, верил, что все русские люди — особенно милые, теплые, глубокие, недаром же дали миру такую прекрасную литературу и музыку. И он ждал их прихода, чтоб наградить их за все духовные радости, полученные им от них, он сокрушался, когда я уезжала в Германию, „не дождавшись России“. Всегда был дома и ждал моего прихода сын доктора — молодой доктор Александр (его все звали Шура) и его друг — тоже Александр. Это они, страстно любившие Бетховена, и меня втянули в свой музыкальный мир, и я наслаждалась, слушая пластинки и живое исполнение двух Александров — оба были и пианистами, и скрипачами. И сейчас, когда я слушаю концерты Бетховена для фортепьяно, я иногда в мыслях переношусь в квартиру Винницких, такую красивую с милыми мне людьми. И прекрасными торжественными обедами за огромным семейным столом — красиво, по-старинному сервированным, с хорошо вышколенной прислугой. Во главе стола сидел дед-патриарх, ужасный богач, хрипло кашляющий и мало говорящий, только покачивающий головою, когда пора было менять приборы. Через Романа В. я посоветовала попробовать давать деду-патриарху настой корня эпикакуаны (мы о его чудесных свойствах учили в институте), конечно, посоветовавшись с его личным врачом. Корень патриарху помог — он мог теперь спать и меньше хрипел. Теперь он меня сам сажал в кресло справа от себя, улыбался и целовал руку на прощанье. Конечно, я знала, что корень не излечивает болезнь, только облегчает ее… Пока я служила в больнице, я часто в перерывах перед ночным дежурством приходила к Винницким (больница была совсем рядом) отдохнуть, пообедать, послушать музыку. От моей одежды, даже пальто, пахло лекарствами, эфиром, спиртом — прислуга морщила носы, а моим милым друзьям запах больницы казался восхитительным. Мирная патриархальная жизнь среди трагедий, бегства, смертей, войны. Семья Винницких была украинской. Только Шура считал себя поляком. Украинцы во Львове и окрестных земель были, как правило, пронемецки настроенными (кроме Винницких — они не любили немцев). Украинцы хорошо помнили, как советские войска без объявления войны захватили половину Польши, отобрали у них землю и стали прямо с разгона расправляться с состоятельным земледельческим населением. А земледельцы в Польше — украинцы. На немцев украинцы смотрели как на „освободителей от советских оккупантов“. Немцы это учитывали и доверяли больше украинцам, чем полякам. Поляки же были проанглийских настроений, а следовательно, антинемецкими и антирусскими. У поляков была всегдашняя неприязнь к российскому, более сильному соседу, смертельная неприязнь к коммунизму, а истребление в Катыни и других лагерях польских офицеров и постепенное уничтожение во время советской оккупации польских военных и интеллигенции (не высланных сразу, но скоро уничтоженных) легли пропастью между обеими нациями. К немцам у поляков была та же неприязнь — как захватчику их Польши; гордые поляки с очень сильным национальным чувством терпеливо страдали, но и поддерживали антинемецких партизан и были связаны с польским правительством в изгнании, находящимся в Англии. Во главе этого правительства в изгнании стоял генерал Андерсен. В доме у Винницких были частые споры — кто украинец, кто поляк, кто немец, кто русский. Старший доктор Роман В. говорил, презрительно кривя губы в сторону сына: „Мы все украинцы, всегда ими были — у нас только — Шурка — поляк!“ Все семейство, вместе с прислугой, считало себя и было типично украинское (хотя горделивое и совсем не смиренное — все они были католики, не православные). Внешность их была тоже украинской — все были темноволосые, широколицые, необыкновенно плотные на крепких твердых ногах. Все мужчины, кроме Шуры, носили высокие вязаные носки, бриджи, спортивные пиджаки и походили на английских охотников. Только Шура был со светлым тонким лицом, блондин с темными глазами, высоким лбом и удлиненными пальцами музыканта. Он один не говорил громко, не смеялся сытым голосом и совсем не походил на отца и деда. Быть может, мать его, была польской панной — я никогда не спрашивала, хотя иногда приходилось выслушивать истории семьи, но обычно говорилось о прадедах. Старший доктор Роман В. часто доверял мне свои тревоги, политические и семейные, часто советовался со мною, как им, семье, поступать, когда немцы покатятся в Германию и их опять захватят советы. И они все были на распутьи, знали, что опять предстоят им большие испытания. Я им отступать не советовала: отступление в этой стадии войны было необратимым. Война шла к неизбежной гибели Германии. Они лучше переживут катастрофу на своей земле, тем более, что политикой никто не занимался: отец и сын — врачи. Старый патриарх — помещик, и он-то, конечно, лишится своих земель наверняка. А то, что мы отступаем, это иное дело — наша судьба катиться „до самого синего моря“, раз мы не смогли избежать немецкой оккупации… Он мне поведал и свои семейные беспокойства: сын его, Шурка, был вот уже много лет влюблен в жену своего дядюшки — в прекрасную польку Ванду; она была еще молода, красива, настоящая панна со светло-серыми русалочными глазами и тонкими черными бровями, вся очень изнеженная, все время бессознательно принимавшая очень красивые женственные позы. Ее всегда окружало облако каких-то исключительных духов, от которых даже у меня кружилась голова. Бедный Шура! Старый доктор очень надеялся, что с моим появлением Шурка позабудет о прекрасной Ванде. Я взяла перед отъездом, по его просьбе, копии всех его документов для вызова в Германию из какого-нибудь университета, но, конечно, ничего не смогла сделать, да я и не слишком старалась — удовлетворилась несколькими отказами: мне казалось, что Шуре совершенно незачем ехать в Германию — страну, которую он не любит, он уже раз был под советской оккупацией и мог работать врачом. Все его друзья, родные оставались на своей земле, у всех них были связи с деревней (у деда были очень обширные угодья) — голод им не грозил. Да и его дядюшка с прекрасной Вандой оставались. У Винницких я познакомилась с молодой русской женщиной, очень эффектной. Она была женой советского офицера и приехала с мужем и сыном в 1939 г. в Польшу после ее разделения между Германией и СССР. Когда же Германия стала наступать на территории, занятые Советским Союзом, советские войска в такой панике отступали, что побросали в Польше свои семейства — им дан был приказ: штатское население — не брать. Самолетов хватило только для военных. Многие, в том числе и знакомая Винницких, не очень жалели об этом: она не простила ни мужу, ни своему советскому правительству, что ее с сыном бросили, и зажила во Львове очень вольготно, деньги, и большие, как она мне потом рассказывала, шли от „черного рынка“, — у нее появилось много друзей среди местного населения, его богатой части. Во Львове была очень большая колония русских — бывших советских граждан времени советской оккупации, главным образом, их семейств, а также штатских мужчин, приехавших в новую советскую колонию, чтоб хорошенько прибрать ее к рукам, а также чтоб и самим обогатиться. Туркевич, мой профессор и ментор, говорил, что ленинградцы считают, что после оккупации Польши советскими войсками начался В. М. П. — „великий мануфактурный поход“: советские люди ринулись в Польшу — скупать материи и все, что только можно купить — „заграничное“. Постепенно эти „штатские оккупанты“ устроились во Львове, завели великолепные „барские“ квартиры и привычки состоятельных людей и не захотели уезжать из такого благополучия в свою пролетарскую страну, оставляя все позади. Многие воспользовались тем, что отступление было по сути паническим бегством военных, а о штатских вообще не заботились, и остались во Львове. У тех же Винницких мы познакомились с таким господином — с барственными манерами, лицом спокойным, округлым, очень загорелым, даже зимой. У него всегда был вид только что пообедавшего человека. Это был местный богач. Чем он занимался, не знаю, но он всегда был занят, всегда с кем-то встречался, куда-то уезжал. Он был женат на балерине Мариинского театра, я ее помню — на сцене Мариинки. Во Львовской опере она с успехом танцевала. Их квартира походила на старую петербуржскую квартиру богатого чиновника, до революции. Наш общий друг Ю. был братом известной советской киноактрисы. Это ей поет Максим в фильме „Жизнь Максима“: „Крутится, вертится шар голубой…“ На улицах Львова было очень много военных немцев. Передний вагон трамвая был разделен веревкой на две части. Впереди была часть — только для немцев. И около двери была крупная надпись: „Nur fur Deutsche“. Папа не переставал удивляться „идиотической политике Гитлера на захваченных территориях“. И мы презирали немцев за эти надписи, за их глупость и недальнозоркость. Во второй половине вагона ехало местное население, во втором вагоне — тоже. Поляки, даже если их часть вагона была переполнена, а немецкая — нет, никогда не переступали через веревку. Поляки смотрели на немцев угрюмо и надменно. Немцы же вообще не смотрели на соседей — просто их не замечали как расу, недостойную внимания. Были и рестораны, и магазины с надписью: „Только для немцев“. В опере было всегда полно зрителей — и немцы, и местное население — вперемешку — и никто никого не теснил. И никакие надписи никого не оскорбляли и не провоцировали — их в опере не было. Я любила ходить в оперу — она была в центре города, прекрасно построена и очень уютная внутри. Львов жил беспечно, своей внутренней польской жизнью, презирая оккупантов, не заботясь о гибели городов по обе стороны границы; это были не их, польские, заботы, это их не касалось, как будто судьбы России и Германии их никогда не затронут, как будто их маленькая, уже покалеченная страна выплатила свою долю страданий и больше не будет втянута в ужасы мировой войны… А Польша стояла на пороге новых тяжелых испытаний… Во Львове был прекрасный громадный парк. С разноцветными цветочными клумбами. Содержался парк в отменном порядке: цветы были яркие, нарядные, хорошо подобранные, газоны — изумрудные, скошенные, деревья — пушистые, зеленые, самых разнообразных пород. Дорожки прекрасно утрамбованы. Вдоль дорожек — скамейки, на которых сидели нарядные жители Львова. Много детей, на мой взгляд, слишком хорошо одетых, слишком нарядных. Хорошенькие заграничные дети с золотистыми локонами, светлыми глазками, розовым румянцем на круглых личиках, как на открытках, которые мне показывала тетя Маруся Радлова, привезенных ею из Европы. Этот парк, красиво расположенный на холмах, было польское царство. Немцев (в военной форме) я никогда в парке не видела. Я любила ходить в парк в свободное время. Иногда ко мне присоединилась мама — парк был недалеко от нашего дома. Мы ходили смотреть на достопримечательность города — высокую узкую гору, торчащую из-под гладкой поверхности земли на окраине города. Немцы город называли не Львов, а Lemberg, очевидно, в честь этой горы. Гора была узкая, высокая, без всякой растительности, она торчала вертикально из земли как каменный наконечник доисторической стрелы огромных размеров. С одной стороны камень обсыпался и можно было вскарабкаться почти на самый верх и, конечно, сфотографироваться: бродячих фотографов было кругом очень много, как в парке, так и на улицах вообще. Когда мы оказались во Львове и на улицах, к нам стали подходить люди с аппаратами в руках и спрашивать, не хотим ли мы на память получить снимок, мы, бывшие советские граждане, пугались — зачем им наша фотография? Уж не собирают ли они материал для будущих доносов на нас? Через некоторое время мы привыкли к тому, что за нами никто не следит и начали очень постепенно „расправлять спину“. Но дальнейшие события показали нам, что и здесь тоже надо быть всегда начеку и здесь следили, и здесь, хоть и совсем по иным причинам (чаще национальным) затевались скрытые и открытые интриги, вражда — и доносы. К нам домой повадился ходить некий немолодой поляк — неприятный господин, высокий, тощий, со светлыми „гитлеровскими“ усиками под большим крючковатым носом. Он сказал папе, что он служащий „сильного учреждения“. Не гестапо ли? Он был подчеркнуто вежлив с папой (и нами), кланялся, улыбался, шаркал ногой и проявлял все льстивые учтивости, но глаза его, большие, светлые, были всегда настороже (наш ленинградский „шпик“ был прост и по сравнению с поляком был „душкой“). Папа пытался определить, задавая ему вопросы, кто он и что он от нас хочет, но это было чрезвычайно трудно: поляк скользил, улыбался и пытался выспросить нас о наших настроениях. И для кого он это выспрашивал? Кому он служил? Только через многие месяцы его частных посещений он нам рассказал, что он по ему одному известным причинам пошел служить к немцам, что он — член национал-социалистической партии Польши! Мне неизвестно, была ли она многочисленной, но она существовала. Не строчил ли он на нас какие-нибудь доносы „для своей карьеры“, за которые советские и нацистские каратели нас будут преследовать? „И что он к нам пристал! — сердился папа, — как змея, не знаешь когда ужалит!“ Когда было особенно тревожно на душе, я ходила гулять на старое львовское кладбище, расположенное на нескольких холмах со старыми тенистыми деревьями над потемневшими памятниками и каменными крестами. В самой старой части кладбища стояли часовенки-усыпальницы, каменные, разных форм. На многих могилах — живые цветы — кто-то любил и помнил умерших. Они жили без войн, мирно, и память о них также мирно передавалась от родителей детям. Теперешняя война прервет эту связь, рассеет семьи, затопчет страну, и история семей начнет опять собираться по случайным крохам, по отрывочным воспоминаниям людей, с большими „белыми пятнами“. Когда мы приехали ранней весной 1943-го года во Львов, я часто видела по утрам и вечерам идущих группами с конвоем (одним, иногда двумя немецкими стражниками) на работы и с работы польских евреев. Они шли всегда по мостовой в неровном строю. На левой стороне груди у каждого была пришита желтая звезда. Мне казалось, что все эти люди — немолодые. Может быть, печаль их всех состарила. Рассматривать их было невозможно — чтобы не обидеть. Помню одну пару, очень немолодую, наверное, это были муж и жена. Они шли в первом ряду небольшой колонны, он вел жену под руку очень спокойно, не глядя по сторонам, она, опираясь на его руку, склонив голову; оба были с интеллигентными красивыми печальными лицами, так они, наверное, раньше ходили в театр, на концерт, теперь — на работы, оттого что были евреями. Я их никогда не забывала, эта немолодая пара для меня — символ достоинства в постигшей их трагедии, с которой они не могли бороться, но смотрели ей прямо в глаза. Уже летом 1943-го года евреев перестали водить на работы. Они жили в гетто, отгороженном от всего города колючей проволокой и высоким забором. Говорили, что это большой район. Из гетто „жителей“ постепенно вывозили в концентрационные лагеря. Во время переездов некоторым евреями удавалось бежать, и они пробирались обратно в город к своим бывшим друзьям, умоляя скрыть их и спасти. По городу ползли слухи,» как бывшие «друзья» не пускали их на порог или принимали их в дом и вызывали полицию и выдавали их беспощадно. Польская подруга сестры Ванда пришла на службу в слезах: их соседи ночью не впустили в свою квартиру их бывшую подругу-еврейку, бежавшую во время отправления большой группы евреев в концентрационный лагерь. Беглянка забилась на площадку на верху лестницы, а тем временем ее «знакомые» вызвали полицейского, и тот застрелил беззащитную женщину, только тогда в доме узнали о тихой ночной трагедии. И таких случаев было немало. Наверное, были и другие — везде есть благородные люди, но такие люди молчат. Мы с сестрой проснулись ночью, потому что мама зажгла в комнате свет, сказав: «Здесь только мои дочери, и они — спят». Мы испуганно выглянули из-под одеял и в проеме двери увидели дворника и двух военных (они не снимали шапок) — полиция! Полицейские вошли в спальню, даже не извинившись, и огляделись кругом. Но под наши кровати не заглянули — комната выглядела достаточно мирно: они кивнули маме и ушли. Мама сказала, что они искали еврейку, которая сидела на нашей черной лестнице. Она прибежала к своим бывшим друзьям — нашим соседям. Но ее не впустили в квартиру. Она до ночи сидела у их двери. Потом ушла. А соседи вызвали полицию — теперь женщину ищут по всему дому. Мы с соседями больше не здоровались: они не были людьми. Еще когда гетто не закрыли и жители его работали в городе на разных работах, папа разговорился в магазине старой мебели с двумя грузчиками, евреями, оба довольно сносно говорили по-русски. Как полагается, разговор зашел о том, что немцы везде отступают, что скоро советские войска дойдут и до Польши, что немцев и отсюда вытолкнут. В конце разговора папа пожелал им всего хорошего и спросил их, узнав, что они долгие годы жили в Германии, что уж они, наверное, не поедут в Германию работать: теперь Германия и немцы будут ненавистны им навсегда. И очень удивился, когда оба засмеялись: «Совсем нет, мы сразу же поедем в Германию. В Германии очень хорошо делать „гешефт“: немцы доверчивы, их легко обманывать!» Вот неожиданный ответ!Глава вторая
ЛЕТО 1943 ГОДА
Был летний июльский солнечный день. Я шла по аллее, ведущей от костела святого Бернардина. В тени деревьев у самого тротуара я, проходя, заметила группу молодых военных в немецкой форме. Скользнув по ним взглядом, почувствовала, что в них было что-то необычное. Может быть, их черноглазые лица. Я продолжала идти дальше по аллее, как вдруг прекрасный звонкий голос запел: «Ты постой, постой, красавица моя, дозволь наглядеться, радость, на тебя…» Я от неожиданности остановилась и оглянулась. Тогда вся стайка молодых людей бегом бросилась ко мне: «Вы русская? Мы так и думали!» Они так обрадовались, стали забрасывать меня вопросами, перебивая друг друга, а я в свою очередь расспрашивала их, кто они и что они делают в немецкой форме? Все они были попавшие в немецкий плен бывшие военные кавказских частей, и все они — или молодые врачи, или студенты-медики. Немцы их очень быстро выпустили из плена и приписали помощниками врачей и более низким медицинским персоналом к немецким частям (медицинским). Вся эта группа медиков жила во Львове, в районе, в котором были расположены многоэтажные дома немецких казарм. Там же находился большой немецкий военный госпиталь. В этом госпитале они все служили. Старший из них, Миша, спросил меня, с семьей ли я во Львове, и если да, то могли ли бы они иногда приходить в гости. Они очень истосковались по возможности общения с настоящей русской семьей. «Можно прийти? Это будет для нас большим счастьем. Не пугайтесь — мы будем приходить по двое — не целым подразделением». И я согласилась с некоторым беспокойством о реакции родителей на «уличное знакомство». Но все обошлось хорошо: мама поняла и пожалела молодых людей, а папа не спросил, откуда они появились, когда в следующее же воскресенье пришел Миша со своим товарищем. С этого дня началась наша спокойная, почти студенческая дружба с Мишей и его молодым другом — почти мальчиком. Они приходили к нам иногда пить чай, и мы втроем часто гуляли в парке или по окрестностям Львова, разговаривая, иногда почти до «полицейского часа». Миша был доктор, немцы его очень ценили, потому что он умел лечить венерические заболевания. Отец Миши был доктором-специалистом в этой области и много знаний и свой опыт передал сыну еще в его студенческие годы. Миша был человеком сильным, сдержанным, замкнутым, но постепенно начал раскрываться, и беседы с ним были интересны всегда. Его друг больше молчал, смотрел всегда застенчиво, глаза его были огромными, темными, с длинными черными совершенно прямыми ресницами, как у теленка. Когда я к нему обращалась, он вспыхивал, опускал глаза и отвечал односложно — как робкая девочка. Миша всегда брал его с собою — он был сыном друзей его родителей и пользовался Мишиной нежной дружбой и покровительством. И, казалось, во всех этот юный мальчик вызывал желание оберечь его, приласкать добрым словом. Мама всегда предлагала ему свои пирожки особенно ласково, и он маме улыбался в ответ и смотрел на нее благодарными «бархатными» глазами. Миша пригласил меня на обед к своим друзьям, чтоб познакомить меня с людьми, с которыми его связывали узы старой, довоенной дружбы. Некоторые были друзьями по его родному городу — Владикавказу. Дом его друзей был маленький, уютный, стоял в ряду таких же небольших домиков, расположенных вдоль тенистого городского, вернее пригородного парка — по другую от нас сторону Львова. Ехать нужно было на трамвае. У домиков не было садов. Но парк, темный, тенистый, со старыми развесистыми деревьями подступал к самой входной двери со своею прохладой, шумом листвы, делал жизнь в домике приятной и защищенной. Когда Миша со мною пришел в дом, все были в сборе. Нас встретила хозяйка, приветливая русская дама лет сорока, и ее муж, бывший военный, не успевший или не захотевший эвакуироваться при немецком наступлении в начале войны с Россией, без жены. Он где-то служил (кажется, в том же госпитале, что и Миша), а дом его был центром связи между бывшими советскими гражданами, оказавшимися в 39-м году на польской территории, захваченной немцами. А также — бывшими пленными, как Миша и его друзья, и антинемецкими партизанами на территории Польши. За столом с русскими кушаньями и множеством бутылок сидела моя русская знакомая — друг Винницких. Обед был очень приятный, все были оживлены, тосты были очень антинемецкими. Меня они сразу приняли в свою среду. Я еще несколько раз была в этом доме на обедах, но не чувствовала себя совершенно свободной среди новых знакомых. Я всегда сторонилась шумных встреч с обильными возлияниями, анекдотами. Мне милы старомодные тихие встречи с интересными разговорами, музыкальные вечера или вечера с чтением вслух. И я предпочитала спокойные прогулки с Мишей и его другом в парке и вечера у Винницких. Союзники начали очень серьезно уничтожать Германию с воздуха. Продолжались очень тяжелые бомбардировки больших городов Германии. Но мы не представляли себе тяжести и объема этих бомбежек. Германия была далеко, а во Львове еще продолжалась видимость спокойной жизни. О Германии мы не заботились, не думали — вообще! Миша и его друзья пригласили меня посмотреть казармы и госпиталь, где они служили. Раз в неделю было разрешено жителям казарм принимать гостей. Миша показывал казармы, через застекленную дверь — операционную. Мы ходили целым табуном — все Мишины друзья сопровождали нас. В большом вестибюле, когда я прощалась со всеми, появился большой полный немец и, увидя всю нашу группу, быстро направился к нам. Как-то получилось, что все отхлынули от меня и я осталась лицом к лицу с немцем — он был здесь начальством. Может, немец был под хмельком или просто — развязным, но он, воскликнув, что приветствует всегда красивых посетительниц, стал приближаться ко мне с протянутой к моему лицу рукой. Мои друзья замерли, а я очень холодно (и откуда взялась выдержка) ударила его снизу по приближающейся руке, отведя ее от моего лица, и сказала ему «Hande Weg» («Руки прочь») — и все. Немец не сказал ни слова, резко повернулся и быстро ушел. Он отомстил тем, что запретил гостям посещать казармы. Но мои друзья об этом ни разу не пожалели, по словам Миши, оценили мой поступок, тем более, что им было трудно меня защитить в этих условиях, хотя они и были готовы прыгнуть на своего дерзкого начальника… Советские войска все продолжали неумолимо двигаться на запад. Уже ничто не могло их остановить. Все сводилось лишь к срокам. И сроки эти для Львова и Польши делались все короче. Никто не сомневался теперь, что Красная Армия не остановится на своих старых границах. Обсуждался лишь вопрос: остановится ли Красная Армия на границе с Германией или покатится дальше — по Германии. Мишины друзья выглядели очень озабоченными, а Миша — очень задумчивым в наши становившиеся все более редкими встречи. Он только сказал мне, что они решают вопрос — как поступать. И когда решат — он сообщит мне все. Наступил день, когда во время прогулки по парку, Миша сообщил мне, что решение принято. Решение было — пробиваться через фронт к советским войскам. Первая фаза плана — выйти черезнемецкую линию фронта к партизанам и затем вторая фаза — сих помощью и по им известным путям идти навстречу наступающей советской армии. Весь путь — обе фазы — был опасным, с неожиданностями, которые трудно было предвидеть. Миша и его друзья решили, что нет им иного выхода, как пытаться вернуться домой. С немцами не было для них никакого будущего, свои же — примут, если к ним прийти от партизан. Решили — рискнуть. В этот же день Миша пришел проститься с моими родителями. Вся группа должна была выступать через два дня. План был — выходить из казармы поодиночке, собраться вечером в условном месте и ночью пытаться пройти к партизанам. Или всей группой или по двое, по трое. И встретиться опять в условленном городе. Миша был очень грустный, озабоченный, обещал при первой возможности, через Винницких, дать мне знать — удачно ли прошло все предприятие. В этот вечер мама передала Мише записку с адресом тети Мани и с просьбой написать ей или, лучше, если будет у него возможность, навестить тетю Маню в Ленинграде и рассказать ей, что мы живы, и все, что ему о нас известно. И о том, что мы будем и дальше стремиться уехать подальше на запад. Миша обещал исполнить просьбу, если будет жив. Жизнь наша текла своим чередом. С уроками пения (я опять стала втягиваться в упражнения и разучивания арий), со службой сестры, папиным писанием, я опять начала снова рисовать. После нескольких дней, прошедших с мишиного отъезда, среди дня (дома были только мы с мамой) в дверь постучали несколько раз как-то тревожно. Я пошла открывать — в проеме двери стоял Миша, без шапки, в своей немецкой. форме, но весь в беспорядке, с расстегнутым, почти разодранным воротом. Выражение лица его было ужасно — я поняла, еще прежде, чем он произнес умоляющим голосом: «Помоги», что случилась катастрофа. Я его буквально втащила в переднюю, захлопнула дверь, закрыла на замок и только спросила: «За тобой гнались? Ранен?» — «Нет, никто меня не преследовал. Не ранен!» — «Все живы?» — «Нет!» Провела Мишу на кухню, единственную комнату без окон, и усадила за стол, на минуту положила руку на его плечо и пошла к маме с замирающим сердцем: просить и сказать, что с Мишей случилось ужасное, что мы должны помочь. И у меня в душе ужас — помочь партизану, если узнают — смерть семье. Не помочь — нельзя, даже подумать об этом страшно, нужно думать, как помочь. Когда сказала маме о Мише, она ахнула, замерла с испуганным лицом и прошептала: «Как он мог прийти к нам — он нас погубит!» Потом, как очнувшись: «Пусть будет на кухне, только тихо, и не подходит к окнам в комнатах». И пошла к Мише, чтоб дать ему поесть, попить, если он захочет. И осталась со мной и Мишей на кухне. Когда Миша немного успокоился, он стал отвечать очень сжато на мои расспросы — на некоторые он отвечал одним грустным молчанием. Мое беспокойство и расспросы были о его молодом друге — Миша повесил голову: «Его больше нет»… — и все. И еще несколько человек не вернулись.Сначала все шло хорошо: поодиночке все они отошли от Львова (с оружием), встретились в условленном месте и уже группой стали пробираться на партизанскую территорию. Несколько дней прошли благополучно. Но потом они нарвались на большой немецкий патруль, началась перестрелка, было убито несколько немцев, среди Мишиной группы — тоже. Все, оставшиеся в живых, рассеялись, их сначала преследовали, но т. к. они бежали поодиночке, Мише удалось спастись. Вот и все. Убили немцев! Теперь их будут искать! Как сказать папе — он, наверное, Мишу выкинет сразу, чтоб не рисковать семьей! А может — пожалеет? Вернулся папа и сестра — почти одновременно. О Мише им сообщила мама. Реакция их была ужасной! Мама их долго уговаривала, а я сидела с Мишей на кухне. Миша совсем потерянно сказал: «Если Ив. Ал. не примет меня — я сейчас же уйду!» Папа пришел к Мише на кухню и сказал, что завтра утром он должен уйти, что поставил своим приходом жизнь семьи под смертельный удар (как будто Миша и сам об этом не знает), но разрешил ему остаться переночевать. Сестра к Мише не вышла. До вечера сидела с Мишей на кухне, вся семья — в комнатах. Сестра и папа кипели, очень боялись — и были несчастными. Мама их уговаривала и пыталась успокоить. Вечером Миша сказал, что, чтоб уйти утром, он должен знать, что случилось с остальными и какие новые распоряжения будут выработаны оставшимися в живых. Он должен сообщить всем оставшимся, что жив. И попросил меня пойти на условное место — на тайную квартиру, недалеко от той, в которой я была несколько раз. У меня был ночной пропуск из больницы — он еще был действительным, и я решилась пойти на тайную квартиру, несмотря на горячее возмущение папы и сестры. Мне было совершенно ясно, что нужно сделать: Мише нужно было помочь бежать от неизбежных преследований, а для этого его нужно было связать с остальными. Папа увидел мою непреклонность и дал мне два часа на поездку и возвращение. Если я через два часа не вернусь, значит, меня постигла беда (и что тогда?). Лучше бы все отправили меня спокойно, подготовив и продумав «неожиданности». Только мама сказала: «Будь осторожной!» Миша смотрел страшными умоляющими глазами. И я отправилась. Очень осторожно. На улице, на площади, около трамвайной остановки не было ничего необычного — ни полиции, ни шпиков на углах. Только бы страшный польский фашист не зашел к нам случайно! Мишу так легко загубить! Уже было темно. Я села в трамвай и поехала до самой последней остановки. Почти до парка, вокруг которого были расположены маленькие домики. В одном из них жила пара — «старший» с женой, у которых я несколько раз обедала. Но не в этот дом шла я сегодня, а в другой, мне незнакомый. Парк был совершенно темный — не видно было ничего; я должна была его пересечь. Так я и шла, медленно, протянув вперед руки, чтобы не наскочить на дерево или, что много хуже, — на человека. Можно было идти с закрытыми глазами — кругом все равно была черная темнота, но я широко открыла глаза, мне казалось, что это помогает слушать, но и звуков было не слышно, была совершенная тишина, чуть скрипела галька дорожки под ногами, и это все — уже давно наступил «полицейский час». Наконец прошла парк и вышла под черное открытое небо к ряду домиков, стоявших чуть на возвышении. Дома чуть выделялись серой молчаливой массой на фоне черных деревьев. С трудом нашла нужный дом. Все окна в домах затемнены. Только в одном доме на окне была чуть откинута портьера, и в глубине комнаты оранжевым тусклым светом мерцал отсвет поставленной на пол свечи. Это был условный знак. Постучала, как мне было сказано: удар, потом два быстрых легких удара, перерыв и снова — удар и потом — два быстрых легких. И стала ждать. Кто-то повозился тихонько у двери, приоткрылась щелка: «Кого нужно?» — «От Миши». Дверь быстро распахнулась и меня впустили в дом, закрыв дверь на засов. Меня провели в затемненную кухню, молодая украинская пара оказалась незнакомой. По их вопросам стало ясно, что я не ошиблась домом. Рассказала им, что узнала от Миши и о всем несчастьи. Они о несчастьи уже знали, «старший» вернулся к жене домой и обо всем успел рассказать. Вскоре после его возвращения немецкая полиция оцепила его дом и ворвалась внутрь с обыском, искать его. Полиция производила обыск очень тщательно и методично, была несказанно груба с женой, и, хотя она уверяла их, что она не знает, где муж, что он уехал уже давно, по делам службы госпиталя, полицейские разгромили весь дом. И пока ее муж, втиснувшийся в узенький стенной шкаф для метелок и щеток на кухне, ждал своей гибели, полиция штыками прокалывала кровати, диваны, все шкафы, а стенные шкафы — простреливала из пистолетов. Они все сломали, прокололи, вывернули наизнанку. Не тронули только стенной шкаф на кухне, непонятным образом — пропустили. И ушли в уверенности, что в доме кроме жены никого нет. Жену — не арестовали пока. Пара, которая мне все это рассказала, написала мне на бумажке (украинец написал) адрес, направление передвижения для Миши, где завтра назначена встреча всех оставшихся в живых в первой половине дня. Я тут же стала заучивать адрес, путь, время встречи. Бумагу я не взяла — ее уничтожили при мне, когда я твердо все запомнила. Обратно я опять отправилась через темный парк, меня никто не проводил, просто выпустили в темноту и закрыли дверь на засов. Как и первый путь, я шла медленно через парк, вытянув руки из предосторожности с колотящимся сердцем — было так страшно! Вдруг меня кто-нибудь спросит, где я была, а я не придумала ничего и ничего не могла придумать — голова не работала, я только твердила, чтоб не забыть от страха, адрес, направление, время и опять — адрес, направление, время… Бог меня охранил — я никого не встретила. Трамвай (я попала на последний трамвай) отвез меня домой. Дойти от остановки до дома — всего два квартала. С момента моего выхода из дома прошло больше трех часов. Когда я подходила к нашей улице, я шла очень осторожно и внимательно, следила, чтоб за мной никто не следовал. Улицы были совершенно пустыми. В городе маскировка была неполная, у ворот домов горели неяркие лампочки. Когда я завернула на нашу улицу, у меня упало сердце: под самым фонарем с бледным злым лицом стоял папа — он буквально метался. А рядом стоял Миша, как и раньше — в своей растерзанной форме. Безумный папа не мог дома усидеть, а Миша считал, что не может прятаться: если Ив. Ал. вышел на улицу, то и он должен быть с ним. Оба не проявили ни ума, ни здравого смысла. И как их мама не втянула обратно! Папа потерял голову и не запретил Мише вылезать на улицу, от злости не подумав (и не пожалев Мишу), что теперь он сам в своем безумном ослеплении губит семью. Я почти втолкнула их на лестницу и в квартиру в надежде, что дворник не видел Мишу у ворот. Передала Мише все, что нужно было передать. Бедный Миша, он внешне был спокоен, сдержан, но смотрел благодарными глазами. И молчал. Приготовили с мамой в кухне постель для него, и все разошлись. Мама и папа были очень тихими и не разговаривали: не было слышно ни единого звука. Сестра стала меня снова упрекать. Мы сидели на подоконнике очень долго и следили, не появится ли на улице полиция, чтобы успеть предупредить Мишу, спрятать его на черной лестнице. Сестра, наконец, легла в постель, а я сидела у окна, с тоской ожидая утра. Вдруг в ворота, закрытые на ночь, раздался громкий стук и крик. Стучали громко, грубо, на всю сонную улицу. Из окна было не видно, кто стучит, но сердце ушло в пятки, стало жарко от страха. Ворвался в комнату папа: «Полиция — скорей разбирай и прячь кровать в кухне!» Мы бросились с мамой растаскивать кровать, а Мишу поставили на темной площадке черной лестницы. Бедный Миша! Что он чувствовал — и за себя, и за нас! Папа опять потерял голову и с голосом, полным гнева, очень меня обругал. Я была совершенно убита его злостью по отношению ко мне и этой вспышкой, всю жизнь папа со мой был только ласков. Удары в ворота прекратились, очевидно, это был всего-навсего замешкавшийся пьяница, торопившийся после полицейского часа домой. Все мы понемногу успокоились, хотя мне было и горько, и тоскливо. Миша, совершенно измученный, молча опять улегся на свою кровать, снова собранную мамой и мною на кухне. Мы все разошлись по комнатам, и в квартире все затихло. Рано утром, покормив Мишу, пошла посмотреть, нет ли чего-нибудь необычного и подозрительного на улице. Все выглядело спокойным. Утро было солнечным, приветливым. Никакого признака тревоги, нигде никакой полиции. Жители Львова в летних легких одеждах торопились на службу, на базар — жизнь текла, как обычно. Вернулась к Мише, и мы вместе вышли на улицу. Я взяла его под руку, и с «выражением беспечным и веселым» мы пошли через город. За оперным театром Миша сел в трамвай, идущий в нужном ему направлении. Обещал сообщить мне, когда он будет в безопасности. И уехал. Когда он смотрел на меня через стекло трамвайного окна, он уже не выглядел таким страшным, как вчера: он отдохнул немного и появилась у него надежда на жизнь. Бедный его молодой друг с робкими мягкими глазами, бедный мальчик. И несчастные его родители… Домой я шла пешком легкой походкой, как огромная ноша свалилась с плеч. Меня с начала войны очень занимал и тревожил вопрос об умении во время неожиданных и тяжелых испытаний находить правильное (и благородное) решение. Даже если это решение грозит тебе неминуемой смертью. Теперь, после отъезда Миши, на меня снизошел покой — я прошла первое испытание, с этих пор я успокоилась на всю жизнь и больше не задавала себе «трудных» вопросов, а действовала, не задумываясь, спокойно и правильно во многих дальнейших трудностях, к сожалению, ниспосланных мне. В этот вечер, после отъезда Миши, меня забрали к себе Винницкие. Они уже все знали о неудаче и трагедии предыдущего дня. И о Мише. И молодом его друге. Знали также, что все, оставшиеся в живых, встретились в условленном месте — и их, очевидно, уже переправили в более отдаленную часть страны. Пока они были в безопасности. Слава Богу! «Новые партизаны!» просили передать мне благодарность и за Мишу, и за то, что связала его со всеми остальными. Винницкие, всегда ласковые, были в этот вечер особенно милыми, внимательными — не хотели отпускать меня домой: им все казалось, что они недостаточно проявили нежности ко мне. С ними мне было хорошо! Через две недели я получила от Миши письмо. Еще с территории Польши. Все живы и здоровы на этот раз. В письме была странная фраза: «За тобою будут следить и тебя будут оберегать», испугавшая и обеспокоившая меня. Уж лучше бы никто за мною не следил и не оберегал бы меня. Просто бы забыли обо мне. Но потом я решила, что Винницким дан наказ меня беречь — и успокоилась. Много-много лет спустя, когда мы жили в Америке, наш Сашенька пошел в первый класс школы, тетя Маня написала мне, что к ней вскоре после войны приходил на ее ленинградскую квартиру Миша из Орджоникидзе. Он доктор, женат, и у него растут две дочки. Он рассказывал тете о нашей семье, о которой он отзывался с чувством большой благодарности. «Но больше всего он говорил о тебе — он тебя забыть не может». Тогда, во время посещения Миши, тетя Маня еще не знала о нас ничего (что мы переехали в Америку), и Миша никогда не узнал о нашей судьбе. Город Орджоникидзе в 1990 году переименовали опять — Владикавказ. Я помнила этот город в детстве, когда мы ездили по Военно-Грузинской дороге. Горячий, пыльный, с шумными пестрыми базарами, громкими черноглазыми жителями, которые много и быстро говорили и охотно улыбались. Зубы были ярко-белыми на темных загорелых лицах. Мама не отпускала наши детские руки из своих рук ни на минуту. Ей почему-то казалось, что нас непременно должны похитить, а мне и жители, и город, и восточный шум, и пестрые одежды очень нравились. Как в волшебной сказке! Уже в августе 1943 года стали бомбить Австрию, которая очень надеялась, что ее не тронут с воздуха… В августе бомбили завод самолетов, расположенный у Вены — «Wiener Neustadt». Постепенно все большие города Австрии пали жертвой бомбардировки. В конце декабря 1943 ода несколько раз бомбили Инсбрук. Австрийцы считали, что они — первая жертва Гитлера в Европе, а потому союзники пощадят Австрию. И, действительно, до конца 1943 года Австрию не бомбили и в Германии тоже считали, что Австрия останется неповрежденной, а поэтому стали свою германскую промышленность перевозить в Австрию. И это решило судьбу Австрии в глазах союзников — стали бомбить немецкую промышленность, а заодно и австрийские города. Наступила осень 1943 года. Октябрь с еще теплыми днями, разноцветными парками и внутренним беспокойством; я привыкла осенью учиться, бежать по утрам в школу, потом, позднее, в институт, слушать лекции, ходить в клиники, в библиотеку, читать, интенсивно работать. А эта осень принесла одно беспокойство и чувство потерянного времени, ни к чему не примененного запаса сил. Пыталась продолжать образование во Львовском университете, но мне сказали, что они только «своих» принимают, а «чужих» не берут. Да и, кроме того, у них не было заведено преподавания ни на русском, ни на немецком языке. А польским я не владела, и у меня не было желания его изучать. Как часто мне потом в разных городах Германии и Австрии — в университетах и Академии художеств, во время войны и после войны говорили: «Мы принимаем только „своих“, у нас нет достаточно мест даже для „своих“». Всегда — для «своих», что я прекрасно понимаю, я бы на их месте тоже заботилась «о своих». А о «чужих» — пусть «чужие» заботятся. А о нас было некому заботиться. И силы, и способности пропадали даром. Я больше всего времени уделяла рисованию, а пению — меньше. Пробовала заняться своим ленинградским дневником и зарисовками. Но они на меня действовали слишком тяжело — очевидно, должно пройти больше времени, чтоб читать их, не мучаясь, не попадая сразу же в обстановку осады и безнадежности. Может быть, когда-нибудь, после войны, я вернусь к ним. Самое приятное место во всем Львове было для меня — в доме Винницких. Всегда сердечно тепло, всегда меня встречали с радостью, провожали с обещанием, что будут ждать завтра — опять, раньше, чем сегодня. И в доме — красиво, полно милых и интересных людей и как-то особенно душевно. Но я чувствовала, что это хоть и очень ценное, интересное и музыкально обогащающее, но все-таки времяпрепровождение. Мне хотелось серьезного учения и профессионального занятия. И я очень поддерживала старания папы наладить какие-нибудь связи с живущими в Германии, чтоб переехать в столичный город, с университетом, и начать снова учиться, благо язык — не препятствие. Мы как-то наивно и беспечно относились к сведениям, что Германию уничтожают с воздуха. Германия была еще для нас психологически «Германией туманной», а наши опыты бомбардировок, хотя и значительные, нас не пугали. В действительности же они и были такими ничтожными по сравнению со страшными, направленными на уничтожение страны, населения, его духа бомбардировками союзников, о которых мы не могли знать тогда. Мы начали очень определенно стремиться в Берлин, где была очень большая и культурная русская колония. И где, мы все были уверены, папа сможет применить свои знания. Но мы не отдавали себе отчета, что 18 ноября 1943 года начались «истребительные» налеты, направленные на полное уничтожение столицы Третьего Райха, которые назывались «Воздушная битва за Берлин». Эта «битва» не прекращалась до апреля 1945 года, когда советские войска заняли Берлин. Мы и не могли об этом знать — эта была доля участия союзников в сокрушении Германии. Мы только знали о «результатах», о которых писали очень сдержанно в немецкой печати (а мы и это получали из «вторых рук» — из русской газеты, с многонедельным опозданием). Мы знали отчасти из газет, но, главным образом, по слухам, которые были достовернее газет, потому что касались всегда фактов, мы знали, что из еще не отвоеванных советской армией русских территорий немцы буквально выкачивают все трудоспособное население и вывозят его, часто под конвоем — в Германию, чтоб заменить ими немцев на фабриках и заводах, а немцев — отправить на фронт. И из других стран Европы тоже забирали «рабочую силу» и тоже отправляли в Германию на сельскохозяйственные работы, в шахты и т. д. Попадали люди интеллигентные, но без немецкого языка, хотя и с «нужной», казалось, профессией. Во Львове тоже началось беспокойство как отвертеться, чтоб не попасть в рабочие лагеря и не получить нашивку «ost». Просила сестру узнать — грозят ли нам принудительные работы с нашими документами. Начальник сестре сказал, что нам «пока» ничего не грозит, нас заметут в последнюю очередь и, очевидно, со знанием языка, без нашивки, но очень советовал, если мы попадем в Германию, или поступить учиться «куда угодно» — это даст отсрочку принудительных работ для военной промышленности на время учения, или поступить на работу, близкую к такой промышленности, но со знанием языка — это не будет, конечно, черная работа. Все это очень беспокойно! Приближалось католическое Рождество. Декабрь был довольно снежным и холодным. Еще в начале декабря (1943 год) был тяжелый налет на Лейпциг, который почти стер его с лица земли. Город, в котором издавались журналы со статьями морозовского исследовательского института в Ленинграде, больше не существовал. В середине декабря (17-го декабря) была тяжелая бомбардировка Берлина. И Берлин бомбили в рождественскую ночь — без всякого стеснения. Рождество я провела у Винницких — было очень уютно и успокоительно. Было много милых мне друзей. Шура и Александр зажгли большую нарядную елку, и все мы слушали хоралы.
НОВЫЙ 1944 ГОД. ТРЕТЬЯ НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ ВОЙНЫ
Пробыла допоздна с родителями. К нам пришли Мелик-Пашаевы, Дубягины — все вместе поужинали. А потом я пошла к Винницким. Они все меня ждали, не садились за стол (очень торжественный новогодний стол!). Меня пришел забрать из дома Александр, каждый раз, когда я опаздывала или решала не идти к Винницким, на пороге квартиры или напротив нашего дома всегда появлялся Александр — быстроногий посол Винницких и «дипломат». Если я шла к другим друзьям и даже если я была не одна, Александр находил способ «увести» меня. Самое последнее сродство, которое употреблялось — печальный возглас: «Шура в отчаянии — он больше не хочет жить», — и тогда я всегда сдавалась. Эта Новогодняя ночь надолго мне запомнилась. Мы все знали, что больше никогда не будем сидеть вместе за новогодним столом. Что всех нас жизнь разведет. И очень скоро…. И старались быть особенно ласковыми друг к другу. И тосты были печальны и значительны. На всех надвигалась суровая неизвестность. И в этот вечер мы старались не смотреть ей в лицо. Только швед все славил свою идеализированную Россию и поднимал свой бокал с шампанским в ее честь. Старый патриарх сидел грустный — никто не решался поднять бокал «за жизнь долгую, за жизнь здоровую, за жизнь счастливую». Все новогодние тосты были о том, чтоб не забыть никогда, чтоб любить и в разлуке, чтоб принять все, что случится — и все-таки помнить, все-таки верить… Ужасно грустный Новый год… Но музыку мы все слушали до позднего часа и, как всегда, под конец каждого музыкального вечера — «Пятый фортепьянный концерт Бетховена». Потом тихо брели по снегу к моему дому — в новогоднюю ночь не было полицейского часа. На следующий день, вернувшись домой после посещения моей бывшей сослуживицы по больнице, той, что вызывала образ мужа из темного потока пленных (мне хотелось ее обнять и ее мальчика — полусироту Бореньку и поздравить стариков-родителей с Новым годом), я, только войдя еще в переднюю, почувствовала необычное веселое оживление в квартире — смех, громкие восклицания, мужской голос и запах духов — знакомый. Неужели? В комнате за чаем сидели с родителями и сестрой — Ольга и армянин. Как же было приятно их увидеть — таких нарядных, веселых, уверенных. Как они оба любили жизнь, умели жить и не мучили себя раздумьями, печалями. И озабоченные лица моего семейства расправились и тоже повеселели. Наши спутники смутного времени бегства из России — оба невредимы, оба прекрасно выглядевшие! В Румынию они не стали пробираться: чем ближе они подходили к Румынии, тем тревожнее были сведения об этой разрушенной голодной стране. И они решили через Польшу, Германию пробиваться в Париж. Во Львове они живут уже несколько месяцев и готовят документы для выезда в Германию. Это сестра, проходя домой через базар, расположенный недалеко от нашего дома, вдруг услышала знакомый голос, торговавшийся, хотя и по-польски, но с такими неподражаемыми русскими восклицаниями, что это казалось почти родным. Действительно, это была наша Ольга, в своей стихии. Ольга и армянин стали часто бывать у нас. Ольга очень подружилась с Мелик-Пашаевыми. Армянин через своего друга и родственника в Берлине стал добиваться вызова для всей нашей семьи в Берлин. «Ручательство» берлинский армянин нам давал, а службу он искал папе — этого было достаточно для вызова всей семьи. Поиски продолжались много недель, но увенчались успехом, папа получил «службу» — писать регулярно статьи для газеты. А при переезде в Берлин, когда семья устроится, он, берлинец, рекомендовал службу в «Винете» — русской организации (в ведомстве немецкого Министерства пропаганды), которая занимается «культурной деятельностью», главным образом среди русских рабочих, устраивает концерты, издает что-то и т. д. А пока папе, для вызова, дали звание «корреспондента» русской газеты в Берлине. Папа очень обрадовался, и мы начали готовиться к отъезду — складываться и увязывать наши вещи. 21-го января опять была тяжелейшая бомбежка Берлина, о которой мы опять ничего не ведали. В конце января 1944 года наконец была прорвана блокада Ленинграда. Наконец-то, после двух с половиной лет блокады, наш город сделался свободным! Но какую цену заплатили его жители. Каждый платил часто самой высокой ценой — ценой своей одной-единственной жизни. А таких жизней было в первый год осады Ленинграда отдано более 2-х миллионов — не считая солдат армий, защищавших Ленинград, и жителей пригородов, к северу от Ленинграда, что делает эту цифру гораздо выше. Как я завидовала тем ленинградцам, которые были эвакуированы не на Кавказ, а в среднюю заволжскую часть России и на Урал. Теперь они могли вернуться домой и продолжать свою жизнь в своем прекрасном городе. Наша же судьба оказалась совсем иной — беженской. И нашему беженству не видно было конца.ПОСЛЕДНИЕ НЕДЕЛИ ВО ЛЬВОВЕ
Мы считали, что в марте мы сможем выехать из Львова в Берлин. В учреждении сестры многие коллеги тоже собирались в Берлин и ждали вызовов, ручательств и готовили нужные документы. Ехала с родителями и сестрой коллега и приятельница сестры — Галя Орлик. Она еще в России вышла замуж за немецкого офицера и собиралась теперь переехать в Берлин к его родителям. Галя была очень способной математичкой и мечтала продолжать свое образование в немецком университете. Она прекрасно знала немецкую и, конечно, русскую литературу, с нею было очень приятно общаться, мне она очень нравилась, но между нами даже в Берлине близости не получилось. У меня к ней возникло чувство восхищения, когда я узнала в Берлине от своего коллеги и друга по учению в Доме Гегеля Штанделя под большим секретом, что сестра Гали совсем ей не сестра, а ее школьная подруга-еврейка, которую семья Орлик выдала за свою родную дочь — и спасла ей жизнь, охраняя ее всю войну. После войны Галя «выдала» свою сестру замуж за своего коллегу-математика, и они уехали жить в Швейцарию. Мне бы этой тайны и не раскрыли бы, если б я не упомянула раз, шутя, сестер Орлик в присутствии своего коллеги — он их знал еще по школе — в разговоре: «К нам зашли Галя и ее грузинская сестра». Девочка была красивая, с тонким восточным лицом. Узнав тайну, я больше никогда не шутила о них — и мы оставались друзьями. Галя после войны осталась в Германии ждать мужа (хотя ее приглашали преподавателем математики в американский университет), после окончания войны он был жив, но находился в советском плену. Не знаю, дождалась ли Галя своего мужа — из русского плена мало кто возвращался. Наши друзья Д. при помощи нашего друга армянина получили вызов (через «Винету») в Берлин, чтобы выступать с концертами перед «интернациональной» аудиторией, что значило на простом русском языке — перед рабочими, вывезенными из России, Украины, Польши и стран Европы. «Винета» была обширным учреждением, объединявшим несметное количество русских, не только кормившихся около него, но и избавленных этой службой от работ на заводах и фабриках. «Винета» состояла из русских служащих самых разнообразных профессий. Ядро ее составляли русские эмигранты послереволюционного периода. И среди служащих или считавшихся служащими «Винеты» были почти все из советской эмиграции, имеющие отношение к литературе, театру, музыке. К «Винете» пристроились, по-моему, все, кто умел держать перо в руках и их семейства и друзья, и «В.» их всех «кормила», т. е. служба давала право получать продуктовые карточки, а ее принадлежность к Министерству пропаганды освобождала от отправления на работы в промышленности. И в этом-то учреждении папа получил службу, переехав в Берлин, — писать статьи за собственным письменным столом. Все с легкой руки нашего армянина. Вообще, как я пригляделась ближе позднее, Министерство пропаганды в лице «Винеты» имело замечательного пропагандиста русской литературы, музыки, русской песни и русской драмы. К «Винете» был «приписан» замечательный ленинградский театр Радлова, целиком выехавший с Кавказа. Я много раз бывала на его великолепных постановках еще в Ленинграде. Особенно хороши были его шекспировские постановки. Они всегда ставились в переводах превосходной переводчицы — Анны Радловой. Я ее переводы любила еще с раннего отрочества — в собрании сочинений Шекспира, изданных Брокгаузом и Ефроном перед самой революцией. Другие переводы, которые я позднее читала, не имели никогда ее неподражаемого «шекспировского звука». Талантливая Анна Радлова оказалась с театром и мужем в Берлине. Когда артисты театра Радлова приехали на Кавказ из голодного Ленинграда, они, отдохнув и окрепнув, стали выступать на сцене курортных городов минеральноводческой группы — и я несколько раз была в Ессентуках на их постановках. И каждый раз выходила из театра, потрясенная Шекспиром. Главные роли — женские — чаще всего исполняла прекрасная молодая актриса Якобсон; у нее была внешность Анны Павловой и ее изысканность — это была прелестная тонкая Офелия и неподражаемая Дездемона. Когда она пела своим мягким и хрупким от горя голосом Иву, театр совершенно замирал. Когда немцы захватили Кавказ, радловский театр возобновил свои постановки на немецком языке. Немцы также восторженно принимали игру русских актеров и также замирали при пении Дездемоны, когда звучали ее трогательные простые слова молитвы «Ave Maria», в театре наступала мертвая тишина. Дездемоне-Якобсон подносили цветы, перед ее талантом преклонялись, и никто не донес, что лучший цветок труппы Радлова, охраняемый им, был неарийского происхождения. Хотя простые немцы этим просто не интересовались. Театр Радлова оказался в Берлине и под покровительством «Винеты» гастролировал по разным городам Германии, выступая перед совсем новым зрителем — рабочими обширных остовских лагерей. Выступали непрерывно, разъезжая по Германии с большими трудностями и, конечно, опасностями. Живя в Берлине, я несколько раз слышала, что театр Радлова «разбомбили». И меня каждый раз пугали эти слухи. Но каждый раз они оказывались ложными. Слушатель рабочих лагерей не очень воспринимал Шекспира и к великолепной тонкой, глубокой игре артистов относился часто безразлично, и к тому же игра часто прерывалась бомбардировками и бесконечными тревогами. После окончания войны потрепанный и поредевший театр Радлова вернулся во главе со своим директором Эрнестом Радловым в Советский Союз, где его, Эрнеста, сослали в концентрационный лагерь (Гулаг). Не читала о судьбе его актеров, но через какой-то срок (не знаю, был ли он очень длинным) Радлов вернулся и опять выступал в Ленинграде со своим (очевидно, пополненным новыми силами) театром до своей кончины. Очень надеюсь, что прелестная Офелия, так завораживавшая зрителей, вернулась с Раловым на сцену и доставила много радости ленинградскому зрителю, увы, тоже пополненному «новыми силами». То к одному, то к другому члену обширной семьи Радловых судьба приближала меня в разное время моей жизни. Я долго жила (пока моя сестра болела скарлатиной) у тети Мани — в квартире ее ближайшей подруги молодости тети Маруси Радловой. Рядом со старинной квартирой Марии Германовны (теперь коммунальной) жили тоже Радловы, внуки Германа, два толстых мальчика, я с ними иногда играла. В квартире жила и мать тети Маруси — высокая, еще очень подвижная седая дама всегда в черном до пола платье и белом кружевном жабо. Она подарила мне легкую, как яичная скорлупка, почти прозрачную чашечку, всю в розочках расписанную — на таком же блюдечке и сказала, что чашечка — ее любимая и такая же старенькая, как она… Я берегла чашечку, любовалась ею — и разбила ее. Горе мое было неописуемым, мне тогда казалось, что я на всем белом свете — самый несчастный человек. Моя любимая книга того, радловского, времени (я не уставала рассматривать ее часами) была книга-альбом художника Сергея Радлова — брата Эрнеста. Его рисунки пером — острые, с большим мягким юмором, о России, жизни и быте населения первых лет после революции, были и грустными и смешными одновременно. Я не расставалась с книгой до моего отъезда домой. Сергей Радлов — большой художник и до своей гибели в 1942 г. во время бомбардировки Москвы занимал очень значительное место в художественной и культурной деятельности страны. По совету тети Маруси Радловой после ухода в отставку нашей француженки Лами я стала, перед самой войной, брать уроки французского у матери Эрнеста Р., очень пожилой и достойной дамы. В ее старой квартире в доме около Александринки. Через некоторое время она ко мне сердечно расположилась и познакомила меня со своей внучкой, не только милой, но и совершенно прелестной молодой женщиной — это была русская Офелия в современном советском окружении. Бабушка хотела нашей дружбы, и мне хотелось — того же. Но, к сожалению, семейная жизнь Офелии была сложной и печальной. Я была уверена, что мы полюбим друг друга, но покоя я ей не принесу. И я — отступила… Конец ее был, как у шекспировской Офелии — трагичным… Я раз видела мужа Офелии, известного в Ленинграде художника-оформителя, очень талантливого, темноглазого, энергичного, влюбленного в жизнь со всеми ее удовольствиями художника Т. Он оформлял для праздников Дворцовую площадь (пл. Урицкого) и другие «ответственные объекты». Как они не подходили друг к другу… Похожая на радловскую судьба была и у нашего ленинградского тенора — Печковского. Волей или неволей, но он оказался на своей даче во время немецкого нашествия и был на «оккупированной немцами территории». Когда немцы отступили, он не уехал с ними, а остался — рискнул. И его сразу арестовали и сослали в лагеря. Но он не погиб: поклонницы-«печковистки» посылали ему пакеты с продуктами, не оставляли его, писали просьбы о помиловании и молили на всех ступенях коммунистической иерархической лестницы вернуть им, городу — любимого Печковского. И его, отсидевшего какой-то срок, вернули в Ленинград. И он снова запел. Каждое выступление — триумф. Триумф и его таланта, и его старой и огромной новой аудитории, отмолившей, отбившей его — для себя. Печковский вскоре умер, и его хоронили всем городом; мне рассказывали, гроб несли на руках до самой могилы. Мы проводили последние вечера во Львове с друзьями. Дубягины тоже приготовились к отъезду, и мы договорились, что будем искать друг друга через «Винету». Мама обложилась немецкими самоучителями, вспоминала полузабытый немецкий и очень огорчалась и обижалась, что мы не говорили с ней по-немецки. А у нас с сестрой просто язык не поворачивался в семье вдруг говорить не по-русски. Многие мои друзья по больнице тоже готовились к отъезду в Германию. У моей приятельницы с сыном Боренькой не было никаких осложнений с отъездом в Германию: она была немка — дочь колонистов и возвращалась в страну своих родителей. Ее родители были типичными колонистами, даже по-русские говорили с затруднением, а по немецки — простонародно. Вроде Ваага — не все и поймешь. Но были очень скромными людьми и сердечными. Они получили очень комфортабельную квартиру, с самой модной ванной комнатой, какую может только представить воображение, и я иногда ходила к ним принимать горячую ванну. Когда они должны были уезжать, Хильда, так звали мою приятельницу, тяжело заболела и, отослав стариков с сыном в Германию, сама легла на операцию (мы уже уехали). За несколько дней до прихода во Львов советских войск ее совсем еще слабую вывез ее немецкий знакомый с большим риском для себя — и, конечно, для ее здоровья. Я не раз была свидетелем поразительной преданности, трогательности и верности немецких друзей в беде. И мою приятельницу ее друг спас и соединил с сыном. И бескорыстно — он знал, что она еще долго будет ждать и надеяться на встречу с мужем. Пришел к нам сердитый и опечаленный армянин — Ольга его оставила неожиданно; в каком-то учреждении, где она чего-то добивалась, она встретила идущего ей навстречу Хальбшефеля. Ольга бросилась к нему на шею — больше с ним не расставалась. Ольга поехала с Хальбшефелем в Россию — в какое-то украинское хозяйство, куда его отправили. Ольга часто писала письма Мелик-Пашаевым. Жили они в деревне, в глухой и неспокойной стороне — без рояля, в страхе перед партизанскими набегами, перед вступлением советских войск — оба болели желтухой, сделались нетерпимыми друг к другу, злыми и мечтали навсегда расстаться. Как бы хотелось узнать вести об Ольге хорошие: что она уехала из ужасных деревенских непривычных обоим условий и, успокоившись, живет с Х. в тихой послевоенной Германии. И жалко, что она не осталась с армянином — он бы ее уберег. А он, наш милый армянин, не поехал в Германию; может быть, он добрался до Парижа и сделался частью большой армянской колонии. Добрый хороший человек. Мы о нем всегда вспоминали с чувством глубокой признательности. Звали его Димитрашвили. Наш «армянин», собственно, был грузин. Он учился в школе с Джугашвили (Сталиным), когда был мальчиком, и отзывался о нем самым ужасным образом, как о позоре, бросившем тень на весь грузинский народ. Приходили прощаться Мелики. Он такой потемневший, сгорбленный, прокуренный и несчастный. Какое тяжелое расставание. Близился день нашего отъезда. Была первая неделя апреля 1944 г. Пришел прощаться Ю. — все такой же гладкий спокойный, уверенный. Ю. очень долго и громко прощался, говорил напутственное слово и уже в дверях, уходя, вскинув руки по-театральному, воскликнул: «Что вы делаете — невесту увозите!» А Германию все бомбят и бомбят англичане. С 4-го марта 1944 (пока мы паковали свои вещи) Берлин начали бомбить и американцы. С марта 1944 г. Германию стали бомбить непрерывно, день и ночь. Днем бомбили американцы, ночью — англичане. Союзники бомбили Германию и раньше, в 1943 г., но не было непрерывности и тяжести налетов, какие начались с марта 1944 года. За четыре дня до нашего отъезда из Львова 15 марта 1944 г. генерал Дитмар (официальный военный радиокомментатор) сообщил, что дела на Востоке выглядят плохо. Начался «период грязи» (когда весь немецкий транспорт, не рассчитанный на немощеные дороги, вязнет в глубокой русской грязи). Сказал, что следует ожидать «больших отступлений». В апреле Берлин оставили в покое, не бомбили, как будто собирали новые силы для новых налетов… Наступил последний день нашей жизни в уютном Львове. Вещи еще утром были отправлены (под папиным и сестры наблюдением) на вокзал и погружены в багажный вагон поезда, который должен был вести нас во второй половине дня в Берлин. Мама очень неохотно разрешила мне пойти завтракать к Винницким, чтобы попрощаться с ними и всеми друзьями. И от них я должна была ехать прямо на вокзал. Был торжественный и грустный завтрак. Пришли близкие и далекие друзья. Все, кого я встречала у Винницких. Мы все были уверены, что больше никогда не увидимся. Но я не предполагала, что даже письменная связь в этот день со всеми ними порвется навсегда. На вокзал провожать меня поехал Шура. В санях, запряженных парой лошадок. Утром шел снег, и день выглядел зимним, белым, чистым. Но когда мы ехали после завтрака по улицам Львова, на вокзал, снег на дорогах частично стаял и полозья саней страшно скрежетали по мостовой и тормозили движение; хотя кучер покрикивал на лошадей и размахивал кнутом, мы двигались медленно, и я начала беспокоиться, что могу опоздать к поезду. Милая идея Шуры проехать в последний раз по зимнему Львову на скользящих санях, чтоб я «навсегда запомнила нашу последнюю встречу», явно не получалась, мне было жаль Шуру, но я думала о том, чтоб берлинский поезд не ушел без меня, а скрежет полозьев вызывал головную боль. Мне всегда было жаль усилий Шуры устроить все красиво, приятно: на меня его усилия действовали всегда одинаково — я начинала торопиться домой. И до последней минуты нашей последней встречи я опять торопилась — теперь в Берлин. Когда я нашла вагон и купе, все наше семейство уже разместилось и все были спокойны. В купе кроме нашей семьи были еще два штатских человека. Один оказался нашим знакомым, шапочным, по Львову, его звали Меербах. По-моему, он был еще призывного возраста, но почему-то не в армии и занимался «для армии» — коммерцией. И сейчас он ехал в Берлин по каким-то торговым делам. Он даже как-то предлагал мне службу в его фирме, а сейчас спросил, не хочу ли я поехать из Берлина с его фирмой в Италию: «В Италии можно выгодно купить соль и перепродать ее в Германии еще более выгодно!» В прекрасную солнечную Италию — за солью! Мы над ним посмеялись — и больше он никого из нас за солью не звал. Медленно выехали с вокзала и поехали опять — на запад. Мы смотрели на пробегающие мимо деревни, леса, города. Вся земля еще была покрыта снегом. Но не так густо, как у нас зимою, когда все деревни — в сугробах. Поезд едет очень быстро, только искры из трубы паровоза проносятся мимо окон. Мелькают небольшие станции, все — неразрушенные. Так, незаметно, приехали к границе с Германией. Поезд остановился. Все было очень буднично. Прошел по вагону кондуктор, просил очень вежливо, открывая дверь в купе, приготовить документы для проверки. Поезд стоял все время, пока проверяли документы у пассажиров. В каждое купе входил военный пограничных войск, у двери стоял — второй. Очень быстро и внимательно (и очень деловито и холодно) просматривал бумаги, задавал несколько вопросов, вроде: «Возвращаетесь ли вы обратно? Как долго будете жить в Германии?» и т. п. И сказав: «Спасибо. Доброго пути», — уходил из купе. Наш сосед Меербах зевнул, рассовывая свои документы по карманам: «Ну, теперь до самого Берлина можно спать!», сдвинул шляпу на нос и скрестил руки на груди. Мы затихли, мало говорили: наша невероятная судьба привела нас в Польшу, а теперь — в Германию. Поезд дернулся и поехал. Стук колес, искры от паровоза все также проносились мимо окна вагона — как будто и ничего не случилось, как будто мы едем на дачу… Все было таким обычным. Потрясение было только внутри нас — и потому оно было особенно сильным, не разделенным с другими. Папа только растроганно и неуверенно сказал шепотом: «Ну вот, ребятки, мы и уехали, — теперь будем жить в Германии…» Подумала: все, что знала и любила, все осталось за чертой — и больше никогда не будет…Берлин
Глава первая
ГЕРМАНИЯ, АПРЕЛЬ 1944 ГОДА
Мы из окна вагона смотрели на Германию. Она выглядела совсем иначе, чем Польша: все, что проходило перед глазами, сделалось более сильным, более крупным, как будто изменился масштаб всего, что мы видели. Города большие, с большими пригородами, не было игрушечности, прелести, вычищенности Польши. Чувствовалось, что Германия — серьезная большая страна. И деревни были большие с каменными домами под черепичными крышами, окруженные садами с деревьями. И очень большие, часто каменные, коровники — для большого количества коров. Это было только очень поверхностное впечатление из окна быстро идущего поезда. Но это впечатление было совершенно определенное — большой сильной страны. И здесь на вокзалах — не разрушенных — такие же плакаты, несколько обветренные, полулинялые от времени, но с уверенностью утверждающие, что: «Räder müssen rollen für den Zug!» («Колеса должны крутиться для победы»). Как-то неловко было даже читать такие плакаты, а снять тоже нельзя. Кондуктор, пожилой человек, открывал по очереди каждую дверь купе и вежливо сообщал название станции, сколько времени будет стоять поезд, сообщал точное время отправления. И минута в минуту поезд начинал двигаться — никаких опозданий. Мы попали в страну порядка и точности. Все происходило по расписанию. Нас и обстреливали в Ленинграде по расписанию — мы это знали уже тогда! Если поезд стоял на вокзале довольно долго, мы с сестрой и Меербахом ходили на вокзал покупать Ersate-caffe — суррогатный кофе, наш спутник очень хорошо нас обучал, где и что можно купить без карточек. Немецкое гражданское население очень хорошо одето — как-то «добротно». Теплые драповые пальто и очень хорошая зимняя обувь — мы научились по обуви определять благосостояние страны. В Германии даже перед самой катастрофой, когда не было кожи для обуви, обувь делали из искусственных материалов, подошвы — из тяжелой искусственной резины или дерева, но все это продолжало выглядеть добротно и носилось на ногах долго и удобно. Так и сами немцы продолжали в самых ужасных условиях гибели городов, семейств, всей страны — держаться стойко, спокойно и выдерживать все испытания, и не ломаться: голодные, побежденные, еле живые — они продолжали выглядеть внутренне и внешне «добротно». Вечером 20-го апреля мы въехали в вокзал в Берлине. Не успели мы сойти на платформу, как завыли сирены. Воздушная тревога! «Вовремя успели»! — сердился папа. Меербах, вызвавшийся как бывший берлинец нам помочь на первых порах, сказал, что сегодня день рождения Гитлера и что в такой день все берлинцы получают «подарок» — с воздуха. Но посоветовал не обращать внимания: «Не весь же огромный город будут бомбить!» — и помог нам добраться с вещами до недорогого отеля, в котором он сам когда-то останавливался. Бомбежки мы не слышали — бомбили где-то далеко, в другой части города. Поэтому, должно быть, нас не загоняли в подвал, и мы спокойно доехали в такси до небольшого отельчика. И пока мы ехали в отель, тащили вещи на верхний этаж, где мы сняли временно маленькую квартирку (без права стряпать и варить еду; кофе и чай — только), прозвучал отбой. Меербах отправился к себе домой, оставив нам свой телефон и взяв обещание, что мы, когда устроимся, сообщим ему адрес, и он придет к нам в гости. Мы обещали: первые шаги в Берлине мы сделали под его «берлинским руководством», и он заслужил чашку нашего «русского» чая, вполне. Берлин уже больше года бомбили — теперь мы об этом узнали от хозяйки отеля. Было очень много разрушений. Но ужасающие многочасовые налеты, уничтожающие целые районы, только начинались. Пока, с середины марта, Берлин оставили в покое и не бомбили. (Сегодняшний налет — был только напоминанием Гитлеру и населению, что союзники в день рождения Фюрера о нем не забыли.) До 29-го апреля не было дневных налетов. И т. к. мы не были в Берлине в 43-м году и не ведали о бомбежках, мы думали, наивно, что Берлин не будут разрушать, хотя уже на другой день мы видели много зданий-руин, что говорило об обратном: Берлин бомбили и будут бомбить. Пока мы ехали в отель, из окна такси я рассматривала жителей Берлина. Меня очень удивило, что берлинцы на вид совсем обыкновенные люди с самыми обыкновенными лицами, без всяких признаков геройской сильной особенной сверхнации — ее не было. Они так же, как все простые смертные, спешили с чемоданчиками в руках к бомбоубежищам с испуганными и озабоченными лицами, поддерживая стариков, держа за руки детей, у которых в руках тоже были мешочки и чемоданчики — по силам, а у тех, кто постарше — рюкзачки на спине. В отеле хозяйка — полная румяная, несколько деревенского вида немка в большом переднике, о который она поспешно вытерла руки, выйдя к нам, очень вежливо и приветливо записала в большую книгу на высоком прилавке наши имена и дала нам расписку в получении денег. И даже не спросила нас: «Предъявите ваши документы!» Только пожелала нам: «Доброй ночи». И мы с непредъявленными документами пошли спать. Для нее мы были новые клиенты. А для нас она — берлинская хозяйка гостиницы, совершенно новый вид человека. Она следила за порядком, тишиной, удобством гостей своего семейного отеля, а мы старались не нарушать ее правил. Мы сразу залезли под громадные, очень тяжелые пуховики. Они были набиты не легким пухом, как во львовском монастыре, а тяжелыми перьями, и в комнате было холодно и промозгло. Устав от всех волнений, связанных с переездом в столицу Германии, мы заснули. Сквозь сон слышали звуки воздушной тревоги, пальбу зениток, но проснуться окончательно никак не смогли, да и казалось так надежно под тяжелым пуховиком, как в «индивидуальном укрытии». На следующий день мы отправились посмотреть на Берлин. Первое впечатление от города: огромный, тяжелый, серого цвета. Все из серого, потемневшего от времени и дождей камня. Постройки — большие, некоторые почти черные, давящие. И даже жилые городские дома — тяжелые, темные, увесистые. Нет совсем, как в Петербурге, стройных, прекрасных, легких и цветных домов и дворцов; и везде у нас — каналы, реки в граните, а гранит светло-серый, розоватый. И всегда, везде в Петербурге чувствуется или видна великолепная, полноводная Нева. Под открытым северным небом. Весь характер города — это характер нации, русский, а здесь характер города — германский, придавливающий и лишенный цвета и неба, ничего не блестит, не вспыхивает ярко, неожиданно — все темное, большое, почти мрачное. Самый яркий цвет в городе — изумрудная окись на многочисленных памятниках. И только два памятника перед кайзеровским дворцом были без ядовитых подтеков — это были кони барона Клодта, копии наших с Аничкова моста через Фонтанку. Очевидно, это царский дар кайзеру, и оба памятника отливались на наших заводах из высококачественной бронзы. Приятно и грустно их было «встретить» здесь — в Берлине. И они — оторваны от Отечества, как и мы… Очень скоро мы научились пользоваться метро и трамваем. Нам с сестрой это было легко: мы понимали все надписи, и, кроме того, берлинцы очень охотно давали объяснения, повторяя их для верности по нескольку раз — как лучше и быстрее доехать до нужного адреса. Берлинцы, неожиданно для такого холодного серого города, были любезные, теплые и с очень уютным юмором. В столовых, закусочных, ресторанчиках (мы заходили в очень скромные заведения, чтоб, по папиному выражению, платить только за еду — «не за красоту») персонал, видя что мы не берлинцы, любезно советовал, что лучше заказывать, что дешевле в данный день, что можно получить без карточек. Очень удивляла приветливость и честность: никто не хитрил, не жулил, не старался надуть — и не грубил. Какие-то «неестественные», по нашим привычкам, простые человеческие отношения простых немецких жителей Берлина. Папа постепенно приучился и стал ездить по Берлину один и умудрился находить все нужные ему адреса, встречаться со многими представителями русской берлинской колонии и устраивался на службу в «Винету». Мы с сестрой тоже начали искать службу или возможность учиться. Я отправилась в Берлинский университет со своими русскими документами из Медицинского института и документом от д-ра Кэмпф о «прохождении мною серьезной медицинской годичной практики в больнице под ее наблюдением». Администратор мне сказал, внимательно просмотрев все бумаги, что в мирное время меня бы приняли с моими «данными», по крайней мере, на четвертый курс, после того, как был бы пройден обязательный для иностранцев курс (около года) разных «наук», выравнивающих требования немецкого и иностранного университетов. И теперь меня примут на медицинский факультет, но до этого я должна пройти все такой же обязательный курс для иностранцев в специальном Институте для иностранных студентов. Институт находится в ведении университета и дает возможность иностранцам отшлифовать (или выучить заново) немецкий язык и познакомиться с предметами, которые не изучаются в других, т. е. иностранных, странах, как-то: история Германии, история национал-социализма. Для студентов из России — серьезный курс латинского языка; после революции в программе средней школы не было (как не было и греческого языка), и это требовалось восполнить. И, кроме того, после годичного образования и сдачи экзаменов все иностранцы должны пройти «Arbeits-dienst», т. е. отбыть трудовые работы в военной промышленности или в сельском хозяйстве. «Какая длительность работ? О-о, — сказал он мне задумчиво, — скорее всего — до конца войны». Вот оно — начинается… Но год учения — все-таки хорошее начало, если папа устроится на службу и нам с сестрой можно будет пока не служить, а учиться. Годичный курс для студентов-иностранцев проходит в филиале университета, в так называемом Доме имени Гегеля — Hegel-Haus. Мы с сестрой записались на собеседование. Нам обещали, что вызовут нас в течение следующих двух-трех недель.ПОЕЗДКА В ВЕНУ
Пока мы ждали ответа из Дома Гегеля, мы с сестрой решили съездить в Вену в надежде поступить в Венский университет, не теряя года на обязательный в Германии курс для иностранцев. Нам думалось, что в Вене отношение к иностранцам будет более снисходительным и нам, быть может, не откажут. Папины знакомые уверяли, что в Австрии не обязательно отрабатывать положенный в самой Германии срок трудовых работ, связанных с военным положением, что все законы Австрии, страны, оккупированной Германией после так называемого «присоединения» («Anschluss»), не такие жесткие и не так строго исполняются, как в самой Германии, и люди в Австрии, «добровольно» сделавшейся частью Великой Германии, мягче и сердечнее. Мы заручились письмом и адресом венского друга Димитрашвили, владельца отеля в столице Австрии и отправились в Вену вдвоем, почему-то не беспокоясь и не боясь оставить родителей одних в Берлине. Родители о нас тоже не тревожились: мы знали, что Вену и Австрию не бомбили, и ехали, исполненные радужных надежд. Поезд привез нас в Вену вечером, и мы с некоторым трудом добрались по скудно освещенной Вене до нужного нам отеля. Нас встретил сам хозяин — небольшой кругленький черноглазый человек, сделавшийся чрезвычайно любезным после прочтения письма его друга, которое мы ему тут же передали. Хозяин проводил нас в прекрасную просторную комнату с великолепными кроватями и довоенным тонким бельем и просил нас «быть его гостями» на время нашего пребывания в столице Австрии и извинился, что в связи с военным положением у него стало меньше прислуги в отеле и он не сможет нам по утрам «подавать кофе в постель» (!) Но мы можем завтракать в ресторане отеля… Утром отправились искать университет. Первое впечатление от Вены — она не показалась ни нарядной, ни элегантной, ни столичной. Булыжные мостовые и площади, даже перед дворцами. Дома серые — какие-то особенно «немытые», с грязными подтеками. И хотя улицы были чисто выметены и оживлены, «опытный» наш глаз сразу определил — «город в войне», жители придавлены трудностями войны и плохо их переносят. Венки очень изящные, но слегка запущены: шубки из красивого меха — потерты, туфельки, хоть и нарядные, но каблучки — сбиты, личики живые с быстрыми глазами — озабоченные. Легко можно было отличить в венской толпе немецких женщин из Германии по их плотным широкоплечим фигурам, толстым ногам, большим ступням в начищенной обуви без каблука. И у всех у них на головах — темные полумужские фетровые шляпы с пером. И шли они уверенно, спокойно — большими шагами. Университет — с торжественным входом, как в музей. Громадный вестибюль с красно-коричневыми мраморными колоннами, полутемный и полупустой. В административном помещении нас принял помощник ректора. И долго не задерживал: отказал сразу: «Мы иностранных студентов не принимаем». Мы печально откланялись и пошли осматривать Вену. На всем лежала печать войны — город был весь в серой гамме: дворцы серые, но более легкой, некайзеровской архитектуры с красивыми черными чугунными решетками, небо серое, пасмурное, и в душе — не радостно, смутно. Вышли на площадь со знаменитым собором Святого Стефания. Собор величественный, но ему тесно на маленькой площади, зажатой со всех сторон домами. Впечатление — двоякое: прежде всего, восхищение от легкости архитектуры и стремительности ввысь всех линий громадной остроконечной колючей башни над торжественным входом и удивление количеству каменного кружева, украшающего весь храм, как будто эта вычурная каменная филигранная резьба и была целью его постройки. Невольно вспомнились прелестные наши новгородские простые стройные храмы, как бы вырастающие прямо из новгородской земли, белеющие на фоне синего неба. Я долго стояла перед серым кружевным католическим храмом, рассматривая детали изумительного западноевропейского мастерства… Собор Св. Стефания — символ и гордость Вены. Большое впечатление своею грандиозностью произвел оперный театр — «живое сердце» Вены. Жизнь Вены и венцев связана с оперой и как бы крутится около нее. Оперный театр похож на наш Мариинский театр, только много больше. Мне удалось попасть в Оперу на вагнеровского «Лоэнгрина». Я очутилась в самом последнем ряду галерки, сцена была далеко внизу, как на дне пропасти. — было и жутко от такой высоты и беспокойно, что мы ничего не услышим и не увидим. Но когда оркестр заиграл увертюру, мне показалось, что я с небесной высоты внимаю музыке Вагнера, которая торжественно поднималась ввысь, наполняя меня неизъяснимой радостью и волнением. Оперу разбомбили, когда Австрию начали сокрушать с воздуха. Но венцы сразу после окончания войны ее восстановили — символ своей любви к музыке и своей духовной независимости. Я ходила по Вене, буквально натыкалась на дворцы, музеи, особняки, не зная их названий, не чувствуя, где они географически расположены по отношению к собору Стефана. Мне нравилось ранним утром бродить по неизвестным мне улицам Вены — заходить в переулки, рассматривать жителей города, их дома, дворцы, магазины, витрины, всегда почти пустые. Война, казалось, уже утомила население города, а ведь для Австрии это была пока только оккупация ее Германией! Большое удовольствие было выпить кофе утром (конечно, «Ersatz», но очень хорошего качества с капелькой молока) в каком нибудь кафе. Я каждый раз выбирала — другое. Мне нравилась спокойная, очевидно ничем не нарушаемая атмосфера, царившая в кафе: все они были похожи одно на другое, обшитые темной дубовой панелью с высокой стойкой, тоже темной, за которой восседал неизменно любезный хозяин, и маленькими столиками с чистейшими белоснежными скатертями. За столиками сидели старички, все тоже похожие один на другого — сухонькие с белыми седыми головками, очень опрятные, с усами самой разнообразной формы, очень старомодной, кончики усов у многих были закручены наверх и смешно топорщились. И все одеты в темные старомодные костюмы с белыми накрахмаленными стоячими воротничками, какие увидишь теперь только на старых пожелтевших фотографиях, и при черных, тоже старомодных галстуках с булавками — как будто они сидели здесь с начала века. Перед каждым старичком стоит чашка кофе и на тарелочке — одна венская булочка с крошечным кусочком масла и микроскопической порцией варенья. И все — читают утреннюю газету, которая для удобства чтения (и лучшего сохранения) прикреплена к полированной резной палке во всю ее длину. Левая рука держит палку, правая переворачивает страницы. Меня этот устоявшийся, чопорный, неторопливый порядок и уклад жизни очень удивлял и казался книжным, безмолвным, нереальном, а я сама себе казалась явившейся из другого мира — большого, шумного, неустойчивого и опасного, который этих тихих старичков поглотит! В одну из моих многочасовых прогулок я неожиданно для себя вышла к реке, широкой, полноводной, серой, со множеством барок, пароходиков, лодок на ней. Это был Дунай. «Голубой Дунай». Моросил мелкий дождик, пахло сыростью, водой, задворками большого города. И салонная музыка штраусовского вальса совсем не подходила к этой широкой, полноводной очень «деловой» осенней реке. Еще до отъезда сестры из Вены она настояла на посещении Пратера — места развлечения жителей Вены и приезжих, для «толпы». Толпа была густая, вечерняя, жадная, требующая сильных ощущений, темная, ненарядная; и воздух с запахами чего-то кислого, влажной грязи под ногами. И над всем этим «гулянием» царит огромное металлическое колесо, видное очень издалека, с люльками, лампочками и визжащими пассажирками. Я очень боялась потеряться и держалась за рукав сестры. Мне совсем не понравился Пратер, не понравилась давящая влажная темнота над ним, некрасивые балаганы и тяжелая нерадостная толпа, хотя многие громко кричали, громко смеялись и очень толкались локтями. Как приятно было вернуться в чистый отель и в уютной тишине забраться в кровать. Вспомнилось, как в раннем детстве нас водили на Масленицу на вербный базар. Как все было нарядно, весело! Весенний день, сверкающий, начинающий таять снег, лужи с блеском солнца и синего неба — запах снега, весны. На улицах — разукрашенные лентами и бубенчиками «вейки», а на самом базаре — щелканье и свист птичек в клетках. И везде — на всех будочках развешаны клетки с прыгающими, поющими птицами. Мы всегда возвращались домой с птичкой в клетке, которая вскоре улетала через открытое окно… И не только птицы славили весенний день; дети, взрослые смеялись, перекликались, свистели в пестрые свистульки, дудки — у всех детей в руках прыгали на резинках яркие разноцветные «растягаи», трещал «тещин язык». С особой волнующей музыкой кружилась нарядная, расписная, с блестками, карусель, с разноцветными лошадками, сидеть на которых и кружиться под чудную романтическую карусельную музыку было счастьем, радостью, мечтой, так хотелось, чтобы сверкающая карусель никогда бы не останавливалась и можно было бы скакать и скакать на белом в серых яблоках коне… Нам всегда покупали в разукрашенных цветами и лентами расписных балаганчиках сладости, вкуснейшую, рассыпчатую халву, розовую, белую, бледно-зеленую пастилу. И мы возвращались домой полные радостных впечатлений, усталые от весеннего воздуха, крика, звона базарной музыки; нас укладывали спать, и сквозь сладкий сон я слышала напевный голос бродячего татарина из глубины двора: «Халат-халат… и костей-тряп…» Счастливые звуки непотревоженного детства…ДОМ ГЕГЕЛЯ
Курс для иностранных студентов проходили еще до войны в филиале Берлинского университета — в большом доме, расположенном вблизи университета, на реке Шпрее. Филиал назывался Дом Гегеля, в этом доме преподавал и размышлял великий немецкий философ Гегель. Расположен Дом был напротив Pergamont-музея — только перейти речку Шпрее, в самом центре города, близко от Кайзеровского дворца, от оружейной палаты, Tiergarten — охотничьих угодий Фридриха Великого и Бранденбургских ворот. И театров, и знаменитой Unter den Linden, и маленьких вилл около аллеи. Самый центр торжественного старого Берлина. Unter den Linden — сколько раз я слышала от моей англичанки описание улицы под липами: это — широкая магистраль, ведущая от дворца к Бранденбургской триумфальной арке, дальше проходит через Tiergarten с прекрасными мраморными статуями и бюстами, густыми деревьями и кустами. Около Тиргартена — район посольств, отелей, правительственных учреждений и чудесных вилл на улицах, засаженных каштанами и липами. Это, кажется, единственный район Берлина, где все время видишь небо, под которым построен город. К сожалению, этот район уже очень пострадал: много обрушившихся домов и вилл. Но все улицы тщательно расчищены и выметены. Здесь чувствуется размах огромного города, который очень внушителен. Много зданий посольств построено при Гитлере уже в его сверхчеловеческом масштабе. Я часто ходила гулять по этому району, когда переехала в пансион при Доме Гегеля и очень полюбила его. Мне нравилась широта улиц, смесь старых построек тяжелого классического стиля и новых — тоже серых, но еще незакопченных — имперского стиля, с большим количеством громадных колонн и каменных орлов со всегда раскрытыми крыльями. На меня действовало очень успокоительно то, что в Тиргартен стоял самый большой, самый крепкий, самый знаменитый «непробиваемый» бункер в Берлине. Очень полюбила здание Арсенала, особенно рельефы масок умирающих воинов под самой крышей; их лепил Андреас Шлютер, о котором я читала в немецкой книге по истории искусств в Германии, что он уехал на Восток и «следы его исчезли в тумане неизвестности». А во всех русских книгах по архитектуре Петербурга написано, что дворец Петра в Летнем саду построен по проекту Андреаса Шлютера и Трезини (отца). И как же чудно построен. Как все красиво и просто и в самом дворце — с кафельными сложными печами в голубых изразцах и темной мебелью… И из окон видны Нева, Фонтанка и Летний сад. Я нашла в Тиргартене большой бюст Шлютера с мраморными, чуть пожелтевшими локонами, ниспадающими на его плечи, с высоким прекрасным лбом и тонкими чертами лица. Я несколько дней рисовала в парке на очень большом листе бумаги мягким черным карандашом бюст Шлютера в его натуральную величину. И рисовала несколько его «масок смерти» — умирающих воинов… Мне очень нравились столичные виллы — все разные, с красивыми фасадами, высокими окнами, многие уже — поврежденные войной. Как мне хотелось посмотреть, кто же живет в этих домах, какие люди встречаются в залах за этими дверями с зеркальными стеклами, о чем они думают, о чем говорят, о чем заботятся жители «состоятельного породистого» Берлина. Днем ни в саду перед домом, ни в окнах никогда никого не было видно, иногда лишь прислуга протирает окно. А вечером я никогда не гуляла — я панически боялась налетов на Берлин, особенно потому, что мама и семья жили так далеко от меня, в северной части города, и я чувствовала себя одинокой и уязвимой. Днем я несколько раз спасалась в знаменитом сером бункере Тиргартена и, все-таки, хотя он был как крепость, внутри было страшно: наверху были расположены зенитные орудия и, когда они стреляли при налетах, весь бункер содрогался и гудел, и нельзя было разобрать, что этот гул и уханье — выстрелы или прямое попадание бомб. Постепенно мое впечатление от военного Берлина менялось: Берлин был очень сильно поврежден бомбежками, и я просто по приезде не видела всего города. Уже с начала 1943 года были тяжелые налеты с большими разрушениями. Но эти страшные подчас разрушения делались менее ужасными на вид через некоторое время: берлинцы расчищали улицы сразу после отбоев. Кучи битого кирпича, стекол, обвалившихся стен, весь мусор, оставшийся от зданий после попадания бомб, загораживающий улицы, убирался, вывозился — улицы и тротуары совершенно очищались, и жизнь шла дальше. Свидетелями налета оставались лишь части стен, обвалившихся зданий, венки и цветы, лежащие на горах щебня и разрушения — тем, кто не спасся и остался под ними. 7 мая 1944 года был налет на Берлин полутора тысяч бомбардировщиков. Мы с сестрой в это время отправлялись на предварительное интервью в Дом Гегеля и, не дойдя до него, спустились в подземку. Бомбы ложились очень близко: на Фридрих штрасе, Унтер ден Линден, Вильгельм штрассе и т. д. Били по центру Берлина. Дневной налет был американским. Американцы кидали только фугасные бомбы, разного веса, иногда неслыханно тяжелые. Английские же налеты были ночные и более тяжелые — англичане бросали воздушные мины, которые летели с чудовищным воем, терроризирующим население, летели мины под очень пологим, почти горизонтальным углом и врывались сбоку, даже в нижние этажи и подвалы, и разрывная волна шла тоже по горизонтали и приносила очень тяжелые разрушения. Начало занятий в Доме Гегеля назначено на первую неделю мая, если нас примут. Мы, наконец, получили приглашение на собеседование. Дом Гегеля находился очень близко от узловой станции подземной линии метро, со многими глубоко расположенными туннелями. Станцией пользовались как бомбоубежищем во время налетов. Там даже была на самом нижнем уровне комната матери и ребенка («Mutter and Kind»). От Александер плац можно было добираться до любых районов Берлина, в том числе и до нашей новой квартиры в северо-восточной части города в Панкове. Мы очень недолго жили в отеле и сняли квартиру через знакомых Гали Орлик (Plugfeller), которая переехала к родителям мужа, на соседней с нашей улицу, и жила в маленькой вилле, в маленьком, но красиво ухоженном саду, с цветами и старыми деревьями, улица была спокойная, тенистая. И наша, следующая улица была тоже зеленой и тенистой. Раз в майский вечер на конек крыши дома напротив нас прилетел и сел соловей. И пел, и щелкал, и заливался, подняв свою маленькую головку к небу. Когда он улетел, хотелось плакать. И его война спугнула, смела — и он оказался в Берлине, но пел свои песни… Ему было достаточно — неба. Квартира принадлежала майору полицейских войск Бэку и его семье: жене и дочери. Семья находилась в эвакуации, а майор — в одном из городов на востоке. Они были рады, что в их квартире будут жить друзья друзей — залог того, что о квартире позаботятся. Только просили в самой большой комнате, в гостиной, не жить, только в двух других — в громадной спальне и комнате дочери и на кухне — очень комфортабельной. Квартира была обставлена. Мы всю одежду майора и семьи и все хрупкие безделицы сложили в гостиной и закрыли простынями от пыли и спокойно зажили в бэковской квартире. В нашей с мамой комнате было хорошее пианино и прекрасный громадный, как шкаф, радиоприемник, с хорошим звуком — источник информации, и политической, и военной и, что очень важно, информации о воздушных налетах. О налетах (по всей Германии) сообщалось круглые сутки: откуда летят бомбардировщики, в каком количестве, в каком направлении, какие города под угрозой. И я все это изучила по карте. Когда направление было Шлезвиг-Хольштейн, значит, это направление на Берлин. Из Италии бомбардировщики теперь на Берлин не летели: с итальянских баз американцы бомбили юг и восток Германии. Из Англии — запад, Берлин, Дрезден и другие города. Информация всегда точная, не засекреченная; когда бомбежка была уже в полной силе, то сообщали, какими бомбами бомбят: фугасными, фосфорными (их сбрасывали обычно после фугасных — тогда они приносили больше вреда) или воздушными минами — самый ужас населения. Когда бомбы уже сыпались на города, всегда сообщали, какой район бомбят и какой, возможно, находится под угрозой. Нам была удивительна забота о населении — информация и незасекречивание. Пока нам было очень удобно «в части» квартиры. Папа поселился в комнате майоровой дочери. Там, за девичьим белым столом, папа писал статьи, занимался и спал, свернувшись в белой девичьей кровати. Мама по карточкам покупала продукты в магазинчике колониальных товаров (мы были к нему «прикреплены»). Система прикрепления к определенному магазину помогала лучше и экономнее распределить продукты в городе. В магазине сидели старичок в большом белом фартуке и его любезная старушка. Собственники лавочки «Колониальные товары Штеймеца». И мы с ними подружились по-добрососедски: он всегда предупреждал, что и когда привезут в его магазинчик, и всегда оставлял маме положенные товары, если мама вовремя не появлялась. Старый берлинец со старым обхождением. В квартире, в которой мы жили, в майоровой гостиной стоял большой застекленный шкаф, и в нем — книги. Это было для меня огромной радостью. Я считала, что не нарушу договора, если буду брать книги для прочтения, не вынося их из дома, чтобы не потерять и не запачкать. И я почти всю библиотеку полицейского майора прочитала с большим удовольствием. Многие книги я читала раньше — по-русски. По-немецки они воспринимались иначе. Наступил день, когда мы должны были явиться в Дом Гегеля с нашими документами на собеседование. Дом очень большой, обращенный фасадом к реке Шпрее. Река узенькая, треть нашей Фонтанки, но тоже с чугунной оградой и каменными (не гранитными) тумбами. Набережная, на которой стоял дом — очень узкая, напротив ворот — пешеходный металлический мостик через речку на территорию Пергамонт-музея. Мостик закрыт решеточкой на замок. По ту сторону Шпрее расположены очень торжественные темно-серые постройки музея-дворца, с широкими лестницами, колонками, переходами, и везде — бронзовые, позеленелые скульптуры людей, всадников, коней, орлов и барельефы на стенах. У высоких железных ворот Дома Гегеля — будка с охранником, он же дворник. В главном пятиэтажном здании в бельэтаже — обшитая дубом огромная библиотека и аудитории с темной мебелью и темными лестницами, ведущими в верхние этажи с классными комнатами и квартирами двух начальниц Дома Гегеля. От главного здания отходят два флигеля — трехэтажные дормитории студентов. И между ними узенький дворик. В приемной перед библиотекой, куда нас с сестрой провели, собралась большая группа людей — все студенческого возраста, все так называемые иностранные студенты. И все между собою говорили по-русски. Это был очень приятный сюрприз. Только очень маленькая группа (они держались отдельно) была из Венгрии и Чехословакии, все же остальные — из России. Очень немногочисленная часть студентов из России была немцами — колонистами, с простыми крестьянскими лицами. Они говорили на немецком диалекте, понять который было очень трудно, и сразу переходили на русский язык, видя наши вопросительные выражения лиц. Но большинство были русские. Мы узнали, что те, кто будет принят в Дом Гегеля, должны будут жить в пансионе при Доме, а семейные иностранцы, живущие в Берлине, будут ездить только на занятия; группы живущих в Доме и приезжающих будут разные, соответственно разнице в возрасте, и программа будет несколько отличаться. У живущих в Доме она будет более расширенной и насыщенной. Нас всех провели из приемной в библиотеку и рассадили по стульям в очень торжественном помещении, с громадными зеркальными окнами с видом на музей и памятники с зелеными головами и плечами. Мне очень захотелось учиться в этом тихом, темном, европейском «храме науки», через который прошло так много сотен людей, ищущих возможности расширить свое образование в европейском университете. По всем стенам — встроенные высоченные дубовые шкафы с книгами за стеклянными дверями. Драгоценная библиотека. Наверное, и Гегель открывал эти шкафы и высматривал, что бы ему почитать и потом покритиковать… За темным длинным полированным столом лицом к нам сидел в кресле с очень высокой спинкой и шишечками наверху почтенный старец, с розовыми щеками, небесно-голубыми глазами, как у нашего папы, и совершенно белыми волосами и белой бородкой клинышком. Это был ректор — профессор Ремке. С каждой стороны от профессора стояло по сухой фигуре в черных одеждах и тоже с белыми волосами. Две седые начальницы Дома Гегеля. Они то наклонялись к голове профессора, то распрямлялись вместе и по очереди что-то шептали ему в уши. Когда они наклоняли свой плоский угловатый стан к профессору, они улыбались сладчайшей улыбкой. Когда они расправляли свой стан и поворачивались к нам, на их лицах не было даже следа улыбок — губы делались тонкими, и они вызывали нас по очереди холодными голосами. Это скорее походило на старую диккенсовскую Англию, чем на Германию. Вызванный должен был встать и отвечать на вопросы профессора, всегда академического характера: что и где мы изучали, как долго находились в обучении и т. д. Черные дамы иногда вмешивались и дополнительно задавали вопросы, их интересовавшие: кто родители (они привыкли к иностранцам за долгие, догитлеровские времена своей службы), чем занимаются и занимались до войны; им хотелось ознакомиться с нашим «социальным положением». Им это было чрезвычайно важно, и они отмечали что-то в своих маленьких кожаных книжечках. Туда вписывался своеобразный «табель о рангах», в соответствии с которым они в дальнейшем обращались с нами: с одними — весьма вежливо, с другими — требовательно и придирчиво, с третьими — небрежно. Все немецкие колонисты сразу попали в третью категорию. Все русские, почти, попали в первую категорию, и некоторые одинокие студентки без особых выдающихся родителей и без «немецкого знатного жениха» попали во вторую категорию. Решало, конечно, не происхождение, национальность, образованность, а богатство или бедность студента. Дочь профессора считалась по немецким масштабам обязательно «богатой особой». Невеста немецкого офицера тоже, а дочь колониста для них — вроде крестьянки или служанки. Со временем за наше там пребывание они изменили постепенно свои предвзятые мнения и сделались более человечными, и даже, как ни странно, привязались к нам. Этому, конечно, способствовали тяжести жизни в Берлине, которые мы несли все вместе. Во время войны совсем меняются старые ценности: богатство, положение — они заменяются ценностями сердечной крепости. Эти две начальницы, обе старые девы, отдавшие жизнь Дому Гегеля и не имевшие никогда радости семейной жизни, были с молодыми людьми-студентами нашей группы сладко учтивы, независимо от «табеля», никогда к ним не придирались и приглашали их по очереди пить чай (с печеньем) в их покои. (И потом эти счастливчики — было уже очень голодно в Берлине — приносили нам голодным «остальным» в ладонях теплое, чуть раздавленное печенье — подкормиться.) Когда кончился опрос профессором Ремке, нас распустили с обещанием сообщить по почте о результатах решения Дома Гегеля. До получения извещения из Дома Гегеля мы с сестрой продолжали спокойно жить в Панкове, постепенно знакомясь с Берлином, иногда сопровождали папу в «Винету» и вечером, почти каждый день, ходили в кино слушать и смотреть сводку. Когда начиналась сводка, на экране появлялся огромный земной шар, крутящийся; он очень долго крутился под всегда одну и ту же музыку — «Прелюдию» Листа. У меня листовская «Прелюдия» на всю жизнь слилась с немецким Wochenschau — немецкой сводкой. В сводке показывали вести с фронта. Как советские оптимистические передачи начала войны по радио об «отходе на лучшие стратегические позиции», так и немецкая сводка бодро рассказывала о новых лучших позициях. А вслед, один за другим, перечислялись города, которые покидали немецкие войска. Нам и «между строк» не нужно было читать — мы знали все по одним названиям городов: картина для Германии была катастрофической. Всегда, в каждой сводке показывали издали идущих военнопленных — темный бесконечный поток, медленно двигающийся по извилистым дорогам через заснеженные поля, холмы… И показывали лица русских военнопленных — крупным планом, всегда выбирая лица кривые, совсем распухшие, ужасные лица, чаще всего азиатской народности, всегда в рваных шинелях, фигуры нахохленные, дегенеративные на вид. И сообщалось крупными буквами во весь экран: «Так выглядит русский Untermensch». Выходили на улицу с возмущением в сердце. А папа философски замечал: «Как они не подумают, что это ведь позор для них, что такие полулюди изгоняют их из России».И наша пропаганда, и немецкая покоятся на лжи. Но несмотря на ложь немецкой пропаганды, мы на другой день опять шли в кино, чтоб посмотреть следующую сводку Wochenschau. Сквозь пропаганду мы правильно видели и оценивали события. Раз мы увидели в сводке снимки немецких окопов и громадные дальнобойные орудия, углубленные в вырытую землю — только торчат длинные стволы в небо и направлены они на восток. А в дымке, вдали — Ленинград, хорошо виден Исаакиевский собор, тускло поблескивал купол, и был, он слава Богу, не разрушен! Что говорил диктор, я не слышала: это был наш город — Петербург-Петроград-Ленинград! И мы смотрели на него «из-за немецких окопов». А по всей правде жизни мы должны были быть там, в своей стране! Пришел ответ из Дома Гегеля: меня приняли на следующий курс, и я должна явиться (с вещами) через два дня в Дом Гегеля и жить в нем вплоть до окончания курса и выпускных экзаменов. Сестра принята на такой же курс (тоже в филиале Берлинского университета), но на территории General-Govemement (Польши). Почему-то ни родители, ни сестра не беспокоились, что ей придется ехать на восток — навстречу наступающей Советской Армии. Она быстро собралась и уехала в Польшу. Единственное напутствие от родителей: если советские войска будут приближаться — беги, не жди, когда вашу группу будут вывозить организованно. А я собирала вещи, чтоб отправляться в Дом Гегеля. Все принятые в Дом Гегеля собрались в назначенный день в библиотеке. Были только две седые начальницы. Нам предложили выбрать себе кого-нибудь из всей группы для жилья в дормитории. Все комнаты были рассчитаны на двух человек. Женская часть дормитория была на втором этаже флигеля, мужская частично — на третьем. Но главным образом — в верхних этажах главного здания. Под главным зданием с аудиториями, кабинетом ректора, библиотекой был подвал, погреб, он же и бомбоубежище, с очень тощими, кривенькими деревянными столбиками, подпиравшими потолок, и небольшими окнами (даже без щитов), выходящими на наш узкий дворик. Мы еще не испытали в Берлине бомбардировок союзников, все это было впереди: пока мы об этом не беспокоились. Ко мне подошла белокурая хроменькая студентка и спросила очень застенчиво: «Можно мне с вами жить в одной комнате?» У меня к ней сердце с нежностью открылось, и мы с ней зажили очень уютно, не мешая друг другу. Она мне очень доверяла во всем, и постепенно у нас сложились отношения матери-дочери, хотя мы были ровесницами. Моя соседка была студентка 1-го Медицинского института (ленинградского) Герта Маттес (настоящая немочка из «василеостровских»). Я ее смутно помнила по занятиям в анатомическом театре — очень хорошенькая, со светлыми волосами и детским личиком, одна ножка у нее была короче другой, и она носила ортопедический сапожок с увеличенным каблуком, но все равно очень хромала и совершенно об этом не заботилась. У нее была милая подкупающая улыбка и доверчивое личико, и всем хотелось ее оберегать. Подружилась же я с русской студенткой-медичкой Ириной Глюк, с внешностью барочного ангела и с очень приятным сопрано. Ей бы на лютне играть или на арфе. Ирина по мере движения на запад сделалась беженкой с музыкальным именем. А я ее звала Клюшенькой, и были мы неразлучны. Я ее приглашала в воскресенье к нам в Панков. Ирина была очень ласкова с мамой и пела ей романсы, аккомпанируя себе на бэковском пианино. Когда советские войска приближались к Берлину, Ирина решила вернуться в Советский Союз, в надежде, что ее простят, и она, имея голос, сможет как-нибудь не погибнуть. Нас не было в Берлине, когда она приняла это решение. Занятия в Доме Гегеля были очень интересными, особенно уроки немецкой литературы. Наш преподаватель доктор Кюне был острый, едкий, умный человек и беззаветно любил литературу, преподавал интересно, живо. Мы с ним к концу курса даже подружились. Биологию преподавала очень тонкая, черноглазая берлинка с прекрасным лицом и такими же манерами. Я для нее рисовала перед занятиями на доске схемы из ее книги, и она меня часто освобождала от занятий. Несколько раз я ее даже заменяла на уроке, когда она не могла приехать. Биологичка была представителем культурной старой Германии, которую в своем безумии разрушал Гитлер. И мы ее очень оценили, полюбили. Латынь — прекрасный красивый, и поэтичный, и торжественный язык, оживающий в руках талантливого преподавателя, здесь, в Доме Гегеля, находился в ведении старенького сухого немца, тоже берлинца, очень скучного. В петличке у него был значок национал-социалиста. Это был соблазненный бедный доверчивый человек. Он со всей искренностью своего простого сердца верил в непобедимость великой Германии во главе с «нашим Фюрером». Все неудачи на восточном фронте он отвергал: «Это только стратегия». Мы с нашим латинистом никогда не спорили, никогда не дразнили его: его вера и нелепость его ослепления были даже в какой-то степени не только жалки, но и трогательны. Каждый урок латыни он начинал с короткой сводки. Когда 5-го июня 1944 года произошла высадка союзников в Нормандии и открытие «второго фронта», когда всем нам было ясно, что дни Германии сочтены, наш непоколебимый латинист пришел на урок приподнятый и сияющий, как будто он только что услышал о великой победе Германии. Он торжественно воскликнул, подняв — высоко свой указательный палец: «Наконец! Теперь они убедятся, что Германия непобедима! Wehrmacht теперь-то применит „новое оружие!“» К осени он очень изменился, бедный, совсем посерел и поник и только шептал перед занятиями: «Погибает великая страна!» и «Min Vaterland ist verloren!» (Мое Отечество пропало!) Выглядел латинист тяжело заболевшим человеком. Но занятия он продолжал вести очень методично. За весь год латинист вызвал меня только один раз, в первую неделю обучения и больше ни разу, неизвестно почему, и я перестала учить латынь, хотя язык мне очень нравился. К выпускному экзамену я знала всего одну, правда, сложную фразу и вытянула билет именно с этой фразой, которую и прочитала «с выражением» и разобрала «со смыслом». Когда экзаменаторы, приехавшие из Польши, хвалили меня латинисту, он скромно улыбался: «Я это всегда знал!» Как мне было всегда стыдно, что я оказалась недостойной ученицей доверчивого бедного старого латиниста и, вроде Гитлера, обманула его доверие. Очень важным предметом для иностранцев, без овладения которым в совершенстве не выдавался аттестат об окончании курса, была история и идеология национал-социализма. Преподаватель этого предмета был довольно странный и неподходящий: им оказалась дама средних лет, полная, с большими влажными голубыми глазами, чуть навыкате, которыми она смотрела по-детски восторженно, редко мигая. Этот восторг был основным ее качеством,но восторгалась она отнюдь не национал-социализмом, а мистикой, возможностью проникать в тайны человеческой души, предсказывать судьбу. Она рассматривала у нас всех на ладонях линии рук, спрашивала даты рождений, составляла гороскопы! Она выбрала меня объектом своих мистических опытов и на уроке истории национал-социализма к общему развлечению составила мой гороскоп, и всем громко объявила мое будущее и судьбу, сообщила, что я буду художником, но до этого будет много, много бед и «пересечение большой воды». Это пересечение большой воды мне уже раз цыганка старая по руке нагадала, когда я была школьницей и мы поехали всем классом за город. И беды нагадала, сильно меня напугав; Алик уговаривал меня не верить цыганской болтовне, но я верила. Мне нравилась жизнь в Д. Г. Размеренная, интересная, с занятиями как в институте. И с очень милыми русскими друзьями. К сожалению, война стала все больше сказываться на нашей студенческой жизни и жизни Берлина вообще. Нас стали очень мучить бомбардировки. Английские — ночные. Англичане жестоко и беспощадно мстили за неудавшуюся Гитлеру «битву за Британию», когда немцы с воздуха сокрушали Лондон и бомбили промышленные города Англии. Почти каждую ночь нам приходилось вставать по тревоге и бежать в наш подвал. Англичане начали бросать воздушные мины, говорят, что разрушения мины производят огромные и летят с ужасающим воем. Это называлось «террористическими налетами». Я стала все больше и больше бояться бомбежек. Особенно, когда приходилось сидеть в подвале дома. Подвал был никуда не годный, когда бомбы падали в нашем районе — хоть и довольно далеко — дом покачивался, деревянные кривенькие столбички скрипели жалобно, и мы были уверены, что нам несдобровать, если будет прямое попадание в Дом Гегеля. Единственная дверь — тоненькая, деревянная, обычная дверца в дровяной сарай. Мы несколько раз утром, совсем рано, в пять часов, ходили в оперный театр стоять до открытия кассы в очереди за билетами, стоячими. Мы всегда выходили после ночной бомбежки, чтобы до дневной уже вернуться в Д.Г., позавтракать и успеть на занятия. Раз, когда мы шли студенческой группой за билетами, на дороге, перегородив ее, лежал темный ствол поваленной липы. Ствол был могучий, старый, крепкий, черный и на ветвях появились нежно-зеленые побеги из больших липких лиловых почек. На обратном пути я наломала несколько веток, и они долго стояли у меня в комнате и пахли свежестью и медом, детством и утраченным миром. В конце июня мы стали каждое воскресенье выезжать за город. Но не для отдыха. После завтрака мы, по распоряжению нашего ректора, должны были участвовать в спасении огромной библиотеки Д. Г. Спасение происходило следующим образом: мы всей группой запаковывали в мешки, обвязывали веревками пачки книг из библиотеки, заталкивали их в заплечные мешки и тащили на себе и в руках на Фридрихштрассе — на станцию метро, и оттуда мы ехали на электричке до загородной станции, где у профессора Ремке была вилла на берегу небольшого заросшего кувшинками озера. Все книги по плану ректора должны были быть перевезены и перенесены к нему, в его старенькую виллу. Казалось, что так спасать библиотеку совсем не стоило: вилла была такая же ветхая, как и сам профессор, но профессор любил книги, готов был и погибнуть с ними вместе, но у себя дома, а может быть, Дом Гегеля погибнет вместе с Берлином, а он с книгами останется. И мы, как муравьи, каждое воскресенье несли на руках, на спине драгоценную ношу. В доме Ремке прислуга поила нас лимонадом, кормила домашними лепешками, довольно вкусными, и мы могли сидеть под тенистыми деревьями его сада, лежать на душистой траве до вечера и купаться в озерце с розовыми кувшинками, что было очень приятно после пыльного, душного и опасного Берлина. Иногда появлялся и сам профессор, очень мило улыбался, кивал нам головой и только один раз сказал, как-то неуверенно, что мы делаем для Германии очень полезное дело, спасая «культурные ценности», хотя мы это делали для милого культурного старца, а не для Германии. Мне казалось, что я снова качу бочку с вареньем, но только теперь для нашего профессора, и он это прекрасно понимает и приготовился лакомиться, но т. к. в этом участвовали все мы, студенты, нам было весело и приятно, как-то празднично, и мы все любили эти «пикники» в саду над озером с кувшинками. Когда вся библиотека была «спасена», студенту нашего курса Володе Штанделю и мне Ремке передавал приглашение через двух начальниц, рисовать в его саду. Что мы оба с радостью делали. Наверное, он, читая книги из библиотеки, любил поднимать свою седую голову и лицезреть в своем саду две молодые фигуры, склонившие свои головы над работой; может, он тогда чувствовал меньше свое одиночество среди теней и духов ушедших великих людей… В последние недели июля, когда бомбардировки делались все более опасными и электричка иногда останавливалась из-за пожаров разбомбленных зданий над ней, мы перестали таскать книги на себе, а за два дня нагрузили два грузовика, нанятых Ремке и ехали налегке, чтоб их разгружать в его виллу, и библиотека Дома, в котором занимался Гегель, опустела. Остался только стоять его огромный темный стол с замечательно отполированной поверхностью. Студенты Дома Гегеля жили дружно, не ссорились, но, конечно, в такой большой группе людей были и огорчения, и обиды, и недоразумения. Нас было человек 60 студентов из России и несколько — из Венгрии, Румынии и Чехословакии, которые с нами не общались и держались своей маленькой группой. Настоящие немцы в нашей российской группе старались подружиться с нами, русскими, но у нас не получалось крепкой дружбы, хотя мы и старались (я старалась). Но вся наша психика была иная, и интересы — русские, и у нас в конце концов ничего не получалось. Мы, русские, были столичными и жителями больших городов, с совершенно определенными взглядами и настроениями. Русскими. И судьба Германии не волновала нас так, как немцев. Германия не была нашей страной, и печаль наша о ее гибели не была нашим горем. В середине июня был дневной налет на Берлин, американский, волна за волной летели на Берлин сверхкрепости и сбрасывали на город свой груз. В течение нескольких часов одни сверхкрепости, груженные бомбами, освободившись от них, летели на свои базы, другие, груженые, летели им на смену. Мы сидели в подвале нашего Д. Г. в страхе и непрекращающемся нервном напряжении. Наши старания — рассказами и разговорами отвлечь внимание от слышной, хотя и не слишком близкой, бомбардировки — стали не очень действенны. Мы больше слушали уханье падающих бомб и чувствовали содрогание земли. Меня даже рассказы студентов об эпизодах их жизни слегка раздражали, они мешали слушать тяжелые разрывы падающих бомб. Разрывы не приближались, и хотя бомбардировка не утихала, но хотя бы не двигалась в нашем направлении. Один из наших студентов, живший в одной комнате с Володей Штанделем, немец с Поволжья Гарри Крамер, хромой человек, развлекал всех рассказами о своей солдатской жизни в Красной Армии и о своем переходе на немецкую сторону, я стала его с интересом слушать. Мне Гарри Крамер никогда не нравился, и я его избегала: он был странный, неровный, иногда приятный, даже веселый, но большею частью холодный и злой человек. С перекрученной психикой. Володя считал К. очень несчастным, с неудавшейся судьбой; он — полунемец, полугрузин, по характеру раздвоенный: то по-немецки мелочен, пунктуален, узок в суждениях, то по-грузински широк, размашист, добр и всегда от двойственности страдает и находится в борьбе с самим собой. Крамер рассказывал, что когда его мобилизовали в Красную Армию, он с самого начала своей службы решил перейти к «своим» («свои» для него были в данном случае — немцы) и готовился к этому, поджидая подходящего случая. Когда фронт был на Кавказе, он был послан в разведку с небольшой группой солдат, ночью. Они подползли довольно близко к немецкой линии и стали высматривать расположение немецких частей. Крамер был командиром разведчиков и послал своих солдат обратно, сказав, что попытается еще ближе подползти к немцам, чтоб все рассмотреть. Когда солдаты отползли к своим позициям, он стал на животе, «по-пластунски» ползти к немцам. Немцы его заметили, поднялась тревога, и в него стали стрелять. Крамер был к ним уже достаточно близок и успел крикнуть: «Не стреляйте, я немец!» Немцы перестали стрелять, но начали стрелять свои. Постреляли, постреляли и перестали — Крамера даже не ранило. Он вылез к немцам. И стал им о себе рассказывать, что он немец-колонист и решил перейти к «своим». Реакция немцев была радостной, его хлопали по плечу, обнимали и весело повели ужинать, и все пили «шнапс». Гарри Крамера приняли, как своего, обласкали и не потребовали «документов». Просто — поверили. Никому и в голову не пришло подумать — а уж не засланный ли это к ним шпион? А у нас бы первым делом арестовали — даже бы и не сомневались, что ты шпион, и вымучивали бы «признание». Крамер вскоре сделался немецким солдатом и пошел воевать с русскими. В бою он потерял ногу выше колена и ходил с протезом и палочкой. Для меня, русской, было непонятно, как можно идти против своих, — не против коммунистов, а против своих солдат. Но, очевидно, не будучи русским, у него была совсем другая психология, другое понятие о чести; разумом я это с трудом, Но понимала, но чувства мои возмущались. Но немецкая человеческая доверчивость вызывала у меня уважение. Мой муж Анатолий Александрович Нератов рассказывал мне, что когда он во время войны был в ополчении, невдалеке от немецких позиций на среднем участке фронта они несколько дней пробыли на одном месте, ожидая не то дальнейших приказов, не то других групп московских ополченцев. Стало известно, что недалеко от деревни, где они стояли, в баньке, под арестом (у двери стоял красноармеец с ружьем) сидит мальчик, убежавший из немецкого плена. А.А. пошел к баньке и смог через стенку переговариваться с мальчиком. Красноармеец-охранник был добрый человек и А.А. не гнал, он говорил, что ему «мальчонка жаль…» Маленький арестант рассказал А.А. свою незатейливую историю. Ему тринадцать лет, он крестьянский мальчик, отец убит на войне, а когда Красная Армия проходила через его деревню, направляясь на близкий фронт, он привязался к солдатам и пошел вслед за ними воевать. Ему и пилотку дали и форму (только ушили). Но скоро вся часть попала в плен, а мальчик убежал — ему маленькому, быстрому, знающему все тропинки, норки-похоронки, это удалось, и он постепенно лесами, болотами, пробился к своим. И тут его сразу же арестовали — не поверили мальчику, что он не засланный немцами шпион, не рассмотрели, не услышали — и сидит он в баньке томится и все просит, чтобы его к главному бы отвели. А главный-то больше всего и не верит… А.А. с мальчиком все дни разговаривал, советовал ему, когда он будет свободен, больше не бежать за армией, а идти подальше от фронта и учиться, кончить школу, получить профессию — этим он принесет и людям и стране больше пользы. А мальчика все не отпускали. А.А. ему рассказывал народные сказки, пересказывал ему повести Тургенева, Лескова, Пушкина, мальчик слушал, прижавшись к стенке, и просил не уходить, еще рассказать. На третий день его увели допрашивать — до вечера он не вернулся, а вечером ополченцев отправили ближе к фронту, без оружия, где они попали в район боев и в плен… Может, мальчику попался добрый русский человек с простым не испорченным сердцем, который его сберег, а не превратил, небрежно, в «летящую» щепку. Администрация Д. Г. после некоторых хлопот и переговоров договорилась с дирекцией Пергамонт-музея о разрешении для студентов и профессоров пользоваться очень глубоким и крепким бомбоубежищем, находящимся под зданием музея. Это была великая милость, которую мы вскоре очень оценили. Подвал был действительно глубокий, с тяжелыми железными дверями. Низкие своды покоились на металлических железных колоннах. Если в подвале при бомбардировке потухал свет (городской), немедленно включался свет от батарей; была заготовлена вода, в нескольких отсеках бомбоубежища, разделенных железными дверями, стояли широкие деревянные скамейки, и всегда была охрана. Все выглядело очень надежно. Главное — успеть добежать до дверей убежища, пока его не закрыли на тяжелые железные засовы, изнутри. Мы прикинули, что убежище находится выше уровня реки Шпрее, так что нас не затопит… Во время дневных американских налетов стражники музея открывали для нас калитку пешеходного мостика через Шпрее, и мы из ворот дома прямо выбегали на мостик и через несколько минут оказывались в бомбоубежище с нашими всегда приготовленными «для бегства» чемоданчиками. Мостик был нашим спасением, особенно для моей комнатной подруги Герты, с ее тяжелой ногой и общей медлительностью. Ночью же мостик нам не открывали, и мы бежали в обход, что было довольно далеко. Днем теперь было спокойнее от сознания, что так близко спасение от бомбардировки. И я теперь далеко никуда от Д. Г. не отходила, чтобы можно было бы за несколько минут добежать до музея. Бомбардировка Берлина и постоянная угроза гибели вошли в подсознание и всегда присутствовали как фактор, к которому приноравливаешь все свои действия. Во вторник 27-го июня с утра у нас были занятия по геологии, астрономии с маленьким, быстрым профессором, приносившим на занятия разные камушки. Перекладывая их очень любовно с одной ладошки в другую, с улыбкой он рассказывал о разных земных наслоениях и отложениях. Его лекции были немного смешными, но отнюдь не скучными или глупыми. Удивительно, что ни один из профессоров и преподавателей Дома Гегеля ни во время лекций, ни в частных с нами разговорах никогда не касался ни Гитлера, ни национал-социалистической партии (кроме бедного латиниста, принявшего по слабости демагогию за правду) — как будто их не существовало. Говорили о Германии, старой, до Третьего Райха, о войне, о судьбах Германии и Европы, о России (не о Советском Союзе), но никогда — о Гитлере. Как и у нас — обо всем, но не о Сталине. Во время повествования о «геологических отложениях» на лекции нашего маленького геолога завыли сирены — опять американский налет, а значит, и долгий, и опасный. Мы все побросали и тетрадки, и карандаши, устремились в дормитории за чемоданами и через несколько минут спешили по гулкому металлическому мостику — в бункер. Я для скорости нашего с Гертой передвижения тащила и ее и мой чемоданы, а она рядом хромала, торопилась и всегда сердилась на американцев за то, что ей приходилось «спешить»! Наконец, мы оказались в бомбоубежище, и за нами с железным грохотом закрылись тяжелые засовы. На много часов. Американцы все летели и летели, волна за волной. Район, в который они сбрасывали бомбы, был где-то близко. Мы отчетливо слышали тяжкие удары бомб о землю (сквозь разрушаемые здания, быть может) и ужасающие взрывы, один за другим без перерыва — то ближе, то дальше; зенитки били непрерывно, гудели и давили гулом бомбардировщики, гул был такой сильный, воздух был нагнетен ревом — и мы слышали его даже в убежище. Свет при каждом взрыве затухал, а при взрывах, близких к музею, на некоторое время — гас вообще, и мы оставались в полной темноте и ждали, когда включатся батареи. Все сидели с испуганными и бледными лицами. Ирина шептала мне (как будто американцы могли ее услышать в своих «крепостях», но в подвалах во время налетов все всегда говорили шепотом) о том, что знаменитые античные рельефы борющихся титанов из музея перенесены в более глубокий подвал, который находится под нашим подвалом — ниже реки. И если будет прямое попадание в Пергамонт-музей, то даже самая тяжелая бомба дальше нашего подвала пройти не сможет: рельефы будут сохранены для будущих поколений — для вечности… Это было успокоительно в смысле следующих поколений, но нам, невечным, было очень страшно. Этот раз мы очень долго сидели в подвале, не меньше четырех часов. Утих грохот снаружи, а отбоя все не было. Один из стражников бомбоубежища вышел наружу — посмотреть, как выглядят окрестности музея, и пришел с известием, что «видно — много разрушений». Музей — цел. Но в наш Дом Гегеля было прямое попадание, и он рухнул. Мы еле дождались отбоя. Только выйдя из убежища и взглянув через речку, мы увидели, что наш Дом выглядел ужасно: переднего фасада больше не было — только куча битого кирпича, гнутого металла и еще не улегшейся известковой пыли. Кто оставался в подвале? Засыпан ли он? Мы заспешили на помощь. Перед воротами весь запудренный известкой стоял наш страж, очень расстроенный — он был во время налета в подвале с несколькими нашими студентами-мужчинами, и все они не чаяли выйти живыми. Но подвал не засыпало — все выбрались и были серыми от страха и пыли. Наши дормитории сохранились только наполовину — все, находившиеся в передней части здания с видом на реку, рухнули. Наш с Гертой флигель остался стоять, хотя все стекла и частично рамы вылетели. В очень потрепанном виде осталась часть дома с библиотекой, аудиториями и комнатами начальниц. И остался целым стол Гегеля. Но все выглядело неузнаваемо — все было белое от штукатурки и пыли. Окна выворочены — куски потолков отвалились и лежали на полу вместе с кучами битого стекла. Стекло было повсюду — на полу, на столах, на кроватях. Обе наши начальницы ходили, как белые привидения, только что под их ногами скрежетало стекло. После всеобщих печальных возгласов и все-таки радости, что все мы живы, начали сообща думать, как же теперь оставшийся стоять дом очистить и возвратить к состоянию пригодности для жилья. Студенты, оказавшиеся без крова, переселились в наш флигель. Места как-то всем хватило. Мы теперь должны были приводить свои комнаты в жилой вид своими силами и, кроме того, три дня в неделю работать по расчистке всего дома; занятия будут сокращены в последующие две-три недели. Все рамы и стекла будут вставлять строительные артели от города — от «специального отдела помощи пострадавшим от бомбардировки». Артель приехала на помощь на следующий же день с запасами стекол, рам, фанерных щитов и т. д. Мы удивились такой быстроте и налаженности: в Германии заботились о населении. После прямого попадания бомбы мы все получили автоматически статус разбомбленных. И здесь мы познакомились с изумительной немецкой организацией. Нам и всему району, который был поврежден последним тяжелым налетом или был разрушен, были выданы специальные купоны — каждому жителю района даже, если этот житель отделался только испугом и ничего не потерял; всему району по купонам в продуктовых магазинах выдали по два апельсина, плитку шоколада, немного масла и чуточку настоящего кофе. И кроме того, нам дали купоны на одежду — на одно платье (костюм для мужчин), пару обуви и пару белья. Мы получили купоны без задержки, без проверки, все зиждется на честности — наши начальницы подали списки всех живущих в Доме Гегеля, и через день нам всем вручили купоны. Мы отправились в магазин и выбрали все, что нам нравилось и на что у нас были купоны. И все было без очереди, любезно и просто. Кроме того, «разбомбленные» имели особые права передвижения по железной дороге. Красный Крест немедленно после отбоя выезжал в районы города, которые были разбомблены, с походными кухнями и раздавал пострадавшим от бомбежки жителям горячий суп с хлебом и настоящий кофе (не суррогат) — и все это делалось быстро, сердечно (говорят, супы были густые, вкусные — на честность сваренные); нам супов не привозили, т. к. у нас сохранилась часть (большая) дома и кухня, и наша категория была «не окончательно разбомбленные», и, конечно, никто из берлинцев, не имеющих права на «суп», и не думал поступить нечестно — и «втереться» в очередь за супом. Немецкий Красный Крест во время войны развил очень широкую деятельность. Сестры Красного Креста всегда появлялись там, где была в связи с войной самая большая нужда. В госпиталях, на разбитых дорогах войны, в районах городов, еще дымившихся от только что закончившейся бомбардировки. И это были не просто группы хлопочущих добрых женщин, которые кроме утешительных слов и малой помощи ничего не могли сделать в этой огромной всеобъемлющей беде, они были частью большой сильной организации — великолепно организованной и налаженной «машины», цель которой — заботиться о людях в момент самой острой нужды и растерянности. Сестры Красного Креста немедленно появлялись с материальной помощью, прежде всего кормили население, а потом «вели» по всем ступеням устройства жизни заново: устраивали ночевать, устраивали жить, устраивали отъезд, находили крышу над головой на «новом» месте, снабжали нужными документами и т. д. Когда рушился привычный мир, когда люди не смели еще взглянуть вперед, в будущее, а только чувствовали себя беспомощными, раздавленными бедой, Красный Крест появлялся и деловито и сердечно начинал действовать — кормил и защищал. И давал это ничем не заменимое чувство людям, что о них заботятся и что они — не одни. И когда я вспоминаю разбомбленный военный Берлин, я думаю не только о бесконечных молчаливых районах, лежащих в прахе — только огромные кучи вместо многоэтажных зданий с венками, цветами, положенными на них. И с трогательными и печальными надписями на дощечках, воткнутых в кирпичи. Видя все это в своей памяти, я не могу забыть на фоне еще теплого разгрома — походные кухни с дымящимися котлами и очередь берлинцев — к кухням. Я стала со всеми расчищать Дом внутри. У нас не было ни рукавиц, ни масок, защищающих дыхательные пути от известковой пыли. Мы даже не догадались закрыть лицо и голову полотенцем или хоть рот и нос платком. Мы ничего не умели, а как были, в платьях и уличной обуви, начали чистить, складывать, вывозить и выносить мусор — и все это происходило в неосаждающемся облаке известковой пыли. Следующие несколько недель мы работали после занятий по разборке кирпичного мусора, из которого мы выбирали целые кирпичи и «по цепочке» передавали их сверху вниз и складывали как можно аккуратней сбоку улицы. Эти целые кирпичи должны быть использованы для строительства новых берлинских домов. Но куча от погибшего трехэтажного флигеля за несколько недель разбора нисколько не уменьшилась, и всем стало ясно, что это совершеннейшая трата времени. И мы перестали копаться в пыли, хотя нам и обещали все часы, проведенные на «разборке», зачислить как трудовую повинность. Мы вскоре протоптали тропинку через разрушенную часть дома и входили по ней на улицу, а не через ворота со стражником. И теперь некоторые студенты, имеющие друзей в городе, могли возвращаться в Дом по этой «военной тропе» поздно вечером, даже ночью, когда стражник уже закрывал ворота и уходил спать (до следующей тревоги). Ночью были налеты англичан, почти без исключения, между 12 и 2-я часами. 28-го июня, опять в то же время, налет на Берлин. Опять — где-то близко около нас, но все-таки не наш район. Налет был опять длительным. Мы сидели в отсеке убежища под музеем. Мне очень нравилась студентка Елена Муравлева — темноглазая, живая, умная, и мы постепенно начали сближаться. Елена чувствовала и думала «по-русски». Она мне часто рассказывала о своих родителях. Сегодня, во время длительного и относительно спокойного сидения в убежище, она мне рассказала, как она потеряла родителей. Мать Елены была немкой, преподавала в одном из ростовских институтов иностранные языки, была тихой спокойной и ласковой. Отец — русский, преподавал литературу в институте и был очень талантливый человек, актер-любитель и дворянин, тихо сидевший в провинциальном Ростове и души нечаявший в своей единственной дочери. Они были с Еленой очень дружны и всегда везде ходили вдвоем, даже на институтские студенческие вечера. Когда началась война и немцы подходили к Ростову, семья не уехала в эвакуацию, а полная надежд, что Советская власть рухнет, осталась ждать прихода немцев. Елена во время оккупации обручилась с немецким молодым человеком. Он был родом из Пруссии, где жили его родители и у отца был майорат[6]. Петер был единственным сыном. Семья Елены собиралась ехать в Германию, чтобы там ждать конца войны и свадьбы Елены и Петера. Но пока семья готовилась к отъезду, советские войска стали сильно теснить немцев. Петера срочно отослали под Ростов, на фронт. В одно зимнее утро Елена с отцом пошли за водой с ведрами (водопроводы были давно разбомблены) и увидели незабываемую картину: по широкой ростовской улице неслась конница — с криками, стрельбой и красным флагом на коротком древке. Это прорвалась в Ростов советская конница. Елена с отцом застыли у края дороги с пустыми ведрами, а кони и их гикающие седоки неслись мимо, стреляя куда попало — от коней валил пар, от наездников валил пар, кони ржали, всадники с открытыми ртами орали «ура-а-а». Все это выглядело дико, страшно и весело, как набег Чапаева в кино. Отец Елены сказал ей: «Нас, наверное, всех расстреляют, но я, несмотря на это, ни за что не променял бы даже за жизнь это удовольствие видеть, как наши войска — молодые, как поток, как орда — ворвались, проскакали освобождать свой город! Какая это сила, дикость — и красота!» Их всех, всю семью Муравлевых, сразу арестовали. Елену через некоторое время освободили: комсомольская организация института Елены за нее очень упорно хлопотала, давала всяческие ручательства, писала заявления о том, что Елена всегда была примерной комсомолкой, комсоргом группы и т. д. А родителей не выпускали, они сидели где-то в подвалах НКВД, и ей не сообщали где и писем не принимали. Иногда брали передачи для отца. Мать Елены как-то сразу исчезла без следа, как растворилась. Несколько раз отец передавал Елене короткие записки, всегда полные бодрости, надежды на скорое свидание. От матери — никогда, ничего. Очень скоро немцы опять захватили Ростов обратно. Одним из первых — въехал в город на танке Петер. Он сразу бросился к Елене домой. Вместе они ходили по подземельям НКВД, по всем тюрьмам, искали архивы НКВД — все тщетно, следов родителей они не нашли. Раз им попался случайно человек (очевидно, бывший «чин» в НКВД), который помнил отца Елены в подземелье НКВД, и он сказал Елене: «Не ищите — ваш отец умер от туберкулеза». Елена поняла, что при отступлении советских войск и НКВД арестованных не вывозили — их просто расстреляли. И отца, конечно, и очевидно, и мать. Когда немцы снова отступили из Ростова, Елена уехала с женихом и доехала до Берлина, где обещала ждать его. К родителям Петера не переехала жить — до свадьбы. Скоро и связь с его родителями оборвалась — они сделались беженцами и перебивались где-то в Германии. А Елена решила до конца войны остаться в Берлине — единственном месте, где ее сможет найти Петер.
Глава вторая
ВОЛОДЯ ШТАНДЕЛЬ
В подвале мы близко знакомились друг с другом, рассказывая истории наших жизней. Какие это были тогда короткие истории, почти истории детства: всем нам было еще так мало лет — от семнадцати до двадцати двух (трех). Только Володя Штандель был «старый доктор» — ему было двадцать семь лет, и мы относились к нему почти как к старцу: он был всегда замкнут, молчалив, спокоен, с очень трагической судьбой, блестяще одаренный многими талантами. Он смотрел на всех нас печальными глазами как-то «издали» — и мало говорил. Бог одарил Володю щедро: он был великолепный пианист, художник (акварелист и график), скульптор, поэт. Каждого из Володиных талантов хватило бы на целую богатейшую творческую жизнь, а у него их было такое множество… И все — совершенные! И отец его, и дед были докторами на юге России, где они жили испокон веков. Перед войной, отца Володи, очень известного и почитаемого хирурга города, арестовали за полунемецкое происхождение. Володя в это время сдавал последний государственный экзамен в Медицинском институте, и его тоже арестовали, допрашивали, мучили, выпытывая «признание о его давней тайной связи с немецким врагом» и потом сослали в лагеря в Сибирь. Отец пропал навсегда, а Володе из лагерей удалось бежать в начале войны, когда во всей стране царила растерянность, недоумение — даже в лагерях. Володя шел пешком через всю Россию, прячась, пробираясь по «темным тропам», не без помощи добрых людей, которых в России всегда было много. Володя с их помощью не погиб, а добрался до своего города, до близки друзей и «залег» у них, до тех пор пока немцы не захватили города. И с отступлением немецкой армии Володя тоже стал уходить на запад, как и многие, пока не добрался до Берлина. Как он доехал до Берлина и оказался в Доме — трудно себе представить: Володя ни одного слова не говорил по-немецки. Даже не пытался. Но все всегда чувствовали, что этот высокий воспитанный человек с печальным тонким лицом, совершенно спокойно и грустно принимающий удары судьбы не от робости и застенчивости бездеятелен и почти беспомощен, а просто не замечает никаких ударов, как будто он высится над жизнью и видит многое, что остальные смертные видеть не могут. И ему пытались помочь, и помощь он принимал, как и гибельные удары судьбы, спокойно и задумчиво. Наша дружба с ним началась в первые дни жизни в Доме Гегеля. Во время знакомства с профессорами и преподавателями — нашими будущими лекторами и менторами. Нас вызывали по алфавиту, и каждый профессор по очереди задавал нам вопросы — знакомился с нами. Дошла очередь до Володи — его вызвал профессор химии. Володя спокойно встал и только назвал свою фамилию, а на вопросы химика не отвечал, стоял и печально смотрел на химика, а химик, повторяя вопросы, начинал кипеть и сердиться — он думал, что Володя над ним издевается. Лицо Володи становилось все печальнее, а лицо химика — краснее, и он начал орать, как сержант на простого солдата. Мне так было жаль молодого человека, что я с места, не выдержав, сказала громко: «Г-н профессор, Штандель не понимает, что вы ему говорите даже громко, он не владеет немецким языком». «Setzen Siesich!» («Сядьте») — приказал профессор, махнув на Володю рукой, Володя сел, а я, перегнувшись к нему через стол, сказала: «Не обращайте на него внимания». И вдруг Володя улыбнулся, ласково и признательно — все лицо его осветилось и сделалось почти детским, трогательным и нежным. Елена Муравлева и Ирина тоже сделались вскоре его друзьями; и они поняли значительность Володи и любили, как и я, слушать игру Володи на фортепиано в актовом зале, расположенном напротив нашего жилого флигеля. Я всегда открывала окна моей комнаты, когда Володя играл, и звуки неслись из еще не разрушенного дома, и казалось, что войны больше нет. Чаще всего Володя играл Шопена, Шуберта. И сейчас, когда я слышу фортепьянные вещи Шуберта, я с горестью думаю о Володе: какая прекрасная жизнь, выброшенная — на ветер. Володя вырезал из мрамора портрет — головку нашей берлинки, преподавательницы биологии; работал долго, медленно, она ему позировала у себя в доме, в своей неразбомбленной старинной квартире, и, наверное, поила Володю чаем и подкармливала его, и у нее появилась, как у Володи, печаль в глазах, когда она смотрела на него. Наверное, ее сердце было тронуто прелестью и талантом Володиной души… К Володе приходил старый потрепанный русский художник-берлинец. Они подолгу сидели над мраморной головкой и разговаривали. Старик (очень колючий, кстати, сердито смотревший на меня, когда Володя звал меня на эти собеседования) был великий знаток старины и сам хороший скульптор и художник, давал Володе много ценных советов: как выбирать мрамор, какие «жилки» искать, каких — избегать, потому что они со временем сделаются мягкими и малоустойчивыми и т. д. Он с нежностью в глазах, молча, подолгу разглядывал сквозь очки мраморную головку, держа ее в своей большой темной ладони. И для меня, тихого слушателя, открывался мир прекрасных творений и людей, служивших Богу и красоте. Этот ссутулившийся, заскорузлый, заброшенный русский старик весь загорался, когда рассказывал о теплом, прогретом солнцем, почти прозрачном мраморе, не замечал вокруг себя ничего — ни себя, ни других, — и, наверное, не знал сыт ли он, голоден ли, есть ли война и кто с кем воюет — для него это были «тени», которые неизбежны при ярком солнце. И Володя — такой же, всегда смотревший вглубь, видевший все глазами художника, скользившими мимо всего, что не было совершенным, не замечавший каждодневной жизни, не знавший ее. Эти два «старика» рассматривали Володины акварели и говорили о великих мастерах старины… Я не спросила фамилии старого берлинского художника и даже имени-отчества — не помню. Перед гибелью Берлина он перестал приходить к Володе и, странно, Володя совсем не беспокоился, не искал его. «Если он жив — он придет», — сказал он мне задумчиво на мои тревожные расспросы. Но старик — не пришел… В конце нашего пребывания в Доме Гегеля Володя передал мне пакет. «Для тебя», — и больше ничего не добавил. Я всю ночь в слезах читала поэму жизни Володи, написанную просто, прекрасным стихом. Володя писал о своей жизни с момента ареста перед самой войной и до нашей встречи в Берлине — цепь страданий и горя, через которые он шел и о которых писал эпично, почти как зритель. Только в одном месте поэмы, в самом трагическом, как вздох: «…как тяжело было, Римочка, мне…» Я не сохранила поэму — в наши страшные годы после Берлина все погибло, все, что было дорого: письма, фотографии, дневники и Володина поэма. Запомнила только последние строчки его печальной повести… Володю забрали перед гибелью Берлина в армию для защиты города на подступах. И сказали, что его определяют в части SS. Это Володю-то, поэта, и в SS, без немецкого языка! Я приехала в Д. Г. — прощаться из Панкова (В. продолжал жить в Доме — деваться ему было некуда). Встреча была очень короткой — Ирина, тоже живущая еще в Д. Г., привела Володю и подталкивала его в спину: «Ну же, Володя, прощайся», а В. держал мои руки, печально, как всегда, молча смотрел на меня, как будто хотел запомнить мое лицо; так мы молча расстались… и я не успела и не сумела сказать Володе на прощание всего, что я мысленно приготовилась ему сказать. После войны я пыталась несколько раз справляться о Володе у моих друзей-студентов, навестивших Дом Гегеля, и двух его начальниц, переживших гибель Берлина. Никто ничего не смог сказать о Володе — он исчез, и неизвестно, жив ли он. Какая драгоценная жизнь…В БОМБОУБЕЖИЩАХ И БУНКЕРАХ БЕРЛИНА
Бомбежки Берлина, «террористические налеты», как их называли, продолжались почти непрерывно. Мы все дольше сидели теперь в подвале под музеем. Днем, вместе с нами теперь бежали наши профессора и преподаватели и старались сидеть на скамейках вместе с нами. Они любили слушать наши «рассказы судеб» и сами втягивались в этот обмен историей, и нам открывалась их живая человеческая душа: мы узнавали об их заботах, печалях, привязанностях. Особенно было неожиданно услышать от нашего профессора литературы доктора Кюне — скептика, острого и язвительного насмешника, о его привязанности (и заботе) к молодой жене и слышать нежность в его голосе: «Знаете, у меня есть маленькое дитя»…, и сразу — беспокойство, почти отчаяние по поводу затянувшейся разрушительной войны — увидит ли его сынок родителей живыми после войны, будет ли у него семья, чтоб оберегать и растить его… Все эти истории сопровождались грохотом зениток и уханьем близких и далеких разрывов — и притуханием света. Может быть, душевная откровенность рассказчика, иногда исключительная мягкость были от бессознательного, но всегда живущего рядом чувства возможной угрозы неожиданного конца жизни. И мы всегда, затаив дыхание, слушали рассказы, никогда их потом не обсуждая, как будто это рассказы не для слушателя и для сохранения. Володя — прекрасный слушатель, сам редко рассказывал о себе иногда полупечальные, полусмешные эпизоды из своей жизни до войны. А я вообще никогда не рассказывала о себе — я всегда была замкнутой и не умела ради рассказа делиться своими впечатлениями. Но очень любила слушать. Очень пожилой профессор литературы (он преподавал в параллельной группе), очень уютный, седой, всегда небрежно одетый, очень умный и сердечный берлинец, сидя на широкой скамье бомбоубежища, собирал всех нас около себя. Мы тесно его окружали, сидя на своих чемоданах, и он рассказывал нам о Берлине, который он знал и любил. Это был Берлин, начавший постепенно исчезать за много лет до войны (и мы понимали, что это исчезание старого Берлина и старой жизни началось с приходом к власти национал-социалистической партии). Профессор жалел, что мы не видели и никогда больше не увидим Берлина, настоящего, с совершенно особым типом людей — берлинцами. «Этой породы больше нет, — грустно говорил он нам под гул зенитных орудий, — а если и есть, то они — как маленькие островки — их и не приметишь, потому что вся жизнь изменилась и старые берлинцы доживают свою старую жизнь» (как и сам он, наш старый, добрый профессор). «Такая была в Берлине приветливая жизнь — и веселая: какие театры! Какая опера! Вы и не подозреваете, глядя на теперешний Берлин, такой изменившийся, холодный, а с войною — еще и разрушенный, какой это был прекрасный, человечный город». Наш профессор советовал нам посмотреть кинофильм «Familie Buchholz» в двух сериях. В фильме повествуется о Берлине и берлинцах конца 19-го и начала нынешнего века, о милом, смешном берлинском семействе — о двух его поколениях. Мы несколько раз ходили смотреть этот фильм. Прелесть! Я и родителей водила на этот фильм. Наш профессор верил, что в городе, несмотря ни на что, все-таки живет «берлинский дух, — крепкий, дружеский, который поможет городу не сломиться». И наш профессор не ошибся в оценке жителей своего города: уже когда почти весь город лежал в руинах, берлинцы, сплотившись, сжав зубы — не стонали, не жаловались, а жили, работали и, главное, помогали друг другу — принимали в свои квартиры разбомбленных, потерявших все людей, расчищали город от кирпича, щебня, чтоб транспорт мог бы проходить (и помогать пострадавшим) между обвалившимися зданиями. Мужество берлинцев было неисчерпаемым. В конце июня район Д.Г и Фридрихштрассе очень пострадал от американских налетов. Нас, русских, поражало, с какой быстротой берлинцы восстанавливали свои вокзалы, искалеченные рельсы и железнодорожные пути и снова пускали по ним поезда, которые теперь шли с большим запозданием, из-за налетов. Но если некоторое время не было никаких налетов, то поезда и подземки начинали ходить точно по расписанию. Берлинцы не сломились, а сделались только более крепкими, терпеливыми и стойкими, когда всему немецкому народу начали мстить за Гитлера. Американцы после войны признали, что бомбардировки городов «коврами», целью которых было уничтожение воли населения, их «моральное разрушение», — было ошибкой. Такая жестокая и беспощадная бомбардировка не сломила нравственную стойкость населения, а, наоборот, укрепила ее. А заведомое желание союзников уничтожить прекрасные города, в которых не было абсолютно никаких фабрик и заводов, работавших на военные нужды, города-музеи, как Дрезден, Кельн, Гамбург, Нюрнберг, Мюнхен, было ненужной злобой, местью и жестокостью. Немцев судили за Гитлера, за его жестокость. А американцев и англичан за их жестокость — судить некому. Немцы так и не сломались, их народный дух оказался очень сильным, и они очень быстро подняли на ноги оставленный им кусок Германии. Дни и часы, когда нам не приходилось бежать в убежище по тревоге, мы чувствовали себя молодыми, почти беспечными и старались их провести как можно более насыщенными «мирными» занятиями. Мы усиленно занимались, читали, ездили за город, если удавалось, проводили вместе вечера и часто ходили в кино большой группой. На концерты и в оперу мы больше не попадали — здания были повреждены и концерты сделались редкостью. Две русские студентки, две сестры, из Харькова, были мне очень по сердцу. Особенно старшая — Нина. Она была студенткой последнего курса Харьковского медицинского института. Почти доктор. Младшая, Валя, очень всегда радостная, веселая, остроумная; обе рослые, крепкие — и во всех своих действиях — надежные. После войны я познакомилась с их маленькой ласковой и тихой матерью — очень приятным человеком. Меня больше привлекала старшая — Нина — спокойная, думающая. Нина любила Шопена, мечтала о жизни, в которой она сможет всегда слушать музыку Шопена. Она любила 19-й век и страну свою — Россию — до революции. Мы с ней — пожалуй, ни с кем я не могла так откровенно говорить о судьбах нашей страны, — подолгу разговаривали о безумной политике Гитлера, о его страшных ошибках и о его неминуемом конце, и о его душегубстве. Мы обе горевали о том, что наша страна теперь останется коммунистической и нам обратно пути больше нет. Но, главное, надежды на освобождение от коммунизма мы не видели. Теперь русские победы над Германией будут: «Победами над фашистским захватчиком под — партийным руководством, под руководством Сталина». И (еще раз) мы убедились, что ждать помощи извне — труд напрасный, освободиться и освободить свою страну мы можем толь ко сами. На все русские, национальные темы легче всего и откровеннее всего мне говорилось с Ниной. Она была очень хорошим человеком, умным, спокойным, без тени суетности. Слегка медлительная, смелая, она была предана изучению медицины, прекрасно училась в Д.Г. и мечтала как можно скорее сделаться врачом и «начать лечить». Нина всегда была с книгой в руках, учебником, в который она при первой маленькой возможности углублялась, не докличешься. Понятие «цельный человек» — к ней очень подходило. В один из налетов на Берлин, когда мы сидели в подвале под музеем, Нина, отложив книгу, рассказала о жизни в Харькове во время перехода «из рук в руки» — о жизни под немцами и под советской, вернувшейся в Харьков властью. Немцы были в Харькове около полутора лет, казалось, они засели там «надолго», если и не «навсегда». И жизнь в городе была очень трудной и голодной. У семьи не было отца — его давно арестовали, и не было связей с деревней. Они начали голодать. Сестры поступили служить в русско-немецкое административное учреждение. И жили тихо и спокойно, пока не начали подступать к Харькову советские войска. Мать и обе сестры не стали отходить с немцами, а остались в своем городе. И вскоре пожалели об этом: начались доносы, аресты и — страх. Каратели расправились быстро с людьми, занимавшими при немцах высокие положения в администрации города и его районов. С ними покончили быстро и навсегда. А потом началась методическая деятельность НКВД по проверке и аресту жителей Харькова. НКВД систематически, улица за улицей, дом за домом, прочищал, не пропуская никого, жителей города. НКВД — целая комиссия — оседал в жакте дома, принимал доносы (которые очень поощрялись) и по очереди вызывал на допросы всех жителей дома. Эти допросы былиочень страшными: нужно было всеми силами доказывать, что ты не предатель, не коллаборант, а свой брат — советский человек. Расправы НКВД чинил быстрые и необратимые. Всех, кто был даже на небольшом подозрении, гнали в тюрьмы, а если кто из арестованных работал переводчиками — расстреливали в подвалах: не держали. К. чувствовали, что петля на их шее затягивается все туже: дворники следили, чтоб никто не уезжал из «вверенных» им домов. Когда комиссия НКВД перешла на улицу, где жили К., коммунистки в их доме грозились: «Вот теперь и до вас доберемся». К. чувствовали себя обреченными, но на фронте вдруг наступил временный перелом, немцы опять заняли Харьков на очень короткий срок, и, отступая опять, забрали с собою семью К. (немецкий начальник учреждения, в котором они служили, пришел узнать — живы ли они, и не оставил их, отступая второй раз из Харькова). Сестры и мать К. были совершенно потрясены человечностью своего бывшего немецкого начальника и решили уезжать в Германию — навсегда. Но душу не перекроить — и Н. грустила о своей русской стране. Я приносила Нине русскую берлинскую газету, и мы пытались читать ее «между строк», и нам казалось, что у Власова большая армия и только немцы не дают ей двинуться, и не говорят о ней — замалчивают. И когда, незадолго, до гибели Германии — когда советские войска подошли и перешли, не остановившись, границы Германии, Власову официально разрешили «существовать как самостоятельной русской армии». Мы, читая об этом с Ниной, закрывшись в ее комнате плакали — русская армия, открыто заявляющая о своем желании сокрушить коммунизм! И мы верили, что многие, многие воины Советской Армии примкнут к Власову — и ему даже и воевать не придется. Власов считал сам долгое время, что если ему дадут право создать армию, то Советская Армия (во главе с Жуковым) без боя соединится с ним, и они вместе сбросят ненавистную всем коммунистическую власть и освободит Россию — для русских, для всего народа! Мне пришлось поехать по папиным делам в ставку Власова (неофициальную) — в пригород Берлина. На улицах было полно молодых военных — в немецкой форме, но на месте немецкой «капусты» был значок армии РОА, круглый, трехцветный: красный, белый, синий. Все военные очень подтянутые — молодец к молодцу. В ставке, куда я отправилась отнести от папы письма, мне пришлось подождать нужного человека, я видела много военных армии генерала Власова в больших чинах. Все были с серьезными лицами, но впечатление было — бодрости и занятости. Впечатление, что все эти немолодые люди заняты общим большим делом. Власовцы казались последней русской надеждой — только они могли повернуть русскую армию против коммунистов, ими повелевавших. Хотя и эта надежда делалась почти нереальной: кто может остановить армию, дошедшую до Европы? Время для этого уже истекло. А Власову немцы все не давали власти, хотя очень многие немецкие генералы и понимали, что это теперь единственная возможность остановить наступление на запад. Шанс, который они теряли. Только в 1943 году, по исчислениям Власова, «больше миллиона жителей России стояло под ружьем против Сталина». Но все это — по глупости немецкого национал-социалистического командования — погибло.20 июля 1944 года было покушение на жизнь Гитлера. Гитлер остался невредим. Погиб только один человек. Начались жестокие расправы не только с непосредственными участниками заговора, но и со всеми, кто принадлежал к их кругу, их семьями, родными, друзьями. Заговорщики — немцы старых аристократических семейств и офицеры немецкой армии на высоких постах. Заговор был очень хорошо подготовлен: армия, после покушения на Гитлера, должна была захватить все главные города Германии, обезоружить SS и вступить в управление Германией. Была предусмотрена программа устройства Новой Германии, очень детально, вплоть до всех имен будущих участников управления страной. Готовился широкий переворот и уничтожение национал-социалистической партии. Заговорщики надеялись, что Англия и Америка договорятся с Новой Германией о мире и об окончании войны. А Черчилль и Англия палец о палец не ударили, чтоб помочь скинуть Гитлера и устроить «чистую» Германию. Он (Черчилль) даже опубликовал после неудавшегося покушения имена заговорщиков, которые несколько лет вели с Англией переговоры об устроении Новой Германии, когда эти заговорщики были еще на свободе. Все зависело от удачи покушения — от устранения Гитлера, но удачи не было: Гитлер не пострадал. Граф Клаус фон Штауфенберг — исполнитель покушения и все участвовавшие были расстреляны и повешены. Адам фон Тротт и группа его друзей — душа заговора — были повешены зверским средневековым образом. В сейфе одного из участников заговора графа Фрица Дитлофа фон Шуленбурга нашли списки не только всех участников заговора, но и списки всех, кто будет участвовать в дальнейшем устройстве и правительстве Новой Германии. Его казнили. И казнили тысячи людей, а их семейства, детей, жен арестовывали и ссылали в концентрационные лагеря, где они и исчезали. Немецкая, гитлеровская пресса всячески замалчивала размах заговора и старалась придать ему вид незначительный, будто это лишь была маленькая «кучка аристократов», участвовавшая в заговоре. Участники же заговора — лучшая аристократическая и патриотическая часть немецкого населения, имевшая связи с Англией и другими европейскими странами и действующая в единении с верхушкой армии и воздушного флота. (Роммель был участником заговора. Гитлер, узнав об этом, заставил его покончить жизнь самоубийством, обещав сохранить жизнь его жены и сына (что он исполнил) и «не вычеркнуть его имя» — из истории, как имя предателя — что он тоже исполнил — и Роммеля похоронили со всеми полагающимися почестями. И имя его вошло в историю, но совсем не так, как хотел Гитлер, а как немецкого героя, не побоявшегося служить правде — и умереть за нее.) До лета 1944 года пытались через Адама фон Тротта, ездившего по делам службы в Швецию, договориться с правительством Англии об окончании войны, о мире с Новой Германией. Но англичане после разгрома немцев под Сталинградом и слышать не хотели о перемирии — они хотели только «полной и безусловной сдачи» — и продолжали уничтожение Германии до конца. Поняв, что только своими силами, изнутри, можно избавиться от национал-социализма и Гитлера и спасти Германию, заговорщики решили действовать самостоятельно. Как и многие русские в начале войны надеялись на то, что немцы помогут им избавиться от коммунистической власти, увидев немцев, которых русские дела совершенно не интересовали, поняли, что освобождение от коммунизма может быть достигнуто только своими силами — и объединились в борьбе против немцев. Мы с моими русскими друзьями в Доме Гегеля были испуганы неудачей покушения на Гитлера. Теперь будут расправы, и, конечно, война будет продолжаться до своего катастрофического для Германии конца. Тяжелые бомбардировки продолжались. Настроение у нас делалось невеселым. И дома папа был мрачным. Разгром заговорщиков 20-го июля все продолжался и принимал все более широкие размеры, хотя в печати продолжали твердить только о «кучке аристократов». (По официальным данным, опубликованным через сорок лет, приведенным в книге М Васильчиковой, в связи с заговором 7000 человек арестованы, 5764 казнены в 1944 году и 5684 за последние пять месяцев до конца войны в 1945 году. В июле 1990 г. я, слушая радио в Нью-Йорке, была потрясена, когда диктор сказал, что сегодня годовщина покушения на Гитлера: заговорщики — «кучка немецких аристократов» — казнены за участие в заговоре. Их было пятнадцать человек! Вот как делается история и в США. Гитлер бы им рукоплескал!) «Из числа погибших приблизительно 160–200 человек были непосредственно заговорщиками, среди них были 21 генерал, 33 полковника и генерал-лейтенанта, 2 посла, 7 дипломатов высоких рангов, 1 министр иностранных дел, 3 государственных секретаря, глава криминальной полиции. Несколько высших официальных лиц в правительстве. Губернаторы провинций, высшие начальники полиции». Это данные из книги Васильчиковой «Берлинский дневник». Отец Иоанн Шаховской служил в своей домовой церкви в присутствии и по просьбе княжны Марии Илларионовны Васильчиковой — очень близкой к заговорщикам — молебен об арестованных участниках и их семействах. Об их спасении. Не помогло. (С о. Иоанном Шаховским — позднее епископом Сан-Францискским — мы с мужем часто встречались…). В это время в Берлине вышел приказ о том, что все учреждения, не работающие для военной промышленности, должны выделить часть служащих для работы в оборонной промышленности. Папу из «Винеты» очень быстро отчислили и отправили на завод. Когда я об этом узнала, я просто испугалась, но папа сделался очень веселым и даже радовался — ему не нравилась атмосфера в «Винете», с закулисной борьбой, интригами. При папиной прямоте, простоте и занятости серьезными размышлениями — вся эта суетливая возня его раздражала, и он, я думаю, на многие мозоли многим наступал. Во власовский Комитет его тоже не приняли, а хотели ввести в президиум, о чем Власов выразил сожаление. Оказалось, что папа очень часто и очень нелестно отзывался о немцах и это многих беспокоило. А папа и, правда, откровенно возмущался во всеуслышание глупостью Гитлера. И вот папа из журналиста превратился в сварщика на сталелитейном заводе «Борзик». У папы наладились очень хорошие отношения с немецкими рабочими — все это были пожилые, «потомственные» рабочие, пенсионеры, вернувшиеся на свои заводы заменить ушедших на фронт более молодых рабочих. Все они любили свою старую добрую Германию и ненавидели Гитлера, разрушившего их страну. С папой они были откровенны и как-то умели объясняться с ним и совершенно доверяли ему, называя «наш Иван» и «хороший товарищ». Привожу полностью запись И. А. Курганова об этом времени: «…на заводе мне нравилось. Хорошее отношение немецких рабочих, дружеское (после некоторого периода подозрительности) отношение с русскими рабочими и совершенно безразличное отношение с голландцами, бельгийцами и французами. Начались сначала осторожные, а затем более или менее откровенные разговоры с русскими. Разговоры эти велись в уборной. Уборные были распределены по национальному признаку. Каждая национальность имела свою уборную. Это одна из глупостей фашизма, помогавшая его гибели. Разговоры были у нас главным образом на военно-политические темы. Все читали „Новое Слово“ и спорили иногда запальчиво. Фамилии друг друга не всегда знали. Звали друг друга Мишей, Гришей и т. д. Помню, как однажды, заспорив о том, пойдет или не пойдет советская армия в глубь Германии, один такой Гриша хлопнул меня по плечу и сказал: „Ты почитай статью (и назвал мою статью о стратегии) — вот голова, не то, что мы с тобой, дураки, а и он не может толком сказать, пойдут они или не пойдут“. К Власовскому комитету все относились сначала очень хорошо, а многие даже с энтузиазмом. Для всех их врагом № 1 был немец. Большевизм — враг № 2. Но за Власовым пошли бы в любой очередности. Власову верили. Если надо сначала ударить по большевикам, пойдем на них, но к немцам вернемся обязательно, немцы от нас не уйдут, нет, не уйдут. Мы им припомним, как они посадили нас за колючую проволоку, как они наклеили на нас „остов“, как они били нас, как они морили нас голодом, как они обращались с нами — унтерменшами, все это мы им припомним… И в глазах загорались недобрые огоньки. Пока немцы были победителями, их издевательство находило еще какое-то объяснение в праве победителя, праве сильного, но когда стала очевидной их политическая глупость, когда стала ясной их военная несостоятельность, тогда их оскорбления стали особенно тягостными, они вызывали уже зоологическую ненависть, ненависть, которая обострялась еще досадой обманувшегося человека. „И на этих идиотов я надеялся, — говорил какой-нибудь Андрюша. И эти идиоты еще над нами издеваются. Придут наши, а во главе наших — большевики. Они, конечно, дадут немцам по двадцать пятое число, но они и нам дадут!“ „А что мы виноваты, если нас силой сюда привезли“, — спросят его. „А Мишин отец и мать виноваты? А Сережин брат виноват? Посадили же. Им не вина нужна, а зацепка. А мы с зацепкой: не воевали с немцами, а работали на них“, — ответит Андрюша. И все чувствуют, что это правда. Где же выход? Власов! И много было разговоров о Власове. Но время шло, а РОА не развертывалось, записавшихся не призывали. Надежды тускнели. Между тем Красная Армия приближалась. И думал каждый: придет Красная Армия — будут доносить, чтобы страховаться. Разговоры менялись, менялось поведение. Я помню случай, когда в наш цех привезли для ремонта взятую немцами на фронте советскую пушку. Наши ребята стали обнимать и целовать ее. И многие делали это не только потому, что пушка „родная“, а потому, что хотели показать на всякий случай свои просоветские настроения. Атмосфера большевизма распространялась на много километров впереди Красной Армии. Мы ее уже ощущали». (Из архива проф. И. А. Курганова. Архив хранится у дочери Р. И. Нератовой.) Пока занятия в Д. Г. продолжались и, по-видимому, осенние экзамены будут проходить зимой, перед Рождеством. Из-за частных налетов и тревог мы не могли никак у ложиться с обширной программой до осени. Было похоже, что часть студентов останется еще на один курс — повторный — из-за немецкого языка, который продолжал у них оставаться в рудиментарном состоянии, и не мог вообще считаться «языком». Среди студентов, наверняка остающихся на повторный курс, — был, конечно Володя, моя Ирина, Герта и многие другие. Никто от этого не печалился: никому не хотелось начинать Arbeitsdeinst — трудовую повинность. Володя Штандель совсем не огорчался, что сделался «второгодником»: ему все равно некуда было уезжать, а Дом Гегеля давал ему крышу над головой, о нем заботились — и был рояль, на котором он мог играть, да, кроме того, у него в Берлине появились друзья, что было для него, одинокого, очень ценно. Советские войска взяли Львов. Папа сказал мне об этом на улице, когда я приехала к родителям в воскресенье и мы с ним, как обычно, вечером шли в кино смотреть «Последние новости». У меня сердце упало — все мои милые друзья остались теперь навсегда по ту сторону линии, разделяющей Европу и коммунистический мир. Дай Бог, чтоб их не стерли с лица земли наступающие войска. 22-го июля 1944-го года, в день моего рождения, с утра в нашей столовой все собрались, приодевшись к завтраку, на моем столике стоял букет цветов и испеченный на кухне Д. Г. пирог, очень большой — на всех. Это была традиция Д. Г. Мне спели хором все полагающиеся поздравительные песни, а я должна была разрезать пирог и давать каждому — кусок на блюдечке. В этот день мы заранее решили поехать за город и провести наши занятия (биология и литература) на лоне природы. Мама собирала уже некоторое время талоны по карточкам и приготовила мне ко дню рождения очень вкусный домашний пирог и печенье, чтобы я могла всех пригласить на пикник. К нам присоединились преподаватели, чтоб не пропустить «день занятий», и мы отправились на метро. Был совершенно прелестный летний день, трава так душисто мирно пахла, небо в легких высоких облачках («летная погода» — констатирует разум), из занятий ничего не получилось — после завтрака все разморились, прилегли на траву: наши преподаватели — первые, мы за ними вслед тоже попадали в траву и проспали беспробудно до вечера. В этот день американцы нас не тревожили. Тяжелые бомбардировки Берлина продолжались, но не каждый день. Когда же бомбили, то это был ад, т. к. американцы теперь всегда употребляли «ковровые» бомбардировки и уничтожали целые большие районы. Жертв от таких налетов было огромное количество. Если кто был жив, но засыпан в подвале, подобраться к нему не было никакой возможности. В конце июля был такой налет. После полудня. Мы с группой наших студентов оказались во время начала тревоги близко к Александер плац, решили не бежать в убежище под музей, а переждать налет в подземельях метро. Со всех сторон к подземке бежали люди с чемоданами — и просто прохожие. На бегу они кричали друг другу: «Luftgetahr-15!» («воздушная опасность-15!»); по радио сообщали всегда, какой силы будет налет, сколько приблизительно машин участвует в налете, направление и т. д. «Lg-15» — самый опасный налет — не менее тысячи машин, очевидно, ковровый. День был солнечный, яркий, что тоже опасно — сверху все хорошо видно. Мы опускались по длинным лестницам — все ниже и ниже, хотелось добраться до самой нижней платформы, уйти в самую глубину земли. Я стала все хуже переносить налеты — от страха у меня теперь неистово болела голова и меня мутило, как от езды в автобусе. Все платформы и пути с рельсами, и туннели были полны людьми с чемоданами, мешками — очевидно, они пришли сюда заранее, когда по радио только сообщили об огромных соединениях американских бомбардировщиков, направляющихся на Берлин. На путях было так же тесно, как и на платформе. Во время воздушной тревоги электрический ток отключали, поезда электрички останавливались и берлинцы устремлялись в туннели. На всех лестницах плотно сидели люди. Мне так хотелось спрыгнуть на пути и забиться в туннель, но Володя меня удержал, он решил, что это всегда можно будет сделать позднее, если будет страшно. В убежище, в которое набивалось много тысяч человек, все было очень хорошо организовано, специальные служащие, ведавшие спасением населения при воздушных налетах, направляли движение прячущихся, говорили, куда идти. и останавливали движение, если платформа была переполнена, направляли поток в другое русло и показывали, как пройти в комнаты «матери и ребенка», в комнате стояли раскладные кровати, была приготовлена вода. Когда американцы долетели до Берлина, сразу стало ясно, что мы находимся в районе «ковра». Бомбили нас, скидывали все эти тонны бомб или на нас или рядом. Электричество все время выключалось, и мы сидели в темноте и слушали ужасающий гул и грохот. Вся подземка со столбами, лестницами, туннелями гудела и содрогалась под ударами падающих и взрывающихся бомб и от непрерывной стрельбы зениток. Давление воздуха было таким сильным, что, казалось, уши лопнут. Люди сидели, согнувшись, непроизвольно стараясь сжаться в самый маленький комочек. Многие закрывали голову руками, как будто на них вот-вот рухнет потолок. И как всегда, при налетах, в убежище царила полная тишина, никто не разговаривал, не вскрикивал, не стонал, не бежал — слышен был один грохот бомбардировки, а люди сидели, затаившись, как звери, когда им больше некуда бежать от погони. Налет продолжался несколько часов, с небольшими перерывами между улетающими и вновь прилетающими «волнами», которые летели опять и опять — и все кидали и кидали бомбы. В перерывах между «волнами» по громкоговорителю сообщалось, какие улицы разрушены, номера домов, которые горят, и просили жителей этих улиц (только мужчин) — выйти помогать тушить пожары. Каждый раз, когда сообщались названия улиц и номера горящих домов, кто-нибудь ахал, плакал и начинал метаться. Вскоре стали просить всех мужчин выйти для тушения пожаров. Сообщили, что разбито здание полиции — кажется, оно выходило одной стороной на площадь. Часов через пять после начала бомбардировки грохот стал стихать и после некоторого времени полной тишины прозвучал «отбой!». И все сразу заговорили, закопошились, стали собирать свои пожитки и потянулись вверх по лестницам, к выходам. Когда все задвигалось, стало казаться, что совсем нет воздуха, как будто его весь издышали, и мне показалось, что за эти несколько часов силы мои куда-то ушли; посмотрела на осунувшиеся лица Ирины, Елены — они тоже смертельно устали, но Елена стала уже приходить в себя, заулыбалась и стала шутить, подбадривая нас. Володя был как всегда бледен и невозмутим: «Если Д. Г. еще стоит, ты должна поесть и лечь отдохнуть», но не верилось, что после такого налета еще что-нибудь может стоять на земле. Выбрались на улицу и не узнали мира Божьего: еще по времени был светлый день, но небо было совершенно темное от дыма, дышать было очень трудно — со всех сторон горело. Во время «ковровых» налетов американцы после фугасных бомб бросали фосфорные бомбы, которые вызывали не просто пожары, а благодаря вызываемой фосфором очень высокой температуре — жару, все испепеляющую. Образовывался быстро разрастающийся «огненный вихрь», справиться с которым было невозможно, нужно было бежать от него, спасаться, а он двигался с ужасным гулом, ревом и всепоглощающим жаром захватывал огромные районы, сжигая все живое на своем пути. Это была адская, нечеловеческая выдумка истребления. Изменился силуэт, окружающий площадь: зданий в направлении Главного штаба полиции больше не было — только дымящиеся руины, перегородившие улицы. По Александер плац были раскиданы кирпичи, куски балок, битая мебель и кучи штукатурки, вперемешку с поломанными деревьями и ветками. Люди сновали во всех направлению закутав головы шарфами, полотенцами. Дым разъедал дыхательные пути. Мы тоже старались дышать через носовые платки, которыми закрывали и нос, и рот. Глаза слезились. Помогая друг другу перешагивать через груды обломков и кирпича, обходить обгоревшие и перевернутые автомобили, мы спешили к нашему Дому, в надежде, что все жители живы — не поленились спрятаться в музее. Дом стоял на месте — разрушений не прибавилось, хотя соседние дома или рухнули, или частично обвалились и завалили набережную по направлению к Фридрих штрассе. В Доме никто не пострадал. Но опять были выбиты окна, опять все комнаты, все вещи были покрыты известковой пылью, битым стеклом, кусками штукатурки, свалившейся со стен потолка. Актовый зал был цел, даже стекла были целыми; во время налетов мы оставляли окна приоткрытыми — таков был приказ, стекла лучше сохранялись их, не выдавливало взрывной волной. И рояль стоял целый, лишь сильно припудренный белой пылью. Пришлось сразу начать расчищать наши комнаты, чтоб к ночи привести все в жилой вид и относительный порядок: мы были уверены, что англичане прилетят ночью — горящий Берлин будет им указывать, куда бросать мины. Ночью мы сидели в подвале под музеем и спали, оперевшись спинами о каменные стены. Зенитки стреляли, но мы почти ничего не слышали — нас разбудили стражники, когда прозвучал отбой, и мы поплелись в Дом с одним-единственным желанием — добраться до кровати и уснуть. На следующий день американцы, очевидно, отдыхали — налета не было и мы были заняты приведением в порядок нашего дормитория, выгребанием битого стекла и мусора. Герта, к сожалению, была плохим помощником, и я смертельно устала к вечеру. Мы с Гертой с трудом проснулись ночью — кто-то стучал кулаком в дверь: «Вставайте скорее — воздушная тревога! Торопитесь!» Мы проспали тревогу! Хорошо, что наши соседи, убегая в убежище музея, не забыли нас разбудить. Еще кто-то стремительно пробежал по коридору, хлопнула дверь на лестницу — и все затихло, все убежали, только мы с Гертой остались. Я чувствовала пустоту дома, а мы были еще совершенно не готовы. Быстро оделась, меня уже охватил страх, поставила чемодан у двери, а Герта сидела на кровати в ночной рубашке, раскручивала папильотки в волосах и громко протяжно зевала. Я ее торопила, уже начали стрелять зенитки, а нам нужно было бежать в обход, через общий мост. Герта все потягивалась, вздыхала и говорила, что останется — пусть будет, что будет, и пыталась завалиться на кровать, но я ей не давала. Самое трудное — обувь. Она должна была надеть сапоги, один — ортопедический, зашнуровать их, я ей натягивала сапоги, шнуровала их и умоляла ее поскорее накинуть платье поверх ночной рубашки, а она еще спорила, что рубашка будет видна из-под платья! Господи, какое дитя — не все ли равно! Наконец, мы с чемоданчиками спустились по лестнице и для быстроты пошли по тропинке через нашу руину на набережную, что уже было ошибкой. Герта шла медленно, спотыкаясь, зацепляясь своей хроменькой ножкой за все выступы; я ее тянула, поддерживала одной рукой и умоляла: «Скорей, скорей». Герта была полная, выше меня ростом и такая медлительная! Пока мы дошли до дальнего, каменного моста, все небо гудело единым металлическим тяжелым гулом и дрожало — летели бомбардировщики, и зенитки непрерывными ударами стреляли, и в небе все вспыхивало, взрывалось, грохотало, лучи прожекторов метались по небу голубым мертвым светом. Нам осталось после моста пройти еще довольно большое расстояние до убежища по совершенно открытому месту, по каменному тротуару, с двух сторон которого был газон, когда совсем над нами и вокруг нас, уже не в небе, а на земле, стало грохотать, свистеть и взрываться и ужасно дуть — очевидно, близко падали бомбы. Стало совсем светло, все осветилось оранжевым светом — и дорожка, и трава, и стена музея, еще такая далекая, а Герта вдруг с криком: «Я больше не могу» кинулась плашмя на землю. Что мне было делать? Я ее стала трясти, поднимать, звать, а она, положив олову на руки, только твердила: «Нет, не могу, не могу!» Кто-то пробежал мимо, крикнул, не останавливаясь: «Бросьте ее — спасайтесь!» А я ее все трясла и поднимала: «Герта, Герта, встань…» Пробежал еще кто-то — очевидно, студент из нашего Дома; он бежал большими скачками и, не задерживаясь, закричал на бегу: «Рима, оставь ее — беги», — и ускакал. Вокруг нас с шипением ударялись, падая, какие-то тяжелые и легкие, и звонкие предметы — часть из них была огненная, а я так была всецело занята Гертой, что мой страх прошел — я о страхе больше не думала, но было странное полуосознанное чувство, что в нас не попадет ничего, что мы защищены, покрыты, мне казалось, невидимым колоколом, все свои силы я сосредоточила на Герте. Я ее приподняла, подсунулась под нее, почти подползла под Герту, привстала и понесла ее, совсем согнувшись до земли. Одной рукой я держала ее, другой — чемодан, Герта свой тоже не выпускала из руки и вся приросла ко мне, крепко обхватив мою шею другой рукой — было трудно дышать. Так мы дошли до убежища, я не помню тяжести, мне казалось, что я бегу со своей ношей… под грохот падающих с обеих сторон огненных предметов. На мой отчаянный стук железную дверь сразу открыли — очевидно, стражнику сказали, что еще кто-то пытается добраться до убежища. Уже войдя, спустила Герту на землю, и она сама пошла впереди меня, невредимая, искать свободного места на скамейке. Вышел Володя из отсека, протянул руки: «Я искал вас с Гертой, потом мне сказали, что вы обе перешли мост, какая ты белая, как бумага». Мне так хотелось заплакать от слов его заботы — только нельзя! Мы просидели часть ночи в убежище, и опять, кто хотел — рассказывал, кто хотел — слушал. Герта спала, положив хорошенькую головку мне на плечо — совсем ребенок, но огромный и тяжелый. Каждая бомбежка вызывала беспокойство о родителях, так как квартира наша была на верхнем этаже пятиэтажного дома. Подвал в доме был совсем не укрепленный, простые деревянные столбики подпирали потолок. Все приготовления, превратившие подвал в «убежище», сводились к двум скамейкам и стульям (венским с гнутыми спинками) вдоль стен, нескольким лопатам и одному лому, чтобы раскапываться, если убежище завалит. Был еще огнетушитель — не знаю, умел ли кто-нибудь им пользоваться, родители и я не умели. Одно окошко выходило на зады дома — его даже досками не закрыли, чтобы в случае надобности легче было бы через него выбираться из подвала. Но окно выходило на крошечный дворик, замкнутый со всех сторон пятиэтажными зданиями, был он — как колодец. Мне казалось, когда мы переехали в Панков и еще не испытали серьезных налетов и сидели в подвале, что самое худшее, что с нами может случиться — если засыплет дверь, выходящую из подвала, обрушившимся домом. Но мысль, что на нас сидящих в подвале может рухнуть потолок, почему-то не беспокоила поначалу, хотя и было очень страшно быть в подвале во время налетов на Панков, сделавшихся особенно частыми (ночными), когда советские войска стали приближаться к Берлину и бомбить северо-восточную часть Берлина, в которой находился Панков. Жизнь берлинцев зависела от бомбоубежищ: спокойнее жили те, кто мог успеть из дома или со службы добежать до бункера, до глубокого подземного вокзала или специально укрепленного общественного подвала со сводами и подпорными колоннами. Если же приходилось прятаться только в своем плохоньком подвале — люди изводились, издергивались, худели и очень тяжело переносили налеты. Жизнь наша в Доме Гегеля, относительно приспособившись к налетам, к их расписанию, шла дальше. Мы занимались, учили наизусть стихотворения, писали обширные сочинения на разные литературные темы, готовили выступления — маленькие доклады на заданные темы. У всех немецкий язык сделался более плавным, более красивым и образным. Мы старались использовать прекрасную солнечную погоду теплой осени и часто ездили за город, обычно в воскресенье, небольшой группой, иногда и в будни — тогда к нам присоединялся один из преподавателей, любивший природу и желавший провести занятия на какой-нибудь душистой зеленой лужайке. Как правило, природа захватывала нас всецело и из занятий ничего не получалось. Эти небольшие, беззаботные перерывы в трудной берлинской жизни очень нас освежали: мы набирались сил и покоя до следующих бомбардировок. Мы с Гертой стали проводить больше времени в нашей комнате и очень усидчиво заниматься, лишь иногда, маленькой группой ходили в кино. Бомбардировки нас так утомляли, что хотелось вечером сидеть в своей комнате спокойно и читать, писать без помех. К нам заходила часто Елена — она была нашей ближайшей соседкой. И она, несмотря на ее огненный характер, тоже искала покоя и тихих разговоров. Часто заходила Таня Петренко — необыкновенно милая, мягкая, умная девочка, с ласковой улыбкой и неизменно добрыми, мягкими суждениями. Я всегда ею любовалась, когда она сидела на моей кровати, накинув на себя оренбургский платок, с темными гладко зачесанными волосами, сзади собранными в узел, и рассказывала что-нибудь, глядя на нас темными приветливыми глазами — совсем не «советская» девочка, а совершенно русская. Она меня позвала с собою, и я охотно согласилась поехать в русский храм,где служил отец Иоанн Шаховской. И в церкви и вокруг нее стояла огромная толпа русских людей, много «остовцев». Мы с Таней простояли всю службу. Какое прекрасное пение хора. Это была моя первая в жизни литургия, которую я услышала. Когда Таня меня позвала с собою в церковь, я оробела — решила Тане сказать, что я ведь некрещеная. А Таня с такой милой простотой сказала мне: «Креститься никогда не поздно: неверующих людей не бывает — некоторые только не знают, что они верят в Бога…» Вера или «безверие» меня не тревожили. Только самый факт «некрещенности». Силу же своей связи с миром нематериальным я ощущала с очень ранних лет, это было как бы — врожденное. Мне казалось иногда, что мне как дар дана чуткость улавливать духовные истины, полные простоты и гармонии, на которых покоится вся земная жизнь — как отражение иного мира. И эта гармония этого и иного мира была так прекрасна, не созданная человеческим разумом — она была вне этой сферы… В начале войны я особенно остро почувствовала эту иррациональную связь с миром— духовным. Эта связь не может быть подвергнута анализу — она звучит для одних, как музыка, и не звучит другим. Для меня это было источником, к которому я прислушивалась и который давал мне глубокий духовный покой — и просветленную радость, и направленность моей жизни. Мы с Таней ездили к ней домой, в Потсдам. Там жила ее мать — художница, высокая, приветливая дама с чрезвычайно молодым и тонким лицом, ее бабушка, такая же приветливая и вся закругленная, как Таня и ее мальчик-брат. Милое русское семейство — и без отца, и без дедушки — русская судьба. Погода из осенней, приветливой, превратилась в холодную, зимнюю. Мы начали зверски мерзнуть. По холоду бежали в бомбоубежище и обратно. Берлинцы совсем не менялись, все были спокойными, хорошо и удобно одетыми, только чаще стали видны осунувшиеся и измученные лица. Хотя я ни разу на улицах не видела «дистрофических» лиц. По карточкам всегда выдавали положенные продукты. И всегда хорошего качества. Было голодно, но голода не было. Население всегда сохраняло достойный вид. Берлинки даже в бомбоубежище спешили, одев шляпы, и не бывали неаккуратными, растерзанными. В Доме Гегеля не было отопления, и мы на занятиях все сидели в пальто и шапках. Мама мне дала бэковскую электрическую печурку с рефлектором, которая нагревала нашу комнату очень быстро, и тепло держалось в ней несколько часов. У нас собирались студенты нашего коридора и, забравшись на кровати, занимались в тепле. Пока тепло держалось в нашей комнате, я отдавала печурку на несколько часов Левушке и Сигизмунду, моим друзьям, чтобы и у них в дормитории хоть одна комната была бы теплой. В конце декабря в Доме Гегеля прошли наконец экзамены. Половина курса была выпущена (и я в том числе), половина — осталась на повторение курса, среди них, конечно — Володя, Герта, Ирина. Елена осталась добровольно на повторение курса, договорившись с администрацией: она должна была ждать Петера в Берлине — здешний адрес он знал. И, кроме того, близость отличного бомбоубежища давала надежду на выживание… Елена решила повторить курс литературы, Нина с сестрой уехали к матери, Сигизмунд и Левушка — к родителям в Познань. Все немецкие (поволжские) студенты, успешно закончив курс, разъехались — кто куда. В Д. Г. очень опустело, стало тихо и грустно. Новых студентов больше не поступало. Я переехала к родителям в Панков. Опять попробовала поступить в университет, но опять мне сказали, что у меня не отработан Arbeitsdientst (трудовая повинность) — и без этого меня не примут. Я была в растерянности — куда мне поступать? Я очень боялась работы на заводах и фабриках! Дом Гегеля обязан был сообщить в бюро труда, кто из студентов закончил курс и свободен для военных работ. А мне нужно было торопиться, чтоб получить в январе продуктовые карточки. Неожиданно я устроилась на «великолепную» службу. Когда мы с папой пошли в кино смотреть сводку, на экране появилось объявление: ищут художника для исполнения графических портретов пером — для «общеобразовательных программ», которые показывают перед новостями. Мы в этом кинематографе такие программы уже видели. Например, на экране появляется голова Бетховена, написанная черной тушью, и под музыку сонаты ли куска его симфонии на экране появляется текст — очень сжатая его биография, его главные сочинения. Папа, которому я всегда все переводила, коротко скомандовал: «Запиши телефон». Я нацарапала ногтем на сумке номер. И на другой день — позвонила. Мне назначили время, когда я должна появиться ля разговора, и адрес: «Министерство пропаганды»! У меня от страха сердце ушло в пятки, и я решила, что идти — не стоит. Но папа был неумолимо настойчив: «Нужно пробовать, а отказаться всегда можно!» И я пошла в министерство на Вильгельмштрассе. Здание было в очень плачевном виде, частично уничтоженное, но министерство еще продолжало работать. Мне указали на дверь во флигеле с заколоченными фанерой окнами, в очень холодном высоком помещении, обширном и пустом. За большим полированным столом сидел унылый человек средних лет с помятым лицом, темными усиками, темными глазами в темно-зеленом бархатном пиджаке. Странная фигура в министерстве Геббельса. На столе лежала раскрытая книга (по виду — зачитанный роман) — и больше ничего, кроме телефонного аппарата. Было впечатление, что он «отсиживает» часы и ему было не весело. Он усадил меня напротив: «Теперь хоть поговорить можно!» Венский житель, он мечтал как можно скорее возвратиться в Вену; он служил в министерстве (был художник) в «этой грубой стране» и был обрадован, что я не «берлинская немка», а «славянская художница», как он выразился. Он рассмотрел мои рисунки, которые я принесла с собою, и на месте принял меня своим помощником. Мой новый шеф Хакенбергер дал мне работу домой. И мы договорились, что я буду получать работу — заказ на одну неделю и работать буду дома; все документы о моей службе для министерства пропаганды он мне приготовит, и я смогу как служащая министерства получать продуктовые карточки, заработную плату, и эта служба освобождала меня от трудовых работ. Самое же однако приятное в этой службе было то, что мне не нужно было ездить в здание министерства — мой шеф жил в Панкове, и я могла ему относить раз в неделю мою работу на квартиру, в пяти минутах ходьбы от нас, так что, если меня по дороге застигала тревога, я бежала всегда домой, чтоб пересидеть налет с родителями. Навещала своих друзей в Доме Гегеля перед Новым годом. Там ничего не изменилось: Дом был холодный, нетопленный и все — грустные. Елена ничего не получала от жениха и не знала где он. Володя ходил как потерянный и не делал ничего, чтоб избежать возможного призыва в армию. Ирина неожиданно для всех обручилась с нашим студентом — венгром, которого все считали ловеласом и избегали; очевидно, Ирина, как она мне сама сказала, не выдержала одиночества после моего отъезда. Обручение скоро распалось… Моя хроменькая подружка Герта сняла комнату в квартире одинокого пожилого берлинца и переехала из Д. Г. в его квартиру. На мои расспросы и беспокойства при встрече с нею она беспечно отвечала, что берлинец ее полюбил как дочь, денег за комнату не берет и все ей покупает, что ей нужно. Может быть, и, правда, одинокий человек (Герте в ее годы и сорокалетний казался стариком) привязался по-отцовски к наивной хорошенькой, совершенно одинокой калечке и нашел смысл своего существования. Среди ужасов войны, непрерывной гибели люди, живые, больше льнули друг к другу, искали тепла и привязанностей и были благодарны судьбе за возможность любить, охранять и заботиться о другом, живом, более слабом существе. Рассказала нашим двум начальницам, что я служу не «на трамвае», а в министерстве пропаганды художником. На них это произвело очень большое впечатление, а мне не доставило абсолютно никакой радости, мне сделалось только грустно. Я очень много и усердно работала и всегда вовремя сдавала рисунки. Сначала я писала портреты композиторов, музыкантов, поэтов «для кино». Потом мой шеф стал мне давать новые задания — рисовать карикатуры. Он давал мне материал для каждой карикатуры: фотографии оружия, танков, военных форм (русских и немецких) и какую-нибудь старую карикатуру чуть ли не времени первой мировой войны. А я должна была на основе этого материала рисовать новую карикатуру. Кроме черной туши можно было употреблять красные чернила. Я себя чувствовала малым Мелик-Пашаевым, но работа моя нравилась и мой венский шеф был очень доволен. Где появлялись мои портреты и карикатуры, я не знаю, я их никогда не видела и никогда не подписывала — это было одно из условий моей работы, очень приятное для меня. Мой шеф ни разу не сказал, где их печатали и где показывали, а я не спрашивала. Я работала для Хакенбергера (т. е. для министерства) до самого нашего отъезда из Берлина весной 1945 года.
Глава третья
1945-Й ГОД. ЧЕТВЕРТАЯ НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ ВОЙНЫ
Просидели вечер около радио, втроем с родителями. По тревоге не спускались в подвал — нашу, северо-восточную часть оставили сегодня в покое. Было очень печально, что сестра не только не с нами, но даже не в Германии. И очень тревожно. В последнем письме она, правда, написала, что скоро приедет, что кончает сдавать экзамены и приготовилась бежать, если почувствует опасность. Но вдруг — не почувствует? В середине января 1945 года советские войска заняли Восточную Пруссию. В городе царит беспокойство. Все чаще и чаще воздушные тревоги. И днем и ночью. Кажется, что мы живем под непрерывным налетом, лишь с короткими перерывами, чтобы перевести дыхание. Газеты выходят совсем маленькими, и все статьи — грустные и короткие. Прорывы немецких линий следуют непрерывно друг за другом. Больше не пишут о «новом оружии», не пишут о надеждах, а требуют от населения какого-то фантастического сопротивления. Иностранцы покидают Берлин. Наши друзья уезжают от опасности на юг Германии, к швейцарской границе. Хакенбергер уехал в свою Вену. Перелистываю страницы своего дневника… Медленно встают передо мною картины моих детских и школьных лет. Какие это были беспечные годы, годы неимоверного счастья. А теперь до счастья и не добраться, не пробиться через трудности и беды… Дома царит мрачное настроение. Папа повторяет, что все погибло и пропало. Большевики двигаются со скоростью движения танка, не встречая сопротивления — никакого… Через два, самое большее — три дня будут в Берлине! Советские войска, не дойдя до Берлина, остановились, их не остановили — они сами остановились, очевидно, чтоб приготовиться к последнему рывку — захвату Берлина. Наш (папин) знакомый утверждает, что в Берлине можно еще целый месяц спокойно жить, что он об этом знает из «достоверных источников», да еще клянется, что все это — правда. И мы, никогда раньше не доверявшие слухам, верим этой неожиданной новости с радостью: как успокоительно — целый месяц жизни! Наконец вернулась сестра из Польши. Она приехала на последнем поезде, ехавшем из Познани на запад. Ей с трудом удалось втиснуться на площадку вагона. Поезд был набит до отказа беженцами. Советские войска уже сильно давили на район Познани. Поездка была чрезвычайно опасной: с приближением советских войск сильно усилилась партизанская деятельность. Поезда, идущие в оба направления — и на запад и на восток, неоднократно спускались ими под откос. Д-р Вольф до последнего момента почему-то медлил, не выдавал студентам документа об окончании курса. Когда он наскоро выписал наконец свидетельство об окончании обучения, все студенты и студентки не стали ожидать ни одной минуты далее и все бросились бегом — кто куда, а главная цель была вокзал и поезда, идущие в Берлин. Сестра отдыхала дома от потрясения бегства из Польши.4—11 февраля в Ялте собрались Черчилль, Рузвельт, Сталин. На этой конференции союзники разработали общую стратегию и определили границы послевоенной Европы (аннотации Г. Васильчикова). Чтоб произвести на Сталина выгодное впечатление, союзники незадолго до Конференции возобновили свои «пиратские налеты» — массированные налеты на города Германии, чтоб сокрушить мораль немецкого населения, создать потоки беженцев, которые, запрудив дороги, мешали бы немецкой армии передвигаться. В это же время город-музей Дрезден, совершенно беззащитный — в нем не было ни фабрик, ни заводов, а потому даже почти не было зенитных орудий и истребителей, был стерт с лица земли налетами RAF (Royal Air Force) и «US 8tn Air Force». Исторический городперестал существовать 13 февраля 1945 года. Бросали «ковры» фугасных бомб и — последовательно — фосфорные, вызвав то, что они называли «огненный шторм». От 150 000 до 200 000 жителей погибли за одну ночь. Это уничтожение прекрасного города почти со всем его населением, ничем не оправданное, останется навсегда позором на совести союзников! На этой же Ялтинской конференции Сталин договорился с союзниками о поголовной выдаче всех советских пленных (находящихся не только на территории Германии, но и в Англии, Америке и Канаде). Выдача должна быть «безусловной, вплоть до насильственной». Также должны быть отправлены поголовно все советские граждане, вывезенные на работы в Германию, обратно в Советский Союз. И также — все беженцы из Советского Союза, оказавшиеся за его пределами. Все — кто оказался за границей Сов. Союза после 1939 года. Возвращены должны быть все — до единого человека! И союзники — не спорили, согласились! Сталин же знал, что ему нужно заручиться поддержкой союзников и узаконить «насильственную» выдачу ему граждан, не желающих больше возвращаться в Советский Союз, и знал, что их будет — очень много! Папа много времени проводил по вечерам и в воскресенье с генералом Закутным и все больше мрачнел. Папа довольно близко сошелся со многими участниками РОА. Радовался, когда в Праге был опубликован Манифест (папу на торжества не пригласили). Но он был на «повторных» торжествах в Берлине. У папы с генералом Власовым состоялось три встречи. Папа по своей горячности не учитывал, что у В. были руки и ноги связаны недоверием немцев. К нему лично и ко всем русским. И осторожность высказываний Власова сердила папу — и он считал, что Власов в победу над коммунистами не верит, что он возглавляет движение «по инерции». Может быть, так оно и было — Власов прекрасно чувствовал, не мог не чувствовать, что время уходит и с каждым днем энтузиазм русских людей ускользает, а момент наибольшего подъема после пражского Манифеста спадает. Но в этом нельзя винить Власова, а только Гитлера, Риббентропа и Геббельса. Власов все время держался с достоинством и ни на какие компромиссы с немцами не шел. И это именно, эта его сила и пугала Гитлера и его окружение и вызвала к нему, естественно, недоверие. И ни о чем они никогда не могли бы договориться, цели были совершенно разные. У Власова — русские, освободительные, антикоммунистические. У Гитлера с его патологической ненавистью ко всему славянскому — захватнические и только с уничтожением русского населения (если бы ему это позволили сами немцы и сами русские). Мы знали еще в Берлине, что Власов своим частям не разрешает участвовать в боях на Восточном фронте. Не разрешал направлять оружие на своих. В этом его сила. Отдельные добровольные части участвовали с немцами как их составная часть в боях на фронте (чаще с партизанами). Но это не были «власовцы». Хотя в Сов. Союзе их так и называли. Власов боролся даже с тем, чтобы части его армии без его разрешения не были направлены на Западный фронт. Папа готовил план отступления семьи из Берлина. Он заручился обещанием генерала Закутного, что когда он, 3., будет отступать из Берлина, адъютант его заедет на грузовике за нами (со всеми нашими вещами), и мы поедем на поезде вместе с поездом РОА по направлению на Прагу. Папа в Прагу совсем не рвался, но решил, что сейчас самое важное — уехать из Берлина. А до Праги мы не поедем и высадимся как можно дальше от Берлина и как можно дальше — от Праги. Это давало нам успокоение. И так мы решили — едем вместе с Закутным. В конце января был опубликован указ для жителей Берлина: никто из живущих в Берлине больше не сможет выехать из города в эвакуацию. Считалось, что женщины и дети давно выехали из Берлина (что почти соответствовало действительности) и что все, кто теперь живет в Берлине, работает на заводе, фабрике или транспорте, или учреждениях, связанных с обороной страны. А потому они должны оставаться в Берлине. Беженцы же из восточных областей Германии и Пруссии, а также все беженцы из городов, подвергающихся бомбардировке (Гамбург), проезжая через Берлин, должны оставить город как можно скорее и ехать дальше, не обременяя Берлин, который напряг все силы. Теперь перед нами встал вопрос — что нам делать. Мы уже не считались беженцами, прожив в Берлине почти год (и мы с папой служили) — значит, мы по собственному желанию уехать никак не сможем. И тут пришла на помощь изворотливость сестры: она была «беженцем из восточных областей Германии» — из Польши! А беженцы имели право бежать с семьею. А мы как раз — были семья. И начались хлопоты. Мы с сестрой бегали по разным беженским учреждениям, заполняли анкеты, стояли в очередях и, наконец, получили через несколько недель нужный документ: «Приказ выезжать!», дающий право уезжать из Берлина. Но еще был февраль, и мы еще верили, что нас заберет генерал Закутный. Но были готовы уезжать «самостоятельно». Судьба еще раз послала нам испытание, судьба испытывала нашу отзывчивость! Вечером в нашей квартире прозвонил звонок. Открываю дверь и с удивлением вижу три молчаливые фигуры. Они стояли и ничего не говорили, просто смотрели на меня. Впереди Сигизмунд Канковский, а за ним его родители, как иллюстрация «Провинциальная Русь». Я замерла в удивлении, а внутри лихорадочно металась мысль: мои друзья явились пытать дружбу, что на это скажут мои родители им и мне? Как было бы просто и хорошо, и легко, если б они думали так же, как я: приехали друзья, им нужна помощь, и мы можем помочь, — и это большая радость! Сигизмунд сказал: «Мы только что приехали в Берлин, еле выскочили из Польши — приюти нас на время, у нас в Берлине никого нет!» Они вошли и втащили в переднюю полдюжины чемоданов, очень больших. Как они смогли «выскочить» с таким багажом! Вид у родителей был очень измученный, а у Сигизмунда — виноватый. Уговорила своих родителей пустить Канковских в гостиную Бэков — жить, все равно стоит пустая, пока они не найдут что-нибудь подходящее. Родители на этот раз воевать со мною не стали. Хоть и смотрели на меня неодобрительно. Так и было решено. И мы все вместе зажили. Мне даже нравилось — не так одиноко и беспокойно. Мы с Сигизмундом между бомбежками ходили по разным адресам из газетных объявлений — искали подходящую квартиру. Но все не подходило: или квартиры были дорогими, или в опасных, полуразрушенных районах. Канковским очень нравилось жить у нас. Когда же в бомбоубежище жители нашего дома стали спрашивать, по-моему вполне по-добрососедски про Сигизмунда, родители его, так уютно жившие у нас, забеспокоились: «Не донесут ли? Вдруг сына отправят на фронт». Очень скоро получили все нужные печати на все свои беженские документы и уехали на юг Германии. А жители дома после их отъезда, сидя в бомбоубежище, сказали: «Вот нас стало еще меньше». И все вздохнули грустно.
БОМБЕЖКИ ПАНКОВА
Папа только что перестал работать на «Борзике». «Борзик» — сталелитейный завод, на котором работал папа рабочим (его работа заключалась в том, что он на громадном станке просверливал дыры в толстых стальных пластинах), завод очень пострадал от тяжелых повторных бомбардировок, часть цехов была уничтожена и «освободившиеся» рабочие отправлялись или на другие оборонные заводы, или в ополчение. Начиная со второй недели февраля каждую ночь советские бомбардировщики прилетали бомбить северную часть Берлина и восточную — Панков. Мы почти всегда спускались в наше «убежище» под домом. В убежище собиралось не больше десяти-двенадцати человек — жителей нашего дома. Все молча сидели вдоль стен. Самая старшая жилица — всегда в большой металлической каске на олове. И все, как по команде, сгибались и закрывали голову руками при близких разрывах бомб. В нашем подвале было очень страшно — мы чувствовали себя уязвимыми, во власти случая. Постепенно все женщины нашего подвала приобрели каски. У нас не было касок. У мужчин — тоже не было, но каждый сидел, держа в руках лопату. А самый старый держал лом. В конце февраля была страшная ночь налета. По радио сказали, что на северо-восточную часть Берлина летят крупные соединения советских бомбардировщиков. Мы не задерживаясь спустились в наш подвал, в котором всегда пахло сыростью и плесенью. Он так плохо был изолирован даже от улицы, что мы слышали все, что происходило и на небе, и на земле. На небе рвались снаряды зениток и гудели бомбардировщики. На земле — ухали разрывы, земля вздрагивала, и дом качался и весь оседал, и стены подвала, и подпорки скрипели, трещали и выпускали пыль. Самое трудное было перенести свист фугасных бомб. Советские бомбардировщики бросали каждый по три бомбы — одну за другой. И по свисту можно было определить направление летящих бомб и отсчитывать их количество. Бомбили наш район и были прямые попадания в здания на нашей Пестолоцци штрассе, и мы по приближающемуся свисту и разрывам знали, что бомбы летят прямо на нас: последняя бомба (разрушившая соседнее с нами здание) была не слышна. Разрыв мы услышали раньше, чем долетел звук свиста — он был поглощен грохотом рухнувшего здания. Мы решили, что на нас сыпется наш дом — в подвале было оглушающее давление воздуха, треск, пыль лезла в рот, уши, казалось, мы сейчас задохнемся, и электричество потухло, и наступил мрак и непереносимый грохот — это был ад; момент казалось, что выжить невозможно — мы погибали. Но грохот сделался тише и утих, следующие разрывы бомб стали удаляться. Кто-то в подвале произнес: «Мы еще живы». Мы закрыли лица приготовленными полотенцами (было от пыли трудно дышать) и стали приходить в себя. После отбоя ощупью вышли на улицу, где-то близко был пожар: небо было оранжевое и на улице — светло от пожара. Соседнее здание лежало в руинах. Стояла лишь часть боковых стен и задняя стена — передней стены не было. Бомба разрушила весь пятиэтажный дом до самого подвала. Подвал был, конечно, засыпан со стороны улицы, но жители, спасавшиеся в нем, вылезли через заднюю, запасную дверь и стояли теперь перед руиной дома — молча. Запомнилась мне высокая дама, неподвижно смотревшая на место, где была ее квартира — и остались лишь обои на задней стене дома. Светлые обои с пятнышками. Дама не двигалась, как застыла, и все смотрела наверх на светлые обои молча, только губы ее чуть шевелились — или она молилась, или прощалась, или перечисляла имена детей, выросших в этой квартире. Никто не плакал, не стонал, все было странно тихо, как будто никто не мог еще поверить, что у них нет больше крыши над головой. Только одна молодая женщина, стоя на другой стороне улицы, все монотонно повторяла, глядя на руину дома: «Нас разбомбили, нас разбомбили…» Мы прошли по нашей улице, засыпанной кирпичами рухнувших зданий. Несколько домов были разрушены прямыми попаданиями. И не было нашего магазинчика Штейнмеца, он больше не существовал — все превратилось в прах. Дом Гали Орлик стоял невредимым, не пострадал нисколько. Не пострадал и дом Анны Петровны. — одноэтажный дом напротив магазина колониальных товаров. Казалось, что повторения такой бомбежки больше не вынести. А по существу подобная бомбежка не была даже отдаленно сравнима с беспощадным «ковровым» уничтожением города во время налетов американцев. Они буквально заливали тоннами и тоннами взрывающегося металла огромные районы и потом сжигали их, испепеляя горящим фосфором. Спасения не было… Это была месть всему населению — его уничтожали, истребляли, сокрушали. Советы бомбили, но у них не было такого количества бомб, бомбардировщиков и т. д.; их налеты не были направлены на обязательное уничтожение населения, а были «старомодными» — «куда попадет!» Но когда война кончилась — все изменилось. Американцы дали немцам возможность жить и не уничтожали их, а НКВД начал охоту и уничтожение всех — им неугодных или потенциально опасных немцев. Осмотрев наш очень пострадавший район, мы пошли домой, не очень надеясь, что наша квартира в полной сохранности, но она оказалась даже не очень покалеченной, только пыльной, как будто из всех стен, потолка, из всех щелей высыпалась пыль при тряске дома. Окна мы во время налетов оставляли приоткрытыми. Теперь они были широко открыты, но ни одно стеклышко не выпало. Мы ничего не прибирая, только закрыв окна, залезли в свои пыльные холодные кровати, не раздеваясь… Как мы устали… Налеты на Панков продолжались почти каждую ночь. Но таких страшных для нас, как налет, разрушивший соседний дом и другие дома на нашей ул. Пестоллоци, больше не было. И не падали бомбы на нашу улицу, пока мы там жили. Когда же мы уехали и застряли до конца войны в Бад-Нейштадте, мы узнали от Анны Петровны, что наш район и наша улица опять сильно пострадали. И папа, не задумываясь, помчался один в Берлин — еще можно было проехать по железной дороге с большим трудом. Папа решил, что он «должен» хозяину квартиры — последнюю инспекцию и помощь по спасению квартиры и его вещей, если это еще возможно сделать. И папа, не слушая наших советов, уехал, без языка, в нервной взвинченности, движимый странно преломившимся чувством благородства. Папа с большим трудом и приключениями доехал до Берлина и до Панкова. Дом «наш» стоял, но окна вместе с, рамами были вырваны и в квартире царил хаос. Папа несколько дней забивал окна досками, фанерой, собранными в квартире и, главным образом, в кучах разбитых домов. И когда он все привел в порядок, вычистил весь мусор разрушения, он закрыл квартиру на ключ, передал ключ одной из старых жительниц дома для Бэков и поехал с еще большим трудом и приключениями обратно. Никто его даже билета не попросил предъявить, никто не спросил ни разу у папы документов. Берлинцы хлынули из города, и папа, как соринка, был вынесен всем потоком беженцев из города на юг Германии. Через две недели после папиного бегства из Берлина советские войска заняли Берлин и начали погром немцев и разгром города. А папа вернулся к нам — исхудавший, грязный, потрепанный, с несколько безумными глазами, но успокоенный и удовлетворенный. Он походил на того папу, который перед эвакуацией из голодного Ленинграда провел громадную, почти непосильную работу по приведению нашей библиотеки в порядок и, осматривая ряды полок и шкафов, сказал: «Ну, вот, этот этап жизни — закончен». Наш берлинский этап жизни был теперь тоже «аккуратно закончен». За неделю до нашего отъезда из Берлина с документами «беженцев из Польши» папе позвонил генерал Закутный, чтоб предупредить нас, что назавтра назначен отъезд РОА и что за нами приедет грузовик с утра. и заберет нас с вещами, и мы отправляемся вместе с армией генерала Власова в Прагу. Нам, конечно, хотелось ехать, с русскими, хотя нам было не по пути в Прагу и не по пути с армией РОА. Мы приготовили к утру все наши вещи, запакованные и перевязанные, привели всю квартиру в полный порядок, все закрыли простынями от пыли — и стали ждать грузовика. Весь день мы ждали, но никто за нами не приехал. Папа звонил Закутному — никто не отвечал. В ставке РОА тоже никто не подходил к телефону. К вечеру мы поняли, что о нас забыли или попросту для нас не нашлось места. Чтобы в этом убедиться (папа не начинал еще возмущаться, не имея окончательного факта), папа на другой же день, утром, поехал в Далем, в ставку Власова, чтобы на месте все выяснить, расспросить, встретиться… Но ставка была пуста — никого не было, только хлопали на ветру двери, не закрытые на замок, и по полу — перекатывались скомканные бумаги, и валялся всякий бумажный мусор. Все уехали — и на улицах не встречались больше подтянутые русские военные с трехцветным флагом на фуражке. Папа, вернувшись домой, имея теперь в руках «несомненный факт», что нас не взяли, забыли, бросили и даже не сообщили об этом, не очень возмущался и кипел, как мы того ожидали, он был очень грустен — и разочарован. То, что нас бросили, быть может, спасло нам жизнь. Мы бы, скорее всего, оказались со всеми — в Праге. И разделили бы трагическую судьбу русских и «власовцев». Прага оказалась для них ловушкой. После освобождения Праги силами власовской армии от немцев власовцы пошли на соединение с американскими войсками. Американцы их приняли, но придерживаясь ялтинского договора, арестовали и выдали всех поголовно (бежало лишь небольшое число власовцев и скрылось, смешавшись с местным населением) советским войскам, которые расстреляли весь офицерский состав, а низший военный состав — солдат — сгноили в лагерях Гулага. Вместе с семействами. Огорчение по поводу отъезда РОА из Берлина без нас было смягчено тем, что мы имели все нужные бумаги для скорого индивидуального отъезда из Берлина. И мы не задерживались из-за неудачи с РОА. Попрощались с соседями и новыми панковскими друзьями, нагрузили весь наш багаж на большие сани, запряженные лошадкой, и вслед за санями с нашим многострадальным багажом пошли на Анхальтер-вокзал. Шел снег — большими медленно падающими хлопьями. Самое тяжелое мы сдали в багажное отделение (папин манускрипт, мои дневники, рулоны с картинами, с трудом зашитые в ковер). Нам обещали выслать багаж вслед за нами на следующий день. Мы ехали в Гейдельберг — все еще в надежде поступить в университет. Сила инерции! Остальные чемоданы, полегче, погрузили в переполненные беженцами вагоны. И забрались в вагон.Бад-Нейштадт. Конец войны
Глава первая
19 ФЕВРАЛЯ 1945 г. ОТЪЕЗД ИЗ БЕРЛИНА
Мы выехали из Берлина поздно вечером, в полной темноте. Из свинцово-черных туч все еще падал тихо снег — медленно кружились большие снежинки. Поезд тихо отошел от заснеженного перрона, как будто стараясь быть неслышным, без гудков, и тихо потянулся на юг мимо разрушенного, разбитого Берлина, распростертого под снежным покровом. Несчастный измученный город со стойкими, приветливыми берлинцами, разделившими судьбу своего города, остался позади — в темноте. И сделался печальным воспоминанием. При слове Берлин у меня в зрительной памяти всегда возникают одни и те же образы войны, горы битого кирпича вперемешку со штукатуркой, обломками, сглаженные дождем и снегом. И на них — венки, букеты цветов. Иногда — кресты, деревянные кладбищенские кресты — тем, кто похоронен под рухнувшими домами. На каждой такой могиле на «горке» высотой в несколько этажей — много крестов, венков. Как-то не поворачивался язык пожелать умершему: «Пусть будет ему пухом земля». Мы ехали в поезде в Гейдельберг через всю Германию, с длительными остановками, не доезжая до городов, которые в этот момент бомбили. Всю дорогу была опасность, не прекращающаяся ни днем, ни ночью, что наш состав, прекрасно видимый среди снежного покрова, будет разбомблен, мы были незащищенными и совершенно на виду. Но за весь многодневный путь нас никто не тронул, не соблазнился таким «маленьким уловом» — бомбили на нашем пути беззащитные города. И эти разрушенные города проплывали мимо окон нашего вагона: разбитые здания, без жизни, стены с пустыми окнами, через которые всегда видно серое зимнее небо, разбитые готические храмы; заснеженная, избитая страна. В вагоне пассажиры рассказывали друг другу свои беды, делились печалями: кто кого потерял, у кого погибли на Восточном фронте сыновья, мужья, братья, у кого — близкие, целые семейства под рухнувшими зданиями. Все это было простое немецкое население, измученное войной, гибелью близких. Но очень стойкое — без героизма, без громких слов, без отчаянного громкого горя; или оно уже поутихло или сдерживалось: все чувствовали, что у всех — подобное же горе… Никто не обсуждал политического положения, никто не проклинал, не призывал ко мщению, не требовал возмездия — ни для американцев, ни для англичан, но все единодушно боялись «русских». Вести об их жестокости и безобразном отношении к женщинам уже дошли до всех уголков Германии. Мы доехали до небольшого городка Бад-Нейштадт-ан-дер-Заале. И поезд наш дальше не шел. Нас, пассажиров, попросили высадиться. И если кто хотел, мог ехать обратно и сходить с поезда в любом городе, где можно пересесть, если повезет, на поезд, который идет в более подходящем для него направлении. Все пути к Гейдельбергу были перебиты, до него невозможно было доехать, только собственными усилиями и средствами и не по железной дороге. Мы сидели в зальце маленького неразрушенного вокзала на нашем багаже и обдумывали создавшееся положение. Решили посмотреть на город, куда нас случайно завез поезд: темные старенькие немецкие дома, все не выше трех этажей, плотно друг к другу прижатые, как во всех старых готических городах. Очень большая базарная площадь, мощенная булыжником, отельчики вокруг; из города видна высокая, покрытая лесом гора, на верхушке которой развалины (старинные) замка, высокие отвесные над краем горы стены с пустыми окнами, башни по углам каменных стен — без крыши. Между городком и горой по долине вьется речка Заале. Нам городок понравился, и решили мы осесть в Бад-Нейштадте: бомбить его, наверное, не будут, бомбить здесь просто нечего. Городок маленький, далеко от всего: от больших городов с промышленностью, от железнодорожных путей, от больших дорог, и сражаться за этот городок тоже никто не будет. И фронт (американские войска) скорее всего просто перекатится через городок без особых осложнений. Решили мы, что лучшего места ждать окончания войны, чем Бад-Нейштадт, мы не найдем. И багаж наш будет отправлен именно сюда, вслед за нами. Мы сначала поселились в отельчике недалеко от вокзала, очень скромном, дешевом, холодном, с отвратительной едой — раз в день, по карточкам: густая капустно-картофельная похлебка. Через несколько дней нашли уютный ресторанчик на базарной площади, где можно было кормиться по карточкам раз в день, очень хорошо. Это было семейное заведение, с клетчатыми скатертями на столиках, большими старыми фаянсовыми пивными кружками на полках, оловянной посудой; и обслуживала ресторанчик одна семья из трех поколений. И все были приветливыми, разговорчивыми, очень симпатичными провинциальными немцами. Мы себя почувствовали совсем по-домашнему. Нам дали стол, который всегда ожидал нас во время обедов (обед был готов всегда в одно и то же время), и никого за него больше не сажали, как будто «закрепили» за нами; за другими столами были всегда одни и те же лица, семейные и одинокие пары — все беженцы из Берлина. Иногда приходили раненые солдаты, которым был дан отпуск «на выздоровление», и они жили в окрестностях городка и приходили в «Gasthaus» поесть и посидеть за кружкой пива — им хозяева всегда «выставляли» пиво в «дар». Очень часто берлинцы и хозяева откровенно обсуждали с солдатами вопрос о возвращении в армию: все приходили к одному и тому же выводу, не нужно возвращаться, война вот-вот закончится, американцы займут южную Германию, и нечего рисковать жизнью. Война проиграна — и теперь важнее всего сохранить жизнь. Мне очень нравился такой здравый «патриотизм». Мы поселились в доме местного сапожника — в двух чердачных комнатах. На площадке лестницы стояла буржуйка, на которой можно было что-нибудь подогреть и вскипятить воду. Комнатки были маленькими с одним окошком в каждой, но вид из окон был прекрасный, — очевидно, это были в лучшие времена комнаты прислуги. Мы стали довольно ощутимо голодать. На местном базаре (на городской площади раз в неделю был базар) ничего нельзя было купить, кроме лука. На всех столах лежали большие вязки лука. И больше ничего не было. Ни картошки, ни овощей. Мы купили большую вязку лука и притащили ее на наш чердак. Теперь у нас не будет цинги, лук — это чистейший витамин С. В ресторанчике мы могли обедать по нашим талонам, и кормили нас очень сносно, вкусно, но не досыта, и только на этот обед и хватало наших талонов. А утром и вечером все время хотелось есть — и не было у нас ничего, кроме кофе и тоненьких кусочков хлеба, которые мы подсушивали на нашей печурке — совсем как в Ленинграде. Только что на подсушенный хлеб мы клали нарезанный колечками лук, иногда тоже «поджаренный» на печурке. И мы насквозь пропитались запахом лука. Сапожник и его семья (две взрослые незамужние дочери и жена) были спокойные, вежливые люди и брали с нас за чердак очень недорого. Они были довольны, что им не вселят беженцев с детьми насильно. В доме все помещения, кроме чердака, были темными, высокими, узкими, с черной мебелью, черными балками на потолке, темными деревянными панелями и черными колонками балюстрад. Единственное, что было светлым в доме — большое количество огромных белых пуховиков, которые с раннего утра вывешивались на просушку из всех окон узкого дома и проветривались до захода солнца. Пуховики висели из окон спален целыми днями — зимой и летом, во всех домах, во всех провинциальных городах Германии. В наших двух комнатах стояли простые деревянные скрипучие кровати, один расшатанный стол и четыре стула. Над нами находился холодный чердак, в который можно было попасть через люк в потолке. Там стояли огромные сундуки, очевидно, поставленные туда с незапамятных времен, когда строился этот дом. В сундуках хранились шубы, старинные платья, отрезы. И с потолка свисали завернутые в простыни одежды, шубы более современные, пальто — имущество, накопленное, наверное, несколькими поколениями людей, живущих в этом доме; каждое последующее поколение, походившее на предыдущее, — с теми же устоями, привычками, понятиями, предрассудками, жившее спокойно, достойно, без особых волнений от рождения до могилы. Сапожник, наш хозяин, был весьма уважаемым человеком в городке, спокойным бюргером, имевшим постоянное место в церкви на одной из передних скамеек и постоянный столик в местной пивной, где он со своими друзьями спокойно тянул пиво из больших кружек в воскресенье вечером и иногда перекидывался с ними фразой-другой, а по праздникам он в пивную приходил, как и все бюргеры, со своими семейными — женами и детьми, и все пили пиво и пели хором. Мы каждый день ходили на вокзал, справляться не прибыл ли наш багаж. Но ничего не приходило. Папа совсем потерял покой — его рукопись, единственный экземпляр его «Книги жизни» исчез где-то между Берлином и нашим городком. И никогда не доехал наш багаж до нас. С рукописью папы пропали мои ленинградские дневники и рисунки, все наши картины — и другие невосстановимые вещи. Папа, несмотря на горе по поводу потери рукописи, продолжал работать над последней заключительной главой. По примеру папы я тоже засела за работу, стала восстанавливать свой ленинградский дневник. Прошел такой небольшой срок со времени блокады, впечатления были все еще сильными, так что мне не очень трудно было все написать заново. Но рисунки я не восстанавливала, кроме одного, и позднее я уже не пыталась это сделать — наступили новые испытания. Мы часто ходили с сестрой гулять — и по городу, и вокруг него. Город был обнесен валом и городской стеной, как многие старые немецкие провинциальные города. Внутри городской стены — очень тесно застроенный город, — как их изображали на старых книжных миниатюрах и картах (только базарная площадь — привольная), все улицы — узкие, старомодные дома, тесно прижатые друг к другу, и весь городок лепился около большого храма из светлого кирпича с красной черепичной крышей, в цвет светло-красных черепиц на крышах домов. Городской вал переходил в толстую отвесную стену из обветренного кирпича со стороны «неприятеля», в некоторых местах — очень высокую. За валом — долина реки Заале с мягкими, позеленевшими весной лугами, с легкими деревянными мостиками через реку. За лугами начинались лесистые холмы и гора со старым замком-развалиной. Замок был виден издалека, построенный из серого тяжелого камня в незапамятные времена. К нему шла пешеходная дорога, частично выложенная булыжником, в более крутых местах поперек дороги были вбиты толстые черные доски, чтоб дорога не обсыпалась, не размывалась дождями. Доски давно обросли мохом. Вся дорога к замку с обеих сторон закрыта кустами и деревьями. Поднимались по ней медленно, долго, как по затемненному зеленому коридору. Мы, когда стаял снег и зазеленели деревья, стали часто ходить по замковой дороге. Мне казалось, что здесь, среди деревьев на высокой горе, совершенно безопасно — гору никто не будет бомбить. В просветы между деревьями была видна голубая даль, долина реки, теперь еще заснеженная, и весь небольшой старый городок, запакованный в опоясывающую его кирпичную стену. За городом начинался район новых маленьких вилл в зеленых садах, и все это переходило в поля, в рощи. Недалеко от города находилась маленькая фабрика, очень современная, вся из стекла и бетона, среди зелени — фабрика Круппа, совсем не походившая на фабрику: не было ни грязи, ни дыма, ни труб. Из города на север вела дорога; вдоль нее на протяжении километра расположилась деревня. Дома стояли вдоль дороги в один ряд — с двух ее сторон. Между домами высокие заборы из досок и закрытые ворота. Вся жизнь происходила за воротами, за домами, во дворах, не видимых с улицы. Мы все реже ходили на вокзал проверять, не пришел ли багаж. За все это время (почти месяц с отъезда из Берлина) пришел в очень помятом виде один чемодан из всего нашего багажа — с одеждой. Но того, самого ценнейшего чемодана, зашитого в ковер, не было. Непростительная ошибка — сдать его в багаж. Мы волокли с собою чемодан с серебром, переложенным какими-то старинными французскими скатертями — кому они были нужны? А все, что поистине ценно, сдали бездумно — на произвол судьбы. Через много лет, в конце шестидесятых годов, в разговоре с папой о книгах, написанных им и изданных в Америке, я заговорила о пропавшей рукописи и о последней главе, над которой он работал с момента отъезда из Ленинграда в эвакуацию. Потеряв все, уже законченную в Бад-Нейштадте, когда погибло все наше имущество при нашем бегстве, он опять над ней работал и закончил ее уже в Америке — во второй раз. Папа неожиданно мне сказал, что его «Книга жизни» — не пропала: он нашел в экономическом отделе русского книжного магазина в Нью-Йорке, который он регулярно посещал (папа следил за всем, что издавалось в Сов. Союзе и составил по своей специальности значительную библиотеку), свою книгу, изданную целиком слово в слово, только под чужим именем. «И ничего не изменили — так и напечатали!» — «А последняя глава?» — «Написана кем-то заново, очень слабая глава — всю книгу портит!» Я очень заволновалась, что же папа думает, ведь это же очень обидно и горько — такая многолетняя работа папы и у него похищена… Папа философски заметил: «Нет, главное, что труд не пропал: книга теперь живет — это все, что нужно… Жаль только, что последняя глава — не моя, она у меня — очень сильная…» Мы больше к разговору о книге не возвращались… Очевидно, кто-то нашел экземпляр рукописи, оставленный нами на кафельной печи столовой, в нашей петербуржской квартире… Какой папа — дальновидный человек. И какой скромный — настоящий ученый! И явил собою пример праведности… Голод чувствовался все сильнее — мы все опять похудели, и все время хотелось есть. Во время одной из наших прогулок в заснеженные поля сестра решила разрыть снежную кучу около края поля, у дороги: «А вдруг найдем забытый мешок картошки». И мы стали разрывать руками снег — и нашли кучу картошки, к сожалению промерзшей: некоторые картофелины в руках превращались в жидкую кашу. Но те, что потверже, мы собрали, я наполнила ими подол юбки, и мы пошли, радостные, домой — теперь к луку прибавится картошка. Но даже по виду и на ощупь твердые картофелины были от мороза желто-прозрачные и очень сладкие — мы смогли сварить лишь три-четыре картофелины. И смогли их съесть только с луком, который отшибал неприятный землисто-сладкий картофельный дух. Здесь тоже было свое ополчение из местных стариков. Иностранцев и беженцев никто не приглашал сражаться за Нейштадт — это считалось обязанностью местных стариков, которые иногда собирались в пивной и вместе проводили вечера в веселых разговорах. На папу, безъязычного иностранца, им никогда не приходило в голову посягать — и мы спокойно, сравнительно с Берлином, хоть и впроголодь, жили у сапожника. И ждали конца войны. Дальше — мы не думали. С нами в вагоне из Берлина ехал некий служащий «Винеты» с женой — Вл. Рыбов. Папа его встречал в «Винете», но знаком не был. Я же их несколько раз видела в Доме Гегеля, среди приходящих слушателей, иностранцев. В вагоне же мы разговорились и познакомились поближе. Р. и его жена решили, что и они останутся в Бад-Нейштадте ожидать конца войны. И как он нам не стесняясь сообщил, расчет его был прост: с женой, которая вот-вот будет с младенцем на руках (он выразился более образно и грубовато) — «пропасть можно!» «А у Вас, Иван Алексеевич, две молодые дочери с языком — они нас всех вывезут». Какой расчет! И он оказался прав — мы с сестрой их «вывозили» — и в Нейштадте, и после войны — несколько лет. Жизнь в Бад-Нейштадте после долгого нервного напряжения в Берлине походила на сон: радио у нас не было, поэтому мы были лишены ежедневных сводок. Мы не знали, где находится фронт — Восточный и не знали — где Западный и как скоро нас поглотят американские наступающие войска. Все новости, вряд ли «последние», мы узнавали во время обедов в нашем базарном ресторанчике из уст хозяйки (это были скорее «слухи» с ее собственными комментариями) и от наших соседей по столу — беженцев из Берлина. Чувствовалось, что война идет к скорому завершению. Германию буквально добивали: бомбили, вернее, добамбливали все крупные города. Бомбили Мюнхен, города на Рейне, разрушили Кельн и его знаменитый собор, бомбили Вену, превратили в прах свободный ганзейский город Гамбург, уничтожили Бремен, разбомбили города Рурской области. А немцы только вздыхали, когда узнавали об уничтожении еще одного города: «О, какой это был прекрасный город…» И не слали никому проклятий, а продолжали жить, но чувствовалось, что и штатское, и военное население только и стремилось дожить до конца войны, не погибнуть под занавес, до окончания войны, такого теперь реального и близкого. И ждали прихода американцев (войска американцев медленно, но совершенно определенно двигались в нашем направлении), радовались совершенно откровенно, что попадут к американцам, а не к русским, от которых все старались бежать. Хозяйка застенчиво улыбалась нам и говорила, что, конечно, понимает, что «не все русские — такие жестокие». Нам было очень грустно, что о русских людях говорили только как о беспощадных дикарях. Немецкие военные рассказывали тоже «страшные повествования» о методах сражений советских солдат. Судить будет история, но нам, свидетелям войны, известно, что обе стороны — сначала немцы, а потом и советские войска были безжалостны и неблагородны с пленными противниками. Но правда, что немцы к местному населению, особенно женщинам и детям не проявляли зверств, если это не были партизаны. Наша же армия, захватывающая Германию, измученная, часто оборванная, получила неписаное право — брать все имущество немцев, запасы, женщин, все было дозволено победителям безнаказанно, ибо «заслужили». Заслужили! Потом уж, когда они насытились разгулом, все пришло к нормальным отношениям, и советские оккупационные войска стали вести себя дисциплинированно, спокойно, но Европа, включая Чехословакию, Венгрию, Австрию, навсегда запомнила поведение советских завоевателей. Их «дебют» в Европе совершенно недостойный. Местное население предупреждало молодых раненых солдат не уходить в лес, чтоб переждать захват американцами города и его окрестностей — где-нибудь в городе и деревне. Потому что американцы тщательно прочесывают все лесистые холмы в поисках эсэсовцев, которые, как правило, уходят в леса и долго сопротивляются, и американцы всех пойманных в лесу (даже не в военной форме) считают эсэсовцами, немедленно арестовывают и ссылают в специальные лагеря для расследования. К «бою» в Бад-Нейштадте готовилось только местное ополчение. Обсудив в пивной всю стратегию, ополченцы-старики вышли за городскую стену на главную дорогу, выходившую из города на север, где лежали большие серые придорожные камни, полузаросшие травой, по обе стороны дороги. Каждый «воин» выбрал себе камень, за которым он будет прятаться и из-за которого он будет стрелять в подходящего противника, т. е. американские танки. Почему они решили, что «неприятель» приедет к ним с севера, когда каждый ребенок знал, что американцы двигаются с юга? Американцы в скором времени вошли в городок с противоположной стороны — с юга, поздно вечером, когда «ополчение» уже отправилось из пивной спать под свои пуховики. Только один старый воин, задержавшийся в пивной, возвращаясь домой на южную окраину города, вдруг увидел на дороге приближающиеся американские танки; ополченец был навеселе, но «при оружии» и тут же у дороги хлопнулся на живот и открыл «огонь» из своего допотопного ружья, как его обучали. Это было последнее, что он в своей жизни сделал — единственный защитник городка от иноземного нашествия; из переднего танка послышалась короткая очередь из автомата, и танки даже не приостановившись вползли в город. А пока мы в ожидании конца войны ходили гулять — всегда к руинам замка. Вид из замка был совершенно великолепный — уже зазеленевшая, без снега долина реки под открытым взору небом, соединявшимся с землею в голубой дали. И везде, по всей долине, как «гнезда» грибов — деревни с домами под красными черепичными крышами, с темными лесами и очень аккуратными прямоугольниками полей. В замке, в его внутреннем дворе, мощенном крупным старым булыжником, было спокойно находиться, и, хотя над нами было открытое небо (мы были на самой вершине горы), нам казалось, что на эту старую руину, находящуюся на значительном расстоянии от города, никто не будет сбрасывать бомбы — между горой с замком и городской стеной был влажный позеленевший луг, а на лугу каждый день паслась рыжая лошадь и две песочного цвета коровы, без пастуха. В воздухе пахло весной, у дорожки, ведущей к замку, появились маленькие синие цветочки, которые напоминали о мирной жизни и о почти забытом покое. Днем все чаще и чаще очень высоко в небе летели на север огромные соединения бомбардировщиков. Летели очень высоко, казалось, медленно и не спеша. В количестве многих сотен, иногда их было более тысячи. Это летели американские «воздушные крепости» с итальянских баз бомбить немецкие города. Волна за волной. А мы снизу смотрели на эту спокойную силу. Соединения летели так высоко, что бомбардировщики были почти не видны. Лишь иногда они поблескивали на солнце белым серебряным светом — тогда были видны очертания самолетов, и казались они легкими, маленькими, почти прозрачными, на фоне очень высокого голубого неба, отступившего от них еще выше. За каждой машиной тянулся белый хвост — струя пара, становившаяся постепенно все пушистей и, наконец, растворяющаяся в небе. По этим белым хвостам мы подсчитывали количество машин в каждом соединении. Через несколько часов соединения бомбардировщиков возвращались обратно. И опять летели также высоко, казалось не спеша, и иногда поблескивали на вечернем солнце розовым светом на фоне темно-синего неба. За ними так же тянулись белые пушистые хвосты, долго висевшие в небе. Самолеты были такими легкими и никак не связывались с ревом, который лежал, как тяжесть, над землей и не имел ничего общего с «игрушечными» самолетами — высоко вверху… Весь воздух дрожал от рева, казалось, прижимая нас к земле. От такого гула и при такой мощи ничто устоять не может — летели победители. Было решено, что мы с Р., втроем, отправимся в дальние деревни и попробуем обменять вещи из нашего багажа на продукты. Р. должен был стучаться в дома, разворачивать товар, а мы — хвалить, назначать цену и предупреждать: «Плата только продуктами». Мне очень не хотелось идти с Р., и вся затея казалась несносной, но папа настаивал. И мы втроем отправились в путь: Р. с большим рюкзаком — впереди, мы — на некотором расстоянии следом. Обмен и торговля шли очень бойко, благодаря хищной напористости Р. Он стучался в лавочки, в частные дома и, когда дверь открывалась, очень громко начинал по-русски предлагать свои «товары», при этом небрежно указывал через плечо на нас — и говорил: «Это мои помощники — они переведут». Потом кричал нам довольно грубо по-немецки: «Идите сюда». Р. нам говорил через плечо: «Я знаю, как действовать». И правда, он довольно много вещей наменял на масло, на бекон и на крупу, а из наших «товаров» еще ничего не показывалось. И мы с сестрой решили, что деревня, к которой мы подходили, будет последней: дальше Р. может идти один, мы возвращаемся. В деревне Р. выбрал очень большой красивый дом — деревянный, построенный в виде загородной виллы в тенистом саду. Мы с сестрой остались у ограды, а наш «генерал» с мешком зашагал к двери. На его настойчивый стук вышел средних лет очень приятный человек — было видно, что его очень удивил Р. Он слушал его, приподняв брови. Хозяин виллы, увидя нас, пошел нам навстречу, очень внимательно нас рассматривая, а Р-ву сделал спокойный жест рукой, чтобы он перестал разговаривать. Подойдя, спросил нас, каким образом мы оказались в обществе этого грубого человека, кто он нам. И когда мы объяснили, что он лишь знакомый, отнюдь не родня, и мы с ним пошли обменивать вещи на продукты, что мы беженцы из Берлина и застряли с родителями в Б-Н., хозяин виллы пригласил нас с сестрой войти в дом, а Р. сделал отстраняющий жест рукой: «Вы подождите здесь — у ограды». Мы очень охотно вошли в дом, надеясь немного передохнуть на стульях, а не на земле у дороги. Приветливый хозяин принес на подносе белые булочки и бутылку ликера с зеленым огоньком, как тот, что мы когда-то пробовали во Львове в католическом монастыре. Мы не стали отказываться ни от того, ни от другого. Ликер был великолепный — сразу закружилась голова. Мы разговорились. У владельца деревянной виллы — большая мельница, на которой работали остовцы. Он о них очень хорошо отзывался: «Добрые люди и хорошие работники». Потом сказал, что не строил никогда заборов из колючей проволоки вокруг их жилья, т. к. верил, что от него ни один рабочий и служащий и так не уйдет. Он, как мы потом узнали от его рабочих и служащих, с которыми я позднее подружилась, и кормил их хорошо; и платил им заработную плату. Рабочие, главным образом — русские, ему недавно сказали: «Когда придут американцы, ты ни о чем не беспокойся, мы тебя в обиду не дадим». И я верила, что его никто в обиду не даст, такой это был спокойный, милый и умный человек. Мы стали прощаться, а он принес нам большой мешок муки — вдвоем еле поднимешь — и сказал: «Это вам от меня — только обещайте, что вернетесь теперь домой», и добавил, что «когда, кончится Zusammenbruch (катастрофический конец), переезжайте с родителями ко мне — у меня большой дом…» Мы с мешком муки, которыймы несли очень радостно, вдвоем вышли за ограду виллы. Вдоль ограды, с раздраженным темным лицом, бегал Р., поставив свой рюкзак на землю. Встретил нас дерзким возгласом: «А я думал, что вы вообще только завтра вернетесь». Какой злой плут! Но так как мы с сестрой были в очень хорошем настроении и на губах еще чувствовался вкус ликера, мы молча пошли с нашим мешком по направлению к Б.-Н., теперь мы шли впереди, а Р. — сзади. Мы не могли остановиться и все время тихо смеялись, что Р. очень сердило, а нас еще больше смешило. Мы пришли домой, когда сделалось совсем темно. Родители очень обрадовались мешку с мукой. Особенно папа: «Теперь будем есть завариху! Больше не будем голодать!» Это был наш первый и последний поход за продуктами. Часть муки мама обменяла у жены сапожника на растительное масло, и мы успокоились.Умер американский президент Рузвельт. Ночью нам плохо спалось на нашем чердаке: каждую ночь через наш городок со своих южных баз летели бесконечные соединения бомбардировщиков. Очевидно, американцы стали бомбить города Германии не только днем, но и ночью. Мы никогда не спускались из нашего чердака в подвал дома, надеялись, что американцы на такой ничтожный городок не будут тратить своих бомб. Мы, лежа в кроватях с открытыми глазами, изнывали от гула над головой, и было очень все-таки страшно: а вдруг они «нечаянно» обронят бомбу на нас. Иногда летели не соединения, а отдельные бомбардировщики. Казалось, они летели очень низко, были огромными и тяжелыми. Я до сих пор помню их медлительный низкий рев с короткими перерывами — как железное темное дыхание, какое-то особенно угрожающее. В ночь с 16-го на 17-е марта, в темную теплую душистую ночь мы опять не спали: все небо над нами гудело от летящих бомбардировщиков. Через очень непродолжительное время послышался отдаленный грохот бомбардировки. Смягченный расстоянием, грохот походил на непрерывный, непрекращающийся гром, который не затихал и не удалялся… Через час-два с тем же тяжелым гулом бомбардировщики возвращались через Бад-Нейштадт на свои базы. Утром мы узнали, что этой темной ночью стерли с лица земли прелестный, старинный город Вюрцбург. Город, который славился своею архитектурой, храмами, дворцами, мостами со скульптурами на них. И вместе с городом погибло его население. В городе не было даже зениток, да и что они могли сделать при таком количестве бомбардировщиков! Кому могло прийти в голову, что город, в котором не было никакой военной продукции, а была лишь всей Европе известная «старина», будет именно поэтому назначен союзниками для уничтожения! За одну ночь, когда мы не спали и слушали отдаленный гром разрушения, было уничтожено и сгорело 90 % всех домов в Вюрцбурге. Был разрушен дворец «Резиденц». В другом дворце погибла самая большая в мире фреска Джованни Тьеполо. Уничтожены были каменные и деревянные скульптуры знаменитого Тильмана Рименшнейдера, работы которого я знала и любила еще в Берлине (конечно, по репродукциям), жившего и работавшего в 16-м веке в Вюрцбурге. Уничтожено барочное здание 18-го века (Фальц), уничтожена церковь с двойной колокольней. И эта жестокость американцев, целью которой было разрушение стойкости духа населения, ничего кроме зданий и жизней не разрушила: немцы, оставшиеся в живых, через пять лет после войны начали восстанавливать Вюрцбург по старым планам и чертежам — и отстроили весь город таким, каким он был до его уничтожения. И по сохранившимся фотографиям восстановили фреску Тьеполо во дворце. Немцев многие, многие десятилетия будут судить за Гитлера, а американцев и англичан за уничтожение городов Германии вместе с их населением никто никогда судить не будет — победителей не судят. 20-го апреля 1945 года стало известно, что Гитлер в Берлине (в своем бункере) покончил жизнь самоубийством. В тот же день Геббельс со всей своею семьей тоже покончил свою жизнь — Третий Райх разрушился.
АМЕРИКАНЦЫ В БАД-НЕЙШТАДТЕ
Через некоторое время после смерти Гитлера в Бад-Нейштадт вошли американские войска. За несколько дней до этого бывшие остовцы грабили склады продуктов, расположенные недалеко от разрушенной станции, и разграбили несколько магазинов. Но грабежи были спокойными, мирными, некое спокойное «перераспределение материальных ценностей». Немцы смотрели из окон домов, как остовцы несли в руках большие рогожные мешки с продуктами — мукой, крупой, сахаром… Нашего сапожника тоже разграбили. Всю обувь за день разобрали, и заодно все наши с сестрой туфли, которые мы дали сапожнику для починки. Остались мы с сестрой в легких плетеных босоножках. Безвластие продолжалось несколько дней. Было это, собственно, не безвластие, а ожидание новых порядков, которые наступят с приходом американцев. Никто из города не уезжал, не бежал, наш ресторанчик не переставал работать, в употреблении были те же талоны, на улицах было полно жителей, передававших друг другу всяческие новости. Кроме местных жителей на улицах теперь было очень много бывших остовцев — они гуляли по городу. Иногда девицы ходили посередине улицы, по нескольку человек в ряд, под руки — как в деревнях на гулянии. Фабрика Круппа, мельницы, бывшие в округах Бад-Нейштадта, закрылись, и рабочие, ощутив свободу, стали ходить в город; их никто не трогал, они никого не «задирали», были мирны, как-то особенно чинны — и немцы постепенно привыкали к их присутствию на улицах. Прошло несколько дней, спокойных, ничем не потревоженных, но полных ожидания. Вечером, в один из таких дней, по городу поползли вести, что ближайшее к нашему городу местечко занято американцами и что они подходят к нашему Бад-Нейштадту — мы следующие. Никто, конечно, не сопротивляется; немецкой армии, даже ее остатков, нигде и близко нету — она уже давно отошла из этих мест и где-то растворилась. Говорили, что американцы «попусту» не стреляют, но что все должны вывесить из окон белые простыни в знак того, что город сдается и не оказывает сопротивления. И все дома в этот вечер разукрасились белыми простынями, висевшими из окон. А некоторые жители смастерили и вывесили белые флаги. Когда начались сумерки, мы спустились в подвал дома — изустно было всем передано, что пока американцы занимают город, следует сидеть в подвале, во избежание «случайностей войны» — перестрелки. Мы сели на скамейку у стены и стали ждать — нас четверо и сапожникова семья, тоже четверо. Первый раз за всю войну мы сидели в подвале — без багажа. В подвале было небольшое окошко, выходившее прямо на тротуар улицы, но оно было на уровне улицы, и ничего, кроме проходящих ног, нельзя было увидеть. Мы не очень долго просидели в тишине, как издали, с юга, послышался приближающийся гул, и вскоре стал отчетливо слышен лязг и скрежет гусениц о мостовую — в город въехали танки. Танки медленно проехали по улице; мы их не видели, а только слышали — их даже было совсем немного, не больше полудюжины, потом опять наступила тишина. Мы продолжали тихо сидеть в подвале и слушать. Вскоре послышались тяжелые шаги, медленные. Это не были металлические удары о землю немецких военных сапог, подбитых железками «для прочности», а шаги и стук обуви «на кожаном ходу». И мимо окна медленно прошли американские сапоги, из желтой прекрасной кожи, хорошо начищенные, высокие, но шнурованные, и над ними был виден кусок штанов — светло-зеленый из превосходного материала. Сапожник сдавленно прошептал: «Какие, толстые подметки — из настоящей кожи! Echtes Leder!» Мы сидели в подвале до ночи. Решили, что побудем все вместе — спокойнее. Когда сделалось уже совсем темно на улице, в дверь магазина кто-то громко застучал, очевидно, сапогом, и послышался лающий окрик: «Open up!» (Открывай!) Сапожник послушно и поспешно побежал из подвала — открывать дверь. И сразу же вернулся, за ним показались в дверях подвала два огромных американца в касках на головах, в военной форме цвета хаки с ружьями наперевес. Они оглядели всех сидевших в подвале: «Кто-нибудь говорит по-английски?» Мы сказали, что мы говорим. Американцы, не выпуская своих винтовок, которые они все держали наперевес и не опуская стволы вниз, повернулись к нам: «Есть среди вас члены национал-социалистической партии?» Мы ответили отрицательно. «Есть военные в доме?» — «Нет — никого». — «Кто такие?» — мотнули они на сапожника и папу головой. Мы сказали, что здесь находится семья местного сапожника, а что мы — семья русских беженцев, снимаем у него комнаты. Американцы еще раз всех оглядели, сказали «о'кей» и удалились со своими винтовками. Для нас — война окончилась. Самое острое ощущение при осознании конца войны — радость и почти неверие в возможность такой радости: нас больше не будут бомбить! Больше никогда в жизни никто не будет никого бомбить! Можно будет ходить по улицам, любым улицам в любых городах слушать, как над головой пролетают аэропланы, и знать, что это безопасно. Этому было трудно поверить и еще труднее — привыкнуть. Многие, многие годы при звуке летящего аэроплана в небе голова непроизвольно втягивалась в шею и хотелось бежать — прятаться. Но и это чувство страха постепенно ушло: война нас больше нигде не настигала. Но беды послевоенные — долго не оставляли. Утром мы вышли на улицу. Оживление было необыкновенное: казалось, все жители высыпали из своих домов смотреть на победителей. И было на что смотреть! По улице ездили совершенно невероятного размера грузовики — темно-зеленого цвета с большой белой звездой на капотах. Ездили военные открытые автомобили, тоже зеленые с белыми звездами. Грузовикам, казалось, тесно на узких улицах, между домами с белыми полотнищами, вывешенными из окон. Колеса грузовиков были колоссальными — раза в три больше самых больших колес, когда-либо виденных нами, были больше человеческого роста в диаметре и — двойными. Вся эта техника разворачивалась с урчанием на площади города. И во всех машинах сидели американцы — такие же великаны, как их техника. Все великолепно одетые, чистые, сверкающие и очень плотные — эти люди не голодали, наверное, никогда. Американцы сидели в самых непринужденных позах, часто управляя одной рукой, другая покоилась на спинке соседнего сиденья; ноги небрежно свисали из автомобилей и кабинок грузовиков, или были задраны и уложены на ветровое стекло машин. Такое впечатление, что ногам было тесно внутри, что ноги им мешали и они вывешивали и выставляли их куда попало. И все эти многочисленные ноги были обуты в совершенно роскошные темно- и светло-коричневые кожаные сапоги. Немцы, как завороженные, смотрели на все это богатство. Американцы кидали иногда из своих огромных машин-крепостей детям плитки шоколада и жевательную резинку, к великому их восторгу: многие дети не пробовали шоколада никогда — они росли во время войны, а жевательной резинки никогда не видели. В Европе не жуют резинку — это чисто американское изобретение. Дети думали, что это — конфеты, и, пожевав, проглатывали. Среди солдат-американцев, занявших город, было много негров. Они были особенно огромными с довольно приветливыми черными лицами и потрясающе белыми зубами. Они ездили в своих гигантских грузовиках, особенно сильно развалившись на сиденьях, почти полулежа, как без костей; у них не только ноги торчали наружу, но и руки — с длинными черными пальцами и бело-розовыми ладонями. У многих солдат их прекрасную свежую золотисто-зеленую форму с множеством кожаных ремней украшали яркие шелковые шейные платки. И американцы, выглядевшие богатыми курортниками, и немцы, чувствовали, что война кончена или почти кончена, что больше не будет боев, что больше не будет смертей — все были приветливы и радостны. Вечером из незатемненных окон лился на улицу свет — как мы отвыкли от этого. Прошло уже несколько дней, как американские войска заняли Бад-Нейштадт. Жизнь шла своим чередом: немцы разговаривали между собой о пропавших без вести и о пленных и гадали, когда же ждать их домой и как устраивать свою жизнь в новых, им еще не ясных условиях оккупации. Американцы устраивались в городе с удобствами: город заняла 7-я армия (воздушных сил) и освободила для себя, выселив «временно» немцев, весь район маленьких вилл за городской стеной. В самом старом городе американцы не жили. Жителям вилл дали очень короткий срок для выезда — буквально несколько часов, за которые ничего почти нельзя было вынести, тем более что ни у кого не было автомобилей — их давно забрали для действующей немецкой армии. Поэтому немцы вынесли из своих жилищ только самые необходимые пустяки, все же остальное — осталось. Им разрешили — каждому члену семьи, уходя из дома, взять с собою один чемодан вещей, остальное обещали сохранить и вернуть владельцам «вместе с домом». Никто из выселенных немцев не надеялся получить вещи обратно. Район вилл, называемый теперь американским, был обнесен колючей проволокой — огромными мотками колючей проволоки в человеческий рост, через который пролезть было человеку совершенно невозможно: эти мотки во время войны мог сплющить и вдавить в землю тяжелый танк на поле боя, а здесь, в мирных условиях, они были непролазными. Говорили, что все лагеря немецких военнопленных американцы окружали такими мотками колючей проволоки — и спали себе спокойно. У «ворот» в американский район круглосуточно стоял солдат с большими белыми буквами «МР» на черном фоне повязки (военная полиция) и в металлической зеленой каске с винтовкой в руках. Без пропуска в этот район было невозможно войти. Днем весь город был переполнен американцами, ездившими на своих автомобилях, американцы сидели перед пивной, теперь превращенной в бар для солдат с большой надписью: «Только для солдат», за столиками, поставленными на тротуарах, пили пиво, громко разговаривали, громко смеялись и пронзительно свистели. В самой демократической стране в мире было очень большое разделение людей по рангам: у офицеров был свой, офицерский бар, куда простой солдат никогда не совался. Американцы совсем не ходили пешком — они, казалось, только ездили. Очевидно, они ходили на своих ногах только в домах и учреждениях, и то только потому что в дом не въедешь на автомобиле. Р. рассказывал, что в лагерь бывших остовцев американцы навезли продуктов, спиртного и вели себя покровительственно, как освободители. В лагере началось пьянство, драки и даже было одно убийство. Всем бывшим остовцам было сказано продолжать жить. в лагере, никуда не уезжать и не отлучаться из города и ждать представителей репатриационных комиссий из Советского Союза, которые их всех вывезут на их советскую родину. 8 мая 1945 года закончилась война в Европе. Как-то незаметно пришло известие, что война закончена. Не было никакого торжества, никакого праздника — только в американских барах и клубе громче играла музыка и громче кричали подвыпившие голоса. Может быть, вечером дня окончания войны американцы встречались, радовались, писали письма домой — как-нибудь отмечали этот особенный для всех день? Адмирал Кейтель в Берлине подписал акт полной безоговорочной капитуляции Германии. Со стороны Советского Союза мир подписал маршал Жуков — полководец с лицом екатерининского вельможи; с американской стороны генерал Эйзенхауэр, разработавший тактику и стратегию высадки американцев в Нормандии; со стороны Англии — тощий Монтгомери с мелкими чертами лица; с французской — генерал де Тассиньи. Все новости мы слышали в устной передаче — нам так недоставало радио, но мы узнавали постепенно об акте безоговорочной капитуляции, о последних днях Берлина, гибели Гитлера и его приближенных — все подробности доходили до нас в течение последующих недель. Мы отметили окончание войны прогулкой к разрушенному замку на горе. Шли медленно, не спеша, наслаждаясь покоем, теплым солнцем, которое, тоже как будто успокоенное, припекало. Слушали пение птиц — теперь не нужно было прислушиваться к гудению бомбардировщиков, звуки и запахи леса и земли сделались опять живыми, милыми, приносили сердцу уверенность, что жизнь еще будет полной и спокойной. Мы сидели подолгу на горе, там, где солнце сильнее грело, и ни о чем не говорили — грелись, отдыхали и наслаждались тишиной. Четыре года войны закончились. Мы остались живыми, сидели теперь на теплой земле около старого замка и смотрели на мирную зеленую долину, на красные крыши города, на белые медленно плывущие облака в синем непотревоженном войною небе. И слушали звуки — мирные и прелестные: гудел шмель с перерывами, погудит, погудит, потом сядет — поесть, посидит — потом опять гудит… Внизу, в стороне деревни, слышно приглушенное расстоянием мычание коров — их гонят в поля, и слышны, как колокольчики, веселые голоса детей, занятых своими играми, детскими делами. И ласточки с их милым свистом, проносящиеся в воздухе. Благодать мира распространялась по земле, утешая, усмиряя, возрождая надежды… Мы продолжали жить у нашего сапожника на чердаке и стали реже ходить гулять на гору. Я еще боялась позволить себе допустить мысли о том, что теперь мы навсегда отрезаны от своей страны. Я старалась только думать о конце войны — для всех. Постепенно всех наших русских знакомых в городе стало охватывать беспокойство: что нам делать, как дальше жить? Особенно волновался папа — он совершенно не мог спокойно выжидать, обдумывать создавшееся положение. А т. к. он сам ничего не мог предпринять, то все папины планы сводились к тому, чтоб нас с сестрой «устроить на заработки». Нужно было «подвести» под нашу семью «материальную базу», как выражался папа. И единственное, что мы могли использовать — наше знание языков: и решение папы было — устроиться работать переводчиками к американцам! Какое это было по-моему ужасное решение! Опять — переводчиками! К американцам, с которыми у нас ничего общего не было, это был совсем нам чужой мир, мы знали английский язык, но американский был совсем не похож на английский, это был совсем другой язык. Мы, слыша на улице обрывки американского разговора, ничего не понимали, хотя американцы всегда говорили громко, как все что они делали, было непривычно громко: громко говорили, смеялись, громко хлопали друг друга по спинам и плечам в знак дружелюбия. И были совсем для нас новой расой. Самоуверенной, сытой, фамильярной друг с другом, небрежной со всеми остальными и очень невоспитанной. Когда проходишь по улице мимо американского бара, солдаты поворачивают навстречу свои распаренные физиономии и свистят в знак одобрения особенным пронзительным свистом и выкрикивают разные приветственные эпитеты — стараешься поскорей пройти мимо, но они и в спину свистят. И к этим дикарям папа предлагал, и очень настойчиво, устроиться на службу. Я долго упиралась и отказывалась идти пробовать искать работы у американцев — мне было и страшно вступать в совсем чуждый нам мир, и как-то неловко. Сестра же вскоре стала склоняться к тому, чтоб идти «наниматься» служить у победителей над страной, в которой мы вместе с ее населением провели такие трагические времена ее разгрома и уничтожения. Это было неудобно, как-то бестактно, и меня пугало. Сестра пошла в отдел беженцев городской управы и попросила вынуть из картотеки, которой они ведали, наши русские регистрационные карточки, где было в графе профессии написано, что папа — профессор, а в моей карточке, что я служила в Берлине в Министерстве пропаганды — это можно истолковать всячески. А главное для нас было изъять из картотеки наши русские фамилии и русские «места рождений». (Это была идея папы — он считал, что если репатрианты будут искать русских, рассыпавшихся по Германии и не живущих в лагерях, они прежде всего пойдут за сведениями в городские картотеки, ведавшие выдачей продуктовых карточек, в поисках русских имен. Так оно и было впоследствии: при появлении в любом городе репатриационные комиссии забирали у немцев все картотеки прежде всего.) Сестра изъяла из картотеки заодно и карточки семьи Р. После занятия местности американцами через все города проезжали вереницы американских грузовиков, наполненных плотно стоящими немецкими солдатами. Их везли в лагеря военнопленных, где их проверяли, допрашивали, регистрировали, и если их не задерживали по подозрению в военных преступлениях, то кормили и отпускали на все четыре стороны. С «отпускными» документами немецкие солдаты шли пешком по направлению на юг, к городам, деревням, где их ждали, где у них был дом. Те, чей дом был на территории, занятой советскими войсками, тоже брели на юг, где-нибудь оседая. Задерживали при проверках только эсэсовцев и бывших национал-социалистов — их тщательно проверяли и, если не находилось никаких за ними явных преступлений, их тоже отпускали с соответствующими «очистительными» документами. Серьезная же проверка бывших членов национал-социалистической партии производилась позднее, очень тщательно по месту жительства. Первые несколько недель после конца войны через улицы Бад-Нейштадта тоже ехали американские грузовики… с немецкими пленными; все ехали и ехали на север много дней. У «ворот» города, которых уже, наверное, не существовало много столетий — остались лишь круглые большие кирпичные башни по обе стороны дороги, выходящей из города, стояли жители города, главным образом женщины, дети, старики — с утра и не уходили до вечера. Они смотрели на проезжающую мимо немецкую армию, молча стоявшую в американских грузовиках, и горько плакали, махали им руками и платками. Немцы-солдаты смотрели на них печально, совершенно молча, и не отвечали на приветствия. И я стояла с толпою и смотрела на побежденную армию, проезжающую мимо нас в лагеря военнопленных. Так, давно в Ленинграде в 1939-м году ленинградцы смотрели на нашу Красную Армию, не одержавшую «победы» над маленьким финским народом, возвращавшуюся домой после, как писалось во всех газетах, «героической победы над врагом». Наши солдаты ехали в танках, грузовиках, непрерывным потоком, несколько дней по Литейному проспекту со стороны Финляндского вокзала. Солдаты тоже грустно смотрели на жителей Ленинграда, выстроившихся густой стеной вдоль их пути. Жители тоже махали руками, платками, что-то кричали, но, главным образом, плакали; и я горько плакала со всеми — все понимали, что «победа» — липовая, цена ее — наши огромные потери, неслыханные за такой короткий срок войны! Наше самоуверенное командование послало на Финский фронт неподготовленных, плохо оснащенных, не одетых для суровой зимы русских солдат — и поражение за поражением ложилось грузом на совесть этого командования. Все это знали и понимали и вместе с возвращавшимися с «войны» солдатами чувствовали себя обманутыми и своими слезами и приветствиями выражали свое чувство солидарности с возвращавшимися солдатами. И оплакивали невернувшихся. Через несколько недель поток американских грузовиков с немецкими солдатами прекратился, и по дороге, в обратном направлении, группами и поодиночке брели бывшие солдаты с котомками, мешками, небритые, запыленные, часто хромые, с костылями или опирающиеся на товарищей, с перевязанными руками, забинтованными головами — они возвращались домой, часто проведя на дорогах по нескольку недель. Население Германии вело себя исключительно дружелюбно и внимательно к своим бывшим воинам. Их кормили, поили, давали папиросы (это была почти «валюта») — в любом доме. И уж, конечно, в каждом амбаре, на сеновалах ночевали солдаты, возвращающиеся после войны по всем дорогам Германии: из лагерей для военнопленных, из лагерей, в которые их свозили для проверки и регистрации. В каждом доме вечерами варили картошку, овощные супы, кофе, чтоб накормить ночевальщиков. Поток бредущих солдат не прекращался многие недели, и, хотя это бременем ложилось на население, никто не жаловался, всем хотелось помочь, это рассматривалось как гражданский долг. Немецкое гражданское население выстояло войну со всеми ее тяжелыми испытаниями, теперь население приготовилось выстоять тяжелое послевоенное время, и начали они это новое испытание с помощи солдатам, а позднее — беженцам из областей, занимаемых советскими войсками. Кроме кормления и ночевок население помогало солдатам на дорогах во время облав, предупреждало идущих о заграждениях — вооруженных американцах, проверявших у солдат и беженцев документы в поисках бывших эсэсовцев. Вдоль всех дорог по всей Германии на пригорочках у дорог сидели группками молодые девушки, подростки и дети — каждая деревня выставляла своих дозорных и «связных», которые всем проходящим солдатам давали нужные указания: где можно остановиться, переночевать, и, главное, сообщали, где находятся американские патрули, проверяющие документы. Особенно это было важно для пробивающихся домой солдат, не прошедших американской проверки и не имеющих документов или избегающих встреч с американскими «МР», военной полицией. «Связные» издали махали солдатам руками: или отрицательно указывали руками, что надо немедленно сходить с дороги и прятаться, или положительно кивали головами, что значило — путь свободен. К тем, кто сходил с дороги и прятался, высылали детей, и дети объясняли, где стоят заграждения и американский патруль и какими дорожками и тропинками можно их обойти. Многим, многим эти неутомимые подростки и дети спасли жизнь (благослови их Господь!): Анатолий Александрович избежал гибели, когда за ним охотились советские репатрианты и их американские друзья-союзники, благодаря этим прекрасно налаженным «постам», которые всегда располагались в поле зрения один от другого, так что связь была непрерывной — и как по беспроволочному телеграфу передавались через эти посты «новости» о положении на дорогах, о заграждениях и американских отрядах, вылавливающих всех подозрительных личностей, которые могли по мнению американцев оказаться эсэсовцами. В Бад-Нейштадт начали возвращаться отпущенные из плена солдаты. Из разных лагерей военнопленных. В одну семью молодой милой женщины с двумя маленькими детьми вернулся муж, обе его ноги были ампутированы — начисто. Молодая его жена ходила по городу с прекрасным сияющим лицом и радостно говорила знакомым, какое это счастье не потерять двух рук! Но вдов и жен, мужья которых без вести пропали, было гораздо больше, чем жен счастливых, и в городе не чувствовалось всеобщей радости. Особенно еще и потому, что американцы вели себя громко, размашисто и бестактно. Немцы начали избегать американцев, сторониться — не старались, как поначалу, сблизиться, познакомиться. Да если бы и захотели, не смогли бы: на всех стенах были расклеены афишки (рассчитанные на прочтение американцами, но и как предупреждение немецким жителям), с крупной надписью: «Nо fraternisation with germans» («Не брататься с немцами»), это было, конечно, унизительно для немцев. На улицах не встречалось американско-немецких пар, американские солдаты не пытались знакомиться с местными девицами, как это было в Ессентуках, когда немецкие солдаты, только что вступив в город, уже стояли, окруженные местными девицами на всех перекрестках, и весело разговаривали на двух перековерканных языках. Иногда на улице появлялась группа остовскх женщин и с ними — два-три американца. И все на них глядели. Это делало положение в городе очень неестественным: немецкому населению хотелось все-таки по-человечески познакомиться с «amy», да и сами американцы, простые солдаты, вполне дружелюбно посматривали по сторонам, но вели только деловые разговоры и явно томились изоляцией. Запрещение общения продолжалось много недель. Мы с сестрой уже служили переводчицами в американском бюро, когда запрет был снят в один прекрасный день и буквально через час после снятия запрета по улицам ходили парочки — солдаты и местные девицы, в военных автомобилях тоже сидели немочки, а за городской стеной на скамейках и на зеленой травке сидели целые стайки солдат и девиц. Вся жизнь в городе внешне приобрела дружеский характер, все вздохнули свободнее и начали ближе знакомиться друг с другом. Но когда мы пошли к американцам предлагать свои переводческие услуги, закон «Не брататься» был еще в полной силе. Папа преодолел мое сопротивление и нежелание служить у американцев, и мы с сестрой отправились «наниматься». Наугад, в район, где мы знали, находятся американские учреждения. Мы не знали тогда — какие. На краю города, рядом с «американским районом» стояли два больших здания, рядом. Одно из них, четырехэтажное, было, как мы потом узнали: военное управление по гражданским делам. Или, как его еще называли, главная квартира управления районом, расположенным вокруг реки Заале. Во главе стоял темноглазый, темноволосый человек, которого мы позднее хорошо узнали, в чине, кажется, капитана, — Карлов, очень неприятный полный человек, форма на нем сидела ужасно — он был явно не военный, а штатский, и говорили, презлой. Другое здание — одноэтажное длинное, с огромными окнами. Из обоих зданий входили и выходили американцы в своих формах цвета хаки, особенно оживленно было около второго, одноэтажного здания. Мы стояли на тротуаре в нерешительности, не зная, в какое из этих зданий, собравшись с духом, войти. В это время к тротуару подъехал и остановился как раз у того места, где мы стояли, большой открытый «опель». На красном переднем кожаном сиденьи сидели два американских офицера (мы тогда не разбирались в офицерских чинах). Один, очень смуглый, загорелый, большой, с орлиным носом и яркими черными глазами, какими-то дикими, как у ястреба, другой — чуть с потрепанным лицом, желтыми усиками и водянистыми глазами, слегка на выкате. Загорелый офицер, сидя за рулем автомобиля, пролаял: «Что вам здесь нужно?» (Американская манера выражаться — добродушно-грубая.) Я в полной растерянности видела только новую великолепно разглаженную форму, вопросительный, не очень дружелюбный взгляд черных глаз и слышала совершенно невежливую манеру разговаривать, мы тогда думали — манеру завоевателей. Мы очень робко сказали, зачем мы пришли в их «американский» район. Опять темный офицер удивил нас своим прямолинейным способом задавать вопросы: «Кто вы? Немцы?» Узнав, что мы русские, бесцеремонно спросил: «Вы совершенно уверены, что вы русские?» — «Конечно, уверены». — «Тогда будете работать для нас, личными переводчиками: нам нужны и немецкий, и русский языки!» Сказал опять все в своей отрывистой манере, словно приказания отдавал, коротко и резко: плата будет такой-то (назвал цифру — я даже не поняла какую), завтра в девять часов явитесь в наше учреждение «7-th Air Force H.Q.» (Главная квартира 7-й армии Воздушного Флота) и мотнул головой на одноэтажное здание, но все не отпускал нас, как приворожил, и мы не знали, уходить ли нам или ждать еще, что он нам прокричит. Сосед его сидел, помалкивал, рассматривая нас водянистыми глазами, и при этом усмехался — очень было неприятно и хотелось уйти от его взгляда. Офицер за рулем указал бесцеремонно пальцем на меня: «Вы будете работать для меня! А вы, — тут он перевел палец на сестру, — для капитана Руда». Махнул нам рукой — не то честь отдал, не то просто отмахнулся, нажал ногой на газ, машина рванулась, взревев, и оба «начальника» умчались. Мы шли домой в большом раздумьи, решила я еще раз поговорить с родителями: не лучше ли отказаться от всей затеи, пока не поздно. Сестра была недовольна, что палец черноглазого офицера не выбрал ее личной переводчицей, ей тоже не понравился взгляд водянистого Руда, а мне было и беспокойно, и даже страшно: я плохо понимала речь «нового начальника» (он был жителем техасской провинции, как оказалось), и его манеры произвели на меня пугающее впечатление — какой-то дикой скрытой силы, уверенной и невоспитанной. Внешне же он был очень хорош, даже красив, может быть, но красив некультивированно. По книгам Фенимора Купера я такими представляла себе индейцев с перьями в головных уборах, с гиканьем скачущих на полудиких лошадях в набеге на поселения бледнолицых. Родители были успокоены, что мы «устроились на службу», семейство же Р. отчаянно нам завидовало: томная Софи вздыхала, поднимала глаза к потолку и жаловалась: «И все этот Марась! Если б не он — я тоже бы сделалась переводчицей (хотя она не владела английским) — или стала бы служить у американцев кем-нибудь!» Все время нашей службы у американцев меня не покидало чувство внутреннего беспокойства: не было привычных нам человеческих отношений, не было спокойных условий службы — всегда неожиданности. Мой «босс» был всегда корректен, даже по-своему любезен, но я всегда во время службы, во время переводов для него, во время всех разъездов и частных с ним разговоров была во внутреннем напряжении и всегда начеку: я никогда не могла угадать и предвидеть его реакций — он был как полуобъезженный конь, ударами копыт устраняющий все преграды. Звали моего «босса» Даниэль О'Коннор или Дани, как он приказал мне величать его и как все его звали в нашем бюро. Он был в чине капитана, но вскоре его произвели в чин майора, чему он громко и как-то откровенно по-детски радовался: он подошел к моему письменному столу, встал передо мною молча, сияя и сверкая глазами и зубами и новыми знаками отличия — на пилотке, на плечах в петлицах. Я ему сказала: «Good morning, Major Dany». Он еще больше засиял и отдал мне честь. Все в бюро должны были выпить вина за новый чин О'Коннора, что мы и сделали; «босс» сестры капитан Руд еле скрывал зависть и весь потемнел, хотя много выпил стаканов за здоровье нового майора, как будто его, Руда, произвели по крайней мере в чин генерала. О'Коннор был ирландец по происхождению из штата Техас. Раз О'К. вытащил из кобуры пистолет и положил его передо мной на стол. На ручке его личного пистолета, под толстой пластиковой пластинкой, привинченной к ручке, была помещена фотография его сына — мальчика лет девяти, очень худенького с черными глазками и черными растрепанными волосами, стоящего босиком на больших острых камнях, рядом с высоким кактусом, в какой-то выжженной солнцем пустыне. Со стороны О'Коннора это было жестом доверия ко мне и дружбы, но я не стала его расспрашивать о его семье, он как-то небрежно засунул пистолет в кобуру, сказав: «Это мой парень», — как будто он не отец, далеко на войне, а собственник лошади. Странный человек, полудикарь, но с оттенком какого-то своеобразного джентльменства. Сидя на моем столе половиной своего «сидения» и упираясь одной ногой в пол, он отдавал мне распоряжения. Пока я все записывала, О'Коннор рассказывал Руду, что жена ему давно перестала писать, что он не удивится, если она бросит его, что он узнал стороною, что она продала их общий магазин скобяных товаров и их дом и уехала неизвестно куда. И при этом пожимал плечами: «Она взяла ребенка». Р.: «Что будешь делать?» О'К.: «Да ничего не буду делать». Р.: «Ты должен получить свою долю денег». О'К.: «Зачем? Я поеду в Японию и заработаю кучу денег. Война с Японией еще, слава Богу, длится — можно еще хорошо заработать!» С первого дня нашей службы у американцев О'Коннор сказал: «Вы будете, раз в день завтракать в офицерской столовой вместе с нами». Мы сказали: «Ail right!» и внутренне возликовали от радости. Один раз в день сытно поесть самим, а может быть, сможем что-нибудь вынести, если не запретят, и для родителей. Если не разрешат выносить, то наши карточки дадут им возможность посытнее жить. Так оно и было, раз в день мы ходили вместе со всеми офицерами в их столовую есть «ланч» — второй завтрак в полдень, вкушать их американскую еду, совершенно потрясающую по вкусу и обилию. Для солдат была особая столовая со своей кухней и огромными столами и скамьями — бывшая столовая рабочих и служащих завода Круппа. Подавалось нам мясное блюдо со всякими приправами, гарнирами, салатом, сладким кофе и горками булочек, самых причудливых форм и вкуса, горячими, ароматными и румяными. Это было для нас, отвыкших за годы войны от обилия на столе, неслыханным, неправдоподобным пиршеством. Одного такого «завтрака» могло бы нам хватить на три дня жизни. А что же тогда был американский «обед», который все поглощали в этой же столовой? Это даже и представить было нам невозможно, но американцы устремлялись после службы, уже «голодные», в свои «кантины» обедать, а мы шли домой, совершенно сытые «завтраком». Когда мы завтракали в полдень в столовой, сидели все за небольшими круглыми столами на 5–6 человек, и еда приносилась и ставилась в центр каждого стола; мы старались есть не спеша, скромно, благовоспитанно брать с общего блюда небольшие кусочки, чтоб никто не подумал бы о нас, что мы «дикие русские». Но глазами и мыслями мы поедали все, что было за нашим столом — и за соседними. Много пришлось нам в последующие годы и нуждаться, и голодать — и я всегда с удовольствием вспоминала два «сытых» месяца службы у американцев, когда мы с сестрой ели досыта прекрасные изготовления американских поваров. Первые недели нашей работы переводчиками были очень трудными — мы плохо понимали американцев, они говорили очень громко, отрывисто и немелодично. Имея опыт переводчиц, мы больше догадывались, о чем толкует американец, и переводили весьма приблизительно все на немецкий язык. С немецкого на английский было много легче, т. к. мы в совершенстве понимали немцев, и, кроме этого, немцы были очень терпеливы и их можно было по нескольку раз переспрашивать, чтобы уяснить себе суть дела и потом уже переводить нетерпеливым американцам. Из двух наших начальников О'Коннор был более великодушным и неторопливым, переспрашивал, если не понимал, чего хочет немец, или если, видел что немец не понимает чего О'К. от него хочет узнать. Иногда лишь, если попадался «трудный случай» — очень бестолковый человек, который и нас не понимал и сам толком ничего сказать не мог, то О'К. после долгого разговора «в обе стороны» поднимал свои черные глаза к небу и восклицал: «God!» (Бог) (произносил слово, как «гад»), но говорил с таким напряжением и чувством, что всем вокруг становилось жутко. Начальник же сестры — Руд — был французского происхождения, с несдержанным темпераментом и злой мелочностью, очень нетерпеливый, неровный, недобрый, завистливый, мстительный и эгоистичный. Когда сестра переводила слова Руда немцу и он не сразу схватывал, что от него хотят, Руд взрывался, кидался на немца, бешено и нечленораздельно орал что-то, хватал нерасторопного немца за шею и тряс его руками. Картина была пренеприятная, и сестра невзлюбила Руда, он это чувствовал, сердился и даже угрожал: «You don't know me, but I am а rat! А real rat!» («Вы меня не знаете, но я крыса. Настоящая крыса!») Нужно было понимать: я злой и мстительный. И обещал ей, что отомстит ей когда-нибудь за то, что она его избегает и не желает даже разговаривать с ним в неслужебное время (мы с сестрой никогда в столовой не садились за один стол с нашими начальниками, а всегда — с младшими офицерами — и всегда — с разными). Сестра не понимала техасской речи О'К., я с трудом понимала Руда. Часто в бюро приходили англичане, и они всегда требовали нас с сестрой для перевода: они надменно утверждали, что совершенно не понимают американской речи, так непохожей на «настоящий» английский язык! И мы переводили с американского на английский! Американцы тоже, возгордясь, пренебрежительно отказывались понимать этот иностранный язык англичан и призывали нас — переводить. Но вообще работа наша была американцам полезна, мы были весь день очень заняты, все шло успешно, мы начали привыкать к нашей службе и у нас появились среди американцев друзья. Ближе всех нам обоим был лейтенант нашего бюро Майк (George) М. Огромный, толстый с пухлыми детскими розовыми щеками, он премило улыбался своими тоже розовыми пухлыми губами, был добрым, сердечным и всячески пытался помочь немецкому населению, приговаривая при этом, чтоб оправдать свои добрые поступки: «Мы никогда не воевали с мирным населением Германии, с женщинами, детьми, а только с гитлеровской Германией, с Гитлером. А население — не виновато». Майк был сам немецкого происхождения и жалел разрушенную Германию. Раз он попросил меня поехать с ним в джипе для перевода. В виде одолжения перевести для него лично один разговор. И не рассказывать об этом никому в бюро. Я, конечно, согласилась — Майку я совершенно доверяла, его простоте и благородству. Мы приехали на джипе в сад вилы местного известного всей округе старого врача. Мне было очень интересно, что за разговор будет происходить на этой тайной встрече. Дверь открыла пожилая прислуга: «Доктора дома нет — он у пациента, но Gnadige Frau (милостливая государыня) сейчас выйдет». Нас провели в прекрасную светлую гостиную с темной мебелью стиля Бидермейер. Вскоре вышла хозяйка дома — приятная пожилая дама. Майк представился и обратился к ней с маленькой речью, которую я сразу переводила: «Я американский солдат и должен выполнять приказы своего начальства. Но я и простой человек и как таковой пришел к Вам конфиденциально, полагаясь на Вашу скромность, чтобы предупредить Вас, что через три дня к Вам явится представитель американской армии и конфискует Ваш дом для армии. На долгий срок. Вам не дадут вывезти и вынести из дома — ничего. Вы выйдете из Вашего дома лишь в том, что на Вас одето. Дом Ваш вернут, но не скоро, может быть, через многие годы. Но все, что находится в доме, вряд ли сохранится на месте. Поэтому за оставшиеся три дня постарайтесь вывезти незаметно все ценное, но так, чтобы Ваши соседи ничего не заподозрили. Что нельзя и трудно вывезти, закопайте ночью в саду. Очистите дом от всего, что Вам дорого и что ценно, вплоть до мебели, если это можно сделать незаметно. У вас только три дня. Не теряйте ни единого часа!» Дама смотрела на Майка глазами, полными слез и глубокой благодарности. А толстый Майк, большой Майк — на нее, с глубоким сожалением, стыдом и отвернувшись к окну, пытаясь скрыть слезы. Докторша, как бы охраняя волнение Майка, прошептала мне: «Передайте ему, что я до конца жизни буду помнить его доброту и не нарушу тайны сегодняшнего свидания», — и тихо ушла бледная, растроганная и спокойная. Когда мы ехали обратно, окружным путем, чтоб утихомирились чувства, Майк спросил: «Вы одобряете мой поступок? Я прав?». — «Правы, Майк, правы, Вы хороший, добрый человек!» Он, уже успокоившись, погладил меня по голове, улыбнулся, и мы поехали в бюро. Состоялась деловая встреча между О'К. и хозяином заводов Круппа — молодым Круппом. Разговор касался хозяйственных вопросов. О восстановлении частично разрушенного завода (один из заводов концерна находился в Бад-Нейштадте), который должен был в скором времени начать снабжать американцев своею продукцией (но это не входило в компетенцию О'К. — это касалось более высоких сфер, а разговор О'К. касался лишь вопроса снабжения 7-й армии проволокой). Разговор происходил во дворе фабрики, молодой Крупп не приглашал О'Коннора в свой кабинет, а последний чувствовал себя более хозяином положения под открытым небом. Мнеочень понравился молодой Крупп — светлорусый тонколицый, очень спокойный, без всякой тени желания поспешно удовлетворить требования завоевателей. Скорее О'К. несколько поспешно старался объяснить, что он только временно устроил столовую для солдат в помещении столовой фабрики Круппа и что он понимает, что помещение нужно Круппу для собственных рабочих, и надеется вскоре найти помещение для американской столовой. Оба разговаривающих понимали, что оба сильны и имеют права. Один — права наследственные, права образованного тонкого человека, владельца одного из крупнейших и важнейших концернов страны. Другой — завоеватель, привыкший с дикой самоуверенностью американца требовать послушания. И поэтому оба были сдержаны, вежливы и с большим интересом рассматривали друг друга. По-моему, они друг другу. понравились. Мне же очень понравился европейский Крупп. Слышала, что восстановление его завода шло очень успешно и вскоре завод стал выпускать свою продукцию. Мне еще несколько раз приходилось переводить на заводе переговоры, касающиеся вопросов снабжения армии, но О'К. сам на завод не ездил, а посылал помощников с инженерным образованием, Круппа я больше никогда не встречала. С немецкой стороны переговоры велись инженерами завода. Круппу я мысленно желала всяческого успеха. Завод его был великолепно устроен — с широкими зелеными аллеями между корпусами, с клумбами цветов, асфальтированными дворами, каменными тротуарами. Сами помещения фабрики, где помещались машины, были с высоченными потолками, и все стены — сплошные окна. Светло, чисто — здоровые превосходные, очень приятные цехи. Из окон видны деревья, посаженные вдоль корпусов. И столовая в первом этаже одного из зданий — тоже солнечная, громадная, на много сотен человек, с чистейшими окнами во всю стену. Наверное, рабочие очень ценили работу у заботливого Круппа. При прекрасно учрежденных еще до войны социальных законах (страховки при болезнях, увечьях, пенсии) рабочие чувствовали себя очень благополучно.Глава вторая
БАД-КИССИНГЕН
Вскоре после окончания войны и еще до нашей службы у американцев мы с папой, сестрой и Р. отправились пешком в город Бад-Киссинген, чтобы встретиться с настоятелем русской церкви, построенной до революции для русской колонии города, а, главное, для приезжающих из России «на воды». О церкви в Бад-Киссингене и о его настоятеле отце Александре Богачеве мы узнали от наших русских друзей, живущих в Бад-Нештадте (как и о. Богачев и его семья, русских эмигрантов из Польши — Лукомских). Лукомский — бывший офицер, старый, прямой, с большими усами, круто закрученными наверх. Он был очень спокойным человеком, очень неразговорчивым. Его жена — Екатерина Петровна, урожд. Зубова, с плохим зрением, всегда с палкой в руках — имела обширное родство во всех частях света и очень настойчивый характер. Е.П. очень высоко ценила моего отца и всегда мне объясняла, какой «у Вашего отца блестящий ум!» Е.П. умела добиваться, устраивать и свои дела, и главное, дела своих знакомых, очень часто появлялась во всех учреждениях — и была непреклонна в своих требованиях и никогда не отступала. (С братом ее, проф. Петром Петровичем Зубовым, мы с мужем близко познакомились в Америке.). Это Ек. Петр. посоветовала папе познакомиться со священником Богачевым и поговорить о возможности для русских эмигрировать из Германии. И мы отправились. Вышли мы рано утром, чтоб после полудня добраться до Бад-Киссингена. Дорога, как и все дороги в Германии, была обсажена фруктовыми деревьями и шла вдоль холмов. Справа от дороги — широкая прелестная долина, с деревеньками, полями, садами. Мы часто садились отдыхать, закусить скромными бутербродами и полюбоваться видом. Выбирали деревья, бросавшие густую тень на светлую траву, и сидели, оперевшись спинами о толстый ствол. Вдали, в долине реки Заале, мы увидели большую группу людей, неподвижно стоявшую в поле на утреннем солнце, далеко от деревни. Впереди с крестами стояли ксендзы в белых и золотых одеждах, поблескивающих на солнце, ярко сверкали золотые кресты и хоругви. Это был весенний крестный ход — молебен о даровании Богом солнца и дождя и хорошего урожая. Вместе с легким мягким ветерком до нас долетали звуки пения — молитвы, издали казавшиеся нежными и робкими. Это было такое прелестное утро, раннее, мирное, с пением птиц и звуками молитвы под открытым безоблачным небом среди мягкой зелени полей. Хотелось сидеть, слушать… Но папа не давал долго отдыхать, все торопил идти дальше, чтобы дойти до наступления дневной жары до цели нашего пешеходного путешествия. А Р. был всю дорогу ворчлив и, если мы уставали, он восклицал: «Что? Опять отдых? С вами никуда не доберешься!» Но все-таки после четырехчасового пути мы подошли к торжественным воротам города Бад-Киссинген. При входе прекрасно сохранившиеся огромные круглые кирпичные башни с остроконечной крышей-конусом. Между башнями — тяжелая арка, тоже из красного кирпича — с окошечком в середине, очевидно, в арке — переход из одной сторожевой башни в другую. За башнями начиналась городская стена, а с ее внутренней стороны — городской вал с дорогой, идущей по верху вала, по которой современные жители подобных старинных городов гуляли, встречались по праздникам, сидели на скамеечках под ветвями старых деревьев. Бад-Киссинген — очень элегантный городок, где рядом со старой, тесной частью, прекрасно сохраняемой в ее первоначальном виде, уживался новый город, просторный, зеленый, с современными домами-виллами с очень большими окнами, большим количеством парков, маленьких, уютных, с неимоверным количеством цветов. Цветы были везде — в парках на клумбах, вдоль тротуаров, в ящиках на окнах, вдоль асфальтированных дорог. Как будто и войны не было эти годы. Новый город выливался за пределы городского вала и стены, сравняв их под собою, и распространялся по долине. Русская церковь была за чертой старого города — стояла, чуть отступя от тенистой зеленой аллеи. Кругом нее в густых садах стояли красивые виллы: все разной архитектуры, чистые, приветливые — дома счастливых семейств довоенного времени. Русская церковь была характерной для конца девятнадцатого века архитектуры — из светло-желтого кирпича, небольшая с толстой голубой барочной луковицей на барабане. Такая типичная русская заграничная церковь. Чаще всего такие церкви строились на деньги одного из великих князей и нарекались именем его святого, строились обычно в курортных городах, куда стекались «на заграничный водный курорт» русские люди — из России. У входа в церковный дом нас встретил священник о. Александр Богачев, в черной рясе, с золотым крестом на груди, с длинной черной бородой. Он был чрезвычайно приятный, обаятельный человек с мягкими темными глазами, мягкой улыбкой, мягкой речью. Отец Александр пригласил папу и Р. к себе в кабинет, а нас его голубоглазая, быстрая, решительная и очень приветливая матушка, вышедшая из дома нам навстречу, провела в сад и, улыбаясь, сообщила: «Вам будет здесь веселее, у нас живет целая большая семья молодых людей — три моих дочери, их подруги и друзья. Все они живут у нас в доме, все — веселые и смотреть на них — сердце радуется!» И мое сердце возрадовалось, когда я сперва услышала веселый многоголосый смех, а потом увидела и познакомилась с совершенно милой, приветливой и чрезвычайно смешливой группой молодых людей и барышень… Они сидели на травке и рассказывали друг другу всякие истории — и грустные, и веселые, и все охотно и весело смеялись. Такие приветливые и беззаботные лица… Три дочери о. Александра: две — близнецы, голубоглазые, озорные, светловолосые, очень веселые, похожие на матушку. Третья — была дочерью своего отца — тихая девочка, застенчивая, с темной головкой и тонким профилем, очень похожая на Александру Федоровну, последнюю русскую императрицу. С нею, Ириной, мы потом долгие годы дружили. Самой веселой — центром всей группы — была тоненькая высокая девушка. Оля К. Она во время войны сидела в тюрьме Гестапо — в то же время и там же, что и мой муж; и тоже была приговорена к ужасу. Во время бомбардировки города (на территории Польши) бомба разрушила часть тюрьмы, и оставшиеся в живых, и Оля в их числе, бежали через разрушенную стену в город и скрывались у друзей. Оля сама мало смеялась, но с совершенно печальным лицом, как-то грустно, говорила вещи, от которых все смеялись и не могли остановиться. Эта встреча с молодыми людьми — нашими сверстниками, но выросшими за границей, никогда не бывавшими в России, и совершенно русскими, была нашей первой встречей с детьми эмигрантов. Они от нас ничем не отличались, были такими же, как и все мои друзья, с которыми мы росли — в школе, на даче, в институте. Только церковь занимала в их жизни большое место. И они знали молитвы, умели молиться. А мы были и некрещеные (что было и в Сов. Союзе — в моем поколении не так уж часто), и религиозно-необразованные. Но мне вопрос о религии и религиозном чувстве не был безразличен. И, конечно, было глубокое врожденное христианское чувство, развитое чтением и размышлениями. Мы прожили в доме у священника Богачева два дня. Богачевы нас кормили, поили, обласкали, приняв в свою семью. Так было приятно сидеть за огромным длинным столом со всеми, во главе стола — священник, рядом матушка, и над всеми тарелками — приветливые, молодые, веселые лица. Я бы с удовольствием навсегда с ними осталась. Да нельзя. После трапезы кто-нибудь придумывал веселое занятие — чаще всего остроумные игры. Вечером устраивали танцы в трапезной, отодвинув стол к стене. И танцы были особенно веселыми, дружными — в них участвовали все, менялись партнерами, при ошибках платили «фант», и штраф был тоже веселый: приходилось петь, или танцевать соло, или рассказывать смешной рассказ. Я наслаждалась эти два дня несказанно. Разговор папы (и Р.) со священником никаких утешительных результатов не дал. О. Александр ничего нового не сообщил и ничего не знал, что могло бы нас успокоить. Папа и Р. встретились (и долго говорили о возможном выезде из Германии с помощью русских организаций, если таковые имелись, а если не было, то что можно сделать, чтобы их создать) с бароном Остен-Саккеном. Барон был высокий, старый, худой, с ост-зейским тонким лицом, светлыми редкими волосами, гладко зачесанными, прекрасной русской речью и манерами старого петербуржца. Мы с сестрой присутствовали при первом свидании с О.-С., и я любовалась его спокойным, сдержанным обращением. Он говорил не спеша, очень разумно, нас совершенно не обнадеживая и, наоборот, правдиво оценивая обстановку, считая, что американцы не будут стараться помочь русским беженцам, что как союзники СССР они, конечно, ради вопроса о беженцах не станут портить отношений с СССР. Барон О.-С. полагал, что самое разумное для нас и других беженцев из Сов. Союза «получить немецкие документы, выдав себя за немцев, давно живущих в Германии, или, что тоже не невозможно, приготовить себе „поддельные“ нансеновские паспорта». Это бы перевело нас в другую категорию беженцев — несоветских граждан, а потому юридически не подлежащих отправлению — репатриации в Советский Союз. Папа и о.-С. легко друг друга понимали, оба высказывались очень откровенно и оба понимали, что положение бывших советских граждан безнадежное — их никто защищать не будет. Спастись можно, лишь выдав себя за кого угодно, только б не быть русским! О.-С. считал, что в дальнейшем будут учреждены организации помощи русским беженцам (вернее, спасения их), но инициатива по их созданию должна быть частной, скорее всего, церковной. Пока ему ничего о подобных инициативах неизвестно. Как грустно было все это слушать: все звучало так безнадежно. Вся стена, около которой стоял письменный стол Остен-Саккена, была густо увешена фотографиями в самых разнообразных рамках. Все фотографии — старые, желтоватые, на них, наверное, родные и близкие ему люди, дома, дворцы — память о давно прошедшей, невосстановимой жизни. Мне так хотелось рассмотреть их, но, конечно, я даже издали стеснялась слишком долго смотреть на эту стену воспоминаний. На письменном столе тоже стояли фотографии в старых бархатных рамах, мне были видны некоторые из них: дамы в больших белых шляпах начала века, военные со звездами и орденами на мундирах, с лентами через грудь, в усах и бакенбардах. Очевидно, что все они служили царю своему и Отечеству. Мы ушли от барона очень грустные, для нас наступало время больших опасностей и испытаний. И мы не умели приготовиться. Папа, пока мы были в Бад-Киссингене, сделал еще одну попытку заглянуть в будущее. Мы с сестрой и папой отправились к американскому генералу, коменданту южной части оккупированной Германии — генералу N. Мы не очень надеялись, что нас, «людей с улицы», вдруг примет занятой американский генерал — с какой это стати? Но все-таки мы попросили в Ставке дежурного офицера доложить генералу, что русский профессор из Ленинграда и его дочери просят у генерала аудиенции. К нашему большому удивлению, нас немедленно приняли. Пожилой человек с внимательным лицом спокойно выслушал папу, все его вопросы и объяснение причины, побудившей нас побеспокоить его. И он в ответ сказал, что хорошо понимает наше беспокойство в связи с тем, что Сов. Союз и Америка — союзники. И что он «ответит не как американский солдат, а как простой человек»: «Скажу я вам с уверенностью, что ни один американец палец о палец не ударит, чтоб помочь Вам и Вашей семье. У нас есть нами подписанный договор с Сов. Союзом о выдаче всех бывших подданных Сов. Союза. И мы обязаны этот договор выполнить». Генерал, вернее «простой человек», еще раз посоветовал не надеяться на американцев: «Не верьте нам, американцам: мы не имеем права вам помочь, даже если лично и хотели бы. Постарайтесь смешаться с немецким населением, получить немецкие документы, не говорите никому, что вы из Сов. Союза, просто — потеряйтесь, а то Вас с семьей обязательно выдадут репатриационным войскам из Сов. Союза. И американцы — помогут вас выдать!» Папа ему был очень благодарен за откровенность и правду, им высказанную, что и сообщил ему, генерал любезно пожал нам руки, и мы удалились. Папа все восхищался умным генералом: «Всю жизнь буду его помнить за сказанную им правду, какая бы она ни была тяжелая!» Но по сути эта «правда» нас ужасно огорчила: мы еще раз убедились, что наше будущее было очень темным и очень опасным. Мы распрощались с милой семьей Богачевых, так любезно и сердечно нас приютивших, и отправились пешком домой в Бад-Нейштадт. Р. не стал нас ждать и еще накануне ушел домой, один. Мы, не торопясь, шли теперь втроем, что было гораздо приятней, мы могли спокойно обсудить наше ненадежное положение. Мне кажется, что именно за время нашего возвращения из Б.-Киссингена папа твердо решил, что наше спасение в том, чтобы поступить нам с сестрой служить переводчиками к американцам: «Переводчиков в американской армии не тронут!» Какая непростительная ошибка — ведь только вчера генерал сказал: «Не верьте нам…» И папа, повторявший «всю жизнь буду помнить…», все забыл… сам себя уговорил… Мне казалось, что нужно, как советовал нам генерал, смешаться с немецким населением, «потерять» все документы, где сказано «Ленинград», сделаться немцами, потерявшими все, беженцами из областей, занятых Сов. войсками. Но папа не слушал, он хотел «попробовать» еще раз американцев. Ему, такому умному, «реально мыслящему», вдруг захотелось верить в нелепость, что если мы будем служить переводчиками, мы каким-то чудесным образом очень легко можем оказаться в Америке. Как папа ошибся! И как мое предчувствие оказалось верным: американцы были опасны — самоуверенные, неискушенные в политике, не хотевшие думать, как правило… Было бы несправедливо обобщать всех американцев, считая их политически слепыми. Конечно, очень многие понимали опасность быть союзником с Советским Союзом. Понимали «временность» такого союза. И понимали беды, угрожающие миллионам русских, рассеянных за пределами Сов. Союза, в этом пожилой генерал в Бад-Киссингене не был исключением. Из нескольких десятков американцев, с которыми в дальнейшем мы общались, главным образом, во время завтраков в офицерской столовой, было несколько, очень к нам расположенных и понимающих положение русских беженцев — некоммунистов. Это были, как правило, офицеры европейского происхождения, родители которых приехали в Америку из Европы, связь с которой, если не всегда — физическая, чаще — духовная, не прекращалась. Таким был очень некрасивый джентльмен — приятный, задумчивый, воспитанный капитан, финн по происхождению. Он любил и понимал музыку, всегда говорил со мною о музыке и просил разрешения переписывать для меня ноты его любимых арий и романсов, когда нам случалось сидеть за одним столом (как будто мы за собою возили рояль!). Этот финн понимал, что такое Россия и что такое Сов. Союз, и ему я рассказывала о финской войне, происходившей перед нашими глазами. Он никогда не задавал глупых вопросов. А большинство американцев спрашивало нас с удивлением: «Почему вы не хотите возвращаться в Россию?» И на наши с сестрой повторяемые объяснения, что СССР — не Россия, а коммунистическое государство, они всегда, как правило, восклицали: «А мы, американцы, очень хотим вернуться домой». Некоторые американцы, попроще, говорили, что они мечтают вернуться в Америку, потому что «дома у нас жить удобнее, чем в Европе. У нас и ванные комнаты лучше. И в каждом доме — несколько ванных комнат! А что же в Германии? Живут, как примитивы? Одна ванная на этаж!» К нам очень часто подходил с вопросами молодой лейтенант с холодными глазами, живым и недобрым лицом. Было впечатление, что он принадлежал к какой-нибудь социалистической партии или даже, быть может, к коммунистической, он был начитан, главным образом, политической литературой, читал для собственного образования книги советских вождей, советскую пропаганду, переведенную на английский язык. Он было очень «хорошо подкован» в смысле коммунистических идей. И все спрашивал нас очень холодно и требовательно, почему мы не хотим возвращаться в Советский Союз. И нам пытался объяснить, что это прекрасная страна, в которой бесплатное образование и бесплатная медицинская помощь. И за квартиры платят гроши. А мы — отказываемся возвращаться! И еще толкуем о красных и белых русских. У нас нет в Америке ни красных, ни белых — мы все американцы! «Если бы я мог, я бы поехал в Советский Союз учиться! Получил бы бесплатное образование, а то и два образования — бесплатных!» И отказался поверить, что его из Советского Союза не пустили бы обратно в его Америку, потому что он сделался свидетелем жизни и размышлений советских граждан, знал бы «почем стоит» коммунизм и мог бы рассказать и написать на Западе о своих наблюдениях, т. е. он мог бы сделаться потенциальным врагом Советского Союза. Это наш недобрый лейтенант понять совершенно отказывался: «Этого не может быть — я же езжу из Америки куда хочу и возвращаюсь обратно когда хочу, а вы мне говорите, что меня, американца, не выпустят из России!» и с некоторым раздражением добавлял, очень, кстати, бестактно: «Вы, наверное, враги России, вы сделали что-нибудь скверное против России — и теперь боитесь! Ясно, что вы совершили какое-нибудь преступление против своей страны!» А что правительство страны может делать преступление против своих граждан — это у него не укладывалось в голове: «Народ же избрал Сталина сам и сам его переизбирает». Мы стали этого светловолосого социалиста с холодным недобрым взглядом и манерой не общаться с нами, а допрашивать — побаиваться, он не только нас с сестрой невзлюбил, но и стал громко, со всей американской бестактностью всем, кто хотел и не хотел слушать, заявлять, что мы «или не русские, или враги русских». Становилось очень неприятно приходить в столовую, нам стало казаться, что некоторые американцы нас определенно избегают: уже больше никто не толкался локтями, хватаясь поспешно за спинки стульев у нашего с сестрой стола, и никто не спорил весело за право позавтракать за нашим столом. Мы теперь всегда сидели в обществе привычных спокойных друзей, и с ними спокойно разговаривали. Всегда за нашим столом сидел Майк — милый человек и верный друг. Он иногда грустно говорил: «Не тревожьтесь, но у вас есть враги». Мы с сестрой решили больше ни с кем не говорить на политические темы. Вообще избегать серьезных разговоров с американцами — только с проверенными друзьями… Хотя теперь это было поздно: дурная слава о нас уже разошлась. За нашим столом часто сидел финн со спокойным грустным лицом и быстрый маленький капитан с черными живыми глазами и усталым немолодым лицом, ему явно нравилась моя сестра. Он иногда заезжал в наше бюро без всякого, казалось, дела — просто посмотреть на нее… У некоторых офицеров, чаще в чинах не ниже майора, были «личные секретарши» и, очевидно, их «военные жены» — англичанки в форме британских военнослужащих. Они нам при встрече улыбались по-англосаксонски — очень широко: так что видны были и верхние, и нижние зубы. Меня очень смущали эти оскалистые улыбки, и я боялась, что наша скромная русская манера приветствий им покажется слишком сдержанной. У нашего генерала — главы 7-й Армии Воздушных Сил — весьма немолодого человека невысокого роста была «военной женой» тоненькая молодая белокурая англичанка со светлым лицом, розовыми губками, очень неприступная и надменная. Мы ее иногда видели в английской форме на заднем сиденье открытого генеральского автомобиля, иногда с генералом, иногда без него, но всегда на ее коленях сидела очень хорошо причесанная черная вислоухая собачка, спаниель. У нас в бюро говорили, что она, англичанка, дерзка с немецкими служащими в генеральской вилле, вздорна с американскими офицерами, нетерпелива и легко повышает голос, если ей противоречат. О'Коннор получил от генерала приказ найти ему второго черного щенка спаниеля — для мисс N, но чтоб он точно походил на того, что сидит всегда на ее коленях. Бедный генерал! О'К. был страшно сердит и оскорблен, бегал по бюро, сверкая глазами, восклицая: «Я майор американской армии, а не служка для англичанки!», но через два дня по бюро бегал черный вислоухий щенок, премилый, писклявый, с острыми молочными зубами и за ним со шваброй ходил обиженный солдат Кампо и что-то громко восклицал по-итальянски. Вечером, одернув свой китель и взяв щенка под мышку, О'К. под общий смех отправился в своем открытом опеле к генералу (и «генеральше»). С этих пор светлокудрая англичанка ездила на заднем сиденье генеральского автомобиля, всегда прижав черного щенка к своей розовой щечке. А более взрослый пес сидел с нею рядом очень чинно, слегка потеснив генерала. Первые недели службы познакомили нас немного с бытом американцев, так как мы бывали в «их» виллах. Мы были всецело заняты переводами между ними и их немецкими служащими — прислугой, кухарками, садовниками, столярами, малярами и т. д., людьми, делавшими жизнь американцев в немецких домах уютной, удобной, комфортабельной. В бывшем зеленом пригороде маленьких вилл, теперь реквизированном для нужд американской армии, было полно немецкого обслуживающего персонала. И им нужно было давать объяснения в переводе на немецкий язык их требовательных новых заморских хозяев. Мы бывали по службе теперь во многих немецких домах и рассматривали их с большим интересом: так все было хорошо продумано и удобно построено — жизнь хозяев этих маленьких вилл была прекрасно налажена. А американцы ворчали: им было тесно в этих милых домах, им не нравились ванные, потому что они не отделаны мрамором, им недоставало каминов в спальнях! А нам с сестрой казалась жизнь в этих благоустроенных домах среди тихих зеленых садов верхом прелести. Мы часто бывали в домах, уже частично приспособленных для жизни американских офицеров. Все комнаты, кроме одной — гостиной, общей, были превращены в спальни американцев. И везде вдоль стен спален стояли чинными рядами начищенные, никогда не чиненные сапоги американских хозяев. Разных форм и оттенков коричневой кожи, чудесные, надежные, непротекаемые, удобные сапоги, полусапожки, все блестевшие — целое несметное богатство. И все это — собственность одного человека. О'Коннор со всей наивной невоспитанностью спросил меня, глядя на мои потрепанные босоножки, почему я в любую погоду хожу в одних и тех же «туфлях». Ответила, что это мои единственные туфли, у меня нет других. О'К. удивился, помолчал, подумал «что же будет, если эти туфли на моих ногах развалятся?» Я его в свою очередь спросила, видел ли он когда-нибудь, чтобы служащая американского учреждения ходила на службу босиком? Надеюсь, что и мне не придется переводить ему босиком. Что-нибудь устроится. О'К. успокоился, но часто косился на мои ноги. Вскоре мы поменяли несколько платьев на туфли у состоятельных беженцев из северных частей Германии. Вместе со всеми служащими нашего бюро мы пошли на концерт под открытым небом для американских военнослужащих, по поводу их национального праздника — 4 июля. Это праздновался День Независимости. На громадной поляне за городом, по которой мы гуляли в ожидании окончания войны, было полно народа — все военнослужащие американцы, которые, очевидно, съехались из окрестностей. Целое море зеленых униформ солдат и парадных офицерских — темно-оливковых со светло-бежевыми брюками. Кое-где цветастые платья англичанок — изящные летние наряды, которыми они заменили свои военные одежды; они тоже пришли праздновать освобождение своих возлюбленных американцев от их «британского» ига. Перед сценой, сколоченной из досок, в первом ряду сидел наш маленький генерал, и рядом с ним в воздушных голубых одеждах — его изнеженная английская блондинка с черным щенком в розовых ручках. На деревянном помосте-сцене расположился военный оркестр. Оркестр ничем не отличался от обычного советского оркестра, только одежда — американская, военная. На нас еще больше повеяло Советским Союзом, когда оркестр заиграл очень громко «Полюшко-поле…», только в более быстром темпе, и, как у нас, цоканье копыт лошадей отбивалось на деревянных инструментах. Было очень страшно — как будто американцами руководил Советский дух… Американцы с удовольствием принимали все «шлягеры» — советские и американские; никто не сердился, все были довольны, веселы, прихлопывали в такт ладошками и наслаждались музыкой. Им очень нравилась советская «Эх, тачанка, да растачанка, да наша гордость и краса», которую оркестр играл опять в очень ускоренном темпе, с ужимками; песенка встречалась бурным одобрением: свистом, гиканьем, аплодисментами. А нам становилось все больше не по себе. Мы пошли домой очень печальные. Напрасно папа думает, что мы в безопасности, работая у американцев, что нас защитят. Напрасно! Американцы, как огромные дети, неискушенные, политически неграмотные, самоуверенные и требовательные к своим удобствам. Ими очень легко управлять любому хитрому человеку. А папа, успокоившись, что «мы служим», с увлечением принялся за свои писания в полной уверенности, что нашей службой устранены все опасности. Папа писал последнюю главу своей «Книги жизни», рукопись которой так трагично потерялась между Берлином и Бад-Нейштадтом, и, конечно, не мог думать (и не хотел) о возможных катастрофах. А вечерами он часто ходил играть в преферанс в дом русских друзей, которые, имея нансеновский паспорт, ни о чем не тревожились и усыпляли папу своим покоем. Мы с сестрой попросили наших американских друзей поехать на джипе в Бад-Киссинген к Богачевым; чтобы их еще раз обнять и спросить, нет ли каких-нибудь возможностей получить поддельные документы. И мы везли им продукты, муку, сахар, крупу, которые мы, получая заработную плату, могли покупать всегда в одном источнике — у бывших остовцев. Все это мы передали в «котел» Богачевых, что было очень кстати: они стали довольно сильно нуждаться: молодежь еще никуда не устроилась служить — все имеющиеся вакансии занимались возвращающимися из плена и армии своими местными жителями, и иностранцы оставались безработными, употребляя энергию и усилия на достижение одной-единственной цели — выезд из Германии. Некоторые умелые люди занимались изготовлением фальшивых документов, но мы таких пока не нашли, в Бад-К. таких не было. Богачевы нас не смогли утешить: еще не было создано организаций, могущих помочь беженцам. Все такие организации считались бы враждебными союзникам. Мы вернулись грустные в терпеливо ожидающий нас джип. Все русские мечтали о переезде в Соединенные Штаты. Мне же казалось, что мы никогда не сможем добраться до Америки. Да и как добраться? Без друзей в самой Америке, без друзей в американской армии (настоящих, крепких друзей) с беженскими документами — весьма сомнительными, из которых, как их не крути, явствует, что мы официально граждане Советского Союза; без денег, без имущества, без какой-либо исключительной профессии. У нас была только молодость, незаконченное образование и пожилые родители. Этого всего было недостаточно для мечтаний о переезде в Америку. Мне же, кроме того, совсем не хотелось жить в совершенно чужой стране: она совсем больше не казалась страной Купера, Джека Лондона, Лонгфелло, страной из книг нашей юности. Современные американцы, с которыми мы общались, меня почти всегда пугали. А в Германии и в Европе — я была дома. И здесь мне так хотелось остаться. О'Коннор и Руд сообщили нам, что после службы, вечером, мы с ними поедем в бывший остовский лагерь, где будет встреча американцев с бывшими русскими рабочими. Будет еда, питье и танцы. Мы не посмели отказаться, т. к. нам об этом заявили в такой же форме, как обычно, когда нас посылали переводить: и сейчас не «приглашали» на вечер, а «сообщали, что мы едем». Все торжество происходило в «клубе» в загородном «барачном» городке, где жили во время войны иностранные рабочие, главным образом, русские, украинцы и украинцы западных областей — в Бад-Нейштадте не было ни французов, ни других европейцев-рабочих. В зале клуба было полно народа, когда мы приехали. В углу играл граммофон, вдоль одной из стен стоял длинный стол, накрытый простынями с закуской, хлебом, множеством бутылок, с тарелками, стаканами. Пахло в ином… Американцев было немного: почти все — из нашего бюро и только несколько человек — из Military Governement. Карлов, начальник M.G., не появился, чему мы были рады. Рассказывали, что он злобно ненавидел всех немцев, всю нацию. Он был еврей, не мог побороть свою натуру и всем делал неприятности. Его в городе не любили и боялись. У него работала секретаршей и переводчицей местная жительница, тридцатилетняя дама, член национал-социалистической партии. Ее муж, крупный национал-социалист, сидел тихо дома, нигде не показывался, как будто старался, чтобы о нем забыли. А она, кроме своей секретарской работы, занималась под руководством Карлова выискиванием и составлением списков бывших национал-социалистов, чем вызывала его полное к себе доверие. И как убежденная нацистка она с удовольствием, как говорили, с чувством мстительности, составляла списки всех иностранцев, живущих в Бад-Нейштадте и его окрестностях, на предмет их высылки из Германии. Ненависть ее к иностранцам была поистине органической, как у ее партийного начальника — Гитлера. Русских она совершенно не переносила, задалась целью их извести, скомпрометировать и как можно скорее выкинуть из Германии, всех до одного. Служба у Карлова давала ей неограниченные возможности. Два злых человека объединились в недоброй и мстительной деятельности. Для нас этот недобрый союз имел катастрофические последствия. Но мужа своего она охранила, отвлекши внимание Карлова на других и втершись 2 его полное доверие. Мы сидели на скамейке, окруженные нашими американскими сослуживцами, и разговаривали. О'Коннор обратил наше с сестрой внимание на приближающуюся к нам фигуру: «Your Fellow — russian» («ваш — русский»). К нам приближался военный человек в советской форме без знаков отличия. На фуражке (он ее не снимал в помещении) у него красовалась пятиконечная звезда. Мы глаз не могли оторвать от этой красной звезды, приближающейся к нам. Советский! Он подошел к нам, улыбаясь, и фамильярно заговорил: «Слыхал, слыхал, что две русские девушки работают у американцев переводчицами…» И протянув нам по очереди руку, представился: «Герман Отряхин». У нас сердце ушло в ослабевшие ноги, когда он пояснил свое положение: «Я представитель репатриационных советских войск в городе. Очень приятно познакомиться». Какая ужасная неприятность! Все американцы, нас окружавшие, улыбались. Они думали, конечно, что мы рады и счастливы познакомиться с советским офицером. Они хлопали Отряхина по плечу и были в прекрасном расположении духа. Пока мы, замерев от испуга, но внешне спокойно разговаривали с Отряхиным и американцами, к нам неожиданно стала подступать толпа бывших остовцев. Они шли, глядя на нас с сестрой в упор, медленно, молча, тесной стеною, без улыбок — мы скорее почувствовали, чем поняли всем существом, что это грозная сила. Что это? Что они хотят? Чувствовала, что ни в коем случае нельзя показать, что нам страшно, — это их спровоцирует на ужасные необратимые поступки. Человеческая стена подступила вплотную к нам и остановилась, молча. Американцы в удивлении и тоже молча уставились на остовцев, почувствовав, что что-то назревает. Из первого ряда толпы раздался обращенный к нам вопрос, спрашивала молодая женщина, глядя мне в глаза: «Deutsch?» («Немки?») Я так же громко, не отведя от нее взора, очень спокойно ответила: «Нет, мы русские, как и вы…» И вдруг молчаливая стена зашумела, загалдела, заулыбалась, нам стали пожимать руки, знакомиться, расспрашивать, откуда мы, — и все сделались веселыми, приветливыми: «А мы думали, вы немки и хотели вас бить!» и смеялись над собой, и радовались, что все так хорошо кончилось, и мы все подружились. У нас, русских, от гнева до радости — полшага. Мы много танцевали в этот вечер — и с новыми русскими знакомыми, и с американцами. О'Коннор танцевал со мною много, но как-то тяжело и неуклюже. Герман Отряхин не отходил от сестры и старался танцевать только с нею: я мысленно ужаснулась ее «успеху» — танец паука с мухой! Мы были рады вернуться домой. С этого вечера наш покой совершенно исчез: мы вступили в опаснейший период нашей жизни. Отряхин чуть не каждый день появлялся в нашем бюро, чтоб потоптаться около стола сестры. Сестра с ним была достаточно холодна, так что он постепенно начал злиться. Американцы в нашем бюро недолюбливали Отряхина, неодобрительно смотрели на его «круги» вокруг стола сестры, но выгнать его из-за красной звезды на фуражке не решались: его считали союзником. На отказ сестры поехать с ним в его автомобиле покататься он очень рассердился, не скрывал своего раздражения и перестал приходить к нам в бюро. Но, к сожалению, он очень подружился с секретаршей Карлова, они встречались все время и начали плести против нас — сети. И Руд стал с ними встречаться, каждый день бегал в M.G. и шептался с ними при встречах. А при возвращении в бюро смотрел на нас зло, но победоносно. Что-то будет? В самом начале нашей службы у американцев, по требованию О'Коннора, мы переехали от нашего сапожника в помещение бывшей школы и библиотеки, находящейся в американском секторе города. Нам определили для жилья квартиру учителя школы (кажется, он был и директором), которого выселили из нее, как и всех немецких жителей района, определенного для заселения американцами. Квартира была прекрасной — просторной и светлой, с окнами, выходящими на три стороны. На школьный двор — парадными окнами; из этих окон был виден весь район вилл, две церкви и зеленая гора, на которой возвышались руины замка. Окна противоположной стороны выходили на высоченную стену из колючей проволоки — совершенно непролазную, за проволочным заграждением шла проселочная дорожка, за нею — поляна с кустами, лесок и речка. В квартире, которую мы заняли, была и мебель, были и вещи семьи директора школы. Американцы нам сказали, что он «наци» и скрывается где-то за пределами города и чтобы мы не смели ничего из вещей, находящихся в квартире, передавать семье этого «наци», если они у нас об этом попросят. Вскоре после нашего вселения в квартиру, когда мы с сестрой были на службе, в квартиру постучалась жена директора, каким-то образом пришедшая, миновав благополучно охранявшего М.Р., и попросила маму дать ей что-нибудь из одежды, им принадлежавшей и висевшей в шкафу. Мама дала ей все, что она хотела и могла унести, не очень привлекая к себе внимание охранника. Больше никто из семьи собственника квартиры к нам не приходил, и все их вещи остались в квартире со всеми нашими вещами, когда мы ее покинули, внезапно и безвозвратно. Охрану американского района очень усилили, без пропуска войти в него теперь было невозможно. Нам всем четырем выдали пропуска. Мама начала распаковывать вещи, которые с момента выезда из Ленинграда так и продолжали ехать с нами, запакованные в тюки: появилась на столе наша парадная скатерть со львами, которая расстилалась лишь раз в году, когда зимой устраивался «зимний» праздник и созывалось много гостей. Вытащила мама серебро из чемоданов, развесила в шкафу одежду и занялась хозяйством, было впечатление, что родители собрались жить в этой квартире долгое время. Как их спокойное душевное состояние не соответствовало моему беспокойству, предчувствию туч, собиравшихся над нашими головами, пара-ставшему чувству приближающейся катастрофы. В актовом зале школы американцы хотели поместить офицерский клуб. Потихонечку поколачивали молотками, но серьезных работ по перестройке зала пока не начинали. На наших дверях начала красоваться надпись: «Off limits». От Майка мы узнали, что надпись повесили по требованию Руда. Он, кажется, выработал целый план нашей травли. С О'К. я никогда не говорила о неприязни к нам Руда, о том, что он настраивает против нас американцев, что он замышляет вместе с Карловым и его переводчицей недоброе против нас: мне не хотелось его тревожить и беспокоить нашими неслужебными неприятностями. Особенно, зная его неуравновешенный характер — никогда не предвидишь, какова будет его реакция на мои слова: или он будет улыбаться, шутить и говорить «приятности», или тихо рычать, сверкать черными глазами и сдавленно угрожать, что он до «всех них» доберется… Лучше было его не задевать и оставаться в отношении с ним — строго в рамках службы. Приехали в Бад-Нейштадт наши друзья Дубягины. Они очень серьезно решили всегда быть с нами. И от нас не отставать, слушаться наших советов и поступать соответственно; Дубягины сняли комнату недалеко от американского района и спокойно зажили, перезнакомившись с русской колонией городка, хотя и не очень многочисленной, но дружной, объединенной одним желанием — выехать из Б.-Н. и, если удастся, то и из Германии. Д. с какой-то поразительной быстротой собирали новости — все происшествия дня — и вечером весело передавали их маме и папе.ИЮНЬ 1945 ГОДА
Сестра с помощью своего знакомого (он был инженером в США до призыва в армию; некрасивый, какой-то конопатый, мы звали его Рябчик, а был он как и Майк, добрый и надежный друг) нашла где-то автомобиль («Hanamaker») без мотора и без трех колес. В течение нескольких недель они (сестра и Рябчик) ездили по разным автомобильным свалкам, искали подходящие части для мотора и другие недостающие части, колеса и постепенно собрали автомобиль, который двигался, пыхтел, гудел — ничем не отличался от других автомобилей. Сестра свободно управляла и ездила очень самоуверенно. Сначала по школьному двору, потом по проселочным дорогам, а потом и по городу. После службы она меня забирала в свой черный, вымытый до блеска автомобиль, и мы выезжали за город и носились по дорогам, поднимая столб пыли. И никто не знал, что в это время мы переживали «пир во время чумы», что вокруг нас сжимается невидимое смертельное кольцо. Этот черный автомобиль вызвал среди американских офицеров разные, часто неблагоприятные отзывы. По американским понятиям, получалось, что, если офицер помог служащей (переводчице) приобрести автомобиль, значит, у них существуют внеслужебные отношения, и это накладывало тень на ее скромное поведение, ведь никто не знал, что этот злосчастный автомобиль — не подарок, а собран из частей, найденных на огромных послевоенных автомобильных свалках, и как много времени было потрачено на их розыски и сборы его из этих разнокалиберных частей. Но как часто бывает, люди охотнее верят злой молве, чем доброй. Майк очень печально сообщил мне, что офицеры заключают пари — с кем из них сестра (и я) согласится пойти в их американский кинотеатр «парой». Но мы ни с кем не ходили в кино, несмотря на многие просьбы. Один раз, в самом начале нашей службы, мы с сестрой в сопровождении Майка и со всеми служащими бюро (кроме О'К. и Р.) пошли в кино, заняли целую ложу. В кинотеатре были только американские военнослужащие, многие поворачивали к нам головы и одобряюще свистели. Мы больше не ходили в кино никогда. Отряхин, хотя и не заходил больше в наше бюро, но часто поджидал сестру где-нибудь на улице, недалеко от нашей службы, и заводил с нею разговор, что пора бы нам собираться домой, «что же мы с сестрой одни на чужбине будем делать». Страшные разговоры. Как ни странно, но Отряхин никогда не говорил о папе. И, конечно, о маме. Он, очевидно, не знал, что они существуют, что наш отец — профессор ленинградского института, доктор экономических наук, автор многих книг. За такой «улов» его, отряхинской, «карьере» обеспечена жизнь долгая. Он мог бы папой откупиться от многих своих собственных неприятностей. А у него они были в большом количестве: он был немецкого происхождения, недаром Герман, и своим положением немца из России пользовался очень широко. Он был во время войны «начальством» в лагерях для остовцев (не знаю был ли он «начальством» в лагерях военнопленных, были слухи и об этом). В лагерях же остовцев его все очень недолюбливали за начальнический тон и пронемецкое поведение. И теперь, после освобождения американцами лагерей восточных рабочих, несмотря на то что он ходил с красной звездой на фуражке (а многие именно за это), его не любили, считали непорядочным, недобрым человеком. И он, Отряхин, каким-то образом пропустил, проморгал существование нашего отца и старался накинуть сети только на нас с сестрой, конечно, по наущению Карлова, его нацистской секретарши и такого же, как они, мстительного и злого Руда. И Карлов не ведал о русском профессоре под его носом, не знал, что, с точки зрения их советских союзников, мы с сестрою лишь мелкая плотва, а карась — это наш папа. За нами и охотиться-то не следовало. Когда мы паперассказывали об Отряхине, о том, что M.G. начинает против нас готовить что-то опасное для нас, папа отмахивался, говорил, что мы все преувеличиваем, и продолжал спокойно писать и заниматься за своим столом: «Все это ваши необоснованные страхи». Мы решили с сестрой приготовиться к катастрофе. Первое — приготовить документы — временные паспорта, где не было бы сказано, что мы родом из Советского Союза. У меня был такой знакомый русский человек, с которым я много раз разговаривала о нашей русской судьбе, и мы друг друга прекрасно понимали. Это был средних лет человек из Сов. Союза, работающий механиком в американском гараже по ремонту автомобилей. Он был инженером в Сов. Союзе и жил со своим тринадцатилетним сыном в маленьком домике у хозяйки, в лесу, вблизи города. Он-то и предложил мне изготовить всей нашей семье фальшивые документы, из которых бы явствовало, что мы рождены где угодно, но не в границах Сов. Союза. И он показал мне свой и сына документ, что они — жители Литвы. За изготовление документов он денег не брал, но взял с меня обещание, что я обязательно сообщу ему, когда нужно будет бежать из города, что он свою и сына судьбу вручает в мои руки, и я должна все время следить за Отряхиным, Карловым, и когда почувствую, что пора спасаться, я ему дам знак — приеду или прибегу в гараж и скажу одно лишь слово «пора», и они с сыном снимутся с места и немедленно уйдут. И мы друг друга не подвели: накануне катастрофы он передал мне документы, а я — на другой день, узнав о приготовленной нам судьбе и судьбе всех русских в городе, вскочила на велосипед и примчалась к нему в гараж и сказала это заветное слово «пора», а они через несколько минут, взяв приготовленные ими заранее рюкзаки и не заходя домой, ушли из города в неизвестном направлении. Я уверена, что они с сыном спаслись: у него были хорошие документы, доброе разумное сердце и золотые руки… У меня постепенно образовался очень большой круг друзей среди русских девушек, бывших остовок. Сестра избегала новых знакомств, а я очень близко со многими познакомилась и подружилась. Часто, после службы, они звали меня к себе, и я на велосипеде (это был велосипед, принадлежавший бюро, покрашенный в зеленый защитный цвет, но т. к. им никто никогда не пользовался, О'К. разрешил мне на нем ездить и держать его дома) ехала к ним на длинные «посиделки». Мне с ними было очень хорошо и приятно, они со мною были очень откровенны: их всех беспокоил вопрос о возвращении на родину. И об этом они со мной говорили: мы все каждый вечер взвешивали, обдумывали; все высказывали свои желания, сомнения, страхи. Вопрос острый, болезненный — решалась вся дальнейшая жизнь: возвращаться ли домой и что будет с ними там? Или оставаться — и что будет с ними здесь? Все эти милые девушки прекрасно понимали, что им очень трудно будет доказать свою невиновность: они — с точки зрения «Родины», конечно, предатели — во время войны работали в промышленности Германии, своими руками помогали врагу. Не взрывали завод, не отказывались работать, никого не убивали, а работали несколько лет для немецкого врага, укрепления его, а следовательно, против своих. Так думали все, понимая, что в этом их будут обвинять. А то, что Советская Армия их не защитила, отступила, оставив их на произвол судьбы, на «милость победителя», милость, которой не случилось, этого факта они не рискнут коснуться — это выглядело бы критикой Советской Армии, советской власти, т. е. опять предательством… Оставаться же в Германии, без достаточного знания языка, без специальности, даже без законченного среднего образования у многих — страшно! Но большинство моих новых друзей считали, что возвращаться более страшно, и душевно метались и мучались. И каждой приходилось решать свою судьбу самой, хотя, казалось, они пытались решить этот вопрос сообща. Несколько более счастливых вышли замуж за украинцев из западных областей — территорий, никогда не принадлежавших Сов. Союзу, даже во время набега 1939-го года, тоже бывших рабочих из их лагеря. Несколько человек вышли замуж за французов, бельгийцев, работавших недалеко от Б.-Н., и теперь ждали отъезда с мужьями в их страну и, как они рассказывали мне, с большим беспокойством, что они будут делать в чужой семье. И они, эти молодые русские жены иностранных мужей, меня поддерживали при размышлениях о выборе судьбы: возвращаться нельзя! Как бы ни была жизнь на чужбине трудна — к ней можно привыкнуть. Хоть и на чужбине, но жизнь будет сохранена, жизнь будет — жизнью. На «Родине» же почти наверняка попадешь в мясорубку и, если не погибнешь сразу, если не попадешь в Сибирь на многие годы (и выживешь в Сибири), останешься навсегда с клеймом предателя. И это клеймо останется во всех документах — навсегда, ничем несмываемое — пока не рухнет режим! И это — не жизнь. Я им советовала уходить. И уходить — немедленно из лагеря, где они сидят как в ловушке, и делаться просто беженцами, хотя это и очень трудно. Они просили меня сообщать им все, что я буду знать о приближении репатриации. А пока они будут «думать». Я регулярно сообщала им о деятельности Отряхина, Карлова и его немецкой секретарши. К нам в бюро все чаще стали приходить русские люди, нам не известные, но о нас с сестрой наслышанные (они знали, что мы «помогаем русским»), и просили выхлопотать им документ — пропуск на юг Германии, «к родным». Разумные и предвидевшие грядущие беды решили бежать. Мы им через знакомую служащую в отделе выдачи документов, горбатенькую немочку, добивались пропуска. Без такого пропуска из Military Governement нельзя было передвигаться по Германии… Чем больше пропусков нам удавалось выхлопотать, тем больше приходило к нам русских — испуганных, в тревоге, шепотом просивших помочь… Горбатенькая секретарша из M.G. и ее русский муж, работавший в M.G. уборщиком, сообщили нам, что Герман Отряхин узнал, что к нам в бюро в служебное и неслужебное время приходят русские люди за советами и что мы «разводим пропаганду за невозвращение», «срываем репатриационный план». (Господи, какие советские выражения!) И горбатенькая секретарша M.G. видела и слышала, как Отряхин стал приходить совещаться с Карловым о том, как положить нашей «деятельности» конец. В их собеседованиях принимала участие нацистская секретарша Карлова, и она обещала им приготовить материалы против нас, чтоб загубить нашу репутацию в глазах американцев и, лишив нас защиты нашего начальства, как можно поспешнее нас репатриировать. Скомпрометировать нас в глазах американцев было очень просто: секретарша Карлова стала приходить в наше бюро, игнорируя нас, не здороваясь, к О'К. и Руду с сообщением, что мы их обманули, что мы не русские, а немки, что мы враги союзников, обманом втерлись в их доверие, что мы предатели и, скорее всего, военные преступники и что она собирает материал, который все наши «преступления» с очевидностью разоблачит и раскроет. И американцы заколебались и стали нас избегать. Какой материал могла приготовить секретарша Карлова? Мне казалось, что самое убедительное в глазах американцев, доказывающее наше «предательство», будет, во-первых, моя служба в Польше в больнице, где я носила форму сестры Красного Креста. Это можно истолковать как службу в немецкой армии (госпитале). Поди докажи обратное (хотя я хранила документ доктора Кэмпф). И, конечно, очень «звучит» страшно для американского уха, что я служила в Министерстве пропаганды. Никто не будет верить, что я рисовала пером портреты поэтов и музыкантов для кино, карикатуры (конечно, Сталин — их союзник!). Легко, используя факт службы для Министерства, обрисовать мою деятельность, как национал-социалистическую, вражескую по отношению к союзникам, идейную — можно даже прибавить, что я была последователем злого карлика Геббельса! Как ни странно, они не поинтересовались и не сообразили, что папа — профессор, а может быть, их это не очень интересовало, т. к. он себя никак не проявлял — сидел себе дома и писал. А мы были на виду, не сидели дома, а общались со всей русской колонией, а я общалась очень последовательно и определенно с русскими остовцами, жившими в лагере, и с некоторыми, переехавшими на частные квартиры, где они жили группами по нескольку человек! Я часто бывала в жилище одной тихой русской семьи. Они жили в большой квартире во дворе местной тюрьмы, такое неуютное место для жизни семьи с двумя детьми и старой бабушкой. Я всегда старалась быстро пройти через тюремный двор и подняться во второй этаж — в их квартиру. Я подружилась и очень жалела мать детей — очень худенькую и нервную темноглазую молодую женщину, она была очень несчастной, панически боялась советской власти, считала, что семье нужно немедленно бежать из города, скрыться, замести следы места своего рождения, сделаться немцами. Она доверяла мне все свои тревоги, печали и не могла дня прожить, чтоб не встретиться со мною хоть на пять минут, и тогда она буквально льнула ко мне, как будто от физического прикосновения мои силы переходили к ней. Ей не с кем было делиться заботами и страхами: муж ее — очень тихий и славный человек — совершенно не понимал тяжести их положения, он был русский немец и с какой-то немецкой самоуверенностью (или ограниченностью) на все доводы отвечал всегда спокойно: «Я немец — меня (и семью) не тронут!» Бабушка, его мать, не беспокоилась, не желала беспокоиться, так же спокойно глядя на сына, повторяла за ним: «Нас не тронут!» А моя худенькая, хрупкая почти подруга теперь смотрела испуганно, не пыталась спорить с мужем и свекровью, и у нее делались страшные мигрени. Мне она напоминала больную птицу в клетке — у нее не было даже сил хлопать крыльями. Старшая девочка (я не могла определить ее возраста) была маленькой, выглядела двенадцатилетней, с большой, огромной головой (у нее была водянка головы от рождения), но по спокойствию, разумности, внимательному взгляду темных печальных глаз — она могла быть и восемнадцатилетней. Когда не был о дома ее отца и бабушки, мы втроем могли спокойно разговаривать, и она даже действовала на мать успокоительно и своей ласковой заботой, мудростью, усмиряла душевную тревогу матери. Младшая девочка была совсем обыкновенной, избалованной — «единственным» ребенком в семье взрослых… И этого немецкого «главу семейства» я пыталась с помощью его жены и старшей дочери уговорить уезжать. Последние дни перед катастрофой я его упрашивала и умоляла поверить, что надвигается беда, но он все твердил — русские должны бежать, но я же — немец. И когда наступил ужасный день выдачи русских репатриационным войскам, все русские исчезли, скрылись все, которых мы предупредили уже ночью, буквально за несколько часов до выдачи. Осталась лишь семья моих друзей — упрямого немца. И их арестовали — и увезли в Россию. Несчастная семья! Им даже не разрешили взять вещи с собою… Когда события начали развиваться быстро — последние три недели. О'Коннор отсутствовал. Он уехал в Париж в трехнедельный отпуск вместе с главой Красного Креста Эдитой Фитцджеральд, давно старавшейся расположить к себе сердце О'К. и очень недолюбливавшей меня. Как только О'Коннор уехал в Париж, деятельность Руда сделалась очень агрессивной. Он засел в кабинете О'К., к нему по нескольку раз в день приходила нацистская секретарша Карлова, и они подолгу совещались. Отряхин тоже повадился приходить в бюро и прямо, ни на кого не глядя, отправлялся в кабинет О'К. на совещание с Р. Все чаще мы слышали голос секретарши Карлова и Руда из кабинета, до нас долетали звуки их разговоров, в которых все время фигурировали слова «the russians», и при каждом слове «русские» у нас сжималось сердце в предчувствии беды. Американцы в нашем бюро ходили пасмурные, перестали с нами шутить, перестали нам улыбаться и с нами разговаривать. В столовой за наш стол никто не садился, кроме Майка, грустного и молчаливого, иногда поклонник сестры Рябчик делил с нами трапезу. Руд очень зло смотрел на сестру и, проходя мимо нее, тихо шептал: «Ваши секреты открыты…» Какие секреты? Меня не покидал ужас, как будто сердце спустилось куда-то вниз и больше не поднималось. В начале июля, когда О'К. был в Париже, Майк отозвал сестру к окну бюро и, показав глазами на идущих по дороге пешком с тележками и детскими колясочками, груженными вещами, немецких беженцев — пыльных, усталых — идущих бесконечным потоком по всем дорогам Германии, сказал ей тихо: «Посмотрите — по всем дорогам идут немецкие беженцы. Сделайте вывод и смешайтесь с ними! И торопитесь!» Сестра передала этот пугающий разговор папе (и мне — предварительно), но, странно, папа отмахнулся — он был так занят написанием книги и не мог ни на чем больше сосредоточиться! А мы еще не научились действовать самостоятельно, решать судьбу семьи, без участия папы, мы все еще считали, что все решения о судьбе семьи должны исходить от папы. И ждали его решений, а время уходило… А папа как-то задумчиво сказал (как будто до его мозговых центров не дошли наши слова и поэтому его инициатива и энергия остались дремлющими), что мы подождем О'К. и что мы с сестрой должны с ним откровенно поговорить и, объяснив ему всю сложность нашего положения, убедительно просить о защите. И что он наверняка нас защитит. Какое заблуждение! И это, когда в наших ушах еще звучали слова американского генерала, честностью которых так восторгался папа, никто палец о палец не ударит, чтоб нам помочь: «Ни один американец не поможет!» Мама начала очень беспокоиться, ей передалось наше волнение. Вся небольшая русская колония городка пришла в состояние бурления: все понимали, что угрожает нашей семье, что нам готовится (а следовательно, и всем русским) выдача советчикам, и все потихоньку готовились к бегству: складывали чемоданчики и договаривались с немецкими хозяйками о сохранении на их чердаках и в чуланах более громоздких чемоданов, за которыми они вернутся позднее, когда изменится обстановка. И вся колония доверчиво верила, что мы «подадим знак», когда наступит момент необходимости бегства, когда больше нельзя будет оставаться без риска погибнуть. И мы чувствовали, какая ответственность легла на наши плечи: спасти русских, перехитрив Отряхина и Карлова, опередив их. И мы никого не подвели! Но какою ценою! Сейчас, когда прошло более четырех десятков лет после этих трагических событий, когда «издали» легче видеть пути, лежавшие перед всеми нами, плохо различимые вблизи, очень странным кажется, что никто из русских, живущих в Бад-Нейштадте и около городка, не рискнул при первых признаках опасности уйти из города, смешавшись с немецкими беженцами, заполнявшими дороги Германии, а ждали «знака» от нас. Очевидно, как и папа, все они надеялись, что мы с сестрой отведем от них беду или отсрочим ее, пока мы продолжаем работать в американском учреждении и ездим в американских джипах. Как будто служба переводчиками для американской армии делала нас всесильными. Какой сдвиг понятий. Или русская колония решила, как мне «предсказывала» Лукомская, что американцы уже полегли у моих ног (!) и что стоит нам лишь приказать, и все будет исполнено по-нашему велению, по нашему хотению. А у нас среди американцев был только один-единственный друг — Майк. Да и он проявлял осторожность и мало говорил — больше намеками, очень неясно и явно мучился. Почему он не сказал просто и ясно: «Вас готовятся выдавать — спасайтесь!» Но он, очевидно, беспокоился о своей карьере — всем бы стало ясно, если б мы уехали, что Майк нас предупредил, что он нас спас от Карлова и Отряхина, и ему бы влетело. Как бы то ни было, мы никуда не уходили, даже не готовились к бегству, даже ничего не упаковали. А могли бы — у нас был автомобиль, мы могли бы вывезти и припрятать у немцев часть вещей; я никогда не вспомнила о добром мельнике — он наверняка помог бы. Мы не поехали к Богачевым; хотя Майк несколько раз спрашивал сестру, живут ли в Бад-Киссингене наши друзья. Почему мы не едем к друзьям? Но мы как-то внутренне замерли в бездеятельности, как будто смотрели в глаза гремучей змеи, продолжали дрожать, чувствуя, что петля затягивается на нашей шее, и ждали возвращения О'Коннора. Пока мы в нашем маленьком городке изнывали в страхе за свою судьбу (и судьбу русских, доверившихся нам), по всей Германии (не говоря уж о зонах, оккупированных Сов. Союзом, — но и в американской, и британской зонах оккупации) разливалась тихая трагедия, о которой молчали все — немецкие, американские, и британские газеты и сводки новостей, даже несмотря на соблазнительность сенсации: несколько миллионов русских и других народностей Сов. Союза, вывезенных на работы в Германию и попавших в Германию вместе с откатывающейся немецкой армией, не желают возвращаться домой, хотя «Родина» делает все возможное (и невозможное!), чтоб их вернуть! Американцы и англичане не жалея сил помогали советским репатриационным войскам (которые были расквартированы во всех городах Германии, даже — маленьких, и, конечно, засели во всех бывших лагерях «восточных» рабочих, т. е. остовских) вывозить из Германии бывших советских граждан. И никому из них, в этом участвующих, по-видимому, не пришел в голову вопрос, что означает нежелание вывезенных насильно немцами во время войны на «принудительные» работы во вражеское государство возвращаться к себе домой, на «Родину». Не могли же эти миллионы русских людей (остовцев и военнопленных) быть предателями! В таком огромном количестве! По Ялтинскому договору советские войска имели право применять силу при вывозе своих граждан (со всей своей жестокой дальновидностью Сталин ввел этот пункт в соглашение — «право применять силу»! — знал, что придется!). И силу они применяли, и какую силу! Американцы и англичане им помогали! Техникой! И ни в английских, ни в американских газетах не писали о страшных трагедиях, происходящих при выдачах русских людей в Сов. Союз — на месте, в первых пересылочных лагерях (на территории Восточной Германии!). Только по доносу без суда и следствия. Все русские, проживавшие в Германии, были как подсудимые — попробуй оправдайся! Англичане выдавали интернированных ими русских из лагерей, находящихся на территории Германии, Англии, Италии. Это был верх безжалостности и бесчеловечности! Немцы через почти пятьдесят лет, прошедших с тех пор, бывшие свидетелями насильственных выдач целых громадных лагерей русских, украинцев и других бывших жителей Советского государства, с ужасом вспоминают (и теперь уж давно пишут об этом) время насильственных выдач… В июне 1945 г. в Линце (Lienz) было выдано 60 000 казаков. С семьями. Лагерь окружили английские танки и войска, и всем был дан приказ «готовиться к репатриации». Видя безвыходность своего положения и безнадежность просьб, обращенных к англичанам о защите от советских репатриационных войск и от неминуемой гибели, на площади в центре лагеря был отслужен молебен — и казаки с детьми, целыми семействами стали кончать жизнь самоубийством: вода речки Драу сделалась красного цвета — от крови. Трагедия в Линце вошла в историю послевоенной расправы с русскими людьми, не принявшими коммунизм и не желавшими быть за это убитыми коммунистами. Та же участь постигла всех солдат, интернированных в Англии и Канаде, когда их стали выдавать вместе с женами и детьми советским репатриационным войскам, несмотря на мольбы о защите: когда их грузили (в самой Англии и Канаде) на советские корабли, русские люди целыми семьями бросались в море и гибли. Но англичане и тут были непоколебимы. Черчилль и Иден сделали заявление в Палате представителей: «Мы не можем себе позволить быть сентиментальными, нас не касается, как Сталин с ними поступит». А по Германии в это время нашей службы у американцев свободно разъезжали советские репатрианты и систематическим охотились за русскими людьми, живущими на частных квартирах; многих бывших остовцев немцы прятали в самых глухих лесных местностях, но и до них добирались вооруженные репатрианты. Людей крали из домов, на улице: Сталин хотел всех их до единого получить обратно для расправы. Бывшие же остовские лагеря были опутаны мотками колючей непроходимой проволоки с вооруженной советской стражей у ворот. Никого не выпускали. Над воротами красные полотнища — «Родина вас ждет!» и красные флаги… Многие успели из лагерей скрыться при первых слухах о жестоких расправах над «вернувшимися», чинимых без разбора. Немцы спрятавшихся не выдавали: они уже были наслышаны о расправах над немцами в Восточной Германии, захваченной Советской Армией, и сочувствовали всем, кто бежал от коммунистов, особенно русским… Охота за русскими продолжалась два года… пока англичане (и американцы) не перестали считать советских союзников такими уж порядочными друзьями… Сталин думал только о своих коммунистических интересах, не верил и презирал союзников, старался поспешно захватить Берлин в свое, единоличное, пользование и отхватить от союзников как можно больше территорий Германии и Европы вообще. Иногда, теперь редко (нас почти не звали переводить), мы ездили с американцами, нам незнакомыми, приезжающими за нами, чтоб мы переводили им деловые разговоры с немецкими промышленниками, с которыми они вели разные дела. Все чаще мы встречали на дорогах, ведущих на северо-восток, большие американские грузовики, разукрашенные развевающимися плакатами, лентами. Как правило, центральный плакат (над кузовом грузовика) гласил: «Родина вас ждет». Белые буквы на красном полотнище. Наверное, репатриационные войска снабжали отъезжающих плакатами, привезенными из Советского Союза, чтоб поднять бодрость у сомневающихся остовцев. И слова «Родина вас ждет» звучали не как доброе утверждение, а как жесткий приказ. И мысленно все добавляли: «А не послушаешься — все равно поймаем. От нас не уйдешь!» Это были слова советского генерала, главы репатриационного лагеря в Берлине, когда он столкнулся с фактом бегства остовцев от «возвращения на Родину». В открытых грузовиках плотно стояли в рост бывшие остовцы, русские люди, держась руками за металлический каркас грузовика, с которого был снят брезент. Почти всегда остовцы были полупьяные, пели советские песни (Дунаевского!), кричали что-то и были очень возбуждены. И грузовики ехали, как упившиеся: покачивались, с большой скоростью, мотаясь из стороны в сторону, не очень соблюдая правила движения на больших дорогах. Как вакханалия на дорогах. Из кабин высовывались головы поющих девиц, руки, платочки, советские и американские пилотки. Как пьяное пиршество перед катастрофой. Впечатление было очень тяжелое. Раз я видела, проезжая с американцами переводить, на дороге перевернутый грузовик. На зеленом пригорке около дороги лежали убитые — мужчины и женщины. Лежали и сидели на траве раненые и плачущие женщины. Ни возбужденных криков больше не было, ни полупьяных песен — все было очень тихо. Только на перевернутом грузовике ярко алели плакаты и красные банты. Мы видели только один случай, а американцы рассказывали, что отъезд русских сопровождается дорожными катастрофами, ужасными драками, поножовщиной, ведется вполпьяна, небрежно, и «очень много американских грузовиков — разбито»(!) А на нас повеяло знакомым «духом» — небрежным, «нечеловеческим» отношением к человеку-цифре, жизнь которого никем не ценится, ни во что не ставится и никак не бережется.Глава третья
ИЗ РАССКАЗОВ НАШЕГО ДРУГА СИНЬКО О ЛАГЕРЯХ ГУЛАГА
В Британской зоне оккупации в это время тоже происходила «охота» за русскими. Мы, много позднее, когда наступил едва заметный спад акции насильственной выдачи в Советский Союз «бывших» подданных, не желающих добровольно возвращаться на «Родину», подружились с очень страшным на вид человеком, с душою простой и почти нежной. Огромный, неуклюжий, с большими руками, которые он не знал куда девать. Он, Синько, всю жизнь провел в разных советских лагерях принудительных работ. Он называл свою жизнь — «жизнь проклятого». После потери родителей, погибших во время коллективизации, он сделался беспризорным. Его изловили и отправили в «детдом», оттуда в «детскую колонию для беспризорников», где он «взбунтовался»: отношение к детям было жестоким, с битьем и непосильной работой: «Мы были маленькие каторжники». Дети более сильные и непокорные бежали, их ловили, избивали, наказывали, они опять бежали. Таким «неисправимым беспризорником» был наш друг Синько. Его очень скоро переправили во «взрослые» лагеря, где никто не посчитался, что он не взрослый, а мальчик. В этих лагерях он и вырос, и возмужал. Перед войной, там же, в лагерях женился на такой же «лагернице», как он — бессрочной — тоже бывшей беспризорнице, прошедшей такую же страшную жизнь, как и он. С началом войны им дали «неполную свободу» и отправили их на Урал, на заводы: нужны были рабочие руки. Оба решили бежать с завода, пробираться навстречу немцам, чтобы любыми средствами уйти из Советского Союза — навсегда. Они так и сделали, и к концу войны работали на большой ферме на севере Германии. После войны они продолжали работать на той же ферме и арендовали маленький дом у бывшего хозяина, который давно оценил их честность и трудолюбие и обещал их защищать и скрывать их, если советские репатрианты будут пытаться их арестовать, чтобы насильно отправить «на Родину». И как же советчики пытались его изловить, арестовать! Ездили репатрианты по ночам, когда соседи уже спят и не очень-то будут расположены выходить из дома, чтобы защищать русских, которые забивались в самые отдаленные и глухие места, чтоб их не нашли. Каждый русский разработал для себя и для семьи план бегства через огороды, зады деревни за помощью. К Синько приехали репатрианты сначала днем, чтоб с ним «поговорить вежливо», без нажимов. Гигант Синько не впустил их в дом, стоял в дверях, загородив собою вход, с огромной дубиной в руках (он сам ее изготовил для такого случая, и она всегда была наготове, приваленная у двери к стене внутри дома). Сначала С. спокойно, но определенно послал их «ко всем чертям», но когда они не уходили, а продолжали «вежливо беседовать», он взревел и пошел на советчиков с дубиной; он ревел с таким бешенством, что немцы-соседи высыпали на улицу, а русские соседи, не таясь, вскочили на велосипеды и помчались в английскую комендатуру за помощью. Англичане через год после начала принудительной репатриации несколько изменили свою политику по отношению к Сов. Союзу и начали следить, чтоб репатриация была бы добровольной и, когда их просили о защите, — они приезжали и «чинили суд» — изгоняя советчиков. Но, конечно, нужно было успеть сообщить англичанам, что репатрианты применяют силу. Боясь дубины и англичан, советчики отступили от дома С., но стали приезжать глухой ночью, стараясь его выманить из дома. Синько затаился внутри — жена молила его не употреблять дубины: «Если забьешь человека, тебя арестуют англичане и выдадут советчикам. Тогда уж нас никто не спасет!» Гигант С. сидел в доме, заложив все двери изнутри бревнами, и тихо рычал, когда советчики дергали дверь и стучали в окна. Иногда не выдерживал и громко сообщал бешеным голосом: «Не лезь… уходи… убью…» Советчики почувствовали, что его не возьмешь голыми руками — задушит, а стрелять нельзя — не в России. И его оставили в покое. Папа очень оценил Синько и дружил с ним. Сделавшись после войны и вероломства американцев совершенными бедняками, мы еще много лет ютились по разным чердачным каморкам. С. приходил к нам, растревоженный ночными налетами на его домик, сидел в нашей чердачной комнатке, возвышаясь над столом, и казался огромным, спокойным и бесстрашным — и рассказывал нам о своей жизни, полной страданий. «Вся жизнь моя с малолетства прошла на дальнем Севере в лагерях: ссылка, бегства, поимки и — бессрочный приговор. Там, на Севере, не бывает летнего горячего солнца — нет лета вообще. Лишь весною холодный день становится длиннее, снег тает под лучами северного солнца, но ледяной глубокий пласт под тонким земляным покровом не успевает растаять за короткое лето — это вечная мерзлота. На коричневатом покрове тундры появляется мох — летняя растительность Севера. Заключенные жуют зеленый мох, чтобы высосать витамины и приостановить цингу. Лето такое короткое — и опять осень и зима, с пронизывающими ветрами, преследующими зэков даже в землянках, беспощадно задувающими огонь костра. Ветер дышит ледяным дыханием, вселяя в душу безнадежностью». Все зэки северных лагерей, где «жил» наш Синько, осуждены на очень длительные сроки или — пожизненно. И каждый знает, что никогда больше не вернется «домой» — на волю. Засекреченные железные дороги, которые они прокладывают, глубокие каналы, которые они роют, новые дороги через тундру, через тайгу — поглощают жизни истощенных людей. Синько глубоко вздыхал и выпускал воздух из своей богатырской груди, со стоном. И после долгого молчания продолжал рассказывать: «Мы-то были давнишними зэками, чуть не с детства. Загрубевшими. Трудно было новеньким. Они плохо приспосабливались к суровым условиям каторжных работ, все не смирялись с потрясшим их неожиданным арестом, ночным, вырвавшим их из привычной жизни. На допросах, где их допрашивали, ничего не объясняли, били, унижали, требуя ужасных страшных признаний в преступлениях ими совершенных, которые, казалось, и придумать-то невозможно, сломленные, измученные арестованные подписывали признание во всех преступлениях и их отправляли на каторжные работы — отбывать срок. Многие не могли очень долго, иногда до своей гибели, скорой, принять жизнь зэка, как для них теперь — единственную, не перестраивались внутренне — и гибли скорее». Индустриализация страны в 30-е годы шла быстрыми темпом: строились не только заводы тяжелой промышленности в отдаленных районах страны, но и железнодорожные магистрали, сетью покрывающие недосягаемые, скрытые это всех заполярные пространства страны далеко от глаз «империалистических врагов». Рабочие руки, необходимые для этого грандиозного строительства, беспощадно выкачивались из страны при помощи арестов. Уничтожались бесценные слои населения, превращавшиеся в бесплатных рабов. (Двойная выгода для коммунистов.) Из рабства этих людей освобождала только смерть. Нужно было иметь громадную физическую силу Синько, чтобы остаться живым. Но он с детства боролся в лагерях за жизнь — и научился выживать. Он до своей женитьбы в лагере — с другими зэками, немногими, такими же упорными, с беспокойным духом — пытался из каждого очередного лагеря — бежать. Но их всегда ловили, волокли обратно в лагерь и жесточайше наказывали. Попав в самые крайние северные лагеря, из которых никому не удавалось бежать, несколько раз совершал побег. Ему удавалось скрываться по нескольку дней, но его всегда настигали с ищейками, возвращали в лагерь, били, отправляли зимой босиком на работы по снежным сугробам, загоняли с другими полуголыми зэками в ледяную воду, не считаясь с зимними морозами, чтобы забивать балки в дно реки для постройки мостов, укрепления берегов. Погибали почти поголовно все — не выдержать было и дня такой работы. Их заменяли новыми каторжниками. В конце 30-х годов в западноевропейских газетах стали появляться — сначала изредка, но потом все упорнее — сообщения о страшных условиях работы в лагерях принудительного труда. Сообщения западной печати стали тревожить советских правителей, и тогда-то они решили перехитрить Запад, послав в лагеря комиссию во главе с Максимом Горьким, которая своими глазами посмотрела бы на жизнь и труд в лагерях, написала бы отчет о своих впечатлениях и поделилась бы ими с западноевропейской прессой. Помню, когда я была школьницей в Ленинграде, волнение, охватившее жителей города, когда стало известно о предстоящей поездке Горького в лагеря — какие надежды на изменение режима в лагерях охватили сердца людей. О поездке Горького говорили буквально — все — ив школе о ней говорили дети, и в знакомых нам домах. Ведь не было почти ни одного семейства в городе (да и по всей стране), в котором бы кто-то из родных не «сидел». И вот теперь «сам Горький», которого часто называли «совестью русского народа», посмотрит на все страшные порядки в лагерях и скажет во всеуслышание «всю правду». Весь мир узнает из его уст о неслыханном избиении народа. Уж Горький то защитит, когда все сам узнает, не подведет — ему русский народ верит, он сам вышел из глубин этого народа. Горький — «великий пролетарский писатель», как его называли во всех учебниках и газетах, так много «писал о страданиях людей», он сам, как воспетый им Данко, вырвавший из своей груди пламенное сердце, чтоб осветить путь людям из темноты, зажег в сердцах русских людей радостную надежду на освобождение безвинно осужденных, на возвращение их на волю и уж во всяком случае — на смягчение режима в лагерях. Горькому верили все. Да и Запад его почитал — великого русского писателя! Мы ждали его поездки… Максим Горький отправился в Сибирь — осматривать каторжные лагеря. С многочисленной свитой. Постепенно стали известны все подробности его поездки «с инспекцией». По прибытии в лагерь всегда повторялось следующее: Горький и его окружение, закусив и отдохнув, выходили на площадь, на которой ранними утрами пересчитывалось поголовье зэков перед отправлением на работы, а ночью — после возвращения с работ — опять пересчет, после чего можно в бараке получить плошку жидкой баланды. На площади к выходу Горького выстроилось начальство лагеря, и зэки — рядами — и ждали. Горький, выйдя на площадь и осмотревшись, обращался к заключенным, предлагая им «высказываться», рассказать ему, как они работают, как их кормят, как они живут и какие у них жалобы и пожелания (!). Заключенные молчали, Горький опять предлагал им высказываться, зэки колебались: боялись начальства лагеря, присутствующего на площади, знали, что за каждую жалобу с ними потом, после отъезда Горького, жестоко расправятся. А Горький улыбался, настаивал, уговаривал не бояться, обещал о всех жалобах рассказать в Москве. И заключенные начали колебаться: а если и правда — поможет? Как же пропустить такую возможность, нужно ему все рассказать, всю правду. И зэки начали говорить. Сначала говорили поодиночке, робко, но потом их и остановить было уже невозможно. Глазам Горького открывалась правда обо всем происходящем в лагерях: жестокостях, беззаконии, последовательном истреблении заключенных, их полном, абсолютном бесправии. Горький слушал — и рыдал. И ехал дальше, в следующий лагерь, где все повторялось, и он опять — рыдал. И не подумал, не приостановился, чтоб понять, что мужественных заключенных, рискнувших своею жизнью, вызванных им на откровенность, он оставляет, уехав, на растерзание. И их расстреливали — даже не судили. Синько рассказал о случае в их лагере, куда Горький тоже заехал — «ознакомиться». Заключенные на уговоры Горького рассказывать всю правду — молчали, боясь рот открыть в присутствии сурового, мстительного начальства (и правильно рассуждали — Горький уедет, не защитит, а начальство останется, и, если не погубит сразу, то погубит постепенно, прибавив сроки заключения — дав «пожизненно», что все равно, что медленная смерть). Молчали заключенные, никто не решался заговорить. Тогда из молчаливой толпы вышел маленький зэк, двенадцатилетний мальчик (и дети были зэками и отбывали сроки!). Мальчик храбро подошел к Горькому и стал рассказывать о лагерных порядках, о полном бесправии заключенных, об издевательствах, убийствах за каждую «провинность», о непосильных ежедневных «нормах», за невыполнение которых лишали баланды вечером, и о вымирании лагерей. Он рассказывал, как невыполнивших норму на морозе обливали водой перед глазами всех заключенных на площади во время вечерней переклички — «за саботаж», и жертвы сразу умирали, превратившись в ледяную статую, и стояли на площади неделями, чтоб другим зэкам было бы «неповадно»! Мальчик торопился все рассказать, пока лагерное начальство его не схватило, не уволокло. А Горький рыдал, его спутники вытирали платками глаза. Горький, разливаясь слезами, обнимал мальчика, хвалил его за мужество, за правду, обещал все рассказать в Москве. И уехал. Уехал — оставив мальчика. Не забрал с собою, чтоб защитить его от беды, от расправы. И не подумал. Оставил мальчика его судьбе. А судьба была — расстрел за клевету. И имени его не сохранилось. Максим Горький со своим окружением вернулся в столицу. И на весь мир заявил, какие в нашей стране учреждены замечательные лагеря, «перековывающие» несознательных людей, делающие их в процессе благородного труда во имя своей развивающейся, строящейся Родины настоящими патриотами, гордыми советскими гражданами, осознавшими и преодолевшими свои колебания и заблуждения. И славил справедливость великого социалистического государства и мудрость его вождя. С этих пор имя Горького перестало пользоваться уважением русских людей — ему не простили предательства. А сам Максим Горький, которому поверили на Западе (по крайней мере, перестали писать о лагерях и всей системе истребления людей в Советском Союзе), все время теперь — плакал. По любому поводу — рыдания. Ягода, главный чекист страны, убил единственного сына Горького — Максима Пешкова (и женился на его прелестной жене), а Горький сделался сломленным стариком. Он просил у советского правительства выпустить его на Капри — лечиться, но, конечно, его не пустили, а вдруг он покается — и все на Западе расскажет… Вскоре Сталин его отравил. А Синько мечтал уехать в Канаду — «на лесоповал»: «Все чему я за жизнь в лагерях выучился — лес валить…»Наша жизнь в Бад-Нейштадте как сон. Оборвалась неожиданно. Меч, тенью своей отравлявший наш покой, вдруг сорвался, пронесся над нашими головами, чуть не убив нас. Был очень беспокойный для нас день — 18 июля 1945 года. С самого утра мы находились в напряженном состоянии: ожидали, что произойдет что-то неприятное и тяжелое. Что-то будет? Не закончился еще вчерашний разговор с русским мужем Горбули — служащей M.G. Он придет к нам сегодня опять — тихими шагами, крадучись, чтоб опять шепотом сказать нам: «Все ваши секреты раскрыты. Горит! Нужно немедленно доставать лошадь и телегу и сейчас же ехать! Через несколько дней будет поздно. Только бежим вместе. По секрету от жены». Кто он? Доброжелатель или провокатор? Слова его нас напугали чрезвычайно. Может, он нас нарочно пугает, чтобы мы нашли лошадь и телегу? Что за «секреты» они «раскрыли». Кто на нас наговорил что-то страшное, что на нас наклеветали? Что за угроза нависла над нами? Что готовит против нас комендатура? Но Горбулин муж больше ничего нам не говорит — не знает или сказать не хочет. Странный человек — не то боится чего-то, не то добра желает, не то радуется чужой беде и нарочно сгущает краски. Верить ему можно лишь с осторожностью, но прислушиваться и оценивать каждое слово нужно, не впадая в панику! Прибежали перепуганные Дубягины: «Девочки, узнавайте — что-то неладно. Отряхин свирепствует, сказал, что до всех доберется!» Документы будут у нас только завтра. Человек из Киссенгена поехал к американской границе с британской зоной оккупации узнать, какие документы нужны при ее пересечении. Вернется он завтра вечером. Так долго! А время не ждет, опасность все нарастает! На моем письменном столе разбросаны бумаги, которые мне нужно перевести и передать секретарю нашего бюро для перепечатывания, лежат карандаши, конторские книги с написанными мною оглавлениями. Подойду к столу, но делать ничего не могу: все буквально валится из рук, все кажется таким бессмысленным, ненужным. Хожу по комнате, как неприкаянная. Наши два письменных стола находятся в комнате, отделенной от общего бюро стеклянной двустворчатой дверью, всегда открытой. Из этой комнаты — вход в кабинет О'К. и Руда. О'К. часто выходил из кабинета, садился на угол моего стола, сдвинув бумаги в сторону, и разговаривал со мною на разные неслужебные темы. Теперь он в Париже, и все смотрят на нас как на чужих — все молчаливые, сдержанные — и никто «палец о палец не ударит», чтоб посоветовать, предупредить, объяснить, что же случилось… Из окна видна, совсем близко, стена такого для нас страшного здания, в котором расположился Military Governement. За окном в лучах солнца качаются розы, белые и красные. Ветви роз ползут по стене здания наверх, почти до второго этажа. Во втором этаже открыто окно. Это окно, в котором поместился теперь кабинет Отряхина. Рядом окно, тоже открытое лучам солнца, это окно кабинета Карлова — здесь решится скоро наша судьба… Меня позвали переводить. С радостью сажусь в джип: так хорошо хоть на несколько минут отвлечься! Быстро едем мимо комендатуры, мимо гаража (с механиком, который готовит нам документы), к городским воротам. У ворот стоит черная блестящая машина начальника комендатуры по иностранным делам (он так похож на Карлова, что мог бы быть его двойником). Поставив ногу на ступеньку автомобиля, стоял сам ее хозяин, он внимательно, не отводя взгляда, смотрел на меня. И в глазах его — выражение удивления и что-то неприятно-холодное. Так, наверное, смотрят на знакомого, про которого вам только что сказали, что он — убийца. Уже известно, что судьба его решена и его казнят, и все удивлены, что он смог убить кого-то и все еще находится на свободе, но помочь ему никто уж не может. Всю дорогу преследовал меня его взгляд. Я не могла отделаться от него, когда переводила двум рабочим, чтоб они поторопились с шитьем серых шелковых занавесей. В субботу готовилось представление для американских военных — и занавески должны были висеть на своих местах… Веселые беспечные люди, которым нечего и некого бояться, наполнят театр веселым шумом. Сегодня среда… «Конечно, — перевожу я, — занавес можно сшивать и черными шелковыми нитками, раз нет серых: издали это будет незаметно. И прожекторы нужно привинтить, справа и слева у помостов, тогда они не будут мешать зрителями…» Как хорошо будет в театре в субботу, как всем будет весело. Перевод окончен. Джип, фыркая, несется обратно в наше бюро. Через городские ворота, мимо гаража, мимо комендатуры. За своим столом сидит сестра с побледневшим лицом. «Что случилось? Был опять Горбулин муж?» — «Майк сейчас со мною говорил — стало жарко, заболела голова». — «Что он сказал?» — «Сказал, что к субботе наш секрет не будет секретом». (Сейчас, через сорок шесть лет после всех событий в Бад-Нейштадте, когда я перечитываю свои записи, мне пришло в голову, что «секрет», быть может, — это наша работа переводчиками у немцев. Моя — в Промсельхозе и сестры — в автомобильно-ремонтном учреждении. С точки зрения американцев, это вполне может сойти за «преступление». Когда же я раз сказала О'Коннору, что наша работа у американцев переводчиками будет в Сов. Союзе рассматриваться как преступление, потому что всеамериканцы — потенциальные враги социалистического государства, он не поверил: «Они же наши лучшие друзья! — союзники!») И Майк спросил еще, живут ли в Киссенгене наши знакомые. Намекнул, что хорошо бы нам уйти… Боже, что же это за секрет? Что это, папины статьи? Мы никому не говорили ни единого неправдивого слова. На нас, скорее, донесли, нас заведомо чернят! Р., и правда, как он себя определил, «крыса», все бегает в комендатуру и шепчет свою клевету на нас… Что нам делать? Везде нам слышится, что о нас совещаются, каждое случайно брошенное слово — обжигает. Мы ловили урывки разговоров и становились все взвинченнее… Из M.G. приходил заместитель Карлова и что-то говорил писарю в бюро. Мы расслышали: «Interpreters of your office…» и «not much longer…» («Переводчицы вашего бюро…» и «теперь уже недолго…»). Мы только переглянулись — даже и говорить не могли. Писарь проходил позднее через наше бюро, бледный и не взглянув на нас, как будто нас уже больше не было. Он, конечно, знает, что мы как затравленные, но он вечером уезжает в Париж, по делам, а когда он вернется, с нами все будет решено и покончено. Или все решено уже сейчас, и осталось лишь — покончить… Мы пробовали спросить у Майка, что он знает. Но Майк — немец — он привык исполнять приказы, а ему приказали молчать, и он не скажет лишнего: «Я не имею права сказать вам ничего, пока обо всем не узнает О'Коннор. А впрочем, до Киссенгена — недалеко». Что это — совет бежать? Он, конечно, боится за нас, он знает, как страшна нам наша «советская Родина», он хочет предостеречь нас от чего-то… Рябчик не заезжает сегодня совсем. Ему M.G. сделал выговор за то, что он содействовал приобретению автомобиля — черного автомобиля сестры. И сказали ему про нас что-то секретное, нам неизвестное. Рябчик теперь избегает встреч с нами: его могут разжаловать из офицеров. Нам запрещено наливать бензин в автомобиль — он стоит во дворе без движения… Мелочи затравили нас. Нам кажется, что мы окружены какой-то стеной, что все разговоры против нас. По бюро крутится Руд и злобно вскидывает на нас свои холодные голубые, чуть выкаченные глаза. Потом он кидается к телефону и вызывает Карлова, наслаждаясь явно сознанием, что мы слышим и, конечно, пугаемся. И мы замерли, слушая разговор, играя для виду с собачкой Рунтом. Он крутит маленьким хвостиком и старается схватить зубами мой палец, а Р. говорит Карлову: «Да, да, мы все еще раз проверили. Все подтвердилось. Действуйте немедленно». А сам краснеет и смотрит на нас с триумфом в глазах, как будто он подписал только что приказ о нашей казни. Мы по-моему перестали пугаться, но когда мы услышали слова Руда, сказанные им по телефону, мы поняли, что это — наш приговор, все наши карты биты: нас решено вывезти. Теперь один вопрос — когда… В этот же день вернулся из Парижа О'Коннор с Э. Оба веселые, отдохнувшие. Э. держится хозяйкой, ходит по бюро, громко смеется, громко разговаривает, крутится между столами в новой парижской шляпе, рассказывает о цене шляпы — высокой (шляпа какая-то нелепая и ей очень не к лицу), сама очень счастливая и беззаботная. А мы с сестрой тут же — подавленные, совершенно несчастные. Как у Бизе, в веселый марш Тореодора врываются трагические ноты смерти. Когда О'К. подошел к нам, сияя и явно рисуясь, я спросила его, может ли он уделить нам с сестрой немного времени — мы должны с ним поговорить. О'К. приказал одному из сержантов отвезти Э. домой и пригласил нас в свой кабинет. Мы сказали ему, что мы больше не выдерживаем создавшейся обстановки, все так накалилось — мы хотим уехать. О'К. ничего понять не может, почему все против нас, почему мы хотим уехать. Обещает поговорить с Карловым, узнать что происходит….. В офицерской столовой Майк и Рябчик сидят за соседним столом, смотрят на нас внимательно и печально. Нам кажется, что мы доживаем последние часы на свете. Я решила получить у механика, работающего в гараже, наши «новые» документы. Еду к нему в его лесное жилище на велосипеде. Мое волнение не прошло незамеченным. Он тоже начал волноваться и спрашивать, что случилось нового — опасного, чтоб я не забыла предупредить его и его сына (он помогал отцу работать в гараже, и оба они ездили на велосипедах на работу с рюкзаками, в которых было сложено все нужное). Я обещала ему, что сообщу на следующий день, когда нужно уходить, чтоб он не приходил в бюро, потому что за нами следят и он может себя скомпрометировать. Еду домой с документами, так страшно. После разговора с О'К. сестра пошла увидеться с Д., Р. и другими знакомыми, чтоб предупредить их, чтоб они были бы готовы уходить по первому знаку. Я зашла к друзьям в тюремную квартиру, но их не уговоришь. Я не задерживалась у них, лишь предупредила и пошла поспешно домой, что-то случилось, я это чувствую. Выбираю кратчайший путь домой. Дома никого — нет. В гараже нет велосипедов… Да, что-то случилось… страшное. Надо паковать вещи, но не слушаются руки, голова кружится. Мечусь между дверью на лестницу и окнами. Но никто из семьи не возвращается. Напротив дома, при входе на двор стоит какой-то подозрительный тип. Присмотрелась: господи, да это военная полиция — американский полицейский с повязкой «М. Р.» на рукаве. Он стоит, расставив ноги, и опирается на винтовку, поставленную им перед собою на землю… Он стоит неподвижно и не отрывает взгляда от наших окон. Я боюсь высовываться из окна и даже близко подходить к окну. Долго стою в комнате в сумерках, застывшая в страхе и волнении. Наконец появляется на улице мама. Она идет необычно быстрым шагом мимо заборных кустов, через двор, почти бежит. Спрашиваю шепотом из окна: «Что плохо?» — «Плохо»… и не убавляя шага, проходит к входной двери. Бегу ей навстречу, на ступеньке лестницы бессильно опускаюсь, когда слышу мамин торопливый голос, откуда-то издалека: «Завтра должны нас в Россию везти… Папа уже ушел из города, ждет нас в назначенном месте». Мы стали с мамой собирать кое-какие вещи… Поздно вечером пришла сестра, и мы решили пойти к О'К. Он говорил, что до ночи будет в бюро разбирать накопившиеся дела… Пока мы с сестрой шли в бюро, она мне сказала, что была у Майка — в его «общежитии». Майк был дома, лежал заплаканный на кровати, в форме и сапогах — он вскочил при виде сестры и воскликнул: «Я же вам говорил — уходите. А теперь поздно! Нам строго запрещено вам помогать. Ваш дом будет охраняться, чтоб вы не ушли…» Сестра быстро ушла из дома Майка, побежала к знакомым, у которых папа играл спокойно в преферанс, и не позволила ему возвращаться домой. Папа должен был идти на север, пройдя через деревню. и ждать нас в лесу. Мы попытаемся ночью сбежать из дома — и прийти тоже в лес. Сестра обежала русских знакомых и сообщила всем: «Немедленно уходите!» А они весть разнесли всем остальным — весть, как лесной пожар, охватила всех — никого не обошла. Все узнали: «Пора, спасайтесь»… К механику я съездила днем — и они с сыном скрылись через несколько минут. Бывшие остовцы, не хотевшие возвращаться, в тот же вечер и в следующий день, пока Отряхин и Карлов их не хватились, разбежались, скрылись, исчезли… Ушла вся русская колония — близкие друзья, знакомые и малознакомые и совсем незнакомые — никто не остался: ночь была темная, длинная — всех поглотила… Остался лишь несчастный домотканый немец со своею семьей. Он с непоколебимым упорством твердил: «Я немец, меня не тронут!» Но его «тронули». Его арестовали вместе со всею семьею и увезли, минуя репатриационный лагерь, находящийся довольно далеко на севере от Бад-Нейштадта… Прямо — на расправу… Мы пришли в бюро. О'Коннор, к счастью, еще был в своем кабинете, копался в куче бумаг. В самом бюро было еще несколько клерков. Все было тихо: клерки возились у своих столов, сержант крутился, как всегда, около дверей кабинета О'К. Если его позовут, он тут как тут с готовой улыбкой. Мы попросили доложить о нас с просьбой о частной аудиенции. О'К. нас сразу принял, усадил перед своим столом, любезно улыбаясь, и смотрел на нас весь такой отдохнувший, загорелый, веселый после поездки в Париж. Говорят, счастливые люди охотнее откликаются на беды несчастливых: может, и О'Коннор — откликнется? Мы стали ему рассказывать, как постепенно Карлов и Отряхин затравили нас, настроили всех американцев против нас, грозят открытием «наших секретов», а у нас нет секретов… Мы просили у О'Коннора защиты и разрешения уехать из города с родителями. О'К. был очень удивлен всем, что мы ему рассказали, нахмурился, подумал, помолчал, взял трубку телефона и позвонил Карлову. Карлов был у себя дома, с ним был Отряхин, и они пригласили О'К. приехать для разговоров к себе. О'К. согласился, сказал, что выезжает немедленно, велел нам ждать его возвращения, быстро отправился к двери, на ходу подмигнув мне. Меня внутренне передернуло от неуместности американской манеры — в такой момент! Он, наверное, не понимает, что он — наша последняя надежда, что мы стоим перед гибелью. Но он всегда был так хорошо к нам расположен — он должен, сумеет защитить нас! В общем помещении бюро шуршат бумагами и на нас не смотрят, клерки скрипят перьями и зевают. Собачка свернулась калачиком в углу комнаты и сладко спала. Мы с сестрой — такие одинокие, несчастные. Наступили сумерки, а О'К. все не было, все не было. О чем они разговаривают. Мы с сестрой были в такой тоске — и она все увеличивалась и переходила в ужас. Наконец в дверях появился О'К. Он улыбался, глядя на нас и издали кивал головой, утвердительно: он нас, наверное, спас! Мы устремились к нему, заранее полные радости принять от него утешительные слова. О'К. нам сказал: «Мы долго все обсуждали и решили, что так как вы работали для американской армии, мы, в виде благодарности, дадим вам завтра утром грузовик, который вас с родителями и вещами перевезет через границу и передаст на территории, занятой советскими войсками, — советским оккупационным войскам. Таким образом мы вас избавим от пересылочных лагерей, жизнь в которых неудобна. Теперь идите домой, упаковывайтесь и будьте готовы к отъезду завтра утром!» И протянул мне руку — на прощание. Мы с сестрой замерли, постепенно схватывая смысл его слов. Я машинально начала протягивать руку О'К, как вдруг сестра крикнула мне: «Римма, не смей подавать ему руки! Он посылает нас на смерть…» И очень гневно, глядя ему в лицо: «Мы не вернемся в Советский Союз, мы лучше умрем, но там нас не будет!» И, взяв меня за руку, потянула к двери. Мы ушли, О'Коннор не сказал ни слова, не сделал ни единой попытки остановить нас… Мы быстро пошли домой. Уже совсем стемнело. Мама не зажигала ламп. Окна были темными, как будто мы уже вымерли… На дороге, перед домом, стоял солдат М. Р. — военная полиция. Мы прошли мимо него, он не сказал нам ни слова, даже обычного «hallo». Мы были для него — преступники, к которым его приставили следить, чтоб мы, очевидно, не совершили новых преступлений. Карлов и Отряхин, кажется, обо всем позаботились, все продумали, все предвидели и хорошо приготовились к тому, чтоб завтра утром нас выдать советчикам. Они только одного не предвидели: у нас был яд — цианистый калий. Я не знала до этого трагического вечера, что у родителей есть яд, полученный ими от кого-то из русской колонии — на случай насильственной выдачи. Мама ждала нас с ужасным лицом, страдающим и испуганным; такое лицо у нее было, когда она начала тонуть в озере в Токсово и отталкивала мою руку помощи, боясь утопить и меня (и когда ее спасла и «вывезла» на берег наша немецкая овчарка Туман). Мы передали ей слова О'К. и решение Карлова, Отряхина и его. Мама в смертном томлении только сказала: «Давайте примем яд». Я тоже присоединилась к маме: я считала, что лучше скорее принять яд, чтобы покончить этот ужас, а дальше этого, о смерти, совсем не думала. Но сестра сказала: «Яд мы всегда успеем принять, а пока будем бороться: надо бежать». Мы зажгли огни в квартире, чтоб М.Р. знал, наблюдая за домом, что мы в квартире. Вдвоем с сестрой мы спустились очень тихо по лестнице и открыли неслышно дверь, выходящую на «зады» дома. Огромные мотки крученой колючей проволоки проходили перед самой дверью, высотою почти в человеческий рост. Сестра попыталась пролезть через них, но только поцарапалась. Мы с нею решили, что положим доски сверху (доски были брошены кучей у стены дома) и на них — чемоданы, прижмем их тяжестью проволоку вниз и перелезем через нее. Пока мы шепотом совещались, по дороге, шедшей как раз за домом, медленно, почти беззвучно проехал джип. В нем сидели два солдата — два оранжевых огонька от папирос вспыхивали и гасли — солдаты курили. Мы затаились в тени дома. Была лунная летняя ночь, тихая, ароматная, со стрекотом сверчков. Мы слышали в ночной тиши, как джип доехал до перекрестка со следующей проезжей дорогой и, повернув обратно, опять проехал мимо нас. Это был патруль, охраняющий зады нашего дома, чтоб отрезать возможность нашего бегства. Теперь, когда я пишу об этом, мне пришло в голову, что американцы даже подумать не могли, что мы пешком, без вещей, темной ночью — сбежим. Они, конечно, охраняли дом от американцев, которые могли прийти нам на помощь, приехав на автомобиле за нами и нашими вещами, чтоб вывести нас всех в безопасное место. Поэтому наш дом охраняли — военные. Но они, с их американской психологией, не знали, что мы не держимся за вещи — а только за жизнь и то не «любой» ценой. И не знали, они, что у нас среди американцев не было друзей (или беззаветно любящих нас), что никто не рискнет протянуть нам: руку помощи, напрасно они потревожили солдата М.Р. и двух солдат на джипе — ни один американец не приехал нас спасать. Мы решили ждать, когда он снова вернется, чтоб определить, сколько у нас времени для перелезания через забор. Много раз проезжал джип мимо нас, а мы все ждали. От проезда до проезда у нас было приблизительно десять минут. Значит, мы могли в два приема перелезть, перетянуть чемоданы и затаиться в тени деревьев, а потом уже бежать — от тени к тени. Хорошо, что ночь была такая лунная, голубая, тени от кустов и деревьев были особенно темными, глубокими. План был перелезть через колючее заграждение, выбраться, перебежав дорогу, по которой курсировал джип, на поляну напротив (на ней были кусты — темные, с темными тенями на серебристо-голубой траве) к маленькой дорожке в тени деревьев, ведущей через мостик над притоком реки Заале к большому тракту, ведущему на север. Придется пройти через деревню, дома которой тесно обрамляли тракт. Деревня была длинной, и мы могли только рассчитывать на счастье и на ноченьку, и на то, что джип с патрулем не поедет вдруг на север и не нагонит нас, пока мы идем вдоль деревни. За деревней начинался лес, и там должен был ждать нас папа. И где-то там же, в лесу, залегло, ожидая нас, семейство Р. с Марасем в тачечке — они должны были пройти деревню до вечера (и до полицейского часа)… Мы вернулись к маме. Мама наш план одобрила — ей тоже захотелось попробовать бежать и спасти наши жизни. Мы решили взять по чемодану средней величины, каждый — со всем самым ценным, бросив, конечно, все наше имущество. Решили выходить из дома после двенадцати часов ночи, когда ослабнет внимание наших стражников, оставив свет только в коридоре и потушив свет в комнатах, как будто мы легли спать. Чемоданы мы собрали быстро: брали очень мало — нужно было уходить налегке. Мы взяли немного летней одежды, самые ценные фотографии, документы, драгоценностей у нас не было, несколько маминых ценных украшений, денег у нас было — сущие пустяки. Наша с сестрой заработная плата уходила на жизнь семьи. Мы, сложив все, стали тихо ждать полуночи. К полночи мы с сестрой опять неслышно спустились к задней двери и выкатили наши два велосипеда к проволочному заграждению. Мы решили, что без велосипедов нам трудно будет тащить чемоданы, мы их повесим на руль. В городе, в тиши лунной ночи, часы на церковной колокольне пробили полночь, — один удар, и все опять замерло. Мы стали готовиться к бегству. Одели осенние пальто, потушили свет во всех комнатах, оставив лишь свет в коридоре, он ночью всегда горел, взяли чемоданы и тихо стали спускаться по лестнице к задней двери. Разговаривали шепотом. Мама сказала, что если нас поймают, у нее с собою в кармане цианистый калий. Задняя дверь опять не скрипнула, тихо открылась, и мы вышли наружу и остановились перед проволочным заграждением. Решили класть чемоданы на доски, как только джип с американским патрулем проедет мимо, и переползти через колючее заграждение в промежуток времени, пока он не вернется. Было очень страшно, но мы действовали почти спокойно, с методическим расчетом, об эмоциях перестали думать: выйдя из дома, мы вступили в другую фазу жизни, мы стали бороться за жизнь. По дороге, чуть ниже проволочного заграждения, медленно проехал джип, очень тихо, чуть позванивая металлом на выбоинах дороги. Два оранжевых огонька от папирос все так же загорались и сразу гасли. Джип проехал мимо дома — мы стояли в глубокой тени его, луна светила на фасад дома. Как только джип повернул и исчез в аллее, мы быстро и бесшумно положили доску и чемоданы на проволочное заграждение, прижав его вниз довольно сильно. Сестра перелезла первая, я передала ей велосипеды, боясь проколоть шины о колючую проволоку. Все обошлось благополучно. Помогли маме перелезть, и последней перебралась я, сильно исцарапав ноги о колючки. Сняли чемоданы, тихо сдвинули доску на землю, и упругие кольца колючей проволоки выпрямились и снова выглядели непролазными. Мы сидели в тени кустов (какое счастье, что луна была яркая, а тени — черные) и ждали, когда джип опять поедет мимо, боялись только, чтоб не блестели никелированные части велосипеда сестры, «мой» был весь покрашен защитной краской, это был велосипед нашего бюро. Мы высматривали на поляне по ту сторону дороги кусты погуще, тени поглубже — мы будем перебегать от куста к кусту, пока не скроемся в лесочке, в который ведет полевая дорожка с деревянным мостиком через речку, всю обросшую кустами и деревьями. Мы ждали… На освещенную луною, почти белую, полянку выскочил зайчик с большими темными ушками. Он посидел, слегка попрыгал, опять посидел, потом, услышав звук мотора приближающегося джипа, сделал большой прыжок и исчез в тени куста. Счастливый вольный зайчик! Джип опять медленно проехал мимо, и через некоторое время звук мотора затих, и мы очень тихо и быстро спустились к дороге, пересекли ее и, бесшумно ведя велосипеды с чемоданами на руле, побежали через поляну к лесу — и ушли в тень. «Перейдем речку в брод», — прошептала я. «Нет, через мост — быстрее и безопаснее, — прошептала сестра, — а там до тракта — рукой подать». «Как мы пройдем через деревню — она такая длинная?» — мама. «Все в деревне спят — никто нас не увидит. А если будет погоня, мы издали услышим звук мотора и спрячемся», — опять успокоила сестра. Мы перешли поспешно через мостик — он даже не скрипнул, и оказались на дороге, ведущей к тракту. Вся дорога была в тени деревьев. Я мысленно благословила немцев за то, что они обсаживают свои дороги и дорожки деревьями — для прохлады, и фруктовыми деревьями — для плодов. Звука джипа, стерегущего наш дом, отсюда было уже не слышно. Мы подошли к тракту, чуть перевели дыхание, послушали — совершенная ночная тишина, только тихонечко цикады стрекочут… Решили, что пора выходить на тракт. Я не умела молиться и даже не умела креститься, но всей душою замерла, передала нашу жизнь и судьбу — добрым силам небесным…. Мы выкатили велосипеды с чемоданами на тракт и быстрыми шагами пошли по дороге вдоль деревни. Перед нами с двух сторон были дома, заборы, ворота, опять дома, амбары — все впритык друг к другу, как одна сплошная стена, не спрячешься, если услышишь даже издали шум мотора. Мы поняли, что наше спасение в том, чтоб как можно скорее пройти деревню, но не бежать, а идти тихо, чтоб не привлекать ничьего внимания в домах. Не успели мы пройти маленькое расстояние вдоль деревни, как в одном из дворов сердито залаяла собака. Ей сразу ответила другая, третья, и вскоре во всех дворах, заливаясь, лаяли сторожевые псы. Мы быстро, почти задыхаясь, но не переходя на бег, шли по деревне, которая вся гудела от собачьего лая, слышного в ночной тишине на несколько километров вокруг. Ясно, происходило что-то необычайное в этой деревне. Казалось, что деревня бесконечна. За собачьим лаем не слышно было, гудят ли моторы джипов, нет ли за нами погони. Проходя последние несколько домов, мы перешли на бег. Каменный мост в конце деревни, тракт круто поворачивает на север. Справа был перелесок, переходивший в густой лес. Здесь, как было условлено, нас должен был ждать папа. Мы вошли, вернее вбежали в перелесок, подальше от дороги и, положив велосипеды на землю, стали слушать. Тишина, запах леса, сырой земли. Деревенские собаки утихли, то там, то сям еще несколько раз залает собака, но не сердито, а для острастки, и сразу замолкает. И опять наступает ночная тишина. Мама стала звать тихонечко: «Ванюся, Ванюся». Потом погромче. Нет ответа. Только сейчас пришла в голову мысль, а вдруг папа не пришел, не понял, не дождался нас или ждет нас в другом месте. Сердце опять опустилось в ужасе, что же делать, если папу не встретим? А мама все зовет: «Ванюся…» И вдруг мы услышали папин голос, такой странный, как плач: «Ну что же вы так долго? Я хотел уже идти обратно домой — за вами…» — «Что ты, как можно — там же полиция!» — «Мне было все равно — я хотел быть с вами». Слава Богу, мы опять все вместе и далеко от дома. Шепотом стали совещаться, что нам делать дальше. Мы еще раньше решили, что будем уходить из города не на юг, на Вюрцбург, как шли все беженцы, а на север, по направлению к советской оккупационной зоне, по дороге, которая вела в огромный пересылочный лагерь для репатриирующихся в Советский Союз. По этому направлению нас никто искать не будет: всякому ясно, что мы будем уходить подальше от лагеря, от советской границы, а мы как раз будем приближаться к опасным местам, уверенные, что нас не найдут… Решили, что пора подниматься и идти под покровом ночи. Мы будем идти ночью, а днем — прятаться в лесу и отдыхать. Ночью хорошо слышен шум моторов, можно заранее прыгнуть с дороги в лес и затаиться, пока проедет автомобиль. Папа, когда слегка пришел в себя после встречи с нами, спросил: «Рукопись мою взяли?» Нет, мы рукопись не взяли, даже не подумали тогда об этом… «А паспорт мой взяли? Он на столе лежал, приготовленный». Нет, не взяли — и об этом не подумали… Мы не думали о дальнейшей жизни, мы думали только о том, как избежать смерти… Папа очень глубоко огорчился, но ничего не сказал, не упрекнул нас, только прошептал: «Как же ты так, Раенька», — и все… Когда первый ужас бегства поутих, мне показалось странным, что мы взяли с собою только летние платья и почему-то мамин горностаевый палантин — и все. Больше мы ни о чем думать не могли. Больше я никогда к потерянному имуществу мыслями не возвращалась: все материальные связи с прошедшей жизнью оборвались. Мы начинали нашу дальнейшую жизнь бездомными бедняками, но мы сохранили нашу жизнь — и это самое большое богатство. Стали собираться, поднимать велосипеды, чтобы выходить на тракт и идти на север, до рассвета. В это время мы услышали легкий скрип колес о гальку дороги и тихие голоса. Мы в страхе замерли, боясь шелохнуться. И вдруг такой знакомый голос: «Иван Алексеевич, где вы?» Господи, Рыбовы! Они до наступления темноты ушли из города и ждали нас до глубокой ночи в лесу, спрятавшись, тихо выжидая, затаившись, пока мы появимся. Оказалось, совсем близко от места, где спрятался папа. Радость была обоюдной, искренней и очень большой. Теперь будем двигаться вместе! И будет не так страшно. Марасик мирно спал в своей скрипучей колясочке. Р. рассказал, что по-нашему знаку в прошедший вечер все русские друзья и знакомые (и русские — незнакомые), Дубягины в том числе, снялись с места и ушли, но все стремились, конечно, как и весь поток беженцев, — на юг — через разбомбленный Вюрцбург — в Мюнхен. Мы, успокоившись после радости встречи, вышли на тракт и стали двигаться на север, повесив на наши велосипеды легкий багаж Р-х. Я больше не вернусь к этой тяжкой ночи бегства и людям, участвовавшим в нашей травле и желании выдать нас в Советский Союз на расправу. Мы так и не узнали, в чем нас обвиняли, какие «страшные преступления» мы совершили. Ни один из американцев, с которыми мы работали, встречались и были дружны (Майк), никогда прямо и честно не сказал, о каких «тайнах» они «узнали». И не дали нам возможности опровергнуть клевету M.G., Отряхина и оправдаться, и объяснить, почему мы, русские, не хотим и не можем вернуться в Советский Союз — в страну их Союзника! Ни один американец не поинтересовался, что же происходит, и правда ли, что мы не возвращаемся домой не из-за страха наказания за какие-то, якобы содеянные преступления против этого «дома». Ни один! Через несколько лет сестра написала Майку в Америку о том, что мы живы — живем в Германии, и получила ответ с описанием утра после нашего бегства. Когда за нами приехали грузовик и военная охрана — и нас не обнаружили, все были очень озадачены. Нас искали по всему дому, от чердака до подвала. Ночная охрана утверждала, что мы не выходили из дома. Тогда стали делать обыск офицерских квартир, предполагая, что мы скрываемся на территории американского района. В это время рыскавший по городу Отряхин, намеревавшийся арестовать всех намеченных русских жителей города, видел лишь пустые квартиры, и все немецкие хозяйки разводили руками: «Жильцы исчезли — мы не знаем когда и куда…» Единственный «улов» Германа Отряхина был несчастный немец из квартиры при тюрьме со своей семьей. Они одни ехали в Советский Союз в пустом грузовике… Нас, по описанию Майка, искали не только на территории американского городка, но и на джипах по всем дорогам, трактам и проселочным дорожкам, по которым мог передвигаться джип. Конечно, нас искали по дорогам, идущим на юг. Искали много дней, пока наш маленький генерал не отдал приказа прекратить поиски, прекратить разговоры о нас — и заняться делами: союзники в лице Германа Отряхина явно увидели, что мы (вчетвером) не запрятались у американцев, а просто — исчезли… Искать нас было теперь — бесполезно… Думаю, что пока Отряхин был жив, он нас вспоминал с ненавистью. Готовил нам и всем русским, жившим в городе, гибель, но приготовил гибель себе: когда после неудачной эпопеи с «репатриацией» он сам приехал на территорию, занятую советскими войсками, его даже не отправили в Советский Союз, а судили на месте и расстреляли. О расстреле Отряхина советскими войсками написал Майк в своем письме сестре. Может быть, стала известна его деятельность в лагере остовцев, где он был немецким начальством и его очень невзлюбили. И красная звезда на фуражке не помогла, а только сгубила его… Моя храбрая сестра с мужем своим поехала перед отъездом в США (мы с папой и мамой втроем уехали на полгода раньше; если б я знала о решении сестры ехать в Б.-Н. — я бы отсоветовала) в город Бад-Нейштадт, неизвестно зачем, очевидно, посмотреть, не осталось ли чего-нибудь из нашего имущества. Американцев в городе уже не было. Наша квартира была пустой, там никто не жил. Сестра нашла семью директора школы в надежде, что им вернули их и, может, наши вещи. Но они нам рассказали, что все вещи — их и наши — американцы конфисковали. Только один предмет, напоминавший нашу жизнь и службу у американцев, был обнаружен сестрой. Это был ее черный автомобиль, который Рябчик и она так упорно (и весело) собирали из разных брошенных частей на автосвалке. Он стоял, не такой блестящий, во дворе дома, в котором жили нацистская секретарша Карлова и ее партийный муж — нацист. И, наверное, они ели свой немецкий капустный суп серебряными петербуржскими ложками, принадлежавшими семье русского профессора, которую они почти сгубили.
НА ДОРОГАХ ГЕРМАНИИ
Мы шли по тракту на север, скрипела коляска Марасика — единственный звук в тиши ночи. Луна куда-то закатилась, сделалась много темнее, но полотно дороги было хорошо видно, и к нему, справа, отделенный дорожной канавкой, плотно прилегал черный лес. Мы шли и, вытянув шеи, прислушивались. За первую ночь только два раза по тракту проехали американские автомобили. И каждый раз, заслышав издали приближающийся шум мотора, мы прятались в лесу: мы с сестрой волокли через придорожную канаву и в лес велосипеды, Р. и родители тащили коляску Марася, Софи со вздохами и стоном несла два чемодана, которые ехали на коляске, оставляя Марасику лишь маленький кусочек неба для обозрения, когда он открывал глазки и выглядывал из глубины своего возка. Так мы шли всю ночь, пока на горизонте не появилась оранжевая полоска, она ширилась, и все небо стало светлеть. Потянуло утренней прохладой, начало быстро светать, мы выбрали в лесу, довольно далеко от тракта, полянку, расположенную на холмике, и решили здесь провести первый день нашего бегства до следующей ночи. Р-ы поделились с нами хлебом и беконом — мы с собой ничего не взяли, а под матрасом Марася было положено много пакетов с припасами. Под утро первой ночи пути, когда мы решили просидеть (и проспать) день до следующего вечера, было очень холодно. Мы устали, продрогли. Мама на краю полянки нашла большую сухую навозную кучу — она была очень теплой внутри, мы ее разгребли, залегли в прелое тепло, засыпали себя сверху и с боков — и, отогревшись, заснули тревожным сном. Мне все снились огромные фигуры пограничников с собаками — выше леса, они плыли по нему к нам, закрывая собою свет неба. Папа был довольно спокойным и старался нас успокоить: «Ну кому придет в голову нас искать в лесу, особенно в этом направлении?» А мы с сестрой, проведя последние недели в нервном напряжении, всего боялись и были уверены, что Отряхин и Карлов не успокоятся и будут нас искать. А если поймают, то уж не выпустят: Отряхин уже нашел теперь папин паспорт на его столе и поймет, что он расставил сети для малой птицы и упустил папу — дичь крупную, за которую ему дали бы если и не награду, то уж, верно, простили бы его «грехи». В порыве мстительного чувства к сестре, объединившись с Рудом и Карловым, почти арестовав нас, он не ведал, что почти арестовал ленинградского профессора, доктора экономических наук. И как же он будет теперь за нами охотиться! Пока мы с сестрой забылись беспокойным сном, мама и Софи сидели на травке, тихо разговаривая, играя с Марасем, который, очень довольный, гулькал в своей колясочке. Папа и Г., которых никто в лицо не знал и не искал, спустились с лесных холмов к дороге, чтоб посмотреть, что там делается. Ничего необычного они не заметили: на юг по дороге, как уже многие недели, двигались немецкие беженцы. С ручными повозочками, нагруженными чемоданами, мешками и почти всегда, увенчанные детскими фигурками с белобрысыми головками. Шли женщины, старые мужчины и старушки, держась рукой за повозочки. Катили детские колясочки, нагруженные вещами — целые горы вещей; шли молодые люди с велосипедами, увешанными чемоданами. В том же направлении, на юг, шли немецкие солдаты с мешками за плечами, с палками в руках, шли как русские паломники на картинах наших «передвижников» — запыленные, усталые (только у наших «передвижников» почему-то всегда все паломники в лаптях и зипунах с заплатами на одежде, многими заплатами — «передвижники» любили и умели изображать заплаты с большой реалистической ловкостью). Немецкие солдаты возвращались домой, шли к своим семьям или шли искать своих родных, разбросанных войною по всей стране. По другой стороне дороги — на север — шли только местные жители, шли крестьяне на близлежащие поля. На более отдаленные ехали на громыхающих телегах. При взгляде на дорогу создавалось впечатление, что вся Германия двинулась на юг, увозя и унося с собою все, что можно было захватить в руках и на тележках. Взад и вперед по дороге ездили американские машины и грузовики. И опять видна была как бы судьба людей: на юг шли немцы пешком, на север ехали американские грузовики, разукрашенные красными флагами, бумажными цветами и по бортам — красными полотнищами с белыми буквами лозунгов. Это возвращались на любимую Родину «дочери и сыны», увезенные «фашистскими захватчиками» в неволю. Их везли американцы в своих огромных грузовиках, сначала в пересылочный — репатриационный лагерь, один из самых крупных репатриационных лагерей на юге Германии, где происходили первые, предварительные допросы привезенных. Американцы, сдав свой живой груз начальству лагеря, «умывали руки» — дальше жизнью и судьбою бывших остовцев уже занимались только советчики. И занимались кровожадно, жестоко, сокрушая жизни, калеча уже и так покалеченные войною судьбы. Папа и Р., сходив в соседнюю деревню, купили молока и хлеба и вернулись к нам в лес. Как вкусно есть свежий хлеб и запивать его свежим молоком! Какой счастливый покой… У Марася в коляске были чашки и ложки! До вечера, до сумерек, было еще несколько часов. Сестра занялась рассматриванием и изучением наших «новых» (фальшивых) документов. На документах мы сохранили имена, фамилии, даты рождений, изменили лишь место рождений, мы все теперь родились в Вильно, в Польше, а следовательно, не подлежали выдаче репатриационным советским войскам, мы были этим документом защищены со вчерашнего дня, когда русский механик вложил мне в руки наши новые удостоверения личности. Сестра долго знакомилась со своим, задумчиво держала его в руках, потом заметила: «Я всю жизнь хотела быть младшей сестрой. Почему бы мне теперь не сделаться младшей? Раз уж у меня новое место рождения, пусть будет новой и дата рождения!» И стала тереть и скрести свой «паспорт». Потом очень долго вписывала новую дату чернильным карандашом. Кончив, повернулась ко мне победоносно: «Теперь, наконец, я младшая сестра — и никто никогда не осмелится сказать обратное — у меня доказательство в руках.» Засмеявшись, очень довольная собою, залезла под куст отдохнуть. Мама сложила все документы в свою сумку, и мы стали ждать темноты. Какой хороший мальчик Марась — совсем не плачет, как будто знает, что плачем можно всех нас загубить. Софи развесила на кустах белые пеленки, закатила колясочку в кусты и сама заснула около нее. Посмотреть на нас — как будто мы из города приехали на пикник. С наступлением темноты мы двинулись к дороге. У дороги постояли, послушали. Ночью, в тишине — слышно далеко. Выкатили наш «транспорт» и пошли на север. Лес с правой стороны все также спасительно подступал к дороге. Придорожная канавка почти отсутствовала — и сразу начинался очень густой и колючий кустарник, плотный и упругий. Но он давал при тревоге быстрое и надежное укрытие — только колясочку нужно было поднимать и переносить через первый ряд кустов. С левой стороны дороги были поля, выгоны и, кучками, деревеньки. Мы опять шли всю ночь до рассвета и опять только два раза прятались от проезжающих автомобилей, больше никаких помех не было. С рассветом мы опять ушли от дороги глубоко в лес, облюбовали полянку и проспали часть дня. Папа, Р. ходили в ближайшую большую деревню на разведку и в поисках хлеба и молока. Они вернулись с хлебом, бутылкой молока и сообщением, что в деревне есть эвакопункт для немецких беженцев, где можно переночевать на нарах с матрасом, набитым соломой, и всем беженцам дают горячий суп с хлебом. Как хорошо было бы поесть горячего. Мы решили, как начнет темнеть, отправиться в эвакопункт и провести там целый день: у сестры поднялась высокая температура и я расхворалась тоже. Да и всем нам нужен был хоть один день спокойного отдыха и сна. 22-го июля, день моего рождения, я пролежала на нарах второго этажа с болью в боку и тоской в сердце — какой ужасный день рождения! Сестра на нижних нарах — подо мною — с температурой, которая к вечеру спала, и за ночь она отдохнула, выспалась и готова была двигаться дальше. Пробыв в бараке с нарами два дня, к вечеру второго дня мы опять вышли на тракт и отправились на север. Но через день пути мы решили изменить наше расписание: мы решили идти днем, стараясь передвигаться по проселочным дорогам, идущим приблизительно параллельно с трактом. А ночью — снимать в избе помещение (или часть сеновала), покупать в деревне еду и отсыпаться. Пройдя первую часть нашего первого дневного пути по проселочной дороге, обсаженной фруктовыми деревьями, идущей параллельно тракту, во время отдыха в лесу (Марасика нужно было кормить, мама устала, Софи стерла ногу, и мы должны были найти подорожник, привязать его к ее ноге) мы с сестрой решили подойти к тракту и самим посмотреть, что там делается. Вышли на горку, идущую вдоль тракта, с нее было видно далеко — в обе стороны. Только что мы начали обозревать тракт, как увидели джип совсем близко, в котором ехали два американца, которых мы немного знали… Что они здесь делают? Американцы нас увидели и притормозили. Не знаю, узнали ли они нас. Но чтоб они не успели нас узнать, я решила начать сильно хромать. Так мы прошли несколько метров — обе согнувшись, как две горбуньи, а я, припадая и хромая, как будто у меня всего одна нога (глупее ничего не придумаешь!), все, кто шел по дороге, на нас, двух калек (сестра тоже захромала), воззрились. А мы захромали к лесу, не видному с дороги. Как только мы скрылись за горкой, мы опрометью бросились бежать в лес. Если б американцы и вышли из джипа и отправились нас искать, то пока они взошли бы на горку — нас уже и след простыл, и найти нас в лесу было бы немыслимо. Мы мчались по лесу, продираясь через кустарник, пересекая полянки, перескакивая через канавки, через стволы лежащих полусгнивших деревьев, пока не добежали до привала и не перепугали всех. Папа решил сниматься с места немедленно. И мы шли до сумерек по лесу, не выходя даже на проселочные дорога. Мы катили велосипеды с багажом, тащили через ямки, канавки и через заросли — и были все испуганы и удручены. Ночевать решили в лесу, подойдя к милой опушке. Опять мы нашли на опушке большую кучу навоза, смешанного с соломой и уже перегоревшего, очень теплого. Мы все залезли под пласты навоза, кроме Марасика, он спал в тепле в повозке. В холодную ночь под пластами навоза было очень тепло, мы пытались спать, согревшись. Опять в тишине ночи мне снились кошмары: я со стоном просыпалась, а мама рядом успокаивала: «Ш-ш-ш, спи-спи — никого нету…» Ужасная ночь! Утром, когда взошло солнышко, страхи прошли. Папа и Р. пошли опять на разведку. Судя по маленькой карте, которую прихватил с собою из дома Р., мы были совсем рядом с советским пересылочным лагерем. Где-то рядом с лагерем должна быть граница, отделяющая зону влияния «нашей армии», в которой мы так неудачно служили переводчиками, со следующей американской зоной — с другими начальниками. И мы должны ее пересечь, чтоб оказаться вне опасности преследования. Долго не возвращались папа и Р. Когда же они появились, оба были очень возбужденными и полными энергии. Папа сказал, что наступает «самый решительный момент нашего бегства» (а я думала, что «самый решительный» был в самом начале бегства, когда мы ночью уходили из нашей квартиры, которую стерегли американцы). Папа рассказывал, что деревня большая, как большое село, на улицах — движение, много американских машин и грузовиков, и по улицам ходят отдельные группы (и поодиночке) остовцев. Рядом с селом — огромный пересылочный лагерь для возвращающихся «на Родину». Сюда свозят в грузовиках из разных районов Германии русских людей. Здесь происходят первые допросы советчиками, «по горячим следам». (Немцы села, расположенного рядом с лагерем, рассказывали нам о положении в репатриационном лагере и о трагедиях, там разыгрывающихся.) Отношение ко всем — одно: это враги, работавшие на немцев, против своих, и ваше дело суметь доказать, что вы не враги, а жертвы. И все стараются, Господи, как стараются, любыми средствами. (И Отряхин тоже старался доказать — обелить себя.) Из лагеря почти не выпускают, он оцеплен колючей проволокой, знакомой нам, и в воротах стоит круглые сутки американская и советская охрана. Охрана вооружена. Получить пропуск на выход из лагеря трудно. Если кто попросит, сразу его начинают подозревать — уж не бежать ли собрался? Знакомая атмосфера подозрения. Выход из лагеря один — под охраной — в Советский Союз. Для расследования, наказания и ссылки или казни (или жизни с клеймом). Мы, после недельного нашего бегства из Бад-Нейштадта, добрались до самого страшного лагеря! Один неправильный шаг — и мы приговорены. И все-таки это был хоть и опасный, но правильный расчет. Конечно, американцам в голову не могло прийти, что мы, убегая от выдачи в Советский Союз, будем бежать именно в сторону советского лагеря. Но этот шаг был опасен — по-иному. Папа и Р. сняли для нас комнату в немецком домике, в боковой улочке деревни, недалеко от главного тракта. Нас там обещали накормить, мы там спокойно переночуем, а утром хозяин дома обещал нас подвести к «границе», к месту через которое легко перебраться. В этом месте, как сказал словоохотливый немец, остовцы убегают. Почему мы не подумали — что это-то и есть опасность. Сначала убегают из лагеря, а ночью — через границу. Граница проходит через лес, не очень густой, расположенный в ложбинке между двух сел. Наша цель — пересечь лес, выйти через границу в село, расположенное на следующем всхолмье. К вечеру, когда движение на тракте поутихло, мы перебрались в избу нашего нового покровителя (папа и Р. заранее столковались о цене за его услуги) и осели там до утра следующего дня. Нас хорошо покормили в очень душной комнате под гул многочисленных мух. Я никогда не видела в Германии такого количества больших зеленоватых мух, сосредоточенных в одном месте. Они гудели, как мессершмитты, но хозяин, видя мое очень обеспокоенное лицо, поспешил заверить нас: «Ночью мухи спят, до рассвета не мешают». Мы, и правда, проспали в жаркой избе до рассвета, как убитые. Утром нам дали хлеба и молока, вдоволь. Когда взошло солнце и стояло уже высоко в небе, хозяин пошел на разведку, он вскоре вернулся, махнул рукой — и мы двинулись. Немецкий хозяин — впереди, на некотором расстоянии от нас. Мы — за ним, с коляской и велосипедами. Вступили в лес, чистый, весь напоенный утренними запахами свежей листвы, весь в трепещущих солнечных зайчиках и светлых острых лучах. Мирный тихий лес, спускающийся под горку, в ложбинку. Пересекли ложбинку с маленьким ручейком, который поблескивал между плоскими камушками. И начали по тропинке подниматься от ложбины вверх. Наш проводник через некоторое время остановился, поджидая, когда мы дойдем до него. Когда мы подошли к месту, где он стоял, то увидели между деревьями, совсем близко от нас — дома, отделенные от леса, в котором мы находились, проселочной дорогой. Тропинка, по которой мы шли, выходила на эту дорогу. И у самой дороги, на кочке, как раз при выходе тропинки на дорогу, держа в двух руках винтовку, склонив голову в пилотке нагрудь, спал американец. Американский военный полицейский, охраняющий границу. Немец сказал: «Теперь идите мимо американца на дорогу, только тихо — не разбудите его». Каково? С тележкой Марася, велосипедами и всей нашей группой! Немец пожелал нам успеха и вернулся по тропинке — в лес. От греха подальше. Мы же, подумав, решили рискнуть: положение было безвыходное. В раскрытом окне дома, расположенного как раз напротив тропинки, появилась фигура мужчины. Он молча смотрел на нас, на спящего американца. Сделай он резкое движение, вскрикни — американец проснется, и мы пропали. Но человек в окне смотрел на происходящее безмолвно и не двигался, как завороженный. Мы потянулись цепочкой мимо спящего американца, в шаге от него. Сначала — мы с велосипедами, за нами — Марась, тоже спящий в своей колясочке, его катил Р., за ним — мама, Софи и замыкал цепочку — папа. И чудо из чудес — солдат не проснулся: его так разморило на утреннем солнце, что он ничего не услышал. Мы вышли на дорогу, и человек в окне оживился, показал нам рукой — в какую сторону идти. Мы ему признательно помахали рукой и пошли в указанном направлении, опасливо озираясь на спящего солдата. Немец в окне правильно указал нам путь: дорога вывела нас из деревни и, не встретив никого, мы ушли далеко, далеко от границы, и через несколько часов ходьбы мы почувствовали себя в безопасности и очень усталыми и решили войти в редкий лесок с кустарниками, отдохнуть, поспать и поизучать карту. Какое упоительное душевное успокоение. Мы вне опасности. Здесь нас никто искать не будет. Мы взобрались на горку среди леса — горка вся поросла малиновыми кустами. И на каждой ветке висели свежие сочные душистые ягоды. Мы ели малину, дышали каким-то особенно свежим воздухом, улыбались и не могли надышаться им, напоенным теплом и ароматом малины. Потом, наевшись, мы легли под кусты и заснули спокойным глубоким сном. С наступлением вечерней прозрачной тишины мы, проснувшись и посоветовавшись друг с другом, решили идти на север, на Фульду, по дороге: если нам не встретится деревня, где можно будет остановиться и переночевать, то провести ночь под открытым небом, благо было очень тепло и земля — прогретая, летняя — ложись и спи до утра. Весело переговариваясь, наш табор потянулся по дороге на север, не спеша и не таясь, не прислушиваясь больше к шуму автомобилей. Когда мы услышали звук мотора приближающегося грузовика, он нас нисколько не испугал, мы только сошли с пыльной проселочной дороги, чтоб дать грузовику проехать мимо. Грузовик быстро приближался. В нем, стоя с винтовками в руках, ехали полдюжины американских солдат. Мы ждали, чтобы грузовик проехал, но поравнявшись с нами, грузовик стал тормозить, остановился, и солдаты выскочили из кузова и бегом отправились к нашей группе, не выпуская из рук своего оружия, окружили нас, очень невежливо и подозрительно рассматривая нас, и особенно подозрительно и неприязненно они смотрели на Р. Спросили: «SS?» Мы даже не поняли сначала, что они могли подумать, что — мы «SS». Солдаты продолжали упорно смотреть на Р-а, на папу и потребовали документы. Р., криво улыбаясь, подхалимски кланяясь, полез за пазуху за документами. Лучше бы держался сдержанно и скромно: его улыбки, похохатывание и ужимки выглядели подозрительно — он сразу начинал выглядеть плутом. Американцы поглядели на толстую пачку его бумаг, что-то им не понравилось и они потребовали наши документы. Мама вынула из сумочки наши «липовые» бумаги. И они американцев тоже не успокоили. Они спросили нас, откуда мы идем, и, когда услышали, что из районов, занятых советскими войсками, то еще больше прониклись подозрением: они видели, что мы мнемся испуганно и что-то скрываем. «Поехали — там разберемся», — заявили они и стали без церемоний закидывать наши вещи в грузовик. Вслед за нами солдаты втащили коляску Марася, велосипеды и подсадили нас, велев нам всем сесть на дно грузовика. По четырем углам сели американцы с винтовками наперевес; двое стояли, держась за верх кабины, изредка оглядываясь на нас. Мотор заревел, и мы поехали. Нас арестовали! Папа прошептал: «На черта нам нужна была малина и отдых, надо было уходить как можно дальше!» Р. рылся в карманах, извлекал какие-то бумаги, оглядываясь по сторонам, рвал их на мелкие кусочки, зажимал в кулаке, опускал руку за борт грузовика, разжимал кулак — и по воздуху, кружась, летели кусочки документов. И как только американская стража не увидела этих манипуляций Р. — непонятно. Папа тихо сказал Р.: «Перестаньте рвать документы, вы всех нас погубите!» Р. — в ответ: «Это что-о-о. У меня под матрасом Марася лежит пистолет! Если найдут — всем конец!» Папа только побледнел, ничего не смог сказать. Пистолет наверняка немецкий! И где он украл пистолет? Дело оборачивалось скверно. Нас везли по направлению к границе, которую мы днем пересекли. «Если перевезут через границу — все пропало», — бледными губами прошептал папа. Мы это и так знали! У самой границы (деревня, где спал у тропинки солдат) нас привезли к дому, перед которым стоила американская охрана. Мы все вылезли из грузовика — все вещи, кроме колясочки с Марасиком, остались в кузове. Нас повели в дом. Сопровождал, правда, нас только один солдат. Остальные — остались у грузовика. Провели нас в большую комнату, где за длинным столом сидели три американца-офицера. Самый старший, майор, с небольшой белокурой бородкой (так странно — американец с европейской бородкой), очень внимательно нас рассматривал, даже с удивлением. Офицеры по очереди задавали вопросы, но главным образом спрашивал майор с бородкой. Он попросил наши документы, разложил их перед собою на столе и спокойно задавал вопросы. (Два других офицера задавали вопросы с явным желанием нас поймать на том, что мы говорим неправду.) Майор спрашивает: «Откуда и куда вы идете?» Мы называем город на территории, оккупированной советскими войсками, объясняем, что мы русские, что мы уходим от коммунистов, чтоб быть в американской зоне. Бестактный Р. вмешивается в разговор и с ужасным акцентом и ужимками поясняет: «Kommunist — no good, America — good» и прищелкивает языком. Папа ему тихо: «Молчите, пусть дочери говорят». Один из офицеров: «Как долго вы идете? Пешком?» Мы: «Больше месяца. Пешком». Тот же офицер: «Если вы месяц в пути, пешком, почему же вы (смотрит на нас, усмехаясь) такие беленькие? Не загорели? А?» Мы старались объяснить, пугаясь: «Мы шли рано утром, вечером и ночью. Днем жарко». Майор спросил профессию папы. Спросил, где мы учились, какими языками владеем. Он был спокоен и учтив. Один из офицеров, самый неприятный из двух, с круглым, каким-то деревенским лицом, рассматривая наши документы, вдруг спросил: «А как это так получилось, что вы родились обе в один и тот же год, но с разницей десять дней?» Я ахнула в душе: это сестра, переправляя дату своего рождения, сделала ужасную ошибку. Спокойно я сказала: «Мы близнецы». Офицер: «С разницею в десять дней? Какой редкий случай!» Я проговорила упавшим голосом: «Да, это очень редкий случай!» Бедная мама! Папа спросил меня, что говорит офицер и почему он сердится. Я папе коротко все объяснила, и тогда папа громко ахнул: «Ну, пропали!» На это круглолицый офицер на чистом славянском языке сказал: «Ох, не добре, не добре!» Майор все это слушал молча, продолжал рассматривать нас. Потом встал, махнул нам рукою: «Идите ночевать в местную школу, там беженцы ночуют. Вас отвезут туда. А завтра за вами придут и приведут вас в мое бюро, и мы поговорим». И дал распоряжения солдатам, мы не слышали — какие. Нас опять погрузили в грузовик, но уже как-то посердечнее, и солдаты протянули нам плитки шоколада, какие-то галеты и сказали, что время ужина уже прошло и нам дадут кофе только завтра. И нас повезли в школу — очень короткое расстояние. Уже стемнело. В большом зле школы на полу лежали матрацы, набитые соломой, в ряд. На некоторых матрацах спали фигуры, накрытые с головой солдатскими серыми одеялами. Мы тоже легли, но сон к нам не шел, в томлении думали о том, что принесет нам следующий день. Сбежать мы не могли — и сил не было подняться на следующую авантюру, и документы остались у майора. Тихо переговариваясь, старались утешить друг друга. Папу было невозможно успокоить — он был уверен, что нас завтра арестуют и выдадут в руки Карлова. Его многонедельный покой, когда он не внимал нашим страхам и беспокойствам, заменился (опять завладев папиной душой всецело) трагическим страхом и чувством безнадежности. Мама тихо шептала: «Никто нас не арестует, и никто нас никуда не выдаст — с какой же стати? Если б у них было бы такое желание — не стали бы они давать нам шоколад!» Папа очень тяжко и глубоко вздыхал… Всю ночь мы промучались. Утром пошли с сестрой за здание школы и в ручье вымыли лица. Было ясное свежее утро, а у нас в душе ужас и сомнение. Мы не могли пить кофе, которые пили все ночующие беженцы. В тоске ждали, когда за нами придут, чтобы решить нашу судьбу… За нами, наконец, пришел солдат. Он позвал нас к майору, но сказал, что майор будет разговаривать сначала с нами, сестрой и мною, а потом — с родителями. И велел родителям ждать недалеко от его бюро, за громадным валуном у дороги и ни в коем случае не выходить на дорогу, — он за родителями пришлет солдата. Мы так и сделали, оставив родителей там, где было сказано майором, и пошли вслед за солдатом. Вот и здание, где нас ждал майор. Длинное одноэтажное здание. К нашему волнению прибавился ужас: наш потрясенный взор увидел черную блестящую машину Карлова, стоящую перед дверью здания. Солдат, оглянувшись, махнул нам рукой, чтоб мы не останавливались. И мы, как приговоренные, вошли в здание. По длинному коридору со множеством дверей мы шли, не встретив никого. За одной из этих дверей находился сейчас Карлов, за которой? Или он ждет нас в кабинете майора? Мы шли за солдатом — до самой последней двери коридора, расположенной по правую руку. Солдат постучал в дверь, открыл ее и впустил нас. За письменным столом сидел майор. Карлова не было. Только за маленьким столом, — секретарша, спокойная, деловая. Майор указал нам на стулья перед столом. Мы сели. Довольно приветливо улыбнувшись, он нам сказал: «А теперь расскажите всю правду». Своей неожиданной улыбкой он нас совершенно успокоил, и мы с откровенностью и доверием рассказали ему: кто мы, откуда, кто папа, как мы попали в Германию, что мы работали переводчицами в соседнем округе, что нас должны были выдать советчикам, что Карлов, который находится сейчас в этом здании, наш враг и охотится за нами. И даже про документы (они лежали перед ним) рассказали, что они фальшивые. Майор очень внимательно и благожелательно слушал нас и сказал, когда мы кончили: «Я так и думал, что вы неумело прячетесь, только не знал — от кого. Не бойтесь, Карлов сюда не войдет, а вы отсюда выйдете, только когда он уедет. Я пошлю солдата — посмотреть. А теперь я вам и вашим родителям дам официальный пропуск в один из северных городов, самый близкий к границе с британской зоной оккупации. Переходите в британскую зону. Без американского пропуска вы не можете путешествовать». И майор стал диктовать секретарше текст нашего спасения. А мы смотрели на него «молитвенными» глазами. Мы слушали текст пропуска, который он диктовал, и вдруг услышали, что нашу фамилию он произносит но буквам неправильно. Мы заволновались и осмелились его поправить. А он чуть усмехнулся и снова диктует — неправильно. Мы сообразили, что он нарочно чуть меняет нашу фамилию, чтоб нас спасти, чтоб нас не поймали… Господи, какой прелестный человек! Когда секретарша кончила печатать, он сказал, протягивая нам новые документы: «Теперь вам ваши старые больше не нужны, — и бросил их в мусорную корзинку, — они вам больше беды принесут, чем пользы!» И сказал прислать к нему родителей: «Я им такие же документы дам». Майор велел своему солдату, стоявшему у двери в коридоре (он охранял дверь, чтоб никто не вошел!), проверить, уехала ли черная машина, стоявшая перед входом в здание. Солдат вернулся: «Машина уехала». И с нею уехала наша беда. Майор очень приветливо пожал нам руки, слегка отмахнулся от слов нашей глубокой благодарности и сказал, чтоб мы через час с вещами пришли к валуну и ждали бы за ним, не выходя на дорогу (он обещал по нашей просьбе выписать пропуска и Р-ым и дать их в руки родителям). Майор сказал, что сам за нами придет и посадит в американский автобус с солдатами, отправляющийся на север. Все было сделано, как он велел. Мы всей нашей маленькой группой сидели на травке за валуном под спокойным синим безоблачным небом. Приехал автобус. С солдатами. Майор пришел за нами, и мы отправились к автобусу. Все наши вещи, включая коляску и велосипеды, солдаты привязали на крышу автобуса, а нас посадили в автобус. Майор тихим голосом, не приказывая, не покрикивая, отдавал распоряжения, солдаты оглядывались на нас и были, по-видимому, довольны развлечением и щелкали языками, глядя на Марася. Майор не отходил от автобуса, пока все устраивались. И стоял со стороны окон, у которых мы сидели. Он часто оглядывался по сторонам, словно следил, чтобы никто нежелательный не появлялся и не повлиял на ход событий. Наконец, двери автобуса закрылись, автобус дернулся, тряхнулся — и покатил. Майор улыбнулся нам, помахал рукою — и мы поехали на север. Папа, сидевший на сиденье за нами, прошептал: «Спас нас… век за него буду Бога молить… Благородный… человек…» На документах была его подпись — «майор Филипп Русси». Какой прелестный добрый человек! Я сейчас почти не помню его лица, но когда я вижу лицо сэра Алека Гиннесса в кинематографе, неизменно вспоминаю и думаю с благодарностью о «нашем майоре»… Я на лицо сэра Алека всегда смотрю с чувством, очень глубоким — неизменной преданности: и за его чертами всегда вижу другие, похожие черты, почти стертые временем…Иллюстрации
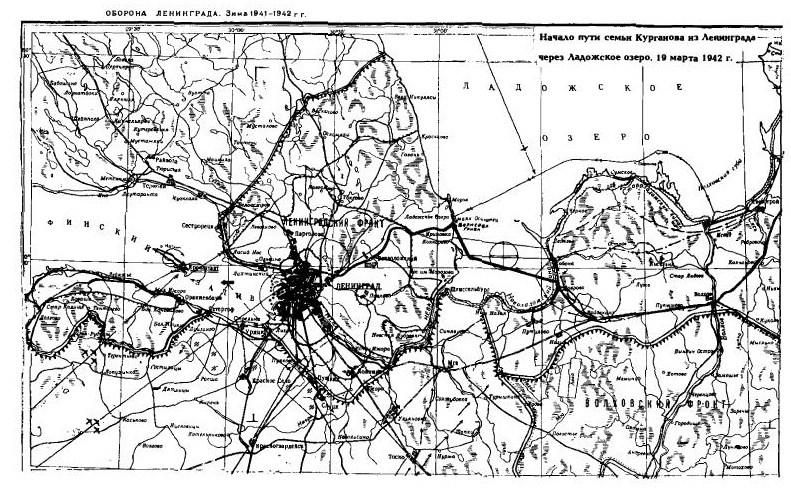


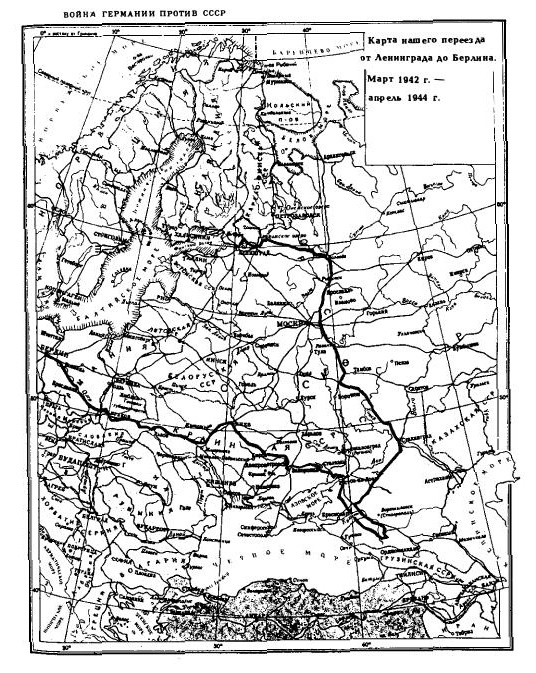






Последние комментарии
12 часов 44 минут назад
21 часов 36 минут назад
21 часов 39 минут назад
3 дней 4 часов назад
3 дней 8 часов назад
3 дней 10 часов назад