У ворот Северина [Ион Греча] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
У ворот Северина
Посвящаю памяти своего отца ЮЛИАНА ГРЕЧИ. Тридцать лет он был рабочим на судостроительных верфях города Турну-Северин.
1
В жаркий день лета 1944 года, около десяти утра, по бульвару, в тени старых каштанов, неторопливо прогуливалась девушка, лет семнадцати, тоненькая, довольно высокая, держа под мышкой книгу в голубой обертке. Выпускница гимназии Дана Георгиу двигалась грациозно, посматривая вокруг с легким кокетством. С наступлением каникул она сняла строгую и мрачную форму — черный сатин, белый воротничок — и надела легкое, простенькое платье из голубого полотна. Длинные светлые волосы, без обязательной школьной сеточки, были распущены по плечам, а на высокий чистый лоб падал неумело завитый локон. Брови, слегка изогнутые над синими глазами, Дана позволила себе немножко пощипать пинцетом, чтобы придать им более красивую форму, как у киноактрис. Смущала девушку только довольно убогая обувь, так как именно она мешала ей выглядеть настоящей домнишоарой — изысканной и элегантной барышней, способной покорить сердца курсантов офицерского авиаучилища. Парусиновые сандалеты на деревянной подошве, очень практичные, — единственное, что по тем временам было в продаже, — вносили некоторый диссонанс в облик девушки, которая, несмотря ни на что, хотела казаться неотразимой. Изредка Дана осторожно посматривала по сторонам, незаметно изучая прохожих. На первый взгляд могло показаться, что она проверяет, обратил ли на нее внимание кто-нибудь из мужчин, то есть ведет себя так, как любая женщина, когда хочет убедиться в том, что она нравится. На самом деле все обстояло иначе. Она прогуливалась по бульвару в ожидании связного, который должен был отвести ее к месту встречи с Валериу, секретарем Союза коммунистической молодежи города. Но никто не появлялся, и это беспокоило ее все больше и больше. «Что могло случиться? — спрашивала она себя со страхом, едва скрывая охватившую ее тревогу и чуть не в сотый раз поглядывая на ручные часики. — Может, Валериу арестован? Или связной заметил слежку? Встреча должна была состояться еще вчера, как всегда, в десять утра. Но никто не пришел. Нет никого и сегодня… А уже четверть одиннадцатого!..» За три месяца, прошедших с тех пор, как Дана вступила в местную организацию Союза коммунистической молодежи, ей еще ни разу не приходилось переживать таких томительных минут. Обычно она встречала связного в назначенном месте, в определенный час, получала задание, просто, естественно, а потому не только свыклась с подпольной работой, но даже напряжение, неизбежное в условиях конспирации, стала считать чем-то преходящим и несущественным. И вдруг привычный порядок был нарушен, все, казалось, погибло безвозвратно, она не знала, как поступить, что сделать, боялась ошибки, которая могла бы осложнить работу целой организации. Дана остановилась, раскрыла книгу, полистала, не зная, на что решиться, сунула ее опять под мышку и, по-прежнему встревоженная, еще раз прошлась по бульвару под каштанами, от здания театра до вокзала. Повернула назад, дойдя до перекрестка центральной аллеи с боковой, ведущей к порту, снова остановилась и внимательно огляделась, желая удостовериться в том, что за ней никто не следит. Но ни один из редких в этот час прохожих не обращал на нее внимания. Приземистый, толстый человек, в соломенной шляпе, с пиджаком, перекинутым через руку, шел не спеша, уткнув нос в газету. Он, видимо, был погружен в сенсационные новости газетных колонок, не замечал ничего вокруг и потому чуть не налетел на дерево. Две босоногие девчушки в цветастых, выгоревших платьицах с трудом тащили за ним корзину, полную огурцов и кукурузных початков. Они то и дело останавливались, измученные непосильной ношей, и отдыхали в тени каштанов; понурые и молчаливые, они не разговаривали друг с другом, словно не были знакомы. По противоположной стороне, вдоль разрушенных домов, еще дымившихся после бомбежки, торопливо шел немецкий солдат, долговязый, белобрысый, в рубашке защитного цвета с засученными рукавами и расстегнутым воротом, с рыжим кожаным ранцем за спиной; он спешил на вокзал, боясь, видимо, опоздать на поезд, и часто поглядывал на часы. Некоторое время Дана следила за ним, не упуская из виду и толстяка, читавшего газету, затем, убедившись, что никто ею не интересуется, двинулась вниз по широкой боковой аллее прекрасных могучих тополей. Ей хотелось где-нибудь присесть, передохнуть, успокоиться, чтобы потом вернуться на центральную аллею и оттуда пойти домой. Сделав несколько шагов, она увидела в глубине серого от пыли кустарника скамейку, старую, сплошь изрезанную и исписанную. Осторожно сев, чтобы не помять платья, она положила книгу рядом и, откинувшись на шаткую спинку, несколько минут смотрела на парк, раньше такой ухоженный и наполненный ароматом роз, а теперь запущенный и глухой, изрытый воронками, с выкопанными там и сям щелями, где люди укрывались во время воздушных налетов. Перед мысленным взором девушки вдруг ожила сцена ее первого свидания; оно состоялось на этом самом месте, может, даже на этой скамейке, во всяком случае, на первой от вокзала аллее. Три года назад, в начале лета, Санду, тоже гимназист, остановился здесь, в парке, по дороге в порт, куда он нес котелок с едой отцу, работавшему клепальщиком на судостроительной верфи, и дождался Дану, с которой заранее договорился о встрече; он передал ей записку — первое в ее жизни любовное послание. С каким трепетом развернула она записку! Как лихорадочно пробежала глазами строки, написанные четким, красивым почерком, в которых он искренне, но робко и неумело открывал ей свои чувства!.. «Как давно это было! — подумала Дана, грустно глядя на одичавший парк. — Как много событий произошло с тех пор!» Началась война, в домах стало тесно от солдат, расквартированных в городе, дворы забиты пушками, ящиками, пулеметами, минометами. Улицы запружены тяжелыми немецкими грузовиками. Дядя Александр, муж тети Эмилии, ушел на фронт, отца Санду, их соседа, арестовали по подозрению в том, что он коммунист, а самого Санду выгнали из гимназии. И даже ее отец, учитель гимназии, не мог ничего сделать, чтобы воспрепятствовать его исключению… Михай, брат Даны, отправленный в Германию, в военное училище, пропал на африканском фронте, в немецких частях. Для отца с матерью потянулась вереница мучительных дней и ночей, которые они проводили в ожидании весточки от единственного сына. Бедные родители! Весной город начала бомбить англо-американская авиация и превратила его в развалины… Страшные минуты! Страшные дни и ночи! А тетя Эмилия… Ах, тетя Эмилия, как много ей пришлось пережить! Дана спрятала лицо в ладони и замерла, думая о том, сколько горя обрушила война на ее семью. Словно злой, неумолимый рок выковал эту бесконечную цепь несчастий, и ей, в ее юные годы, которые она мечтала прожить полно и ярко, суждено, оказывается, нести груз печальных последствий этих событий, переживать превратности суровой жизни, в которую она погружалась, как в трясину. Неуверенность в завтрашнем дне, неопределенность будущего, опасности, которые подстерегали ее на каждом шагу… Что может случиться через час? А утром, на рассвете? Или через неделю, через две? Никто не мог дать внятного ответа, и все, казалось, находилось во власти случая, давящей неизвестности, которая таила в себе одни несчастья. И вот, пожалуйста, сверх всего, что ее мучило, еще и этот, новый страх: от него сжималось сердце, рождались черные мысли… «Почему не пришел связной? — спрашивала она себя, все так же лихорадочно ища ответа. — Может, всему виной то, что произошло недавно в школе? Да, конечно, дело именно в этом, — сказала она себе. — Поэтому меня сторонятся, не дают новых заданий. Хорошо, но почему же мне об этом не говорят? Почему никто из членов организации не подскажет, что делать, почему я вынуждена блуждать в потемках?». Три недели назад учениц гимназии «Принцесса Елена», которую посещала и Дана, по крайней мере, всех, кто проводил каникулы в городе, собрали в актовом зале мужской гимназии «Траян», не пострадавшей от бомбежек, чтобы они вместе с мальчиками прослушали лекцию начальника немецкой комендатуры. Подполковник Ганс фон Клаузинг должен был рассказать о великой Германии и о доктрине, которую она претворяла в жизнь на Европейском континенте, о доктрине «народа, принадлежащего к очень высокой цивилизации», а также о «непобедимой мощи армии рейха». Она, правда, отступала сейчас по стратегическим соображениям, но вскоре ей предстояло «одержать полную победу». Лекция должна была сопровождаться показом диапозитивов, и Дана вызвалась принести их из канцелярии, пятьдесят штук, снимки немецких городов и фронтовых эпизодов. Но когда она с диапозитивами в руках бежала в зал, то столкнулась с другой ученицей и так неудачно упала, что целую неделю потом хромала на правую ногу. Естественно, диапозитивы при этом разбились вдребезги, уборщица собрала осколки и выбросила в мусорный ящик. Происшествие не осталось без последствий. Дану вызвали в канцелярию и учинили разнос, да еще в присутствии немецкого офицера. — Это саботаж, домнишоара! — вынесла суровый вердикт заместительница директора, страшно взволнованная тем, что неприятный инцидент произошел в ее гимназии. — И неудивительно, что виновница ты, Дана Георгиу, ведь именно ты пререкалась с домнишоарой Лиззи Хинтц, учительницей немецкого языка. Мы примем меры… Крутые меры… Дана стояла молча, опустив голову, спокойно и невозмутимо, почти не слушая. Чтобы занять руки, девушка развинчивала и свинчивала самописку. Грудь ее слегка подрагивала под черным сатиновым фартуком, и это заметил немецкий офицер. Откинувшись на спинку кресла, Клаузинг с чопорностью, призванной внушать почтение и даже трепет, тщательно протирал носовым платком стекла очков, а глазами, блекло-голубыми, почти бесцветными, близоруко обшаривал девушку, восхищенно осматривал ее о головы до ног. — Извините, пожалуйста, господин офицер! — заискивающе блеяла заместительница директора, раболепно склоняясь перед немцем, как перед лицом весьма высокопоставленным. — Примите во внимание, поймите, происшествие невозможно было предвидеть… — О, ничего страшного, фрау директор, ничего страшного! — успокаивал ее Ганс Клаузинг. Сверхэлегантным жестом он насадил на нос очки, не сводя глаз с Даны. — Такая красивая фрейлейн может делать ошибки, мы сердиться нет. Пофторим лекция другой раз… Как зовут тебя? Дана не ответила. Даже головы не подняла. Она крутила в руках колпачок самописки, всем своим видом бросая вызов тем, кто ее допрашивал. — Скажи господину офицеру, как тебя зовут! — резким тоном приказала заместительница директора, вскочила, обогнула стол, за которым сидела, схватила девушку за плечо и встряхнула так, что Дана чуть не упала. — Скажите сами, если считаете нужным, — флегматично ответила Дана. — До свидания! — И она стремительно вышла из комнаты, хлопнув дверью. — Нахалка! — крикнула ей вслед заместительница директора. На следующее утро Дану снова вызвали в канцелярию. В кресле, где накануне сидел немецкий офицер, расположился мужчина лет сорока пяти, коренастый, рыжий, всклокоченный, с сильно помятым лицом, словно только что со сна. Он был в коричневом костюме, довольно невзрачном, потертом и засаленном, в поношенных, заляпанных грязью сандалиях. — Ты — ученица гимназии Дана Георгиу? — спросил он, глядя на нее в упор блестящими, как стекляшки, глазами. — Да. — Я хочу задать тебе кое-какие вопросы по поводу вчерашнего происшествия. Можно? — А что такое вчера случилось? — притворилась удивленной Дана. — Ты разбила апозитивы или что-то вроде этого… имущество комендатуры. — Диапозитивы, — поправила его Дана, иронически улыбаясь. — Пусть так… я сказал, что-то вроде этого… неважно… — Да, и что? — спросила Дана. — Я хочу уяснить проблему. Почему это произошло, как… — А я хочу знать, кто вы такой? — Кто я? — поднял брови рыжий, и его лицо, словно в пятнах ржавчины, стало еще более ржавым. — Во всяком случае, домнишоара, — сказал он подчеркнуто жестко и стукнул пресс-папье по столу, — ты должна знать, что я представитель власти… — Из полиции, если не ошибаюсь… — Правильно. Рад, что ты разбираешься в этом вопросе… — Да кто же вас не знает? — Конечно, конечно, — согласился рыжий. — Стало быть, ты мне ответишь на кое-какие вопросы, да? — Отвечу… — Так… Скажи мне, домнишоара Георгиу, правда ли, что в начале второго семестра ты сказала учительнице немецкого языка, домнишоаре Хинтц, будто нынешняя немецкая культура ничто по сравнению с культурой времен этого… как его… ну этого… как же, черт побери, его зовут… господина… Гете? — Гёте! — поправила его Дана. — Хорошо, согласен, Гёте. Так ты говорила? — Я не сказала «ничто», я сказала, что эта культура — более низкая… — А зачем ты это сказала? — Потому что это правда… Гёте, Шиллер, Бетховен, вы что-нибудь о них слышали? — Нет, не слыхал, но, может, этих людей знает господин комиссар полиции, он знает всех. — Может быть. Так вот, эти и другие люди высокой культуры создали в свое время бессмертные произведения. А сегодня, при третьем рейхе, какими произведениями может гордиться немецкий народ? Вы знаете хоть одно? — Мне это знать неоткуда, я работаю в полиции, и у нас там совсем другие занятия, — отпарировал рыжий, — Может, наш господин комиссар в курсе, я уже говорил… Или домнишоара учительница… — И она не знает, — ответила Дана. — Ну хорошо, а как же ты все-таки разбила вчера эти… пластинки? — Довольно просто: я налетела на свою коллегу, упала и разбила. Вот и все. — Как зовут твою коллегу? — Михаила Лилиана. — Садись на этот стул, — любезно пригласил полицейский, — бери лист бумаги, ручку и опиши все, что произошло: спор с учительницей немецкого про Гёте, как ты вчера сама напросилась принести пластинки из канцелярии и как потом их разбила, словом, напиши все, что знаешь. А когда кончишь, пришли сюда твою коллегу Михаилу Лилиану… Дана написала объяснение, и с тех пор никто ее больше ни о чем не спрашивал. На первой же конспиративной встрече она информировала Валериу о случившемся, и он посоветовал ей временно отойти от активной политической работы и ждать дальнейших указаний, так как был почти уверен, что она попала под подозрение. Но вынужденная бездеятельность тянулась вот уже две недели, а связной, который должен был отвести ее к Валериу, не появился и сегодня, и это очень тревожило Дану. «Так ли я держалась в этой истории? — ломала она голову, чертя носком сандалеты по песку. — Я совершила какую-то ошибку и потеряла доверие организации? Но ведь я делала все, как советовал Валериу…» Неожиданно она услышала сзади тяжелые шаги. Кто-то шел пр гравию аллеи. Она вздрогнула и замерла в напряженном ожидании. «Не полиция ли? — подумала она. — Схватили связного, он не выдержал, и они узнали, что я жду его сегодня на бульваре…» Ей хотелось оглянуться, посмотреть, кто идет, но она подавила это желание и не шевельнулась. Только взглянула краем глаза на книжку в голубой обертке, которая лежала рядом. Между ее страницами ничего компрометирующего не было. За это можно было не волноваться. Шаги слышались все ближе, ближе, и наконец человек остановился. Он обошел ее сзади, сел рядом и некоторое время не двигался. Потом Дана услышала, как он принялся энергично обшаривать свои карманы. Вскоре сосед достал коробок спичек, встряхнул его, чтобы убедиться, есть ли там хоть одна спичка, открыл, чиркнул и закурил. Дану окутало облако едкого дыма, она чуть не задохнулась, но продолжала неподвижно сидеть, низко склонив голову, пряча лицо в ладони, казалось, в глубокой задумчивости. Прошло несколько мучительных минут. Тот, кто сел рядом, молча курил, иногда тихонько покашливал, а Дана не осмеливалась посмотреть на него, ожидая, что будет дальше. Наконец довольно долгое время спустя она украдкой взглянула на него и, оживленно встрепенувшись, сразу повернулась к соседу всем телом. «Связной!» — воскликнула она про себя, и ее залила горячая волна счастья, ярко вспыхнули щеки. Юноша, лет шестнадцати, худой и высокий, белобрысый, конопатый, в рубашке и серых парусиновых штанах, сидел, откинувшись на спинку скамейки, с безразличным видом держа на коленях книгу, обернутую в голубую бумагу. Дана положила на колени свою и, улыбаясь, посмотрела ему в глаза. Он улыбнулся ей и спросил: — Простите, домнишоара, у вас часы показывают точное время? — Точное, — поспешно ответила Дана, опустила глаза и еще больше покраснела. — Это марка «Теллюс»? — Нет, настоящий «Анкер». — На пятнадцати рубинах? — На шестнадцати. — Ну, хорошо, что я с тобой встретился, — сказал довольный юноша и жадно затянулся. — Я опоздал на две минуты, но, как только вошел в парк, сразу заметил тебя. — Ты опоздал не на две минуты! — запротестовала Дана, слегка раздосадованная. — Почти на двадцать минут… — Да? Возможно… — Ты должен был прийти вчера. Почему тебя не было? — Я, во всяком случае, тут не виноват, — шепотом ответил он. — Ты ведь знаешь инструкцию. Не встретил связного сегодня, приходи завтра… — Знаю, знаю, не надо… — Значит, порядок, — заключил веснушчатый парень тихим, охрипшим от курения голосом. — Слушай внимательно. Слушаешь? — Да. — Будешь следовать за мной на расстоянии метров пятидесяти… Нам нужна улица Адриана, по ту сторону водонапорной башни. Зеленые ворота, деревянные, прогнившие, на них белая дощечка, желтыми буквами написано: «Осторожно, злая собака». Чтобы ты не пропустила дом, я остановлюсь возле него на минутку, вроде бы завязать шнурки на ботинках, а потом пойду дальше. Внимательно посмотри на дощечку: белая, буквы желтые. Если она висит косо, на одном гвоздике, не останавливайся, не разглядывай дом, иди дальше. Значит, что-то неладно. Если же прямо и все четыре гвоздика на место, дойди до угла, вернись назад и войди в ворота. Тебя встретит девушка с тарелкой винограда в руках. Договорились? — Договорились. — Тогда порядок. Я пошел. Он щелчком отбросил окурок, который отлетел далеко и упал в аллее, встал, сорвал обертку с книги, смял ее и кинул в воронку от бомбы, потом двинулся вверх по аллее в сторону бульвара. Дана подождала, пока он отойдет на приличное расстояние, поднялась со скамьи и медленно пошла за ним следом. Она испытывала чувство облегчения. «Значит, ничего серьезного не произошло. И не стоило переживать, — думала она, идя вверх по аллее с книгой под мышкой. — Мое вынужденное безделье кончилось. Я очень рада… Мне, наверное, дадут новое задание…» Но по мере того как она шла все дальше и дальше по аллее вслед за юношей, который двигался не спеша, иногда притопывая, словно танцуя, в ней поднималось другое, более глубокое и упорное чувство, беспокойство, оно ознобом прошло по телу. «Сумеют ли эти ребята обеспечить безопасность дома, где мы соберемся? — спросила она себя, ускоряя шаг, чтобы не потерять из виду веснушчатого парня. — Надо быть начеку. Надо… В последнее время полицейские распоясались. И даже днем…»2
Когда Дана вошла в темную комнатку с низким облупившимся потолком, тихие голоса разом умолкли и все взгляды устремились к ней. На стульях и кровати сидели несколько человек, юношей и девушек, чьи лица было трудно различить в скудном свете, сочившемся сквозь тюлевые занавески из квадратного оконца. За столом, держа газету, сидел Валериу, секретарь организации, высокий худощавый юноша, остриженный наголо, как новобранец, с карими глазами, добрыми и спокойными. Он тоже посмотрел на вновь пришедшую. Валериу был в рубахе военного образца, жесткой и мешковатой, с расстегнутым воротом, в потертых темно-синих штанах, обмахрившихся снизу, на ногах — потерявшие форму солдатские ботинки, в дырках и заплатах. Никто не знал его настоящего имени. Валериу, и все тут. Никто не знал, где он живет, чем занимается. Дана предполагала, что он новобранец, а по специальности — механик или слесарь. Военная рубашка, стрижка под нулевку, покрытые ссадинами руки со следами машинного масла, особенно заметными в складках кожи и под ногтями, — все это делало ее догадку довольно правдоподобной. — Ты пришла, Лила? — спросил Валериу, называя Дану ее конспиративным именем, и протянул ей руку. — Пришла, — ответила Дана. — Ну как тебе жилось все это время? — улыбнулся Валериу и отложил газету. — Как жилось! Да я просто с ума сходила, честное слово. От вас ни звука, я уж не знала, что и думать… — Вынужденные «каникулы», Лила, — сказал он спокойно и, посмотрев на присутствующих, снова улыбнулся. — Не веришь? Больно ты «полюбилась» полицейским и этим дамочкам из гимназии: допросы, письменные объяснения… Что называется, взяли на прицел. Садись, Лила. Дана села на кровать и, оглядевшись, не сразу узнала в полумраке комнаты тех, кто там собрался: свою одноклассницу Михаилу Лилиану, хрупкую и нежную, в белом платье с синими пуговицами, с каштановыми волосами, зачесанными наверх и стянутыми в тугой узел; тихую Танцу, маленькую и кругленькую, с румяными щеками, с черными волосами под дешевенькой косынкой, благонравно застывшую — руки на коленях, — как школьница за партой; рядом на скамеечке кто-то возился со сломанным фонарем. Это был Пиус — его настоящее имя Ромикэ, — крепыш в клетчатой рубахе, с широкой грудью и мускулистыми руками. Говорили, что он занимается боксом и работает на верфи. Рядом с ним, держа в руках свою сандалию и пытаясь починить погнувшуюся пряжку, склонился Павел, тоже, как она думала, рабочий, только не с верфи, а из железнодорожных мастерских, светловолосый, невысокий, по слухам, неплохой футболист. По другую сторону двери, забившись в угол, словно не желая привлекать к себе внимания, сидел Максим — подпольное имя Штефан, — самый юный член организации, совсем мальчик, пекарь, продавец бубликов и разносчик газет, маленький, тощий, с землистого цвета лицом и длинными спутанными волосами, на нем была рваная рубашка и солдатские брюки, сильно поношенные и слишком большие для его щуплого тела. — Все в сборе, можно начинать, — сказал Валериу и провел ладонью по голове — жест, сохранившийся, конечно, с тех времен, когда у него были длинные волосы. — Не все, должен еще прийти Аурел, — возразил Павел, продолжая возиться с пряжкой. — Верно, я совсем забыл… Вскоре появился и Аурел, веселый, он бодро потирал руки, словно вот-вот примется за любимое и долгожданное дело. Невысокий плотный парень с прямыми, черными, зачесанными назад волосами, он был в белой рубашке с закатанными рукавами. Правый висок перерезал большой шрам — память о схватке с владельцем обувного магазина, у которого Аурел тогда работал и которому служащие пригрозили поджечь магазин, если он не повысит им жалованье. Хозяин пришел в бешеную ярость, набросился с сапожным ножом на Аурела и чуть не выколол ему глаз. — Можно начинать? — спросил Валериу. — Да, — ответил Аурел. — Посты выставлены. — Порядок, — заключил Валериу. — Товарищи, прошу внимания. Перешептывание прекратилось. Ромикэ, боксер, захлопнул крышку фонаря и сунул отвертку в карман — он свою работу закончил. Из-за двери выдвинулся со своей скамеечкой Максим и замер — весь напряженное внимание. Дана пригладила волосы, улыбнулась Лилиане, которая села рядом, взяла ее за руку, и они, прижавшись друг к другу, были теперь похожи на близких подруг, которые только что встретились. — Ты здесь давно не была? — спросила Дана шепотом, склонившись к самому уху одноклассницы. — Давно. Мне тоже запретили, — чуть слышно ответила Лилиана. — Все из-за этой истории с немцем… — Будь он неладен! — буркнула Дана и стала внимательно слушать. Валериу предложил придумать для этой встречи какой-нибудь предлог, чтобы в случае чего дружно заявить: мол, занимались тем-то и тем-то. — Товарищи, — тихо сказал он, — пусть будет так: мы — любительская труппа, разучиваем роли из пьесы. Решено? — Да-а-а! — хором откликнулись ребята. Валериу подождал, пока в комнате не воцарилась тишина, а потом ровным, спокойным голосом начал рассказывать о положении на фронте. Цензура Антонеску контролирует газеты, и в них обо всем сообщается чрезвычайно запутанно и неточно. Корреспонденты врут без зазрения совести, а в тех редких случаях, когда вынуждены говорить правду, для всех совершенно очевидную, говорят обиняками, сопровождая информацию неправдоподобными комментариями. Нанося все более мощные удары по немецким войскам, русские добились серьезных успехов на всем театре военных действий. Немцы растеряны. Они бросают в бой последние резервы. Антонеску отдал приказ о новой мобилизации, но многие не явились на призывные пункты. Никто больше не хочет умирать за интересы фашистских заправил. В городе нет электричества, нет продовольствия, хлеб выпекают в селе Бистричоара, в город привозят всего по 700—1000 буханок в день, и те, как правило, до населения не доходят, их забирают немцы для начальства. Тот, кто остался в городе — а большинство бежало от бомбежек, — умирает с голоду, нет ни овощей, ни муки, ни картофеля, растительное масло не выдавали по карточкам с ноября 1943 года! — Нет мяса! — почти шепотом добавила Лилиана. — Мамочка простояла вчера в очереди на рынке с трех утра и принесла всего несколько костей… — А когда мясо привозят, оно страшно дорого, — продолжал Валериу, понизив голос. — Цены просто немыслимые: свинина двести пятьдесят лей килограмм, телятина более двухсот. А слесарь с судоверфи получает не больше четырех тысяч в месяц. Как может семья прожить в таких условиях? — И бубликов больше не делают, — добавил, сверкнув глазами, малыш Максим. — По утрам, вместо того чтобы ходить с лотком, я сметаю паутину в пекарне, а по вечерам продаю газеты, чтобы хоть что-то заработать. — Надо же! Всем теперь только и забот что думать про твои бублики! — взорвался Ромикэ. — Ты что, не слышал, хлеба нет… Людям нужен хлеб, а не бублики. — Я это знаю, — не сдавался Максим. — Но бывает и так: муку вдруг привезли, а разгружать и печь некому. Люди разбежались из-за бомбежек. Домн Графф, хозяин хлебопекарни, собирает своих работников с помощью полиции, а никто не идет… все прячутся. Валериу поднял руку и сделал знак, чтобы они замолчали и дали ему возможность продолжать. — Используйте это как повод, чтобы возбудить недовольство населения, разъясняйте людям, особенно окружающей вас молодежи, в чем истинная причина нищеты, что происходит на белом свете и у нас в стране, почему столько бед, что не продохнешь, и конца им не видно! Там, где вы работаете, в очереди за хлебом, за мясом или утром на рынке, просто на улице — везде, где подвернется случай, завязывайте беседы — очень тактично! — и разъясняйте, откуда на нас сыплются несчастья, что они не с неба упали, как некоторые стараются внушить, а навязаны земным «божеством», именуемым фашизмом, буржуазией, эксплуататорскими классами. Понятно, друзья? В комнате наступила глубокая тишина. Не было слышно ни звука. Только снаружи, во дворе, бегала от ворот до задней стены забора и обратно собака, гремя цепью, скользящей по натянутой проволоке. — Эти их фашистские листки врут напропалую, — нарушил молчание Ромикэ и обвел взглядом притихших ребят. — Все видят, что Гитлеру капут, а бессовестные газетчики словно с луны свалились или заболели куриной слепотой. — Дураки они, что ли, признать близкое поражение этого бесноватого Адольфа? — подал голос и Павел. — Пишут несусветную чушь для собственного успокоения… — Словом, сами себя подбадривают! — заметил Аурел. — Вот именно! — Слышали про взрыв воскресной ночью? — шепотом спросил Ромикэ и снова обвел взглядом собравшихся. — Взлетел на воздух воинский эшелон с немецкими танками и броневиками… — Где? — Недалеко от станции Скела Кладовей. — Говорят, это была авария, стрелку перевели неправильно, — вмешался в разговор Максим. — Так я слышал… — Какая стрелка, дурачок? — накинулся на него Ромикэ и щелкнул по лбу. — Не знаешь, не суйся! Все-то ему известно, обо всем-то он судит! Там был взрыв по полной форме. И случился он не сам по себе. — Ей-богу, один человек мне сказал… — пытался оправдаться Максим. — Перестань, не подхватывай любой уличный слух, — ответил Ромикэ. — Вы должны понимать, друзья, что во всех подобных акциях решающая роль принадлежит партии, нашим старшим товарищам, — вмешался Валериу. — Только об этом нельзя распространяться. Партия действует в очень трудных условиях, полиция, вы знаете, не дремлет, но наших людей не запугаешь. И в случае с эшелоном, Пиус прав, взрыв произошел не сам по себе. — Но и стрелка… — не сдавался Максим, вытирая нос рукавом потрепанной рубашки. — Один человек с нашей улицы был там… — Ладно, и стрелка тоже, как ты говоришь, — понимающе махнул рукой Ромикэ и улыбнулся: пусть, мол, будет так, как хочет пацан. — Хорошо, если бы на пути у немцев вообще были только такие стрелки. Валериу поднял руку, требуя тишины. Глядя на лежащие перед ним бумажки, он сказал: — Сейчас мы посмотрим, как вы выполнили свои задания… Ребята заерзали. Потом зашептались. — Пиус и Павел, что вам удалось с самолетиками? — Они «полетели» на судоверфь и в железнодорожные мастерские! — засмеялся Ромикэ, почесывая в затылке. — Только их было маловато. Нужно бы еще столько. — Хорошо. Ты, Танца? Танца поправила платок на голове, щеки ее зарделись еще больше, и она молча пожала плечами, словно ей нечего было сказать. Будучи застенчивой, она за все время не проронила ни слова, держалась замкнуто, как будто не знала никого из присутствующих. — Прочитала брошюру? Она вздрогнула и отвела взгляд. — Что ты застыла, как перед фотоаппаратом? — спросил Валериу, пытаясь заглянуть ей в глаза. — Ты не поняла вопроса? — Поняла, но… — Что «но»? — Не прочитала, товарищ Валер, — робко призналась она и, застыдившись, опустила голову. — Мне было некогда. Хозяйка не отпускает нас из мастерской даже для того, чтобы попить воды или чего-нибудь перехватить, когда мы проголодаемся, такая якобы горячка с заказами. Только в полночь я добралась до кровати. — Хорошо, не потеряй книжку и будь осторожна, чтобы ее кто-нибудь у тебя не обнаружил. Где ты ее прячешь? — В комнате, под полом. Я отодвинула половицу и положила ее туда… — Смотри, Танца, чтоб ее не съели мыши! — засмеялся Ромикэ и в шутку дернул девушку за платок. — Они и тебя, недотепу, скушают. Комната дрогнула от смеха; заулыбалась и пылающая от смущения Танца, но глаз, однако, не подняла. Плотная и кругленькая, крепко сбитая, она сидела, по-прежнему склонив голову, покусывая яркие полные губы, и большими, потрескавшимися от соды рабочими руками теребила подол юбки. Валериу опросил каждого в отдельности, как они выполнили задания, и, внимательно выслушав, дал советы, наставляя, как надо действовать и что делать, чтобы все прошло успешно. — Ну, Штефан, а ты? Максим смущенно улыбнулся из-за двери, сморщив землистое старообразное лицо, словно изуродованное неведомой болезнью, и медленно встал. Оправил на хилой груди рваную рубашку и упавшим голосом сказал: — У меня, товарищ Валер, не было заданий. Связной меня посылал в разные места, назначал разные встречи, и это все. Мне ничего не поручали. Правда, ничего… — Он пожал острыми плечами, вытер рукавом нос, глядя прямо в глаза Валериу, немного опасливо, но с большим почтением. У Максима родителей не было. Отец, портовый грузчик, погиб на фронте, мать, работавшая прачкой, погибла при первом же налете англо-американской авиации на город. Оставшись сиротой, он жил на подаяния соседей, пока знакомый пекарь не взял его учеником в булочную «Братья Графф». — Так, говоришь, ничего не поручали, Штефан? — Не поручали, товарищ Валер. — Ну, не совсем так, — возразил Валериу и улыбнулся, глядя с братской нежностью на маленького сироту, которого приметил сразу же, как только тот вступил в организацию. — Эти встречи тоже имеют свой смысл. Товарищи проверяли твою пунктуальность, серьезность, с которой ты относился к тому, чтобы прийти точно в назначенное время на указанное тебе место, ведь в конечном счете и это входит в задачу организации. Понимаешь? — Понимаю, товарищ Валер… — Потом тебе поручат и другие задания. И ты станешь их выполнять с такой же добросовестностью, с какой приходил на встречи. Только будь начеку, не допусти оплошности, а то бывает, она оборачивается бедой… — Все будет в порядке, товарищ Валер. — Ладно, садись, Штефан, — закончил разговор с ним Валериу. — Теперь, товарищи, я объясню, что нам предстоит. Ничего не записывайте. Значит, так: как можно быстрее и осторожнее распространить пять пакетов листовок, которые мы получим от нашего товарища из партийной организации… В этот момент остервенело залаяла собака, заскрежетала по натянутой проволоке железная цепь. Валериу замер на полуслове. Ребята испуганно переглянулись. Дана почувствовала, как сердце забилось сильно-сильно, готовое вот-вот выпрыгнуть из груди. Она сжала руку Лилианы, а та, дрожа как в лихорадке, инстинктивно закрыла лицо руками, чтобы не видеть, не слышать, не знать ничего, что неминуемо здесь случится. Им впервые приходилось переживать такую страшную минуту. До этого никто и никогда не обнаруживал места их встреч, не нарушал мирного хода собраний, все проходило гладко, будто и не надо было опасаться полиции. И вдруг… — Бежим! — сказал Павел и поспешно надел сандалию. — Через минуту только нас и видели! Словно по команде, они повскакали с мест. И снова, затаив дыхание, застыли безмолвно, как изваяния. Непонятно было, что делать. Они растерялись. Танца начала тяжело вздыхать, вытирая тыльной стороной ладони катившуюся по щеке слезу. Увидев это, Максим рванулся к ней, схватил за руку, повернул к себе лицом: — Малышка, да что с тобой? Ну нее, перестань!.. Товарищ Валер, — обратился он к секретарю, который стоял перед ними напряженный и суровый, — посмотри, как плачет эта малявка, можно подумать, у нее умерла родная мама… — Тсс, оставь ее в покое! Валериу обогнул стол и подошел к окну. Осторожно слегка отдернул занавеску и внимательно осмотрел двор. Никого не было видно в этот знойный полуденный час. У забора торчала прогнившая, покосившаяся собачья будка, перед ней была накидана куча соломы; чуть подальше — перевернутый стул, без ножки, с разбитой спинкой, таз с отлетевшей эмалью; около шелковичного дерева крутилась стайка цыплят, они клевали тутовые ягоды вслед за наседкой, которая важно вышагивала, высоко держа голову, останавливаясь только, чтобы проверить, здесь ли ее птенцы. Собака вернулась от ворот, успокоенная, с опущенным хвостом, таща за собой длинную ржавую цепь, улеглась на соломе перед будкой, мордой на передние лапы, и застыла. Полежав какое-то время, она неожиданно подняла голову, потом встала и снова залаяла в сторону улицы. Сквозь этот лай донесся звук губной гармошки. Валериу поднял руку, что означало — тихо, ни слова; все снова напряглись в ожидании неведомого. — Слышите, гармошка! — сказал он тихо и кивнул в сторону окна. — Это Лика, — прошептал Аурел и подошел к окошку. — Значит, нам надо… — …бежать! — взволнованно продолжил Ромикэ. — Павел прав… — Тсс! Спокойно, товарищи! Кажется, слышны голоса. И действительно, во дворе отчетливо прозвучал высокий девичий голос, звавший, видимо, кого-то из соседей: — Доамна Попеску! Доамна Попеску! Вы дома? — Это сигнал! — прошептал Валериу, не отрывая лица от оконного переплета. Потом повернулся и сказал глухим от волнения голосом: — Товарищи, мы в опасности! Надо уходить! По одному, без шума, как можно более скрытно. Помните, о чем мы договорились: в случае ареста — ни звука! Момент был критический, ничего подобного они никогда не испытывали. Страх, нервное напряжение — ребята были на пределе. Лица их осунулись, побледнели, глаза неотрывно смотрели на Валериу. — Договорились, друзья, — повторил секретарь и за руку попрощался с каждым, стараясь вселить в них бодрость и мужество. — Будь спокоен, товарищ Валер, — заверил его Максим, затягивая ремнем солдатские брюки, — наша комсомольская клятва нерушима! — Я знаю, как отсюда выбраться, — поспешил сообщить Аурел. — Через кухню, оттуда — в деревянный сарай. Там я присмотрел доску, которую можно отодвинуть. Пролезем в щель и через соседний двор прошмыгнем на другую улицу. Пиус, иди первым, ты дорогу знаешь. Давай, боксер! — Пойдешь с кем-нибудь из девушек, — остановил его Валериу. — Танца, вперед! Торопясь покинуть помещение, ребята натыкались друг на друга, кто-то смахнул с подоконника кружку, и она разбилась, полетел опрокинутый стул, а малыш Максим так сильно ударился головой о вешалку, что приглушенно охнул и испуганно покосился на Валериу. Поспешно прощались, подбадривая взглядом друг друга, договаривались о том, как встретиться, когда опасность минует… — Все, все, товарищи! — торопил их Валериу. — Скорее! Лила, ты где? — Я здесь, Валериу! — взволнованно откликнулась Дана. — Иди сюда. Дана подошла к окну. Ее била нервная дрожь. В лице не было ни кровинки. Валериу взял ее за руку: — Я собирался спросить тебя после собрания, но, если уж так случилось, скажи мне хоть коротко… — О чем? — Что с твоим братом? — С каким, с Михаем? — Ну да, с Михаем. А с кем же еще, разве у тебя много братьев? — Нет, один. — Так что же с ним? Что ты о нем знаешь? — Ничего не знаю, — испуганно ответила Дана. — Два года назад он уехал в Бухарест, в офицерское училище, оттуда его отправили в Германию. Последнее письмо мы получили из Африки… И вот уже больше года нет никаких вестей… Отец и мать очень встревожены. С ним что-нибудь случилось? Говори же! — Он попал в немецкий лагерь, бежал, его разыскивает не только гестапо, но и наша полиция, комендатура… — Михая ищет гестапо? — У Даны перехватило дыхание, в глазах мелькнул ужас. — За что? — Не знаю. Мне сообщили, что сегодня утром в полк пришла телеграмма из штаба корпуса, требуют его ареста. Такое же указание получила и полиция. Имей это в виду. Возможно, у вас устроят обыск. Тебе придется давать показания. Будь осторожна. Ты поняла, Лила? На улице послышался шум мотора. Еще яростнее залаяла собака, готовая сорваться с цепи. Губная гармошка замолкла. Валериу схватил Дану за руку и подтолкнул ее к выходу: — Ну иди! Желаю удачи!3
Переполненный пассажирский поезд прибывал на вокзал, разрушенный бомбами: люди гроздьями висели на подножках, на буферах, некоторые влезли даже на крыши вагонов. Замедляя ход, словно устав от долгой дороги, паровоз резко свистнул и остановился у перрона. Спрыгнув на ходу с подножки, кондуктор поправил сумку, пробежал несколько шагов по перрону и привычно объявил: — Турну-Северин, поезд стоит пять минут! Затем отошел в сторону, сдвинул шапку на затылок и вытащил платок, чтобы стереть с лица пот. Пассажиры, как по команде, посыпались из окон, с подножек и буферов вагонов, таща сундуки и корзины, поднимая их над головой, толкаясь со злобным глухим ворчанием, крича и падая друг на друга, на мешки, ящики и тюки. С всклокоченными волосами, испуганными, безумными глазами, они были похожи на утопающих, уносимых течением. А в это время другой поток, отъезжающих, хлынул навстречу первому, и все перемешалось в шумной, яростной толпе. Послышались отчаянные вопли, ругательства, проклятия, мольбы, душераздирающие рыдания, как на тонущем корабле в последние мгновения перед гибелью. — Эй, Кулай, лезь скорей вон на ту подножку! — Ионицэ! Где ты? Ионицэ, сюда! Подсоби втащить мешок, поезд сейчас уйдет!.. — Тетя Флоаре, ты куда? Вот бестолочь! Это же вагон для господ!.. Беги к другому, да тише ты, а то уронишь младенчика! — Люди добрые, что вы делаете?! Дайте сойти! Господи помилуй, налетели, как турки… Матерь божья, сейчас помру! — И с этими словами рослая молодая крестьянка, у которой распустились косы и свалился с головы платок, пролетела мимо тех, кто висел на подножке, и рухнула на спину, ногами кверху, задрав юбки и невольно показав оголенные икры. — Разрази вас господь, чтоб вам пусто было, негодникам! — бранилась она и шарила руками по перрону между десятками ног в поисках потерянного гребня, красного, отделанного перламутром. Рядом старый монах, с седой бородой, в черной выцветшей рясе, сгибаясь под тяжестью мешков, набитых покупками, качался как пьяный, ища опоры вытянутой рукой. Худой высокий полицейский с потным смуглым лицом сильно толкнул монаха, убирая его со своей дороги, и, поминая всех святых, полез по стенке вагона, прямо как при штурме редута. Забравшись на крышу, обитую жестью, он снял рюкзак, вытащил из него помятую фуражку, вытер ею пот с лица, уселся и, держа винтовку на коленях, стал не без удовольствия наблюдать за переполохом внизу, ведь сам он так хорошо устроился. Около него расположился босой, оборванный паренек, он с наслаждением поедал арбуз, украдкой бросая корки на головы тех, кто толкался и вопил внизу, на перроне. — Дождешься — поп тебя кадилом огреет! — ругалась женщина, у которой лицо было обрызгано арбузным соком. — Боже мой, много же дураков терпишь ты, господи, в своем саду! Поезд между тем легонько стукнул буферами, тормоза ослабли, колеса окутались клубами пара. — Скорей, скорей, он уходит! — крикнул кто-то. Паника усилилась. Начал пробираться к вагону и низенький румяный кондуктор, работая локтями и нещадно толкаясь. Он старался ухватиться за поручни и стать хотя бы одной ногой на подножку. Но в этот момент откуда-то сверху послышался отдаленный рокот. Металлический звук, монотонный и низкий, нарастал, ширился, переходя в мощный, устрашающий гул. Огромная дрель упорно и неотступно сверлила твердый как гранит небесный свод, стремясь раздробить его на миллиарды кусков. На вокзале свершилось чудо: сутолока прекратилась, все, кто еще не успел забраться в вагоны, замерли, как пораженные громом, и, приставив ладони к глазам, не замечая, что поезд уже тихо скользит по рельсам, боязливо вперились в небесную синь, пытаясь различить силуэты самолетов, которые медленно и неотвратимо приближались. Но, сколько ни старались, ничего не могли различить.Был только слышен доносившийся из неведомой дали, из-за, югославских гор, глухой гул, зловещий и жуткий, который с каждой минутой становился все громче и громче. — Опять американцы летят, — сказал кто-то испуганно. — Не дай бог, чтобы они прилетели, пока поезд еще на вокзале, останется от нас мокрое место. — Вот мы и поехали… Поезд, изнемогая под тяжестью пассажиров, которые, как муравьи, облепили вагоны, с трудом набирал скорость. Оставшиеся на перроне устремились за ним, пытаясь пристроиться на какой-нибудь ступеньке. Женщины, обезумевшие от страха, простоволосые и растрепанные, опять запричитали и заохали, а дети, уцепившись за их юбки, заревели отчаянно, словно их бросили на раскаленные угли. Старый монах с мешками на спине сделал несколько шагов, стараясь не отстать от проплывавшего мимо вагона, и ухватился было за рубашку висевшего на подножке мальчугана, но тут же со стоном растянулся на платформе, чуть не попав под колеса. В ту же секунду какой-то здоровенный мужик, в одной рубахе и портках, с акробатической ловкостью перемахнул через него и повис на фонаре последнего вагона. Состав переводили на другой путь, поезд тряхнуло, мужик разжал руки и, грохнувшись между путями, разбил голову о ручку стрелки. Вскоре паровоз нырнул под мост и помчался все быстрее и быстрее. Гул самолетов с каждой минутой нарастал, оповещая о приближении страшного бедствия, столь знакомого жителям Турну-Северина. Сигнализируя об опасности, пронзительно завизжала сирена, установленная на крыше вокзала, И, словно желая ее перекричать, подал свой хриплый голос из-за железнодорожных мастерских старенький маневровый паровоз. И наверху, в городе, который раскинулся на плоскогорье позади станции, за больницей, ударили в колокола, поплыл мерный, стонущий звон, завыли, закричали сирены. Из тех, кто не смог сесть на поезд, не осталось никого. Объятые ужасом, люди разбежались кто куда, перепрыгивая через пути, пробираясь под товарными вагонами. Станционные служащие повыскакивали из рабочих помещений, где после бомбежек не осталось ни одного стекла, и по тылам вокзала, мимо раскидистых яблонь, помчались к щелям, отрытым на случай воздушных налетов в парке. Слева, за депо, метались рабочие из ремонтных мастерских, они побросали работу и бежали: одни — к Дунаю, другие — на гору, к неглубоким размывам в районе расположения пехотного полка. Михай, в грязной, рваной рубашке и парусиновых брюках, сплошь в заплатках и масляных пятнах, босой, давно не стриженный и заросший, с трудом выбрался из вагона третьего класса и сейчас, после ухода поезда, стоял в растерянности на путях, не зная, что предпринять. Вокруг кричали и суетились насмерть перепуганные люди, стараясь как можно быстрее спрятаться от приближающихся самолетов. Он смотрел на все отсутствующим взглядом, будто эта суматоха была ему непонятна и неинтересна, будто ему самому не угрожала опасность. Какая-то невидимая сила пригвоздила его к месту и не давала сделать ни шагу. Здание вокзала, еще недавно красивое и даже величественное, по форме напоминавшее пассажирский поезд, с высокой башней для часов в виде паровозной трубы, с большими светлыми окнами и широким затененным перроном, выдержанное в сверхсовременном стиле, сейчас было неузнаваемо. Разрушенные закоптелые стены, провалившаяся крыша, черные обгорелые балки, исковерканные огненной стихией. Ресторан, почтовое отделение, справочное бюро, группа осмотра вагонов, служба движения — всюду выбиты стекла, повреждены стены. На грязном перроне там и сям кучи щебня, штукатурка и битый кирпич, мотки провода, осколки стекла, целые листы кровельного железа. За путями, в стороне складов, валялись на боку три стальных вагона, а серая, вся в масле, цистерна лежала вверх колесами на сплющенном грузовике. Десятки глубоких, как омуты, воронок, полных зеленоватой, стоячей воды, свидетельствовали о количестве бомб, сброшенных на вокзал, на депо, на сортировочную станцию. Чуть дальше, в стороне стадиона, виднелся длинный товарный состав из одних металлических каркасов: все деревянные части были уничтожены огнем. Усталым, печальным взором Михай молча созерцал эту грустную картину, и, чем очевиднее становились масштабы разгрома, тем сильнее закипала ярость в его душе. На плоскогорье, за вокзалом, он увидел здание больницы — крыша сорвана, окна выбиты, стены изуродованы осколками. Почти у всех домов вокруг больницы были черные, обгорелые стены с глубокими трещинами, деревья стояли изувеченные, валялось множество телеграфных столбов, а дальше опять дома, дома, разрушенные, сметенные с лица земли прямым попаданием или мощной взрывной волной. Продолжая всматриваться в это жуткое материализованное выражение того, что представляли собой налеты англо-американской авиации, которых было несколько, он вдруг перенесся мысленно к родителям, к родственникам, ко всем, кого он знал здесь в свои детские и юные годы, и почувствовал, как они близки его сердцу. Мысль пронзила его, причинила острую боль, он вздрогнул от внезапного страха. «Что с отцом, с матерью? — взволнованно спросил он себя. — А как Дана? Живы ли они? Что стало с нашим домом? Тоже разрушен, как все, что меня окружает? Про дядю Александра я знаю, он на фронте. Жив ли? И куда его занесли превратности военной жизни? А его жена? Тетя Эмилия работала кассиршей здесь, на вокзале…» Михай уехал из города два года назад и вот уже восемь месяцев не получал весточки из дому. Впрочем, в скитаниях по северу Африки вместе с немецкими частями он был вообще лишен возможности получать какую бы то ни было корреспонденцию. Как на кинопленке, он увидел снова день разлуки с теми, кто был ему дорог. Это произошло в середине дня, в воскресенье, в двадцатых числах августа. Стояла жаркая, душная погода. Он уезжал в Бухарест, в военное училище, родители и родственники пришли на вокзал его проводить. Михай смотрел теперь на развороченный бомбами перрон и внутренним взором видел своего отца, Влада Георгиу, учителя истории, маленького, щуплого, в коричневом костюме, слишком просторном для его худощавого тела, видел его выпуклый лоб, начинавшие седеть волосы, затуманившееся задумчивое лицо, черные тревожные глаза за очками в золоченой оправе. Где же они стояли тогда? Да вон там, напротив комнаты дежурного по станции. Рядом с ним — мать, бывшая учительница музыки, только что вышедшая на пенсию по болезни, в шелковом платье, в белой широкополой соломенной шляпе и с японским веером в руке, она все поглядывала на часы, тайно радуясь, что поезд запаздывает, ее единственный сын еще побудет около нее, и она расстанется с ним не сию же минуту. В двух шагах от родителей сестра Дана, в то время ученица гимназии «Принцесса Елена», только что переведенная в шестой класс, тоненькая и гибкая, в голубом платье из легкой воздушной материи, с синими глазами и белокурыми волосами, заплетенными в косички, которые при каждом движении покачивались над чуть заметно округлившейся грудью. Она пришла не одна. С ней была ее одноклассница Лилиана, дочь рабочего железнодорожных мастерских, хрупкая девушка с густыми каштановыми волосами и большими карими глазами, которой Михай признался в вечной любви год назад, в последний, как принято почти у всех гимназистов, год своего обучения. За пять минут до отхода поезда, с трудом пробившись сквозь толпу, прибежала и тетя Эмилия, сестра отца, маленькая и худенькая, совсем как девочка, в синем полотняном платьице и с сигаретой в руке. Начальник станции разрешил ей оставить на несколько минут воинскую кассу, где она работала, чтобы попрощаться с любимым племянником. А вокруг скакал неугомонный Костел, ее сын, которого Михай в шутку называл Костелино, по имени клоуна из цирка Клудского, чьи веселые номера они столько раз смотрели… Было жарко, очень жарко, но тетя Эмилия, размахивая рукой с сигаретой, по обыкновению, говорила быстро и темпераментно, рассказывала, как поскандалила утром с майором артиллерии, который пытался всучить ей проездные документы, совершенно замызганные и с подтирками, к тому же он нахально вел себя по отношению к ней как к женщине, вот она и послала его к черту и захлопнула окошко перед его носом. «Подумай, какой бессовестный, назвал меня потаскухой, когда настоящая потаскуха — его жена, эта намалеванная кукла, которая целыми днями околачивается на бульваре около авиационного училища!» Отец, мать и даже Дана слушали ее с удовольствием; тетя Эмилия, как всегда, рассказывала увлеченно, красочно, и, пока говорила, казалось, она так взволнована, что успокоится нескоро. Но, кончив рассказ, Эмилия тут же пришла в ровное расположение духа и заулыбалась как ни в чем не бывало. И только Лилиана стояла подавленная, отчужденная и как бы отсутствующая, стояла и грустно смотрела на Михая, изо всех сил стараясь казаться спокойной, безразличной, чтобы не выдать свои чувства к тому, кто уезжал и кого она увидит теперь неизвестно когда. Прибыл поезд, он примчался как ураган; все по очереди обняли Михая. Дана в шутку пожелала ему как можно скорое стать генералом, а Костел все дергал его за рукав, прося привезти к рождеству настоящую саблю. Михай, прежде чем подняться на ступеньки вагона, на мгновение притянул к себе смущенную Лилиану и нежно поцеловал… Сейчас, стоя на путях опустевшего перрона, Михай вспоминал до мельчайших подробностей эту сцену расставания, которая жила в его душе все долгие месяцы странствования в чужих краях. «Где-то они сейчас?» — спрашивал он себя, скорбно глядя на картину чудовищного разгрома. Живы ли? Пощадила ли их бушующая стихия, бесчисленные следы которой он видел вокруг? Прошло столько времени, а ведь он о них ровно ничего не… — Эй, парень, сдурел ты, что ли? Ишь какой храбрый выискался… Михай оторвался от своих дум и с удивлением оглянулся. — Кому я говорю, босяк тугоухий!.. В полном недоумении Михай продолжал смотреть по сторонам, но никого не было видно. Перрон, железнодорожные пути — все было пусто, безжизненно. А наверху, в вышине, немилосердно жгло солнце, воздух словно кипел, заставляя трепетать даль горизонта. — Ну что ты торчишь, как семафор! Уши прочисть, раззява, оглох, что ли? Михай снова поискал глазами, на сей раз очень внимательно, и увидел за одной из опор перрона путевого рабочего, высокого, сутуловатого, в красной фуражке. Он угрожающе размахивал руками, явно возмущенный поведением бестолкового чудака. — Что вам от меня надо, чего вы орете? — рассердился Михай и подошел к настырному крикуну. — Как это «что надо»? — осипшим голосом воскликнул обходчик. — Выперся на пути и красуешься, хочешь, чтобы тебя сверху увидели да сбросили парочку бомб? Мало тебе того, что на нас уже высыпали? Стоишь столбом, рот разинул, как дурак на ярмарке, думаешь, они не видят? — Что ты пристал как банный лист? Схлопочешь по морде! — вспыхнул Михай, готовый к потасовке. — Какой я тебе босяк? — А разве не босяк? — Сейчас ты у меня получишь! — Михай нагнулся в поисках палки, камня, чего-нибудь подходящего, чтобы пустить в обходчика. — Вот сукин сын! Ты же трус, трус!.. Ясно, что пороха не нюхал. Убедившись, что Михай сошел с перрона, обходчик потерял к нему всякий интерес, оторвался наконец от столба, за которым прятался, влез на платформу, деловито зашагал куда-то и исчез из виду. Михай посмотрел ему вслед, потом, стараясь не думать больше об этом происшествии, засунул руки поглубже в карманы потрепанных штанов и двинулся вдоль насыпи, босой, с израненными ногами. Дойдя до зарослей сирени на краю перрона, остановился. Он чувствовал себя бесконечно усталым. Жара делалась невыносимой. Увидев в нескольких шагах от себя груду прогнивших шпал, сваленных возле разрушенной будки путевого обходчика, он сел на них, чтобы немного отдохнуть перед тем, как отправиться домой. Выше, в городе, вой сирен и звон колоколов все еще взывали к жителям города, предупреждая о приближающемся бедствии, а где-то по ту сторону Дуная, высоко в небе, нарастал гул самолетов, вибрирующий и грозный. Михай долго и упорно смотрел из-под руки вверх, пытаясь различить силуэты зловещих птиц. Но зияющая прозрачность небосвода утомляла, и после нескольких безрезультатных попыток у него заболели глаза. Однако он не сдавался. И вскоре в просвете между двумя белыми облаками на большой высоте заметил сверкающие серебром пять крошечных самолетов, казавшихся безобидными перламутровыми точками. Они скользили строем, похожим на стрелу, медленно, так медленно, что казалось, не двигаются вовсе. Но это продолжалось недолго: они вошли в облако, серое, очень плотное, и пропали из виду. Сразу за ними появились еще пять, они летели в том же направлении. А когда первые снова выплыли на небесный простор, еще одно, третье по счету, звено, сверкнув серебром, устремилось вслед за первыми самолетами. Прозрачная дымка, казалось, сопровождала их в этом, почти незаметном для глаза скольжении. «Может, они и не будут бомбить город, — подумал Михай, пытаясь определить, куда летят бомбардировщики. — Они пересекают Дунай и нацеливаются на Брашов или Плоешти». Вдруг смолкли сирены, а вслед за ними и бронзовые голоса колоколов. Воцарилась глубокая скорбная тишина, предвестница несчастья. Мир словно замер по сигналу невидимого дирижера. И только металлический рокот самолетов, доносившийся из-за югославских гор, усиливался с каждой минутой, ширился, прижимался к земле. Забившись в сырые ямы, поросшие высоким бурьяном, распластавшись на животе в тени железнодорожных складов и опрокинутых вагонов, люди притаились там, где считали себя в большей безопасности. Охваченные страхом, они ждали. Молча, не глядя друг на друга, слушали удары собственного сердца и считали минуты, отделявшие их от порога смерти. — Ма-моч-ка-а-а! — закричал вдруг чей-то ребенок. — Вот они летят! Ух, какие блестящие! Ну-ка! Можешь их сосчитать? Я могу. Раз, два, три, четыре… Нет, раз, два… По пустынной улице промчалась на большой скорости черная машина, часто и пронзительно сигналя. Михай снова посмотрел в прозрачную небесную даль. Самолеты пролетали над Дунаем, теперь их было хорошо видно: тяжелые бомбардировщики с двумя фюзеляжами, настоящие летающие крепости. Их силуэты спокойно плыли под аккомпанемент зловещего гула моторов. Они становились все ближе, ближе, будто испытывая чью-то судьбу, бросая кому-то вызов, сверкая как алмазы в золотых солнечных лучах.4
Дана очень волновалась, когда уходила из дома, где состоялась встреча членов молодежной организации. То и дело озираясь по сторонам в опасении, что ее кто-нибудь увидит, она пролезла через щель в заборе, заранее проделанную Аурелом, пересекла пустой двор и, открыв железные ворота, очутилась на улице Добродетели. Отсюда все так же бегом девушка спустилась по улице Александри, и в тот момент, когда она переходила улицу Провидения, завыли сирены, предупреждая еще об одном воздушном налете. «Скорее в убежище, — подумала она, не останавливаясь, прижимая ладони к груди, чтобы унять сердцебиение. — Если действительно за мной следят, то теперь наверняка потеряют след». Добежав до площади Михая Храброго, она заметила за высоким пыльным кустарником земляное укрытие — щель, к которой торопился старик с узелком в руке. Побежала туда и она. Оглянувшись и убедившись, что сзади никто не идет, спустилась на несколько земляных ступенек вниз, в длинную узкую яму с высокими стенами, вырытую под открытым небом; сверху кое-где были перекинуты бревна, на них навалены сухие ветки липы. В изнеможении она опустилась на импровизированную скамейку — досточку на четырех трухлявых колышках, — под ней валялась грязная бумага, гнилая солома, заплесневевшие объедки. Лоб у Даны был в капельках пота, но носового платка не оказалось. Она вытерла лицо тыльной стороной ладони и той же рукой стала обмахиваться, чувствуя, что задыхается. Платье прилипло к влажной холодной спине, волосы в беспорядке упали на глаза. Она застыла в полной неподвижности, потрясенная и подавленная, с тревогой думая о тех, с кем рассталась четверть часа назад. Что с ними? Нагрянула ли полиция? Застала ли их на квартире? В довольно глубоком убежище было прохладно. Сквозь высохшую листву маскирующих его веток проглядывало ясное, синее, безоблачное небо. Старичок, спустившийся в убежище перед Даной, положил узелок на колени и съежился в углу, втянув голову в плечи и закрыв глаза, словно охваченный дремотой, глубоко равнодушный к тому, что происходит вокруг. Возле него примостилась женщина средних лет с красивым, но чересчур накрашенным лицом, в длинном шелковом халате и платке, замотанном на голове как чалма. Она держала на коленях курносую лохматую собачонку, все время гладила ее и успокаивала, чтобы та не визжала. Напротив нее — тоже женщина, но старше первой, суровая, мрачная, с небольшим чемоданом, одетая в грязный рваный плащ; она неотрывно смотрела на небо, крестилась и шептала только ей ведомые слова. Немного погодя она перестала креститься, прислушалась к жуткому вою самолетов и возвестила голосом, не оставлявшим надежды: — Вот они, идут! Пресвятая дева Мария, спаси и помилуй нас, грешных… — Потом придвинула чемодан поближе и начала бить поклоны, как перед алтарем. Словно почуяв опасность, собачка громко залаяла, но хозяйка зажала ей мордочку рукой и погрозила пальцем, как ребенку: — Будь умником, Пуфи, не шуми. Разве одному тебе, малышке, страшно? — Гладя лохматую шерсть собаки, она дружески обратилась к Дане: — Ах, домнишоара, если бы вы знали, какой он смышленый… Он чувствует на расстоянии, когда случается что-то плохое. У него такой нюх, что я просто удивляюсь. Мой муж — полковник, так вот он привез это сокровище с фронта, на самолете. И как меня умолял один эвакуированный польский дантист продать ему этого песика! Я ему сказала: «Заберите свои деньги, не нужны они мне, не могу я расстаться со своим голубчиком!» Что поделаешь, — вздохнула она чуть позже. — Муж уехал, надо же мне с кем-то коротать время… Но Дана ее не слушала. Она сидела молча, уставясь в пространство, и думала о том, что говорил ей Валериу о Михае. Значит, брат жив. В каком-то смысле то, что рассказал Валериу, было радостной вестью. С тех пор как Михай уехал в Германию, в военное училище, родители, особенно мама, не знали покоя. Письма от него приходили все реже, домашние читали их по нескольку раз, так что, можно сказать, знали наизусть. Это была единственная связь с ним, судьба занесла его так далеко. И вдруг все оборвалось, от Михая не было ни строчки. Словно ветер задул огонек надежды. Тщетно пытался отец, учитель Влад Георгиу, хоть что-нибудь узнать о сыне… И постепенно в доме воцарилось молчание, поселилась тяжелая, давящая тоска. О Михае не говорили вслух, словно боясь потревожить чей-то сон, ходили на цыпочках, повесив голову, с трауром в сердце. Они считали, что он погиб или пропал без вести на африканском фронте, откуда год назад пришло последнее письмо. В редких случаях, когда собирались все вместе вокруг стола вечером или после обеда, имя пропавшего произносилось шепотом, в сознании покорности судьбе. Мать сразу начинала плакать, спрятав лицо в ладони, а отец замыкался в гробовом молчании. Дана старалась направить беседу в другое русло, не теряя надежды, что благоприятная весть снова осветит их жизнь. И вот… Михай жив, он бежал из концлагеря. Но принесет ли это в семью долгожданное спокойствие? Как отнесется к нему отец? А мать? Михай жив, но он… беглый лагерник. Почему он был в немецком лагере? Дана сидела, обхватив голову руками, с растревоженной душой, думая о себе, Михае и близких. В глубокой, тягостной тишине, опустившейся на скованный страхом город, отчетливо раздавался гул тяжелых бомбардировщиков. И только в одном из ближайших домов, где, видимо, окна были раскрыты, играло радио, звучала лукавая мелодия, словно бросая вызов леденящему душу ужасу, в полуденную духоту смело врывалась знакомая мирная песенка. Дане песенка очень нравилась, дома у нее была такая пластинка, и девушка часто слушала ее, но сейчас было не до песен. Мучительное беспокойство стиснуло грудь, не давая свободно вздохнуть. «Сказать родителям то, что я узнала, или не сказать? — теперь думала она. — Конечно, они обрадуются, что Михай жив, что его кости не сгнили где-то на чужбине, как думали они в минуты отчаяния. Но что они скажут, когда узнают, что он бежал из лагеря, что немцы и румынская полиция гонятся за ним по пятам? Отец, конечно, опять пойдет к немецкому начальнику, снова начнутся хождения по мукам, он, безусловно, обратится и к товарищам по полку, попросит их разузнать, можно ли что-нибудь сделать, его наверняка спросят, откуда ему известно про Михая. Он сошлется на меня. Меня спросят, а что я буду отвечать? Нет, не скажу им ничего про Михая! — решила наконец Дана. — Зачем растравлять сердца родителям, когда они и так измучены этой жизнью, полной лишений, кошмаров американских бомбардировок: налеты стали проклятием города, никто не знает, будет ли жив в следующее мгновение, сохранится ли крыша у него над головой. В семье существует как бы добровольное забвение Михая, пусть лучше так и остается, — внушала себе она. — Во всяком случае, хорошо, что он жив. Легко ли ему, тяжело, главное, что жив, и я надеюсь, что он скоро будет среди нас. И все-таки… все-таки эта радость омрачена тревогой, я ведь не знаю, что он там натворил, почему попал в лагерь. И Валериу не смог сказать мне ничего определенного…» — продолжала размышлять она. Потом механически оправила платье на коленях, откинула волосы со лба и снова замерла, прислушиваясь к звучащей по радио песне, нежной и мелодичной. Дана вдруг подумала: «А может ли любовь пройти из-за того, что у человека очень большие неприятности, даже несчастья? Нет, любовь как вода в ручье, она не может иссякнуть, любовь бывает одна и на всю жизнь». Она вспомнила Санду. С ним ей было суждено познать первую любовь, такую, какой она может быть в тринадцать лет. Они учились в параллельных классах, по вечерам гуляли в садике у городского суда или в парке, ходили на стадион, болели за одну футбольную команду, обменивались любовными записками: просовывали их через щели в заборе или «забывали» в учебниках; ревнуя друг друга, ссорились, мирились и опять ссорились. Но однажды их спокойная жизнь была нарушена. Начались непрерывные несчастья. Мать Санду погибла при первом же воздушном налете на город, отец был арестован в канун 1 Мая по подозрению в том, что он коммунист, а Санду вылетел из гимназий и поступил учеником на судоверфь. Сейчас он в Констанце, куда перевели многих рабочих: судоремонтные мастерские на берегу Дуная пострадали от бомбардировок, и заказов было мало. «Мне одиноко без него, — говорила себе Дана, думая обо всем, что случилось. — Но я рада, что Санду не бросил учебу и занимался самостоятельно. Теперь он, может быть, приедет из Констанцы, чтобы сдать оставшиеся экзамены, и тоже перейдет в восьмой класс. А гимназия так далеко! Бедный папа, сколько километров приходится ему отмахивать каждую неделю, чтобы принять экзамены и выставить отметки учащимся!» Чья-то тень нависла над убежищем, и мальчишеский голос почти враждебно спросил: — Эй, есть тут кто? Дана вздрогнула. Кто-то быстро спустился по земляным ступенькам, и собачка, принадлежащая женщине в шелковом халате, снова громко, пронзительно залаяла. Вновь прибывший был не кто иной, как Максим, в грязной рваной рубашке и солдатских брюках, подпоясанных веревкой. — Пуфи, проказник, опять скандалить? — пожурила мадам полковница свое чадо, которое не спускала с рук. — Почему ты рассердился на мальчика? Но собака ее не слушалась. Она рвалась, билась в руках женщины, готовая растерзать Максима, который попытался было как можно незаметнее пробраться в глубь убежища. — Эй ты, шавка чесоточная, заткнись, не то схлопочешь так, что вообще гавкать перестанешь! — сказал Максим. И он сделал вид, что собирается ее стукнуть. Собака разъярилась еще пуще. Максим засмеялся, показал ей язык, гавкнул по-собачьи, перепрыгнул через чемодан, который принесла женщина в рваном плаще — она в это время читала молитвенник, — повел глазами в поисках места, где можно было бы сесть. Встретясь взглядом с Даной, он вдруг развеселился и, руки в бока, весело воскликнул: — Вот так чудо! Это же наша принцесса! Приложив палец к губам, Дана подала ему знак, чтобы он не болтал лишнего, потому что его слышат посторонние, и знаком же пригласила сесть рядом с собой на скамейку. — Что-нибудь случилось? — спросила она его на ухо. — Ничего не случилось, — ответил Максим тоже шепотом, осторожно оглядываясь. — Мне кажется, зря они испугались. Какая досада! — продолжал он, с огорчением стукнув себя ладонью по лбу. — Именно сегодня я надеялся получить наконец задание… Он хотел еще что-то добавить, но Дана остановила его: им нельзя было разговаривать на глазах тех, кто собрался в убежище, могут обратить внимание на то, что они знакомы. Максим согласно кивнул и сразу нашел себе другое занятие — стал разламывать деревянную палочку и кусочки швырять в земляную стену убежища. Теперь Дана могла незаметно присмотреться к нему: давно не стриженный, рубаха пропахла потом, брюки ветхие — заплатка на заплатке; глаза умные и красивые, в них без труда можно прочитать, какую тяжелую, полную лишений жизнь он ведет; тщетны и наивны попытки скрыть это за маской веселости и непринужденности. Она знала, мальчик — сирота, он сам говорил это членам организации, знала, что работает в булочной «Братья Графф», а больше о его жизни никто ничего не знал. — Туго тебе приходится у хозяев, Штефан? — спросила Дана, когда увидела его в первый раз. — Да, Лила, — грустно ответил он, сразу помрачнев. — Но товарищ Валер говорит, что настанет такое время, когда и мы, бедные, будем счастливы и у нас будет что есть и во что одеваться. Будут у нас, уверяет он, и хлеб и розы… — Правда? — притворилась удивленной Дана. — Да, все так и будет. Вот только минует это бедствие, мы свергнем буржуев, увидишь, как мы тогда заживем. А про хлеб и розы Валеру сказал один человек, по имени Макс… — Маркс, — поправила его Дана, улыбаясь. — Правильно, Маркс… А кто он такой, этот Маркс? — Он был ученый, писал о пролетариате, — начала объяснять Дана. — В своих книгах Маркс объяснял трудящимся, как нужно бороться, чтобы их не эксплуатировали хозяева, чтобы они, пролетарии, владели всеми богатствами земли. — Ах, принцесса, как хорошо говорил этот ученый! — просиял Максим. — Если бы он побывал у нас в пекарне и увидел бы, как я живу и что ем, думаю, он тут же посадил бы моих хозяев в тюрьму. — Правильно, так и должно было бы случиться, — поддержала его Дана. — Но я вот о чем хотела тебя спросить, Штефан… — О чем, принцесса? — Почему ты меня так, называешь? Максим покраснел до ушей и опустил глаза. Он молчал, как будто язык проглотил. — Не хочешь сказать? — Потому что ты очень красивая, — искренне признался он, все еще не поднимая глаз. — На рождество я был в кинотеатре «Регал», пробрался туда без билета, в фильме показывали одну девушку, такую же красивую, как ты, и все ее называли принцессой. На голове у нее была блестящая корона, как у ряженых… Дана с удовольствием вспомнила ту беседу и теперь, внимательно глядя на Максима, старалась, как и тогда, проникнуть в обстоятельства его печальной, убогой жизни, лишенной тех радостей, которые естественны в этом возрасте. Была ли у него хоть одна игрушка? Или приличная одежда? Ботинки и пальто зимой? Слышал ли он от кого-нибудь ласковое слово, которое согрело бы ему душу, слишком рано познавшую жестокость судьбы? Думая об этом, Дана испытывала сострадание и сочувствие к юному товарищу по борьбе… Вдруг Максим вскочил и, вытянув руку, показал на клочок неба, видневшийся над входом в убежище: — Вот они! Мамочка родная, как же они сверкают! Один… два… пять самолетов! Действительно, в синем поднебесье парило звено американских бомбардировщиков, они сверкали в солнечных лучах, словно серебряные. Сирены молчали. Вокруг все безмолвствовало. Только наверху, в бездонной вышине, монотонно и непрерывно гудели моторы. Потом и этот гул затих, наступила такая глубокая тишина, что стал отчетливо слышен шелест крыльев пролетающих над убежищем птиц. — Вроде не слышно больше, — испуганно прошептал Максим. — Остановились моторы. Да?.. — Сейчас начнется самое страшное, — ответила почти беззвучно Дана. — Они будут бросать бомбы… Через несколько секунд последовал ужасающий взрыв, потом еще два почти одновременно и еще один — такие сильные, что содрогнулась земля. Эхо как гром прокатилось над городом и тут же потонуло в следующих взрывах, их долгие и страшные раскаты слились с первыми, сплошной и какой-то плотный вой стоял бесконечно долгие минуты. Затем ухнули шесть новых взрывов — они раздались где-то рядом. Взрывы были такие мощные, что земля дрогнула и стала оседать. Дана сжалась в своем углу, закрыла глаза, заткнула уши; Максим тоже съежился, втянув голову в плечи, и только одним глазом поглядывал иногда на небо; удары следовали один за другим, как будто работал гигантский молот. В противоположном конце убежища мадам полковница с трудом удерживала Пуфи, который выл и бился у нее в руках, как бешеный. Женщина, сидевшая напротив полковницы, все время клала поклоны, высоко подняв воротник плаща, чтобы ничего не слышать и не видеть. Только старичок с узелком на коленях был относительно спокоен и бесстрастно смотрел вверх, готовый ко всему, что может случиться. Но наверху вроде бы ничего не происходило. Иногда коротко, глухо всхлипывала вспоротая взрывами земля. А недалеко от убежища, на маленькой площади, по иронии судьбы безмятежно звучало радио, лилась все та же песня, все тот же приятный женский голос слал вдаль неизменную мелодию, у которой, казалось, не было конца. Вдруг у входа в убежище что-то стремительно прошуршало, пронеслось холодное дуновение ветра, раздался оглушительный взрыв и началось светопреставление. Песня оборвалась. Низко над землей пронесся большой лист кровельного железа. Земляной дождь хлынул на тех, кто сидел в убежище, и они зажмурились в ожидании конца. Одна из земляных стен раскололась, часть импровизированной крыши тут же рухнула вниз. Старичок издал глухой короткий стон. Мадам полковница душераздирающе вскрикнула, а ее песик жалобно заскулил и, вырвавшись у нее из рук, пулей вылетел из убежища. Дана открыла глаза. Потрясенная, она провела ладонью по лицу, стряхнула землю с одежды и хотела было встать, но у нее закружилась голова, и она рухнула на скамеечку, привалившись к влажной стене. — Сиди спокойно, — сказал маленький Максим, — я им помогу. Только, мне кажется, этот старый человек…5
Рядом кто-то сухо кашлянул, и Михай, лежавший навзничь у корня большого дерева, поднял голову и огляделся. Наверху, на плоскогорье, кипел и клокотал город. Взвивались к небу столбы черного дыма. Страшные взрывы следовали один за другим, и каждый казался последним ударом по городу, больше просто не выдержать. Плыл туман из сажи и пыли, густой, как черная вуаль; раскаленный воздух был едким и плотным. Снова кто-то кашлянул, и на этот раз Михай увидел неподалеку, в тени каштана, человека в железнодорожной форме. Он склонился над разложенным на земле полотенцем и ел, будто не замечая, что творится вокруг. По виду ему можно было дать лет шестьдесят. Он был давно не брит, в темно-серой грязной рубахе и брюках из грубой домотканой шерсти, рваных и лоснящихся от машинного масла. Ел сосредоточенно, спокойно, не торопясь, изредка жадно прихлебывая из пузатого глиняного кувшина и вытирая широким рукавом рубахи пышные светлые усы. Глядя на него, Михай подумал, что человек этот, по-видимому, работает здесь, на вокзале. Не расспросить ли его о судьбе тети Эмилии? Он, конечно, ее знает, она проработала кассиршей столько лет!.. Если она жива, значит, и с домашними ничего не случилось. Ведь жили все вместе, в одном дворе, и если бы упала бомба… Подумав так, он встал и направился к старому железнодорожнику, поздоровался. Тот кивнул в ответ, а затем пригласил сесть рядом. На белом полотенце лежало несколько луковиц, ломоть холодной мамалыги, кусок брынзы и три крутых яйца. — Вы тоже не боитесь бомб? — спросил старик, и его жесткое, дубленое лицо осветилось улыбкой. — А чего мне бояться? — удивился Михай и сел на траву рядом со стариком. — Погибнуть можно и в убежище… — И я так думаю, — поддержал железнодорожник, не переставая жевать. — Когда пробьет час, смерть найдет тебя, даже если ты спрятался глубоко под землей. Вот оно как. Угощайтесь чем бог послал, в этом году почти ничего не уродилось. Некому было обрабатывать землю… — Спасибо, я недавно ел, — отказался Михай, глотая от голода слюну. — Но если это вам доставит удовольствие… — Угощайтесь, угощайтесь, — доброжелательно предлагал старик, — еда для того и существует, чтоб ее ели. Там в кувшине вода, хорошая, холодная. Неплохо бы, конечно, выпить доброго вина, но на нет и суда нет. Михай взял большой кусок мамалыги, ломтик брынзы и стал торопливо и жадно есть. Двое суток у него во рту не было ни крошки. Без денег он все равно ничего не мог бы купить на станциях, мимо которых проезжал, даже если там что-то и продавалось. Только около Тимишоары какая-то старушка дала ему свежий огурец и кусок лепешки. И это все… — Какие новости с фронта? Держат немцы оборону или продолжают катиться под напором русских? — спросил старик и жестом пригласил Михая отведать еще чего-нибудь, не стесняться. — В газетах пишут такое, уж не знаешь, чему и верить… — Что я могу сказать? — пожал плечами Михай. — Мне обстановка неизвестна. — Для немцев — хуже некуда, — покачал головой старик, давая понять, что ему-то известно многое. — Влипли они, немцы! Приезжают наши железнодорожники оттуда, из Молдовы, и рассказывают, как они перепуганы… Русские их колошматят спереди, а если бы еще мы им наподдали сзади, вот было бы дело, мы бы их, как клопов, передавили. Навязались они на нашу голову! Как думаете? — Конечно. Поговорили еще о том о сем. Старик жаловался, что у них в селе некому собирать урожай, все мужчины на фронте, остались женщины, дети да несколько инвалидов, без рук, без ног, еле дышат. И если они что и соберут, все равно к зиме будут помирать с голоду, ведь государство, как и в прошлом году, отнимет всю пшеницу и всю кукурузу, а заплатит — курам на смех… — Да и подорожало все очень, — продолжал он с горечью. — Позавчера, например, коровы продавались по двадцать пять тысяч лей, а свиньи — по шесть. Вот и ходи после этого на базар!.. Он замолчал, почесал голову, взлохматив волосы цвета конопли, и глубоко вздохнул. — Слушай, дед, — спросил через некоторое время Михай, — в городе есть немецкие части? — Немецкие части? Нет. Теперь нету. Русские их перемолотили, но комендатура есть, она там, возле суда, на бульваре. Знаете, где суд? В большом таком, двухэтажном доме. Он сильно потрепанный, но целый, пока еще его не разбомбило… У ворот — часовой, перед домом всегда много машин. Так что комендатура тут, никуда не переехала… А вы сами местный? — спросил старик. — Нет, — соврал Михай, избегая взгляда старика. — Я приехал издалека, из Плоешти. К родственникам. У меня здесь тетя, кассиршей на вокзале работает. Госпожа Эмилия Николяну… Вы ее, случайно, не знаете? — Госпожа Николяну? Да как же я могу ее не знать?! — заволновался старик, хлопнул ладонью по колену. — Знаю, как не знать, я ведь работаю обходчиком. Только ведь она… — У него потемнело лицо, он горестно покачал головой и с сожалением махнул рукой. — Что с ней? — испугался Михай и схватил старика за локоть. — Говорите! Что? Умерла? — Нет, не умерла, но с той пасхальной ночи… — Старик опять покачал головой, вытер рот рукой и принялся собирать остатки еды в полотенце, готовясь завязать узелок. Он молчал: нехорошо говорить о том, что наверняка не принесет никакой радости. — Что случилось пасхальной ночью? — спросил дрожащим голосом Михай, снова хватая старика за руку. — Говорите же, бога ради! — Ну что могло случиться? — мягко и уклончиво начал старик. — Как раз тогда и начался у нас весь этот ужас, который обрушился на наши головы. — Это был первый налет на город? — спросил Михай. — Да, именно в ту ночь. — Так что же случилось с моей тетей? — Что? — продолжал старик, не глядя на Михая и старательно укладывая свой узелок в стоящую рядом корзинку. — Да ничего хорошего. Но надо рассказать все по порядку, чтобы вы себе представили, как все это было… — Ну так давайте рассказывайте. Старик погладил усы, коротко кашлянул и начал: — Так вот, в канун пасхальной ночи я был здесь, на вокзале, дежурил, и мне надо было осмотреть состав, который стоял очень далеко, у самой сортировочной. Иду с чемоданчиком и вижу — на небе появились как бы огненные зонтики, плывут над городом и освещают его, словно днем. Я и подумал, это какое-нибудь божественное чудо, а зонтики тем временем начали медленно и плавно снижаться, как парашюты. Тут люди смекнули, что дело нечисто, высыпали на улицу и кинулись бежать подальше от центра, на окраины города. И тогда зазвонили колокола, загудели пароходы в порту, заревели гудки фабрик и заводов, завыли и наши паровозы в депо. Все предупреждало об опасности. Ну и через несколько минут мы услышали гул самолетов, как слышим их сейчас, но тогда они спустились совсем низко, не так, как сегодня, эти еле различишь невооруженным глазом. Самолеты шли так низко, что дребезжали стекла, дрожали листья, люди были прямо-таки в панике. — А с тетей что случилось, с моей тетей? — нетерпеливо перебил Михай. Нельзя сказать, чтобы его не интересовал рассказ старика, но он хотел поскорее узнать что-нибудь про своих. — Сейчас… сейчас… — деликатно успокаивал его старик. — Дойду и до этого. — Он прокашлялся, приложился к кувшину с водой, сделал большой глоток и продолжал: — Вы уже знаете, в ту ночь я был на сортировочной, проверял оси одного из вагонов, мы хотели перевести состав на четвертый путь, добавить несколько товарных вагонов с пиломатериалом. Когда я увидел, что люди побежали кто куда, я бросил все и тоже побежал сюда, к церкви Греческу, пробирался между вон теми деревьями, хоронился от света проклятых зонтиков. Я бежал все быстрее и вдруг споткнулся о камень — он валялся посреди дороги, — полетел кувырком, чуть не сломал ногу. Встал и, дрожа от страха, снова бросился бежать. Только я добежал до улицы Дечебала, слышу — взрывы внизу, у вокзала, такие сильные, будто земля раскалывается. Бомбы сыпались непрестанно, стоял жуткий грохот, все рушилось, и я подумал, проклятие ада послано на наши головы. Теперь-то мы привыкли, слышите, что творится, а мне хоть бы что. Господа американцы могут шуметь сколько хотят, плевал я на них. Вот только зло берет, никак не кончается эта война… — Ну а дальше? Что было дальше? — Сейчас… сейчас… Дальше, — продолжал старик свой рассказ, — что бы вы думали? Бомба попала прямо в поезд с боеприпасами, тот, у которого я проверял оси. Представляете, как мне повезло, что я вовремя ушел оттуда! Двое суток без перерыва рвались снаряды, нельзя было подойти к составу ни с какой стороны. Вас интересует вокзал? Под утро я спустился сюда, он горел, был весь в черном дыму, а вокруг — пыль столбом, крыши не было, мастерские тоже без крыши, и в новый театр, что возле мастерских, туда тоже попала бомба. — Ну а моя тетя, кассирша? — в нетерпении спросил Михай. — Она, бедная, как услышала, что рвутся бомбы, стала собирать бумаги, билеты, деньги — не могла же она их кинуть. Пока она все это собирала, не знаю уж, как это случилось, заклинило замок в дверях, и она так растерялась, что не могла сообразить, как ей выбраться из киоска. Никто ей не помог, все бежали кто куда, все спасали свою шкуру. Так и просидела она, несчастная, взаперти до утра, а когда мы вернулись, те, кто уцелел, чтоб помочь людям, мы нашли ее там же, в киоске… — Раненую? — Какое там! — махнул рукой старик. — У нее не было ни одной царапины, да и вообще киоск не пострадал, разве что стена треснула. Так это ж ерунда… — Что же с ней случилось? — Она была целехонька, горемычная женщина, но сидела на полу с кучей билетов и денег в подоле и то смеялась, то плакала, то принималась петь. Помешалась… и волосы на висках стали белые… Подумайте сами, просидеть всю ночь в этом кошмаре, просидеть взаперти — останешься тут в здравом уме? Вот то-то и оно… Старик кончил рассказ и с горечью покачал головой. Михай сидел, опустив глаза, задумавшись, не говоря ни слова. Голова у него слегка кружилась, в глазах стоял туман. «Бедная тетя Эмилия!» — с болью думал он. Невозможно поверить, что эта доброжелательная, с открытой и щедрой душой веселая женщина, которой он обязан счастливым детством, теперь в таком плачевном состоянии. Как жестока судьба! А дядя Александру? Не погиб ли он на фронте? И жив ли Костел, их сын? А что с отцом? С мамой? С Даной? — После этого, — продолжал старик, считая, что должен добавить что-нибудь к сказанному, — пришел утром ее брат или зять, уж не знаю, кем он ей приходится, и забрал ее к себе. Говорят, он работает учителем. С тех пор прошло много месяцев, я ее больше не видел. Бедняжка! Иногда она отдавала мне дорогие сигары, ей их дарили пассажиры: «Держи, дядя Тудоран (меня ведь зовут Тудораном), я хочу, чтобы ты почувствовал себя барином хоть немножко!» — А учитель, вы не знаете, жив? — решился спросить Михай. — Какой учитель? — Тот, о котором вы говорили… Он пришел и забрал мою тетю домой. — Откуда я знаю? — пожал плечами старик. — В то время был жив, но судьба каждого человека сейчас на волоске. Прошло почти четыре месяца с той ночи, за это время много раз прилетали самолеты и все бомбили и бомбили, так что я теперь уж и не знаю, осталась ли цела хоть треть домов в городе. И сегодня опять, смотрите, слетелись нам на погибель… Слышите, какой грохот?.. Похоже, они сбросили свой груз на горе, в районе Крихальского леса или на Главной улице… Люди мрут как мухи, гибнут каждый день, — продолжал он и кивком показал на город, разрушенный бомбами. Потом поднял корзинку с земли и встал: — Вот что я забыл вас спросить: там, в Плоешти, откуда вы приехали, тоже такое творится? — Тоже… — Двухтысячный год — конец света, так гласит библия; ну чем не двухтысячный год!.. Мы ведь сами хотели войны, сами теперь и наказаны. — Разве вам или мне она была нужна? — спросил раздосадованный Михай и тоже поднялся с земли. — Нам не нужна, а вот там, наверху… Нехорошо, что мыоб этом говорим, никогда не знаешь, куда полетит слово… Правильно кто-то сказал: одни кашу заваривают, другие расхлебывают. Вот оно как! Ну, до свидания и всего хорошего. Спущусь-ка я вниз, к станции, посмотрю, что там делается, господа американцы, видно, не скинули сегодня туда ни одного яичка… Он перехватил поудобнее корзинку и быстро пошел между деревьями парка вниз по тропинке, которая вела к будке путевого обходчика. Михай некоторое время смотрел ему вслед, потом наконец решился и двинулся домой. Момент был самый подходящий. Воздушная тревога, массированная бомбардировка, все попрятались в убежища, он никому не попадется на глаза. Улицы опустели, можно было не опасаться встречи с военным патрулем или полицейскими.6
Учитель Влад Георгиу появился в Турну-Северине пятнадцать лет назад, его перевели сюда из ясской гимназии. Он родился в Питешти, там учился в гимназии, а в Яссах окончил институт и начал карьеру педагога. Было это сразу после первой мировой войны. Человек прямой и честный, принципиальный в суждениях и поступках, он терпеть не мог лжи и очковтирательства, считал — лучше, если ученик признается, что не выучил урока, чем будет отвечать по подсказкам или пользоваться шпаргалками, был врагом слишком ранней взрослости в поведении учеников и воевал как с ними, так и с теми, кто их поощрял. Не разрешал, чтобы на его уроках присутствовали мальчики с длинными волосами и в галстуке. «Это не про вашу честь, подождите, пока не перейдете в восьмой класс! — наставлял он их с кафедры, — Вы здесь самые маленькие, должны вести себя так, как я велю, как того требует школьная дисциплина». Были, конечно, и недовольные, некоторые пытались спорить, приводили примеры: мол, учитель математики Опреску, классный руководитель седьмого «Б», разрешил ученикам ходить с длинными волосами и в галстуке… И учитель Штефэнойю разрешил… Как же так, одним можно, другим нельзя?! Разве они учатся не в одном и том же учебном заведении? Разве здесь не единые законы для всех? Так в чем же дело? Хорошо, — говорил он таким крикунам, — учитель Опреску разрешил, ходите, как хотите, на здоровье, но ко мне пусть никто не является с гривой волос, выгоню из класса». Что было делать гимназистам? Они стриглись, как им было велено, но на учителя имели зуб и Михая, который был их одноклассником, несколько раз поколачивали. То один, то другой с издевкой вопрошал: «Твой отец вообразил себя Нероном? Владыкой Рима? Почему он вводит свои порядки?» Михай пожимал плечами, не зная, что ответить, и с улыбкой наклонят голову, остриженную наголо, показывая, что он не исключение. В период правления легионеров[1] принципы Влада Георгиу стали притчей во языцех среди учителей и учеников гимназии. Он, например, требовал, чтобы те несколько учеников, которые вступили в «Железную гвардию», не появлялись на улице, а тем более у него на уроках, в зеленых рубашках навыпуск. «Ах вы, мартышки! — кричал он и драл их за уши, пока у них не выступали на глазах слезы. — Сначала наберитесь ума-разума, а потом занимайтесь политикой. Молокососы! Чтоб я вас больше не видел в этих рубашках, вытащенных из кальсон. Ясно? А кальсоны у вас что, тоже зеленые?» Разумеется, его смелость не осталась без последствий. Вскоре он был вызван по телефону в уездную инспекцию средних учебных заведений, где юный, статный и очень лохматый чиновник распек его за оскорбления, нанесенные движению легионеров, и напомнил содержание циркуляра министерства национального воспитания, где легионерам поручалось «воспитывать» школьников, за школой же сохранялась только обязанность их обучать. Ссылка на циркуляр должного действия не возымела. И сколько ни старался молодой чиновник убедить учителя в том, что высшие указания якобы непререкаемо верны, с Владом Георгиу он сладить не мог. Учитель отстаивал свои принципы упорно, настойчиво повторял, что «политикой не должен заниматься каждый сопляк». Выведенный из себя инспектор нервно тряхнул лохмами и резко изменил тон беседы, но Влада Георгиу не испугали ни угрозы, ни предупреждения о том, что его уволят с преподавательской работы. «Дорогие коллеги, — обратился он к присутствовавшим на беседе сотрудникам инспекции, — я не испугаюсь, даже если попаду в царство нечистого, в преисподнюю. Видите ли, я не могу себе представить, чтобы я, учитель Георгиу, в вопросах политики разбирался хуже, например, своего ученика Чокырдела из шестого класса, распущенного, наглого второгодника и бездельника, который бросает камни в витрины еврейских лавочек и громит средь бела дня дома честных и ни в чем не повинных людей. Если хотите, называйте хулиганское поведение этого подонка и других вроде него актами воспитания, от меня вы этого не дождетесь! Здравый смысл подсказывает, что надо бороться с этими типами и с теми, кто их воспитывает». С красным от гнева лицом, он встал, взял шляпу и, хлопнув дверью, ушел не попрощавшись. Ему повезло: через несколько дней существование легионеров бесславно закончилось. Не будь этого, кто знает, что могло бы случиться с учителем Георгиу. Влад Георгиу одевался скромно, носил дешевый, но всегда чистый костюм, хорошо отутюженные брюки, белую накрахмаленную рубашку. В класс входил с суровым, торжественным видом, тяжелой, полной достоинства поступью, держа журнал под мышкой, сосредоточенно усаживался за кафедру, медленно, неторопливо доставал очки в золотой оправе и, прежде чем протереть стекла, близоруко щурился, смотря поверх ученических голов молча и глубокомысленно, ни одна мышца, бывало, не дрогнет на его бледном, всегда свежевыбритом лице. Улыбался редко, иногда шутил, но никогда не переступал границ «хорошего педагогического тона», как он сам его понимал. Был скуп в оценке знаний, и отметки, которые он ставил учащимся, ни разу не превышали четырех баллов. Он был категорически против зубрежки, но на каждом уроке по десять раз повторял то, что, как ему казалось, ученики не поняли, поэтому они злились на него и считали занудой. Когда же он начинал вызывать и спрашивать то, о чем только что и с таким жаром говорил, и выяснялось, что внятного ответа добиться невозможно, сыпались двойки и тройки, в классе стоял стон и плач, и казалось, конца ему не будет. На переменках ученики обсуждали своего строгого учителя. — Алексиу, тебя спрашивали на уроке истории? — интересовался кто-нибудь из учеников параллельного класса. — Вызвал он меня. А я не знал второй поход римлян. Влепил мне Влад Цепеш[2] двойку, лепешку из меня сделал! — И у нас сейчас история. Я уж зубрил, зубрил, но боюсь ужасно, ой, мамочки, как страшно!.. Ученики дали ему эту кличку, и почти вся школа называла его не иначе как Влад Цепеш. Он знал об этом, но делал вид, что не знает. Каждый отстающий ученик, считал он, бывает в числе недовольных и любит позлословить, это естественно. Когда он приехал из Ясс и поселился на улице Аурелиана, в доме, который снял у священника, его дети были совсем маленькими. Михаю исполнилось пять, а Дана еще только училась ходить. Горячо любя своих детей и заботясь об их воспитании, Влад Георгиу посвящал им много времени, играл с ними, читал им сказки. Вечером вместе с ними и женой Аной, тоже учительницей — она преподавала музыку в женской гимназии, — он шел в городской сад, где иногда играл духовой оркестр 95-го пехотного полка. Когда темнело, они уходили оттуда, шли мимо маленьких кафе» расположенных в центре, где прогуливались по вечерам жители Турну-Северина, останавливались у ресторана «Империал», пили пиво, ели лесные орешки и слушали оркестр или просто садились на скамейку под каштанами на бульваре, отдыхали, смотрели на прохожих. После окончания начальной школы Михая отдали в гимназию «Траян», где преподавал его отец, а Дану — в женскую гимназию «Принцесса Елена», чтобы она находилась под присмотром матери. Мальчик учился прилично, несколько лет был даже отличником, но склонности к преподавательской деятельности у него не было, и это очень огорчало отца, который мечтал видеть сына педагогом или выдающимся исследователем литературных памятников старины. По окончании гимназии Михай выразил желание стать офицером, к удовольствию матери, которая питала слабость к военной форме. Мать всячески поддерживала сына в его желании ступить на военную стезю и чувствовала себя на вершине блаженства, когда были опубликованы результаты приемных экзаменов в офицерское пехотное училище, — по количеству очков Михай прошел десятым из числа абитуриентов, которых было более трехсот. Михай уехал в столицу, его ждало относительно обеспеченное будущее. Дана продолжала учебу в гимназии. Она была привлекательной, веселой девушкой, любила играть на фортепьяно, мать даже подумывала о том, чтобы позднее определить ее в бухарестскую консерваторию, где она могла бы совершенствовать свою технику. Десять лет назад в город приехала и сестра Влада Георгиу, Эмилия, ей исполнилось тридцать два года, но она все еще была не замужем из-за слишком большой разборчивости. Маленькая, худенькая, с пышным пучком густых волос, синими искрометными глазами, освещавшими все лицо, она была человеком открытым, непосредственным, очень отзывчивым и страстно любила детей. Приехала она из Питешти, где долгое время служила в банке, перебралась к брату в Турну-Северин, надеясь, что он ей поможет и она наконец устроит свою жизнь. Через несколько месяцев после приезда Эмилия поступила кассиршей на вокзал. Вскоре ее заметили, оценили доброжелательность, добросовестность, она снискала уважение всего коллектива. На работе она носила синий халат с белым накрахмаленным воротничком, у нее была легкая, стремительная походка и привычка по-особому держать сигарету в руке; всем своим видом она напоминала скорее подростка, недавно получившего некоторую самостоятельность и попавшего на вокзал чисто случайно, чем служащую ее возраста. Спустя два года, зимой, она познакомилась с Александром Николяну, бухгалтером Национального банка, за которого в скором времени и вышла замуж. Молодая семья сняла квартирку из двух комнат и маленькой прихожей в старом доме на улице Горация, принадлежавшем старухе по имени Роза, которая почти двадцать лет проработала поварихой на большом пассажирском судне. Эмилия вынуждена была расстаться с братом и невесткой Аной, с которыми прожила столько времени, но она часто их навещала, особенно потому, что обожала Михая, оправдывала все его шалости, а когда он проказничал, веселилась вместе с ним. Ей хотелось иметь такого же сына, и через непродолжительное время у нее родился Костел, не ребенок, а чертенок, неугомонный, озорной, который в пять лет мог легко отколотить восьмилетнего, лазил по всем заборам, умел запустить змея, стрелял из рогатки по воробьям, чаще попадая в окна соседей, чем в птиц. — Хотела иметь ангела, получила дьявола, — часто говаривала Эмилия, втайне гордясь сумасбродством мальчика, которое полностью оправдывала, считая, что детские годы должны быть прожиты бурно. — Знаешь, Александру, этот малыш похож на тебя, вы прямо как две капли воды. Но Костел даже отдаленно не напоминал отца. Александр был добр, снисходителен и покладист. Он окончил коммерческую гимназию в Бухаресте и там же — коммерческую академию, несколько лет работал в Национальном банке, потом в провинциальных банках и наконец осел в Турну-Северине, где и обрел семью. Он любил своего шурина, учителя Влада Георгиу, и считал, что по всем семейным вопросам решающий голос должен оставаться за ним. Уважал он и Ану, женщину работящую, преданную мать, которая, выйдя после тяжелой операции на пенсию, продолжала работать, давая частные уроки музыки. Александр, как и его жена, был человеком отзывчивым, нередко помогал Владу по хозяйству: дров наколет, огород вскопает, смастерит что-нибудь. Зимой сорок второго года его мобилизовали, и он отправился искать свой артиллерийский полк в далекие русские степи, в излучину Дона. Еще до отправки на фронт он говорил иногда шурину в откровенных беседах, вечером, за чашкой кофе: — Знаешь, Влад, я оттуда не вернусь. У меня такое чувство, что война меня не пощадит… — Глупости! — возражал Влад, сочувственно глядя на него сквозь стекла очков. — Глупости ты говоришь… — Нет, не глупости, — настаивал Александр. — Это предчувствие. Знаешь, дорогой, последнее время я много размышляю о причинах войны. Сказать тебе, к какому выводу я пришел? Войн не было бы, если бы люди — я говорю о солдатах, — если бы эти люди договорились и не пошли бы воевать. Как ты думаешь? Я прав? — Конечно. — А эта война, которую затеяли немцы, разве есть ей оправдание? Жизненное пространство… Не более чем предлог. Что было бы с миром, если бы все народы стали требовать себе жизненного пространства? Каждый смотрел бы через забор соседа с намерением отхватить у него кусок земли, ведь так? — Что и говорить… — И можно ли оправдать то, что мы попали как кур во щи, дали втянуть себя в это побоище? — Вот что, Александр, — мягко останавливал его Влад Георгиу, — ты меня извини, но вести такие беседы я не могу. Я тебе уже говорил, что не занимаюсь политикой. Я учитель истории, и только. История как наука хранит в своей памяти особо важные события, которые произошли в ходе развития человечества, и доводит их до сведения каждого нового поколения, чтобы люди их знали и правильно оценивали. История и политика — разные вещи… — Хорошо, Влад, допустим, но как человек, а не как историк ты можешь оправдать положение, при котором страна идет к катастрофе? — Пойми, мой друг, я не занимаюсь политикой, — пытался прервать беседу учитель. — Может быть, ты и прав, а может, и нет. Я не знаю. И не ищу правды в том, чего не знаю… Тогда, зимой, в вечер своего отъезда, Александр был мрачен, неразговорчив. На вокзале, в вихре вьюги, уже слыша звуки приближающегося поезда, он молча обнял жену, сына, пожал руку Владу и Михаю. — Береги себя, Александр, — все повторяла и повторяла Эмилия, еле сдерживая слезы. — Не ходи под пулями, никому не причиняй зла. Бог всемогущ, он все видит. Старайся не простудиться. И пиши нам. Почаще, чтобы мы знали, как ты там… Костел, в черном пальтишке, в шапке, нахлобученной на уши, стоял, тесно прижавшись к отцу, и беззаботно играл ремешками от его ранца. А Влад молчал, задумчиво наблюдая, как кружит снег над перроном, изредка притопывал, чтобы согреть замерзшие ноги. Александр уехал, и больше никто ничего о нем не знал. Спустя полгода в городе появился некий Василиу, капитан запаса, приписанный к одному из артиллерийских полков. Встретившись с Владом, он сообщил, что Александр пропал без вести. Эмилия безутешно плакала, терзалась, пока в первый же налет американцев на город ее разум, измученный черными мыслями и потрясенный пережитым кошмаром, не померк навсегда. В том же году уехал в военное училище и Михай. Сначала он писал из Бухареста, потом письма стали приходить из Германии, Франции, Италии и, наконец, из Северной Африки! Последние восемь месяцев и вокруг него легла зловещая тишина. Он молчал, и неизвестно было, что думать о его судьбе. Несчастная мать не знала ни минуты покоя. По ее просьбе Влад пошел к полковнику Предойю, командиру резервного пехотного полка, который был в то время и начальником румынского гарнизона. В тревоге за судьбу сына он даже предпринял поездку в Бухарест, в военное училище, пытаясь узнать, нет ли у них сведений о тех, кто был направлен в Германию для продолжения учебы. Побывал и в германской дипломатической миссии… Но все было тщетно. Никто ничего не знал. От прямого ответа явно уклонялись, говорили, пожимая плечами: «Война ведь идет, а на войне всякое может случиться!» Поняв, что он не может ничего сделать, учитель вернулся совершенно разбитый, сломленный, и с тех пор в доме стало, как в склепе. Никто не говорил ни слова, даже шепотом. Двигались молча, печальные и удрученные, стараясь не производить ни малейшего шума, заботясь о том, чтоб не побеспокоить мать, сразу постаревшую лет на десять. Влад Георгиу часто ездил в село Шишешти, за несколько километров от города. Туда была переведена гимназия, и Влад принимал экзамены у своих учеников и у тех, кто занимался самостоятельно. Возвращался через несколько дней, усталый и запыленный, с чувством отвращения ко всему, что происходит вокруг, с впущенными плечами, на которые давила невидимая тяжесть. Он не мог спать, почти ничего не ел, бесцельно бродил по квартире, то и дело поглядывая через окно на калитку, чутко прислушиваясь ко всем доносившимся с улицы шагам. Иногда ему мерещился знакомый голос, он вздрагивал, настораживался, но нет, это был не Михай… Удрученный, страдающий, он много времени проводил в садике перед домом, сидя на скамейке и листая полученные с опозданием газеты. Дана ежедневно ходила на работу, несла «военную трудовую повинность» вместе с учениками и ученицами, оставшимися в городе, — помогала разбирать дома, разрушенные бомбардировками, сгребать битый кирпич, уносить обгоревшие балки, все, что мешало нормально пройти или проехать по улице. Кто уклонялся от работы, не получал соответствующей справки и осенью отстранялся от занятий. Она возвращалась домой поздно, чуть живая от усталости, с израненными руками и в пропыленной одежде, недовольная тем, что так проходят ее каникулы, которые она планировала провести в экскурсиях по стране, а если бы они не состоялись, она бы осталась дома и гуляла, читала или просто отдыхала, но не возила бы тачками щебень. Входя в комнату, Дана пыталась понять, не изменилось ли что-нибудь в жизни семьи, не принес ли кто известий о Михае? Не пришло ли от него письмо? А может быть?.. Но нет, ничего нового… Как обычно, все занимались своими делами, ходили молча, опустив глаза, словно именно они были виноваты в том, что Михай пропал. Так проходили день за днем, неделя за неделей… Проходили в давящей, печальной и тяжелой монотонности, и это разъедало душу, полную боли и горечи.7
Воздушная тревога еще не кончилась. На другом конце города были слышны взрывы, частые и сильные. Но вот они стали реже, потом вовсе прекратились. И лишь густые клубы дыма и коричневой пыли, похожие на плотный и тяжелый туман, поднимались ввысь, плыли над городскими развалинами. Самолеты, отбомбившись, улетали один за другим. Гул моторов постепенно слабел, пока полностью не растворился где-то вдали, за горами. Спустя несколько минут снова зазвучали гудки паровозов, пароходов, церковные колокола, установленные на центральных зданиях сирены; все они дружно оповещали о том, что опасность миновала. Из убежищ, вырытых в парке или на пустырях, из погребов и проходных дворов, как по команде, высыпали мужчины и женщины, ведя за руку детей, держа под мышкой пледы, с чемоданчиками и узелками, ведь они были готовы к возможному бездомью. Секунду-другую они с испугом смотрели друг на друга — осунувшиеся, серые лица переживших бомбежку, — на небо, желая убедиться, что опасность миновала, потом улыбались, молча и с облегчением, преображаясь на глазах, радуясь, что прошло и это бедствие, что они целы, здоровы и могут наслаждаться жизнью. — Броде бомбили водохранилище, — высказал предположение какой-то мужчина, стараясь как можно лучше утрамбовать свое барахло в старенькую детскую коляску. — Разворотили небось все… Несколько человек услышали и подошли, стремясь побыстрее узнать новости, плохие ли, хорошие, лишь бы узнать. — Что? Что он говорит? — Говорит, бросали бомбы в районе водохранилища. — Нет-нет, — уверенно заявил господин в пенсне, — самолеты прилетели со стороны Кладовы, пронеслись над городским садом и сбросили бомбы совсем в другом месте — внизу, ближе к новому кварталу. — Да ничего подобного! — влился еще один голос. — Только что здесь проезжал извозчик и сказал, что в немецком квартале, наверху, около стадиона, камня на камне не осталось. — Ну чего уж теперь, где бросили, там и бросили, хорошо, мы остались живы. Пошли по домам, интересно, узнаем ли свой квартал… Стараясь держаться как можно незаметнее, Михай невольно слышал эти разговоры, но не рискнул подойти поближе. Он не был уверен, что его не узнают и тут же не выдадут. Он сожалел, что не пошел домой в начале бомбежки, когда на улицах не было ни души. Сейчас всюду стало оживленно, легко было встретить кого-нибудь из знакомых. Он пересек парк, держась в тени деревьев. Внизу, справа, виднелись мастерские судоверфи, а дальше — порт со складами и плавучая пристань. Сквозь листву кое-где проглядывал сверкающий на солнце Дунай. С большой предосторожностью Михай вышел на главную аллею, почти бегом миновал памятник Героям. Чтобы перевести дыхание, на минуту остановился. Он чувствовал себя усталым, изнуренным без еды и сна. Дышал часто, неровно, сердце сильно и гулко стучало. Немного успокоившись, осмотрелся — ведь он не был здесь два года! Парк Роз, названный так жителями города за обилие цветов, лишился знакомого очарования. Запущенные газоны поросли сорной травой, зияли глубокие воронки от бомб и траншеи, вырытые прямо на месте цветочных клумб. Через траншеи были перекинуты гнилые бревна. Гравий с аллей смыли дожди, обнажилась потрескавшаяся от зноя земля. Выкрашенные в зеленый цвет деревянные арки, когда-то увитые розами, были поломаны. Парк выглядел безжизненным, как пустырь. Михай повернул голову и посмотрел на бульвар. И он был похож на пустырь. А особняки, кокетливые или строгие, с большими светлыми окнами, выходящими на Дунай, и садами, полными цветов, были разрушены все до одного, безжалостно и дико. От них остались изуродованные черные стены. Все поросло бурьяном. Послышался шум мотора, Михай повернулся на звук. Мчался синий «мерседес» с откидным верхом, за рулем сидел унтер-офицер; на заднем сиденье застыли два немца в зеленовато-коричневых мундирах: подполковник в очках и рыжий капитан; они придерживали высокие фуражки, чтобы их не сдуло ветром. «И правда, в городе есть немецкие части, — подумал Михай. — Мне надо скрываться… Надо… Нет сомнения, местные немцы имеют приказ выследить и арестовать меня. Ведь я был призван в немецкую армию. И тот же приказ наверняка получили и румынские власти. А может, и нет… Да что там гадать, — твердо сказал он себе, — мой побег не могли не заметить, я был заключенным, носил номер, меня, безусловно, разыскивают. Даже здесь, далеко от Бремена… Господи, как страшно! Просто ужасно!» Михай ощутил ледяной озноб. И на мгновение снова увидел себя за колючей проволокой, по которой пропущен электрический ток, в лагере или в сырой камере гестапо. «Нет, лучше умереть, чем попасть к ним в руки. Если я хочу выжить, мне надо быть очень осторожным». Он пошел, прячась за деревьями, к дому. Солнце палило, и от жары асфальт размяк. У здания театра он увидел странный санитарный поезд: к расшатанной коляске с просевшими рессорами — ее тянула старая кляча — были прицеплены три военных фургона на высоких рассохшихся колесах, забитые ранеными. Женщины, мужчины и дети были свалены друг на друга как попало. Их стоны и крики привлекли толпу любопытных. Высокий, здоровый полицейский пытался расчистить дорогу. — Отойдите, граждане, не толпитесь! — властно покрикивал он, размахивая черной резиновой дубинкой. — Ну чего вылупились? Не стойте, проходите! Это вам не обезьяны в цирке, а такие же люди, как вы. Несчастные люди. Ты что, умирающих не видел? Вали отсюда! — набросился он на какого-то парня. Махай быстро пересек бульвар, углубился в широкую улицу — излюбленное место прогулок жителей Турну-Северина, — остановился возле кафе и замер, пораженный тем, что открылось его взору, больших домов, зданий, где размещались главные учреждения, не было. Банк и все вокруг него было разрушено. Гостиницы «Европа», «Регал» и «Траян», магазины, кафе, рестораны — все, что несколько месяцев назад располагалось вокруг муниципалитета и составляло костяк старого города, лежало в развалинах. Сквер с величественной статуей Траяна являл собой картину варварского опустошения. Снова подумав, уцелел ли дом его родителей, он повернул направо и оказался на улице Аурелиана: старые дома с закопченными стенами, некоторые без крыш или разрушенные до основания. Запах гари, сажи и обгорелой краски. Во дворах — бурьян, поломанная мебель, щебень, груды кирпича. Дойдя до церкви, Михай увидел большую толпу. Он не сразу понял, что здесь происходит. Множество людей собралось у двухэтажного дома. В результате прямого попадания дом горел как огромный факел. Часть кровли рухнула. Через высокие окна вырывались языки пламени и плотные клубы дыма. Двое мужчин, в рубашках с засученными рукавами, черные от сажи, бросали с балкона все, что еще можно было спасти: подушки, матрасы, чемоданы. Во дворе кричала женщина, она умоляла окружающих вынести ее вещи из горящего дома. Другая, упав на землю, плакала навзрыд, рвала на себе волосы: она не могла найти ребенка, которого час назад оставила дома. — Я ходила за маслом, — рыдала несчастная мать, — а идти далеко… И ребенок дома один… И окно открыто… — А где ваш муж? — трясла ее за плечи какая-то старуха. — На работе, где ему быть! Он помощник полицейского комиссара. Ангелеску, Ангелеску его фамилия… Сбегайте кто-нибудь, позовите его! Боже, какое горе… Сгорит мой сыночек, сгорит! Михай смешался с толпой и стал смотреть на происходящее. В пламени трещали и рушились оконные рамы, балки, слышался душераздирающий плач, крики мужчин, которые метались с ведрами, пытаясь потушить пожар. В раскаленном воздухе летал пепел, огонь угрожал соседним домам, а люди, уже привыкшие к таким бедам, беспомощно наблюдали, отступая все дальше от стен, которые грозили рухнуть. Вдруг из толпы раздался крик мальчика, он показывал рукой на высокий тополь, чудом уцелевший вблизи горящего дома. — Смотрите, кто-то там есть, на верхушке дерева! Птица с красными крыльями… Ой, сейчас упадет… Все посмотрели туда, куда он показывал. И правда, на самом верху тополя что-то билось. Но это была не птица. Казалось, вниз медленно скользит красный флаг. В листве мелькало и что-то белое… — Это не птица, господа! — сказал мужчина неопределенного возраста, на костылях, небритый, со смуглым лицом. Он был в военной форме, но с непокрытой головой, в петлице — ленточка Железного креста, очень заметная. — Разве это похоже на птицу? — спросил он с раздражением. — Будем серьезны… — Нет, птица! — Нет, не птица, он прав… — вмешался старичок. С тополя к ногам присутствующих упал детский лакированный башмачок. Инвалид с трудом наклонился и поднял его, уронив при этом костыль. — Там наверху ребенок! — крикнул кто-то из толпы. — Разве может там быть ребенок? Как он туда попал? — Именно ребенок… Ребенок господина комиссара. Я его узнаю по курточке… — Боже милостивый, сорвется, разобьется вдребезги! Услышав это, жена полицейского бросилась к инвалиду, выхватила у него туфельку, прижала к груди и стала плакать еще отчаяннее, не отрывая глаз от верхушки тополя. — Сынок! Сынок! — отчаянно кричала она. — Помогите, люди добрые! Спасите! Он пропал, пропал! Люди обсуждали на все лады этот невиданный случай. Взрывной волной ребенка выбросило из комнаты и швырнуло на ветки дерева, где по счастливой, случайности он и застрял. Ребенок не кричал, не плакал, бился инстинктивно, ослепший, оглохший… Сквозь листву виднелась его бессильно повисшая ручонка, мелькнула запрокинутая головка. — Лезьте же кто-нибудь на дерево! — запричитала старуха, которая стояла около матери ребенка. — Кто из мужчин посмелее, лезьте, пропадет ведь мальчонка! — Тут дело не в смелости, — вмешался инвалид, едва удерживая равновесие на своих костылях. — Чистое безумие лезть на этот тополь. Посмотрите, снаряд подрубил ему ствол… Он же вот-вот повалится… Любопытные сгрудились у дерева, изучая его со всех сторон, и, убедившись, что около корня оно в самом деле подсечено, стали один за другим отходить. Некоторые, потрусливее, и вовсе ушли, боясь, что, падая, дерево их задавит. — Посторонись, братцы, ведь неизвестно, в какую сторону оно свалится. Отчаявшаяся мать кинулась к тополю и обхватила его руками. Потом попробовала взобраться сама, уперлась ногой в ствол, но нога соскользнула, руки расцепились, и женщина повалилась навзничь. Исступленно рыдая, она изо всех сил била ладонями по земле. — У вас что, сердце из трухи? — набросилась старуха на мужчин, их было уже совсем немного, и стояли они в некотором отдалении, ждали, как будут развиваться события. — Тьфу! Таких трусов я отроду не видела! — Пусть кто-нибудь сходит за пожарниками, у них есть длинная лестница, — сказала другая старуха, стоявшая несколько в стороне. — В таких случаях всегда вызывают пожарников. — Что им здесь делать? — удивился инвалид, повернувшись к ней. — Вы разве не видите, тополь потерял устойчивость! Эх-хе-хе, если бы не эта загвоздка с подрубленным стволом, я бы взобрался на самую верхушку… На фронте у меня были и не такие случаи… Чтобы обратить внимание на то, какой он смелый, инвалид стряхнул несуществующую пыль с ленточки фашистского ордена, торчавшей в петлице, и со значением огляделся вокруг. Михай присутствовал при этой сцене и был поражен пассивностью людей. Несчастье женщины как будто и не тронуло их. Разумеется, при других обстоятельствах он бы не раздумывая кинулся спасать ребенка. Но его могут узнать… Ведь он вырос в этом городе, многие могли видеть его рядом с отцом… Вдруг он заметил в двух шагах от себя юношу, который только что появился и спрашивал инвалида, что случилось. Он был высокий, худой, наголо остриженный, в военной рубашке без воротничка, в темно-синих брюках. Звали его капрал Тудор Динку или товарищ Валериу. Он шел с заседания местной организации Союза коммунистической молодежи, собирался зайти домой, чтобы надеть военную одежду, но увидел беду и остановился. Юноша смерил взглядом тополь, подошел и несколько раз стукнул кулаком по довольно толстому стволу напротив поврежденного места, проверяя устойчивость дерева. Потом молча, под взглядами окружающих снял стоптанные солдатские башмаки и бросил их на землю. — Полезете? — тронул его за плечо инвалид. — Да, полезу… Наблюдавшие издали подошли поближе, им хотелось рассмотреть отважного молодого человека. Они выстроились как на парадной трибуне — предстояла демонстрация мужества. Из объятого пламенем дома валил густой черный дым, а в раскаленном воздухе плыли облака сажи. Стало нечем дышать, глаза слезились от дыма, но люди стояли не шелохнувшись. И число любопытных росло с каждой минутой. Некоторые уселись на корточки у стены соседнего дома и разговаривали шепотом, не сводя глаз с юноши, который подошел к тополю и легко начал подниматься по шершавому стволу. В этот момент появился помощник полицейского комиссара Ангелеску, мужчина невысокий и толстый, с круглым животом и сильной шеей, черный китель, казалось, вот-вот лопнет на его мощном теле. Полное лицо его было мокро от пота. Белые аксельбанты откололись и болтались на груди, и можно было подумать, что человек, призванный охранять общественный порядок, сам только что выбрался из потасовки. Черный галстук, небрежно торчавший из кармана кителя, и белая рубашка, недопустимо неряшливо распахнутая на бычьей шее, только усиливали это впечатление. — Дом горит, господин начальник! — сказал инвалид и поклонился в знак приветствия, став почти вплотную к полицейскому. Он хотел еще что-то добавить, но в этот момент послышался страшный грохот, из окон второго этажа вырвались снопы искр и потонули в клубах дыма. — Господин начальник, — снова заговорил инвалид, — смотрите, обвалился потолок с другой стороны… — Оставьте меня в покое! — прикрикнул на него полицейский и, быстро сняв китель, повесил его на забор. Он собирался действовать. — Где моя жена? Ребенок? — Он с отчаянием огляделся. — Где они?.. И что это за жизнь! Эльвира! Ты где, Эльвира? Смотрите, кто-то лезет на тополь… — Он поднял глаза на юношу, который с трудом карабкался к верхушке дерева, продираясь сквозь густую листву. — Куда ты, к черту, лезешь, болван? Хочешь ягодками полакомиться? Кто-то объяснил ему, что его жена уже дважды теряла сознание, а сын — на самом верху тополя, куда его забросило взрывной волной. Ребенок, наверное, жив, видно, как он бьется в ветвях. Сначала никто не хотел лезть, чтобы его спасти, тополь подрублен у корня, но вызвался вон тот юноша… Ангелеску на мгновение опешил. Будто кто ударил его дубинкой по голове. Как? Его ребенок там… наверху?.. Не может быть!.. Но, придя в себя, он глянул вверх, запрокинув голову и приставив ладонь к глазам. Юноша добрался до самой вершины. Одной рукой с трудом держась за толстую ветку, другой он пытался снять ребенка, но это ему не удавалось. — Ребенок жив? — крикнул снизу полицейский. — Поговори с ним. Его зовут Мирча. Позови его, скажи: Мирча! Говори с ним ласково, и он ответит… Ну что, жив? — Жив! — прозвучало с верхушки тополя. — Только сильно напуган. Кто-то должен мне помочь. Один я не смогу его спустить. — М-да, надо еще кому-то забраться, — сказал полицейский и посмотрел вокруг, ища добровольцев. — Я бы залез, но… — Дерево упадет, господин начальник, — подхватил инвалид и слегка улыбнулся, стараясь не рассердить полицейского. — Под вашей тяжестью… Видите, как качается? Не знаю, кто бы решился… — Простите, господин Вэрзару, что накричал на вас, но я стал очень нервным, — сказал помощник комиссара, дружески кладя ему руку на плечо. — Поверьте, я совсем потерял голову! — Ничего, господин комиссар, конечно, нервы виноваты, такие неприятности, не будем считаться! Полицейский знал инвалида, который до войны держал лавку на Главной улице, потом ликвидировал все, уехал на фронт, а по возвращении открыл закусочную, где Ангелеску иногда пропускал стаканчик цуйки со льда, закусывая солеными огурчиками. — Вы были здесь, господин Вэрзару, когда случилось это несчастье? — стал выяснять полицейский. — Нет, не был. Я шел в суд, увидел собравшуюся толпу и остановился. — Эй, так кто мне поможет? — снова крикнул юноша с верхушки дерева. — Эй, там! Вы что, оглохли? Но ни один из тех, кто стоял внизу, ничего не ответил. Некоторые поспешили тихо смыться, боясь, что помощник комиссара пошлет их на это опасное дело. Отказаться было бы невозможно, а рисковать не хотелось… До этого момента Михай старался не попасться на глаза представителю общественного порядка, опасаясь, как бы тот не узнал его. Но в такой ситуации полицейский был просто отчаявшимся человеком, его сейчас интересовала только судьба сына. Так что Михай больше не раздумывал. У него было доброе сердце, и он не мог равнодушно относиться к людям в несчастье, тем более если речь шла о детях. Он пробрался сквозь толпу, схватился обеими руками за ствол тополя и в несколько минут добрался до его верхушки, затерявшись в густой листве. Вскоре они спустились оба. Сначала Михай, потом и Динку, полумертвый от усталости. Пот катился с Михая градом, длинные волосы падали на глаза и мешали смотреть, а грязная рубаха вылезла из брюк: он держал на руках мальчика лет четырех-пяти, с лицом белым как мел; ребенок тихо стонал, испуганно глядя по сторонам. Его красная курточка была изодрана, а ручонки дрожали, словно в лихорадке. Капрал, с горящим лицом и израненными ладонями, легонько погладил его по щеке, пытаясь успокоить, потом проложил себе дорогу через толпу, подошел к стене и спокойно начал обуваться. И все это с таким видом, словно и не совершил ничего особенного. Ангелеску взял ребенка из рук Михая и, ласково приговаривая что-то, внимательно осмотрел, не ранен ли он. Обрадованный тем, что ребенок невредим, он стал что-то напевать ему, пританцовывая неуклюже, как медведь. Потом дал подержать ребенка какой-то женщине и, довольный и веселый, повернулся к Михаю: — Эй, парень, поди сюда да позови и того бродягу, я хочу вас отблагодарить. Молодцы, сделали хорошее дело… Говоря это, он рылся в карманах брюк и кителя в поисках денег. Михай несколько секунд смотрел на него с презрением, делая вид, что не слышал, как тот к нему обратился, и торопясь уйти. Но инвалид схватил его за руку и, повернувшись к капралу, крикнул: — Эй ты, тебя зовет господин начальник… — И снова к Михаю: — Постой, постой, куда ты так спешишь? Михай остановился в нерешительности, он был недоволен вмешательством инвалида и тем, что вынужден находиться возле полицейского. Тудор Динку подошел медленно, совершенно обессиленный, остановился около Михая, улыбнулся ему вымученной улыбкой и протянул руку: — Спасибо, вы смелый человек. У вас доброе сердце… — Как и у вас… Не обращая на них внимания, рыжий полицейский продолжал рыться в карманах. Вытащил измятую сигарету, какие-то бумаги, галстук, белую пуговицу, грязный платок и, наконец, монету в сто лей. Осмотрел ее со всех сторон, вытер несколько раз, чтобы она заблестела, и протянул юноше в военной рубашке. — Держи, вот вам на двоих, и будьте здоровы. Сегодня вы заработали деньги честным трудом. Молодцы… Лицо его, как бы запятнанное ржавчиной, сияло. Он великодушно, непринужденно улыбался с превосходством, которое приличествовало его довольно высокой должности в городе. Обычно он ловил бродяг, избивал их и бросал в арестантский подвал. Но сейчас он мог позволить себе быть великодушным… Он помог им деньгами… Дал целых сто лей… — Ну что же ты не берешь деньги? — настойчиво совал он монету Тудору. — Заставляешь меня стоять с протянутой рукой… — Спасибо, господин комиссар, — ответил Динку, нехотя взял монету и сунул ее в карман. — Не стоит благодарности. За то, что мы сделали, вы, может быть, отплатите добром кому-нибудь другому… — Брось, добро я делал и делаю всему свету, — самоуверенно ответил Ангелеску, фамильярно похлопывая его по плечу. — Я крут с теми, кто нарушает общественный порядок, а с прочими… — Будьте здоровы, господин начальник! — Всего хорошего… Динку поднял два пальца на уровень лба в военном приветствии, подмигнул Михаю и поспешно удалился. Михай отправился вслед за ним. Помощник комиссара полиции с издевкой смотрел на идущих молодых людей и, почмокав толстыми губами, сказал: — Вот чертовы бродяги! Чуть было не отказались от денег, еще немного, и не взяли бы… Можно подумать, у них денег куры не клюют. А бросишь таких в холодную да всыплешь хорошенько, чтобы приучить к дисциплине, — говорят, ты плохой человек… Некоторое время он неприязненно, зло смотрел им вслед, потом повернулся и быстро пошел в соседний двор, чтобы посмотреть, что с женой. Дом, казалось, не интересовал его совершенно. Густой дым поднимался вдоль обгоревших стен, и искры как светлячки вспыхивали в этот жаркий летний полдень, так похожий на ночь.8
Михай осторожно прикрыл ворота. Постоял с минуту, проверяя, не видел ли кто-нибудь его. Но молчаливые дома с зашторенными окнами, с притворенными ставнями словно вымерли. Жильцы покинули город, уехали в деревню, а те, кто, несмотря на смертоносные налеты, остались, убежали утром в поле или в лес и еще не вернулись. Сердце громко стучало. Михай давно не видел родительского дома. Он прошел вдоль увитой плющом стены и остановился на ступеньках веранды. «Дома ли отец, мама?» Нажал на железную щеколду. Заперто. Постучал согнутым пальцем в окно справа, в спальню родителей. Подождал немного, но никто не появился. «Наверное, ушли в бомбоубежище на окраину города, — подумал он, раздосадованный тем, что отдаляется минута встречи. — Или уехали в деревню?» Расстроенный, Михай спустился по каменным ступенькам. Оглядел двор, в котором вырос. Встреча с родными местами растрогала его. Ничто здесь не изменилось. Раскидистое ореховое дерево, к которому были когда-то подвешены качели, все так же горделиво отбрасывало тень перед домом. Под ним стояла крытая жестью собачья конура (ее смастерил как-то осенью дядя Александру). Кругом разбросана солома, валяются обглоданные кости. Конура была пуста. «Где лохматый Гайдук? Жив ли? Может, носится сейчас по улицам?» Сад, некогда пестревший анютиными глазками и петуниями, поблек и был неузнаваем. Клумбы разорены, цветы будто вытоптаны, перемешаны с комками сухой земли. Под забором рос высокий бурьян, в нем копошились две курицы. Чуть поодаль, под тенистой аркой виноградных лоз, юноша увидел стол, за которым летом обычно все собирались к обеду. Зеленая краска местами облупилась, ножки — в следах дождевых брызг. Стол скособочился, вот-вот упадет. Возле него по-прежнему стоял шезлонг отца, в котором тот сиживал после обеда. Никто тогда не решался его потревожить, и он спокойно проверял письменные работы гимназистов. Тетради стопкой лежали рядом, на стуле. Сейчас шезлонг был пуст. Но нет! В нем кто-то сидел. Над верхним краем полотняной спинки шезлонга виднелась чья-то голова с копной серебристых волос. Михай вздрогнул. «Кто это? — подумал он со смутным беспокойством и неуверенно шагнул в тень виноградной арки. — Мама? Она спит? Отдыхает? Надо подойти тихо, чтобы не испугать…» Ступая на цыпочках, он приблизился к шезлонгу и замер, затаив дыхание. «Нет, это не мама». Перед ним была женщина в полинялом ситцевом платье и домашних шлепанцах. Полулежа в шезлонге с мечтательной улыбкой, застывшей в уголках рта, она смотрела сквозь листву на небо. Под голубыми глазами чернели круги. Бледное осунувшееся лицо, тонкие губы, неумело накрашенные красным карандашом или специальной бумажкой, которую используют вместо помады, седые растрепанные волосы — все это придавало женщине нелепое и смешное сходство с куклой. — Боже, да это тетя Эмилия! — Михай робко шагнул к ней, чтобы она могла его увидеть. — Целую ручку, тетя! — церемонно обратился он к женщине. — Как поживаете? Тетя Эмилия — это в самом деле была она — вздрогнула к перевела взгляд на стоящего перед ней оборванного человека. Настороженные, тревожные глаза смерили его с головы до ног. Но женщина ничего не сказала, отвернулась и стала разглядывать двор, не обращая на Михая ни малейшего внимания. — Вы не узнаете меня, тетя? — Юноша наклонился, взял ее руку и хотел поцеловать, но она испуганно отдернула ее и спрятала за спину, словно обороняясь. — Это я, Михай, ваш племянник… Потерянный, блуждающий взгляд остановился, в глазах женщины вспыхнул огонек, исхудалое, как после тяжелой болезни, лицо посветлело. Улыбка стала более открытой. Лоб разгладился. — Я вернулся, тетя Эмилия… — продолжал Михай ласково, будто разговаривая с ребенком. — Где мама и папа? Дверь на замке… Женщинане отвечала, только молча смотрела на него. В глазах ее не угасал трепетный огонек, улыбка не сходила о лица. Несколько мгновений спустя она будто вспомнила что-то, встала, тщательно оправила платье и побрела в глубь двора, прямая, с высоко поднятой головой и неприступным видом. Остановилась в просвете между абрикосовыми деревьями, подняла глаза к небу и стала долго, усердно изучать его, будто искала что-то в бездонной голубизне и не находила. Успокоенная этим, она сделала несколько шагов по высокой траве, направляясь куда-то, но передумала, вернулась на прежнее место и еще раз посмотрела в небесную высь. Заметно повеселевшая, она как тень проскользнула мимо Михая, посмотрев на него, и села в шезлонг. Взгляд ее блуждал по зеленой виноградной арке. Михай стоял в растерянности, наблюдая за ней с болью и жалостью. Он знал от старого железнодорожника про несчастье с тетушкой, но, когда увидел ее своими глазами, в душе его поднялся глухой протест против всего, что несла война беззащитным людям. Тетя Эмилия… Добрая, веселая, общительная, чуть экспансивная женщина, она любила его, как собственного ребенка… Умалишенная… Жертва войны… А сколько таких людей на земле! Он видел их в своих скитаниях, жил среди них, знал их страдания и понял, что беды не знают границ. В любом краю они беспощадно обрушиваются на людей. Перед лицом смерти все равны, все бессильны. Михай многое повидал… Видел скорбящих матерей, которые оплакивают убитых детей… Людей, обезумевших от штыковых атак… Окровавленные трупы… Обрубки без ног, без рук, корчащиеся под градом пуль и гранат… Сирот-оборвышей, грязных, голодных, как тени слоняющихся в поисках пищи и доброй руки… Женщин, роющихся на помойках в поисках пищи, в лохмотьях, с малышами… Людей, скитающихся под дождем, по грязи, без крова и уверенности в завтрашнем дне… Люди, люди… Разгром, бедствия, отчаяние… И виною всему — война… Михай подошел к веранде и опустился на каменные ступени, подавленный и удрученный. На него навалилась усталость. В голове роились горькие, гнетущие мысли. Его охватила безмерная грусть. И было противно жить среди нелюдей, озверелых, без стыда и совести, приносящих одни несчастья. Положив голову на руки, он долго сидел неподвижно. Солнце поднялось высоко, сильно припекало. Под широкой стрехой резвилась стайка шумливых воробьев и вдруг вспорхнула в поднебесье. На улице послышались голоса. Забыв про только что пережитую опасность, люди снова хлопотали, занимались своими делами. По булыжной мостовой прогромыхала повозка, запряженная парой крупных коней. На углу весело галдели ребятишки, запуская воздушного змея. По тротуару неторопливо шел человек в белом фартуке с двумя глиняными горшками в руках, обвязанными бечевкой и прикрытыми полотенцами. Останавливался у ворот, выкрикивал: — Простокваша! Свежая простокваша! Простокваша-а-а! Город оживал. Прислушиваясь к шуму, такому родному с детства, Михай мысленно перенесся на несколько лет назад, к тем временам, когда он был гимназистом. Тогда он любил сидеть в тени орехового дерева, у ног его лежал пес, а сам он учил уроки. Папа и мама уходили в гимназию. В комнате с распахнутыми настежь окнами Дана разучивала на пианино «Карнавал» Шумана. Было мирное время. Жизнь покойно тепла своим чередом, и казалось, что так будет вечно. Ничто не предвещало войны, разрушений, бедствий. Ничто, думалось, не могло нарушить семейных традиций. Но сиреневое мирное небо заволокли черные тучи, над привычным покоем нависла гроза. Газеты печатали все более зловещие вести из фашистской Германии. Гитлер бесновался, его аппетиты не укладывались в рамки границ, установленных договорами. Учитель Влад Георгиу, приходя домой, ел мало, раздраженно читал газеты, нервно швырял их, будто они жгли ему руки, и уходил в кафе. Возвращался поздно вечером. Дети слышали, как он говорил маме: «По радио сообщили… В газете писали… Такой-то приехал из Бухареста и рассказывал, что… Учитель Теодоряну получил повестку… Говорят, скоро будут призывать и резервистов…» Война обрушилась как ураган. Объявили мобилизацию. Из расположения пехотного полка прошли по Главной улице колонны солдат, в новеньком обмундировании с флягами и лопатками, позвякивающими на боку, в сверкающих касках, с набитыми ранцами за спиной, с вычищенными до блеска винтовками на плече. Следом катили, тарахтя по мостовой, полевые кухни с кипящими котлами, накрытые брезентом пушки, обозные повозки с ящиками боеприпасов и мешками продовольствия, их тащили реквизированные клячи в новехоньких хомутах. Колонны шли, шли… А через несколько дней по Торговой улице к вокзалу маршировали другие, со стороны Крайовы, молча чеканя шаг. Мужчины в военной форме нерадостно поглядывали из-под касок на толпящихся жителей, прощаясь, украдкой делали знак рукой и шли дальше, придавленные тяжестью ранцев и душевной горечи. Прошло немного времени, и по тем же улицам бродят теперь раненые на костылях, в изодранной форме, в синих пилотках — отличительный знак инвалидов войны, — худые, с землистыми лицами. Над воротами все чаще вывешиваются черные флаги, а в газетах печатаются нескончаемые списки убитых: «Мариус Кристеску, младший лейтенант кавалерии, пал в боях за…», «Вирджил Панэ, сержант авиации, сбит над боевыми позициями во время воздушной разведки…», «С прискорбием родители, братья, сестры и близкие родственники оплакивают безвременно погибшего Думитру, солдата пехотной части… павшего в бою под…». Черные дни… Тяжелые времена… Ночью город замирал, таился во мраке полного затемнения. В вечерние часы все спешили домой, и к десяти припозднившийся прохожий шел по пустым улицам вслепую, натыкаясь на фонарные столбы и пытаясь нащупать носком башмака край тротуара. Хлеб — черный, из отрубей, с комковатым, затвердевшим мякишем — давали по карточкам. В витринах появилась новинка — одежда из искусственного волокна. Мясо поступало в продажу три раза в неделю. Рано утром, часов с трех, у мясных лавок выстраивались длинные очереди, люди дрались из-за килограмма мяса, и какого! — одни кости. Не было ни растительного, ни сливочного масла, ни муки, ни овощей. Базар ощерился пустыми прилавками. А на стенах домов, рядом с приказами городской управы, в которых до сведения населения доводилось, что резать скот запрещено, висели яркие цветные плакаты: «Пейте лучший в мире фруктовый сироп «Тутти-Фрутти», немецкое производство, 327 лей бутылка». Черные дни… Тяжелые времена… По мостовой зацокали первые туфли на деревянной подошве. На поле, за кладбищем, и на городском стадионе каждое воскресенье офицеры запаса готовили к войне учеников двух последних классов гимназии. Из дома в дом ходили группы женщин, собирая пожертвования для армии: «Белье — солдатам!» Расквартированные в городе итальянские и немецкие офицеры толпились у кинотеатра «Регал», спеша увидеть Даниэль Даррье в кинофильме «Клуб женщин», танцевали до поздней ночи, словно беспечные курортники, приехавшие отдохнуть в живописный придунайский городок… Михай сидел на ступеньках веранды, подперев голову ладонями. Думал. Вспоминал. Будто снова смотрел отрывки из знакомого фильма о том, что было два года назад и что особенно дорого ему. Какие события произошли с тех пор? Как родители? Он не знал. Налеты, бомбежки… Здания разрушены, парки запущены, улицы изрыты… Тоскливая панорама города неотступно стояла у него перед глазами. Черные дни… Тяжелые времена…Стукнули ворота. Михай вздрогнул, словно пробудясь ото сна. Медленно встал. Во двор вошел отец — сгорбленный, в поношенной одежде. Под мышкой он держал желтый плед, а в руке — коричневый обшарпанный чемоданчик. Следом шла мама. Похудевшая, она едва держалась на ногах и тоже несла фибровый чемоданчик, перевязанный бечевкой, — наверное, сломались замки. — Отец! Мама! — крикнул Михай и бросился им навстречу. Влад Георгиу застыл на месте, будто окаменел. Мама замерла, прикрыв рот ладонью. Они были как два каменных изваяния и так пристально смотрели на сына, будто он вернулся с того света. — Михай, это ты? — спросил отец неуверенным голосом, оглядывая сына с головы до ног. — Я, папа. Учитель Георгиу повернул голову и в замешательстве посмотрел на жену, будто просил ее подтвердить, что это правда. Но мать, ошеломленная появлением сына, молчала, не двигаясь и не зная, что подумать. Она не верила своим глазам: Михай, которого они столько ждали, о котором тревожились дни и ночи напролет, стоял перед ней целый и невредимый. Оба поспешно поставили чемоданчики к стене дома и со слезами на глазах по очереди обняли сына и горячо расцеловали. — Почему ты в таком виде, мальчик? — спросил Михая явно озадаченный отец. Отступил на шаг и вновь оглядел сына с головы до ног. — Где ты пропадал? Откуда приехал? — Оставь его в покое, Влад. Ему надо помыться, переодеться, — вмешалась мать, утирая слезы рукавом платья. — Будет еще время поговорить. Пошли, Михай, пошли, мальчик, в дом. Михай сделал несколько шагов рядом с родителями и спросил: — А где Дана? Он не видел сестру и был встревожен. — Скоро придет, — ответил отец, открывая дверь веранды. — Она с утра на работах по расчистке города. Тетю видел? — Видел, — сказал Михай с болью в голосе, пропуская вперед мать. — Она сидит в шезлонге, в виноградной беседке… — Такой она стала после первой бомбежки. Несчастная женщина! От Александра никаких известий. Дом их разбомбило. Эмилию с Костелом мы приютили у себя. Ребенок целыми днями играет, а мать не встает с шезлонга. И молчит… Все смотрит в небо, боится, наверное, самолетов… В комнате было прохладно и тихо. Пахло нафталином. Михай осмотрелся: все было на своих местах, как тогда, когда он уезжал. Посредине стоял овальный стол, накрытый голубой плюшевой скатертью, вокруг — мягкие стулья с высокими резными спинками, в углу диван, рядом комод, на стене часы с маятником, под потолком бронзовая люстра с тремя плафонами на изогнутых ножках, куда маленькая Дана, прибежав из гимназии с отличной отметкой в дневнике, забрасывала берет. Потом, успокоившись, она влезала на стол и снимала его с люстры. Над окном пустовала клетка канареек, которых он получил в подарок от дяди Александра, в ней не было. Погибли? Или Дана отдала их кому-нибудь? А может, они просто улетели? В маленьком книжном шкафу, под зеркалом, Михай увидел свою фотографию: он в форме немецкого курсанта в городе Эрфурте. Улыбающийся, веселый, он смотрел куда-то чуть вбок, гордо выпятив грудь. На голове высокая офицерская фуражка с орлом, паукообразной нацистской свастикой и маленьким козырьком, отороченным серебряным шнуром. — Садись, мальчик, садись! — заботливо хлопотал отец. — Расскажи нам все по порядку. Ты с фронта? Где твоя форма? У тебя ведь немецкая форма? Правда? Насколько я помню, в последнем письме из Бухареста ты писал, что тебя отправляют в офицерское училище в Германию. И действительно, письма мы стали получать из Германии, а тебе писать в Эрфурт. Оттуда я получил и твою фотографию. Так? — Да, так. Но формы у меня больше нет. — Как нет? — Очень просто. Нет, и все. Мне дали другую… — То есть? Михай умолк и лежавшей на столе зубочисткой принялся чистить грязные ногти, чтобы чем-то занять свои руки и, главное, не смотреть в глаза родителям. Влад Георгиу сел на диван и спокойно ждал, протирая стекла очков носовым платком. — Говори, Михай, я тебя слушаю… — Я из лагеря. — Ка-ак? — Из лагеря. — Из какого лагеря? — Немецкого. — Что ты делал в немецком лагере? — изумился отец и, надев очки, встал с дивана. Он не верил своим ушам. Дрожащей рукой отодвинул стул и, сев за стол, приготовился внимательно выслушать сына. — Ну говори же, не молчи! Ана, иди сюда! — крикнул он жене, которая накрывала на стол в соседней комнате. — Иди послушай, откуда прибыл наш сынок! Суровый голос отца, ледяной взгляд, резкие движения предвещали грандиозный скандал. Михай это предвидел. Он хорошо знал отца — прямого, честного, внимательного воспитателя своих детей. Отец всегда стремился к тому, чтобы поведение и поступки не роняли их в глазах окружающих. Но юноша не предполагал, что скандал разразится с первых минут встречи. Надеялся, что сумеет объяснить родителям случившееся, они поймут, в какое трудное положение он попал, и, может быть, через день-другой все утрясется, отец поддержит сына… Его непреклонный, неумолимый отец, он ведь никогда не прощал обидчикам Михая… Михай сидел, не отрывая глаз от скатерти и вертя в руках ненужную зубочистку. Лоб его покрылся испариной. Он чувствовал, что задыхается и ему вот-вот станет дурно. Его приезд не обрадовал родителей. Отец смотрел на него грозно, словно он был преступником. Нет, преступником Михай не был. Он даже спас от смерти человека… — Какие у тебя грязные руки! — брезгливо заметил отец. — И эти волосы, борода, лохмотья… У меня такое впечатление, что я сижу за одним столом с бродягой. В дверях показалась мать с тарелкой в руке, на которой лежали нарезанные огурцы, брынза, черный хлеб. — Ана, прошу тебя, сядь! — властно потребовал Влад Георгиу. — Ну, сын, — снова повернулся он к Михаю, — рассказывай, что ты натворил, почему попал в лагерь? Тебя освободили или ты бежал? — Как? Ты был в заключении? — пришла в ужас Ана и горько заплакала. — Что ты сделал, Михай? — умоляюще потянула она сына за руку. — Что?! Ты правда сидел? — Да, он был в немецком лагере, — ответил за него отец. — Так, сын? Или я тебя неправильно понял? — Может быть, он пошутил, Влад, — сказала Ана, вымученно улыбаясь. Взгляд ее при этом оставался напряженным, испуганным. — Захотел попугать нас… Михай украдкой посмотрел на отца, потом на мать и чуть заметно качнул головой: — Нет, не пошутил… Я из лагеря… — Значит, это правда? — сорвался на крик Влад Георгиу и, подняв глаза к потолку, в отчаянии схватился руками за голову. — Господи, за что ты ниспослал мне такую кару?! Ты слышала, Ана?! Слышала, что он говорит? На лбу отца выступили капельки пота. Медленным, вялым движением он вынул носовой платок и промокнул виски. Стекла очков запотели, казались матовыми. Голубая вена на виске часто-часто пульсировала, готовая лопнуть. Глаза матери были полны слез, она до боли стискивала руки, чтобы не разрыдаться в голос. — Не горячись, отец, — мягко сказал Михай, огорченно приглаживая волосы растопыренной пятерней. — И ты, мама… Я не сделал ничего плохого. Прошу вас, не судите обо мне поспешно… — Сын мой… сын… — простонала Ана, нагнув голову и утирая слезы фартуком. — Как ты изменился! Какой позор на мою седую голову! — Знаю… Понимаю… Вам тяжело… — просительно увещевал их Михай. — Выслушайте меня, вы все поймете. Мама, прошу тебя, успокойся. — Полиция будет по ночам навещать нас, как этого нашего соседа, Райку с судоверфи, — горестно вздохнул отец, кивком показывая на соседний двор. — Мы станем посмешищем города… — Ну, Влад, Райку ведь коммунист, — возразила жена сквозь слезы, пытаясь умалить вину сына. — Говорят, он против маршала, против войны. — Что говорят и как говорят, нас это не касается! — оборвал се учитель строгим тоном. — Что посеешь, то и пожнешь. Его арестовали и, прежде чем увести, перерыли весь дом. Только этого нам не хватало! Влад замолчал, его била нервная дрожь. Он снова вынул платок, вытер пот со лба и скомкал платок в кулаке. Обернулся к Михаю и все так же холодно посмотрел на него. — Скажи, сын, — спросил он, пытаясь взять себя в руки и успокоиться, — за что тебя посадили? Что ты сделал? Тебе вынесли политический приговор? — Нет, отец. — Тогда что же? — Я вам все расскажу. — Рассказывай. — Влад, оставь его в покое, пусть сначала помоется и поест, — заботливо вмешалась мать, вставая со стула. — Ты не видишь, в каком он состоянии? Худой как щепка… — Нет, я не могу ждать! — оборвал он ее, решительно разрубив ладонью воздух, — Я хочу знать, с кем сижу за одним столом, кого буду кормить! И вообще, кого я вырастил! Я — честный, порядочный человек. Я не занимаюсь политикой. Ни во что не вмешиваюсь. Уважаю закон, власть, короля, бога, кого угодно… В меру скромных сил выполняю свой долг. Уделяю время школе, дому, всем вам… Такими я надеялся видеть и своих детей. И вот, пожалуйста! — Влад Георгиу кипел негодованием. Его всегда белое как мел лицо налилось теперь кровью. Взгляд стал колючим, а в уголках рта выступила слюна. Он помолчал несколько секунд, опустив голову и собираясь с силами. — Мы слушаем тебя, сын, — сказал он более спокойно и положил локти на стол, приготовившись к исповеди Михая. — Ну, рассказывай, где был, что делал… Ты уехал как сын состоятельных родителей, а вернулся в лохмотьях, как побирушка. В комнате наступила тишина. Сквозь окно, заклеенное крест-накрест бумагой, пробивался солнечный луч и падал на стол. На стене монотонно тикали часы. Михай смотрел на старинный, полустертый от времени циферблат часов и собирался с мыслями. Потом начал рассказывать, скупо роняя слова, приглушенным голосом, взволнованный и даже взвинченный, явно во власти неприятного чувства, когда приходится защищаться, доказывать свою правоту, подыскивать убедительные аргументы. Его привлекала жизнь военного. Поэтому, к радости матери, он и решил поступить в офицерское училище. Пока учился в Бухаресте, все шло как по маслу. Военный быт суров, но Михай скоро к нему привык. В ходе строевой подготовки и на тактических учениях он измерил вдоль и поперек учебное поле, окрестности фермы на окраине Бухареста, прополз по-пластунски не один километр вдоль шоссе. А однажды утром, когда сыпал мелкий частый снег, пришел приказ генштаба направить из их офицерского училища первую сотню курсантов-отличников на дальнейшее военное обучение в Германию. Выбор пал и на него. Курсанты пересекли на поезде Венгрию, Австрию и наконец прибыли в Берлин. В тот же день их отправили знакомиться со столицей Германии, которую они знали только по кинофильмам да цветным фотографиям в иллюстрированном журнале «Сигнал». Целый месяц их возили по «местам боевой славы», чтобы они собственными глазами убедились в превосходстве вермахта над всеми армиями мира. По словам немцев-инструкторов, этой армии «поклонились в ноги почти все народы Европы». Курсанты посетили линию Мажино на границе с Францией. Потом их повезли в Париж. Несколько упоительных дней они бродили по парижским улицам с их старинными особняками. Но из окон свисали флаги со свастикой, флаги захватчиков. Походили по Латинскому кварталу. Были восхищены Сорбонной. Постояли в Пантеоне, склонившись у могильных плит, под которыми покоились Вольтер, Гюго, Золя, Руссо и другие выдающиеся представители французской культуры. Гуляли по набережной Сены, где художники-профессионалы творили и тут же за гроши продавали свои картины, лишь бы дожить до завтрашнего дня. Поднимались на Эйфелеву башню и с высоты птичьего полета обозревали — невооруженным глазом или в бинокль — улицы, площади, дома великой французской столицы: от площади Согласия до собора Нотр-Дам, от улицы Толбиак на южной окраине до Монмартра с его величественной белой базиликой Сакре-Кёр, по соседству с которой расположились Северный и Восточный вокзалы, разделенные большим бульваром Лафайет. Как-то утром курсанты побывали на кладбище Монпарнас, симметричном, с широкими аллеями и изящными склепами в итальянском стиле. Михай благоговейно постоял у могилы Мопассана, новеллы которого он полюбил с гимназических лет, возле праха великого критика Сент-Бёва и поэта Бодлера. Тринадцать дней в Париже… Лувр, Большие бульвары, бульвар Вольтера, площадь Бастилии, бульвары Бон-Нувель и Сен-Жермен. Любовались зданием парижской Оперы, которое по своему стилю напомнило им бухарестский Офицерский клуб… В последний день они побывали в Доме Инвалидов, сооруженном при Людовике Четырнадцатом. Могила Наполеона. На плите они прочли знаменитую фразу из его завещания: «Я желаю, чтобы мой прах покоился на берегах Сены, среди французского народа, который я так любил». — Ты изрядно повояжировал, сын, — заметил Влад Георгиу, удобнее устраиваясь на стуле. — Подумай только, как интересно! — Хорошо, что мальчик повидал Париж, — вмешалась мать. — Это так поучительно! — Слушаем дальше, — нетерпеливо прервал ее учитель. — Любопытно узнать, где ты побывал потом, чего достиг. Это меня интересует больше… Михай кивнул, кашлянул в кулак и продолжал: — Накануне отъезда, в полдень, нас привели в высшее военное училище, расположенное в старом двухэтажном особняке с фасадом метров в двести и просторным внутренним двором. Училище было построено, насколько мне помнится, в 1872 году. Там временно разместилась немецкая комендатура. Нас, курсантов, построили в каре, и начался заключительный этап нашего пребывания во Франции. Перед нами выступил и произнес речь генерал с моноклем. Он скорее кричал, отрывисто лая, чем говорил, о нашем будущем и перспективах обучения под командованием «самых способных, самых образованных, самых храбрых» немецких инструкторов. В заключение он пожелал нам покорить в составе армии третьего рейха многие другие столицы мира, равные Парижу, на Эйфелевой башне которого развевается флаг со свастикой, символом германского фашизма. Хотя голос юноши был по-прежнему глуховатым, в нем явно зазвучала нота оскорбленного человеческого достоинства, когда он перешел к рассказу о том, что им пришлось пережить после первого «месяца привыкания» к новой действительности, к жизни офицера в немецком форме. Воспоминания снова замелькали как кадры кинопленки, но в более замедленном темпе. И в этих кадрах раскрылись новью стороны его жизни, еще более печальные, мрачные, жестокие. После «медового месяца», как прозвали курсанты свою туристскую поездку, настали самые трудные дни. Началась прусская муштра. Быт в немецких казармах был невыносим. С первых минут человеческое достоинство попиралось под предлогом «железной дисциплины»: «вышестоящий всегда прав», а значит, «твоя жизнь принадлежит ему, это его собственность, как бритвенный прибор или парадный мундир». В Германии все претило чувствительной натуре Михая. Жестокий, инквизиторский режим, брань и оскорбления, сыплющиеся по каждому поводу. Все это могло расшатать нервы даже более здорового и спокойного человека. За любой проступок сажали в карцер, отменяли воскресную увольнительную или давали унизительный наряд. Как-то на очередном смотру Михай нечаянно выронил штык, и тот вонзился острием в землю. Его заставили десять ночей подряд копать поле за казармой — отрывать по два пулеметных гнезда в ночь, чтобы их размеры точно соответствовали предписаниям устава. «Штык втыкают в противника, а не в землю!» — выговаривал ему Рудольф, коротконогий жилистый унтер-офицер. Днем, само собой, он обязан был нести службу наравне с теми, кто с отбоем ложился спать. У него не было ни часа отдыха. В другой раз, на тренировке в вождении танка, Михай зазевался, не переключил вовремя скорости, и боевая машина накренилась так, что чуть было не свалилась под откос. Он схлопотал пятнадцать суток карцера. Приходилось стоять. Нельзя было сесть — таким тесным был карцер. Мучительно текли месяцы военной подготовки, когда курсантов гоняли по болотам и лесам, муштровали в утомительных переходах, с кирпичами в ранце и пулеметом на плече. Он выдержал экзамен на водителя танка. Ему присвоили звание ефрейтора, первое звание в немецкой армии. Спустя четыре месяца Михая должны были снова повысить, но этого не произошло, его обвинили в строптивости и неспособности к быстрому освоению немецкой военной науки. В целях воспитания его посадили в тюрьму. Лишили летнего отпуска на родину. В дни каникул вместе с другими курсантами-неудачниками он помогал строительным рабочим в ремонте казармы — средневековой крепости с серыми башнями и мощными контрфорсами. Однажды в обод, недовольный едой, он выплеснул суп под стол немецких офицеров. Его разжаловали в солдаты. Отослали на передовую. Так он попал на фронт. Участвовал в немецкой военной кампании в Африке. Раскаленной душной ночью его танковый полк высадился в Бенгази. Они вели бои в песках Сахары в составе дивизии Роммеля. Вскоре Михая ранило осколком в правую ногу, пониже колена. Он попал в полевой госпиталь в Триполи. 9 мая Роммель проездом навестил немецких раненых в госпитале, разговаривал с некоторыми из них, в том числе и с Михаем, которому даже пожал руку как храброму воину. Через месяц Михая выписали. До полного выздоровления было далеко, и его отправили в Германию для несения нестроевой службы. Он попал в отряд охраны на военном заводе. Здесь у него вышел конфликт с немецким унтером, вылитым Рудольфом. Михай ударил его по голове так сильно, что у того лопнула барабанная перепонка. Михая посадили в тюрьму. Через несколько дней, когда Михая погнали на работу, он увидел среди заключенных, работающих под конвоем, своего одноклассника — еврея Леона, они учились вместе в первых классах гимназии, потом мальчик с родителями переехал в другой город. Леон таскал на спине тяжелые ящики с боеприпасами. Прошло три дня, и Михай передал ему записку, обещая помочь бежать. К несчастью, записка попала в руки немецкой военной полиции. До суда Михая отправили в лагерь под Бременом. Он думал, это конец. Не так-то легко вырваться из лап гестапо!.. Потекли дни страха, колебаний и… планов побега. Дождливой ночью ему и одному поляку удалось бежать. Босой, поначалу в одежде заключенного, где пешком, а где на подножках и буферах вагонов, голодный, всегда настороже, он добрался до Оради, потом до Тимишоары и оттуда до Турну-Северина. — Вы, конечно, понимаете, дорога была тяжелая, опасная, — закончил Михай рассказ о своих злоключениях, — но я счастлив, что вижу вас, что снова с вами… Как я тосковал по дому! Как тосковал! Как беспокоился, узнав про бомбежки американцев! И ни одной весточки от вас… Долгие месяцы. Михай замолк. Мать тихо плакала, вытирая слезы концом фартука и поглядывая на сына. Потрясенный услышанным, молчал и отец. Смотрел в окно, задумчиво постукивая пальцами по столу. Он не знал, как отнестись к рассказу сына. Страдания Михая его взволновали, но он никак не мог понять, откуда строптивость и упрямство в его характере. Чем продиктованы дерзость и необдуманные поступки? Откуда столько отваги, чтобы подвергать свою жизнь опасности, ввязываясь в рискованные акции? Он, отец, знал Михая иным. Благоразумным, уравновешенным, спокойным, терпимым, послушным и дисциплинированным, повинующимся каждому слову отца и матери. Таким он его вырастил. Таким знал. А сейчас? — Так в чем конкретно твоя вина? — спросил немного погодя учитель, повернувшись к сыну. — В том, что ты ударил немца или что хотел устроить побег еврею? — За то, что я ударил эту скотину унтера, может, и не было бы серьезного наказания, — ответил Михай, сам сомневаясь в том, что он говорит. — В конце концов, он тоже виноват, первым поднял на меня руку. Я только защищался… Ну, посидел бы в тюрьме и… — Так что же тебе инкриминировали? — Попытку организовать побег. Меня обвинили в соучастии. — Болван! — взорвался Влад Георгиу, стукнув кулаком по столу и резко вскочив со стула. — Кто тебя просил подставлять голову? Ты не мог заниматься своими делами и не вмешиваться в чужие? — Не мог, отец, — спокойно возразил ему Михай. — Не обижайся, но ты не прав. Видишь ли… Не знаю, как тебе объяснить… Но это не чужие дела. Я не мог бы спокойно смотреть, как поведут на смерть моего одноклассника, моего… — Ну какой он тебе, черт возьми, одноклассник! Вы учились вместе лет пять тому назад. Он ведь еще до войны уехал с родителями в Клуж или Орадю. — Неважно, отец. Он — мой одноклассник. И это ничего не меняет, учились мы вместе или нет. По-человечески я должен был ему помочь, тем более что за ним не было никакой вины… — А кто тебя уполномочил решать, виноват он или не виноват? — воскликнул учитель, задыхаясь от негодования. — Кто?! Ты знаешь, что он сделал? За что попал в заключение? — За то, что он еврей… — И ты взялся защищать евреев? — Да, — спокойно ответил Михай. — Ты научил меня быть человеком. Любить детей, любить людей. Разве ты сам не защищал евреев, когда их дома громили гимназисты-зеленорубашечники[3]? Мы были против хулиганов-легионеров. Ты это прекрасно знаешь. А теперь я понял, что представляет собой фашизм. Учитель удивленно поднял брови, повернулся к жене и вопросительно посмотрел на нее. Сунул руки в карманы пиджака и, нахмурившись, уставился сквозь очки на сына. — У тебя появились бунтарские замашки, Михай, — сказал он, обошел стол и остановился напротив сына, сверля его взглядом. — Скажите на милость! Видно, в лагере ты даром времени не терял… — Не понимаю, о чем ты говоришь, отец. — Отлично понимаешь, и уж, во всяком случае, я не собираюсь ничего тебе объяснять, — отпарировал тот, возвращаясь к своему стулу. — Каждый честный человек, который увидел действительность Германии как она есть, проник в суть вещей, несомненно, придерживается таких же взглядов, какие ты интуитивно чувствуешь, подозреваешь у меня, — решительно ответил ему Михай. — Ты, папа, знаешь жизнь Германии только по газетам и фильмам. Я, увы, из собственного опыта. Два года я жил там, у них… Думаю, мои взгляды понятны… — Твоя сестра недалеко ушла от тебя, — продолжал горячиться учитель. — Она вздумала подвергнуть сомнению современную немецкую культуру, и ее чуть не выгнали с волчьим билетом. К счастью, я сам учитель, да и мамины коллеги поддержали меня… В противном случае… — Девочка не виновата, Влад, Просто во всем, что их не устраивает, эти люди усматривают подрывную деятельность… — Перестань, Ана! — остановил он жену. — Я знаю, что говорю. Зачем подливать масла в огонь? Зачем вызывать напрасные подозрения? Не лучше ли избегать таких ситуаций? Никогда не знаешь, к чему они приведут. В комнате снова нависла гнетущая тишина. Только стенные часы с маятником тикали размеренно и безмятежно, совсем как в мирное время. Влад Георгиу в который раз снял очки и начал тщательно протирать их носовым платком. Ана глубоко вздохнула и, глядя на Михая, горестно покачала головой. От пережитых бед сын возмужал. На лице пролегли морщины, состарившие его на несколько лет. «Бедный мальчик, — мысленно пожалела она сына, — сколько он перенес… Хорошо, что вернулся домой… Он скоро оправится, станет прежним». — Тебя, конечно, разыскивает полиция, — прервал ее размышления голос мужа, неестественно тихий для его возбужденного состояния. — Думаю, да… — Значит, тебе нельзя оставаться дома, — заключил учитель, широко разводя руками и давая понять, что он бессилен в подобных обстоятельствах. — Скрывайся где-нибудь в другом месте. Разумеется, я помогу. Но здесь ты ни в коем случае не останешься. Мне очень жаль. Ты мой сын. Мать и я ждали тебя, тревожились, но, дорогой мой, я не желаю иметь из-за тебя неприятности. Твои свободолюбивые взгляды, поездки в чужие страны отдалили тебя от семьи. Ты теперь взрослый человек и сам можешь судить обо всем… — Ладно, отец… — сказал Михай каким-то бесцветным голосом, вставая и собираясь уходить. — Три недели я скитался голодный, холодный, надеясь найти у тебя убежище, поддержку, а ты… Ну ничего, ничего… — И Михай решительно шагнул к двери, с гордо поднятой головой, прямой, независимый. — Михай! — крикнула Ана, обезумев от горя, и загородила ему дорогу, повисла на шее. — Мальчик мой, не уходи! Нет, нет! О господи, сколько я молилась, сколько слез пролила, пока тебя ждала! И вот ты с нами, ты дома… Не уходи, дорогой… Влад! Ты что, с ума сошел? Куда ты гонишь единственного сына? Оставайся, Михай, отдохни, мой мальчик, помойся, поешь. Смотри, что тебе принесла мама. Хлеб, огурцы, брынза… На базаре ничего нет… Живем как придется. Жизнь такая страшная, а мы еще и враждуем… В отчаянии женщина разразилась слезами. Она содрогалась всем телом, не владея собой. Обхватила голову сына руками и начала гладить буйную шевелюру, делающую его почти неузнаваемым. Как она мучилась! Как ждала его! Сколько дней и ночей провела в слезах, надеясь на его возвращение! А он уходит! Куда?! Снова в неизвестность? Снова скитаться, как бродяга? Нет, она его не пустит! Михай, ее дорогой мальчик… Нет, нет! За ним следят? Его ищут? Ну и что? Они с Даной спрячут его, как прячут другие беглецов с фронта. Никто его не найдет. Она знает, где спрятать сына. Говорят, война скоро кончится. Бог даст, настанет мир и покой. Каждый будет заниматься своим делом. Мальчик поступит в институт в Бухаресте или Яссах. Устроит свою жизнь… Зачем она, глупая, не послушалась Влада? Зачем отпустила в военное училище? Лучше бы сын, как и отец, поступил на исторический… Сын… Ее сын… Учитель сидел молча, горестно спрятав лицо в ладони. Мысли его путались. Нет, нет, не для лагеря растил он сына. Но и мятежником, революционером не хотел его видеть. Нездоровые идеи овладели незрелым умом сына. А он-то мечтал, что Михай станет образованным, интеллигентным человеком с безупречной репутацией в обществе. Увлечется наукой. Получит университетскую кафедру. А почему бы и нет? Отцу не удалось, сын добился бы. Исторический факультет — это очень перспективно… Сын послушался матери, стал офицером… И что же? Он вернулся домой как беглец, как дезертир. Его преследует полиция… Во дворе послышался топот. Дверь распахнулась, и в комнату вбежала Дана — веселая, шумная, словно после ребячьих игр, а не тяжелой работы. И правда, за ней гнался Костел, пытаясь схватить ее за ногу. В руках у него был силок из проволоки. — Стой, Дануца, стой! Сейчас я тебя поймаю и посажу в клетку! — кричал ребенок, чумазый, потный. Они поспорили с Даной: если он догонит ее, то запрет в сарае. — Думаешь, одна ты умная? Я тебя все равно поймаю… Девушка вдруг остановилась как вкопанная. Она увидела за столом отца, потерянного, поникшего, и маму, с красными, припухшими от слез глазами, которая стояла у двери и прижимала к груди незнакомого высокого юношу. «Что здесь происходит? — подумала Дана, удивленно оглядываясь по сторонам и машинально поправляя на лбу прядь волос. — Неужели…» Она подошла ближе, посмотрела на спину незнакомца, обтянутую грязной рубашкой, заросший затылок, обветренную руку на мамином плече. Он повернулся. — Михай! — выдохнула она, узнав брата, бросилась к нему, обняла и начала суматошно и восторженно целовать в лоб, шею, небритые щеки, волосы. — Ты дома? Как я рада! Когда ты приехал? — Полчаса назад… — Да-а-а? Откуда? Что ты это время делал? Почему не писал? Ну рассказывай же, рассказывай! — Сожалею, Дана, но не могу, — с горечью ответил Михай. — В другой раз… Если он представится. Я должен уйти… — Как уйти? Куда? Почему? — засыпала его сестра вопросами и в недоумении посмотрела сначала на отца, потом на мать. — В чем дело? Я вижу, вы все в растрепанных чувствах, и атмосфера довольно мрачная… Ради бога, что случилось? Я ведь не чужая… — Чужой я здесь, Дана, — прошептал Михай. — Чужой в родительском доме… — Но почему, Михай? — Я бежал из немецкого лагеря. За мной следят. Мне нельзя здесь оставаться… Я нарушаю покой отца… Сестра широко раскрыла глаза и вдруг побелела как полотно. «Значит, Валериу прав, — подумала она, ошеломленная услышанным. — Я считала, это сплетни, но все — правда». — А за что тебя отправили в лагерь? — спросила Дана, взяла брата за руку и силой усадила за стол рядом с собой. — Не будь любопытной, — оборвал ее отец. — Скажи лучше, где ты болталась целый день, с десяти утра? Что у тебя за вид? Платье грязное, в земле… Растрепанная, как цыганка… Посмотри-ка на себя в зеркало! — Уже смотрела! — ответила Дана задиристо, но тормошить брата перестала. — Вид у меня вполне приличный. Я красивая. Держусь естественно. Словом, я интересная особа. — Перестань кривляться! — снова оборвал ее учитель. — Ты слышала, Ана? Это и есть женская эмансипация… — Дана, как ты разговариваешь с отцом? — огорчилась мать. — Ты забыла, что надо уважать старших? — Мама, ты отлично знаешь, я была на военных работах. Правда, потом немного погуляла до бульвару, — виновато затараторила дочь, и прядка золотистых волос упала на лоб. — Там меня застала воздушная тревога. Я спряталась в бомбоубежище… А как тревога кончилась, сразу отправилась домой… Вот и все. Что я могла сделать? Бежать под градом бомб? — Мы все потеряли голову! — сурово сказал отец, вперив в Дану непреклонный ледяной взгляд. — Сотни раз я говорил и повторяю снова: времена сейчас тяжелые, надо держаться всем вместе. Бомбежки участились. Всякое может случиться… — Папа, ты сказал прекрасные слова: «Держаться всем вместе», — заметила дочь, причесываясь перед зеркалом и стараясь привести себя немного в порядок. — Но едва мы собрались вместе, как уже расстаемся… И ты напрасно так на меня смотришь, — повысила она голос, отвернувшись от зеркала и бросив на отца укоризненный взгляд. — Михай нарушает твой покой и должен уйти… Так? — Да, он нарушает мой покой своими бунтарскими выходками. — Да-а? — удивилась Дана, иронично подняв правую бровь и сжав губы. — Вот как! О, это… очень серьезно… — Не кривляйся, тебе это не идет! — Отец раздраженно поглядел на нее сквозь очки. — У меня двое детей, и оба вместо учебы взялись за политику… Куда это годится? Но особенно возмутительно то, что они безответственно себя ведут. — Дети всегда похожи на родителей. — Как тебе не стыдно? Влад Георгиу покраснел от негодования, встал и вышел. Мать посмотрела ему вслед и укоризненно сказала дочери: — Дорогая, разве можно грубить отцу? — А сыну? Воображаю, мама, как он разговаривал с Михаем, — сердито возразила Дана. — Сам разыскивал его повсюду, а теперь выгоняет из дому. Сын, видите ли, нарушает его покой! Чем, скажите на милость? — За Михаем следят… — Ну и что? — Ты же знаешь отца… — примирительно заметила мать. — Он не хочет иметь дела с полицией. И, говоря по совести, он прав… — Говоря по совести, он, интеллигентный, порядочный человек, абсолютно не прав. Михай не из бравады, не от безответственности совершил то, что совершил. Я не знаю причину его конфликта с немцами, но верю брату. Верю, потому что знаю его. Почему же я признаю правоту Михая, а отец — нет? — Не расстраивайся, Дана, все утрясется, — вмешался Михай и погладил сестру по длинным золотистым волосам. — И ты, мама, успокойся… — Ты хоть натворил что-нибудь стоящее или немцы преследуют тебя за какие-нибудь пустяки? — спросила с улыбкой Дана. — Отвечу и на этот вопрос, всему свое время, — он показал глазами на ребенка. Костел стоял около буфета, надувшись, с силком в руках, и не обращал никакого внимания на происходящее. — Как поживаешь, герой? — погладил его Михай по щеке, взял двумя пальцами за подбородок, повернул лицом к себе и посмотрел ему прямо в глаза: — Ты меня помнишь? — Помню. Ты неня[4] Михай. — Правильно. — Если это ты, то почему на тебе рубашка и штаны как у цыгана? — Да просто так нарядился. Тебе не нравится? — Михай через силу улыбнулся и снова погладил ребенка по щеке. — Нет. — Ладно, я переоденусь. Договорились? — Договорились! А саблю ты мне привез? — Нет. Не было красивых, как тебе нравится, одни ржавые, — не растерялся Михай. Костел слушал, опустив голову и вертя силок в руках, будто испытывая его прочность. Кто знает, что было у него на уме? Михай смотрел на ребенка с любовью и жалостью. Мальчик вытянулся… Война и его не пощадила… Сколько их, жертв войны! Отец на фронте, о его судьбе ничего не известно… Мать потеряла рассудок… — А воздушного змея мне смастеришь? — вдруг загорелся Костел. — Смастерю. — Правда? Не врешь? — Нет, как можно? — Желая убедить ребенка, Михай прижал руку к сердцу: — Я человек слова. — Ура-а-а! — обрадовался Костел, отшвырнул силок и начал скакать на одной ножке. — Как хорошо, что приехал неня Михай! Ура! Пойду скажу дяде, чтобы он дал нам толстую бумагу… Мальчик выбежал в соседнюю комнату, стуча босыми пятками по полу, что-то свалил по пути. — Бедненький! — сказала мать, с сожалением глядя вслед ребенку. — Что он понимает? Хорошо, что мы взяли их в дом. — Как бы он не проговорился про Михая, — заметила Дана, вставая со стула. Она взяла полотенце, мыло, собираясь идти умыться. — Надо, чтобы он не болтал… Михай, ты будешь мыться? — Дана, помоги мне сначала собрать ему сменное белье, — попросила мать. — Как хорошо, что он живой и здоровый… Они ушли в угловую комнату, окнами на улицу, осторожно притворив за собой дверь. Михай остался один, усталый, разбитый. Казалось, непосильная ноша увлекала его на дно реки. Река была теплая. Его обволакивало сном и покоем. Он положил голову на согнутую руку. Еще немного, и стало тихо-тихо. Он заснул.
9
Перед муниципалитетом раскинулся небольшой парк о цветочными клумбами, с аллеями, посыпанными разноцветным галечником, со стройными елями, под которыми тянулись ряды уютных скамеек. Посередине парка высилась статуя императора Траяна. Парк огибали широкие асфальтированные улицы, ведущие от вокзала к площади и центральному рынку. Вдоль улиц, фасадом к парку, расположились внушительные здания — государственные учреждения, банки, отели, рестораны, кафе, книжные лавки. Но сейчас все было разрушено бомбардировками. По обе стороны от здания муниципалитета были отведены места для паркования общественного транспорта: справа — для автомобилей, слева — для дрожек, колясок, пролеток. В дни затишья, когда не выли сирены, здесь толпились в ожидании клиентов извозчики; со стопками цуйки в руке, они рассказывали разные истории из армейской жизни, происшествия, случившиеся в деревнях, где они жили, жаловались, что сено вздорожало, нет ячменя, нечем кормить лошадей, что у кого-то реквизировали кобылу, что комиссар полиции целый час катался на пролетке и не заплатил, да еще грозился посадить в кутузку за непочтение к властям. Бывало, желая повеселиться, извозчики переходили улицу и собирались у книжной лавки. По соседству о этой лавкой получил в аренду у государства два квадратных метра тротуара чистильщик сапог по имени Бобочел. Он был единственным, кому дозволили в этом привилегированном месте наводить блеск на обувь клиентов. Бобочел был низкорослым толстяком с бритой головой, смугло-оливковым лицом и широкими, массивными челюстями. Орлиный нос, раскосые черные глазки и нависшие брови делали его похожим на знаменитого Чингисхана, прихотью судьбызаброшенного в северинские края. Он носил кожаный коричневый картуз, черные брюки с кожаными латками, жилет с латунными пуговицами, из кармана которого свисала цепочка от золотых часов, на цепочке болтался брелок с монограммой. Чистильщик был нем от рождения. Когда он начинал «говорить», его бормотание сопровождалось бурной жестикуляцией. Он протягивал руку к собеседнику, бил себя в грудь, корчил гримасы, словом, старался изо всех сил быть понятым. Его «заведение» представляло собой большую деревянную коробку, окрашенную в черный цвет, с латунной окантовкой по углам, внутри стояли два сапожных ящичка, на которые клиенты ставили ноги. Немой приладил деревянные полки, разложил на них сапожные щетки с короткой и длинной щетиной, расставил баночки, коробочки, пузырьки с обувными кремами, ваксами, мазями и прочими «снадобьями», необходимыми в его ремесле. Бобочел был фаворитом городской либеральной интеллигенции. Когда в Турну-Северин прибывала сколько-нибудь значительная персона из руководства либеральной партии, он складывал свои «орудия труда», относил их на хранение в книжную лавку, а сам торжественно отправлялся на вокзал встречать дорогого гостя. Сойдя с поезда, гость обычно шел пешком по бульвару в почтительном окружении встречавших. Рядом, стараясь быть на виду, нередко вышагивал чистильщик, свысока поглядывая на тех, кто толпился на тротуаре. Разве кто-нибудь мог с ним сравниться? Какое там! Чтобы досадить заносчивому Бобочелу, извозчики или зеваки, фланирующие по улицам в поисках развлечений, ловили момент и поспешно рисовали мелом перед его «заведением» большой круг — эмблему национал-царанистской партии[5], к которой Бобочел, как и все либералы, питал непреодолимое отвращение. Заметив белый круг, он приходил в ярость, бросал клиента, нога которого в намазанном ваксой башмаке высилась на сапожном ящичке, и начинал издавать громкие нечленораздельные звуки, показывая кулак извозчикам, которые стояли на противоположном углу и хохотали. Он всегда подозревал их в непочтительности к своей особе. Бобочел мчался в книжную лавку, жестами просил ведро воды и гневно выплескивал ее на асфальт, чтобы смыть мел. Немой не переносил, когда оскверняли его рабочее место. Наводя блеск на обувь клиента, он продолжал издавать яростные свистящие звуки и, время от времени поднимая руку со щеткой, грозил извозчикам. Бобочел чистил обувь не каждому. Если чужой останавливался перед его «заведением», чистильщик оглядывал его с головы до ног, прикидывая на глаз стоимость одежды, а заодно и содержимое кошелька. При благоприятных результатах осмотра Бобочел постукивал щетками по ящичку, приглашая новичка поставить ногу. У него была постоянная клиентура — адвокаты, врачи, учителя, коммерсанты, он не тратил сапожной ваксы на простых смертных. Случалось, возле него останавливался несведущий человек, шедший от вокзала к центру города, бедняк в поношенной одежде, приехавший из захолустья и вознамерившийся почистить обувь. Бобочел величественно поднимался с места, не церемонясь, хватал его за рукав и указывал на чистильщиков попроще, скопом ютившихся под стеной крытого рынка. Там обслуживали людей с тощей мошной. К подобным клиентам Бобочел не снисходил. Когда в городе появились немецкие офицеры и итальянские летчики, клиентура «приличных людей» расширилась. Бобочел едва справлялся с чисткой высоких сапог и черных хромовых ботинок. Разумеется, он из кожи лез, чтобы понравиться новым клиентам, потому что они щедро расплачивались с ним. Бобочел особенно старался угодить подполковнику Гансу фон Клаузингу, начальнику немецкой комендатуры, высокому блондину с веснушчатым лицом. Немец носил элегантный китель, отлично пригнанный по его атлетической фигуре, с серебряными эполетами и петлицами, серые шевиотовые галифе, черные сапоги из тончайшего хрома и фуражку с высокой тульей, маленьким козырьком и немецким орлом, сплетенным из серебряных нитей. Он всегда подкатывал к чистильщику на синем «мерседесе» с откидным верхом; машину шофер ставил у муниципалитета. Завидев подполковника, Бобочел почтительно вскакивал и ждал у сапожных ящичков, держа картуз в руке и слегка согнувшись в учтивом поклоне. Чистильщик познакомился с немцем два года назад. Тогда, как и теперь, в витрине книжной лавки висела большая карта Восточного фронта с цветными флажками, воткнутыми там и сям и отмечающими ход военных действий на советской территории. Каждый раз, когда Клаузинг ставил сапог на ящичек и щетки начинали порхать, он убивал время, разглядывая сквозь очки в золотой оправе эту карту молча, сосредоточенно, иногда даже наклонясь вперед, чтобы получше разглядеть названия взятых немцами населенных пунктов, о которых он знал по военным сводкам. Он был доволен победами своей армии и поэтому, пристально разглядывая линию фронта, насвистывал модный мотивчик, отбивая такт подошвой сапога по ящичку; делал он это умело и ритмично, порядком мешая немому заниматься своим делом. — Blitzkrieg![6] — показывал он Бобочелу затянутой в перчатку рукой на флажки вокруг Сталинграда. — Немецкий армия ошень карашо! Ja?[7] — Лицо немца сияло улыбкой, и он так надменно выпячивал грудь, что казалось, китель на нем вот-вот лопнет. Немой слушал его, изредка оборачиваясь назад и поглядывая на карту в витрине книжной лавки. — Большевики капут! Fünf[8] дни! Fertig![9] Ja? Бобочел надраивал голенища, поглядывал из-под насупленных бровей на важную шишку и недоверчиво покачивал головой. Напрасно немец показывал ему растопыренную пятерню, загибая пальцы медленно и властно, пытаясь жестами вразумить немого, втолковать ему, как стремительно продвигается вперед немецкая армия. Но Бобочел был недоверчив на натуре. А вразумить его было трудно. А почему, собственно? Да потому, что восемь недель кряду Клаузинг совал ему под нос пятерню, разглагольствуя, сколько дней осталось до поражения советских войск, а флажки на карте застыли на месте. А однажды, после полного окружения немецких войск под Сталинградом, когда подполковник спросил чистильщика, почему тот с сомнением качает головой, Бобочел не очень вежливо покрутил крючковатым носом, давая понять, что не может целиком полагаться на заключения господина подполковника. — Warum?[10] — рассердился Клаузинг и зло хлопнул перчаткой по козырьку кожаного картуза Бобочела. Немой, однако, не растерялся. Он положил щетки, растопырил пальцы обеих рук, сжал их в кулак и снова разжал, и так семь раз, недовольно бормоча, показал немцу, сколько дней тот морочит ему голову, обещая, что «большевики капут», а «капутом» и не пахнет. Разве не так? — Gut![11] — сказал Клаузинг и, явно оскорбленный, схватил чистильщика за плечо: еще бы, ему, офицеру великого рейха, дважды кавалеру Железного креста, не верил какой-то простолюдин. — Пари! Я дает золотые часы. Gut? — И он показал на запястье своей левой руки. — Если ты проиграль, ты дает золотые часы… — Немец для наглядности схватил золотую цепочку, свешивающуюся из жилетного кармана немого, а потом встряхнул как следует и его самого, пусть не питает иллюзий. Бобочел осторожно сдвинул картуз на затылок, чуть поколебался, глядя на улыбающееся лицо фон Клаузинга, и ухмыльнулся в свою очередь небывалой сделке, потом согласно кивнул. Прошло около двух лет. В это утро Клаузинг, как обычно, явился к немому. Он застал его стоящим со щеткой в руке у карты. В последнее время флажочки переместились далеко на запад, а с апреля подступали уже к Яссам, тянулись через Польшу к Балтийскому морю. Клаузинг постучал носком сапога по ящичку, напоминая чистильщику, что пора браться за дело. Бобочел вздрогнул и обернулся. При виде немецкого коменданта лицо его засветилось радостью. Приветствуя его и почтительно кланяясь, он приподнял картуз, потом деликатно взял немца за руку, подвел к витрине и указал на карту. Положение на фронте было, увы, не таким блестящим, каким его изображал Клаузинг, впрочем, он и сам это знал, а потому нервничал и раздражался по любому поводу. Чтобы немец понял, в чем дело, Бобочел постучал толстым пальцем по стеклу витрины, потом по циферблату золотых часов Клаузинга. Гнусавя и жестикулируя, он пытался втолковать ему, что пройдет немного времени и он, Бобочел, выиграет пари. Начальника комендатуры крайне возмутило поведение немого, тем более что вокруг них стали собираться зеваки — извозчики, торговцы мелких лавочек, случайные прохожие. Они с любопытством взирали на спорщиков. Что себе позволяет немой? Как он посмел хватать высшего немецкого офицера за руку и публично оскорблять его мундир? Клаузинг удостоил наглого оборванца шуткой, чтобы хоть как-то развеять скуку, неизбежную при чистке сапог, а тот нанес оскорбление ему и в его лице всей немецкой армии, самой доблестной, самой неустрашимой, самой… Но Бобочел настойчиво и даже безапелляционно продолжал доводить до сведения Клаузинга, что близится срок, когда он станет законным владельцем офицерских золотых часов. С красным от злости лицом немец вырвал наконец свою руку и наотмашь хлестнул немого перчаткой по лицу. — Zigeuner![12] — взвизгнул он, глядя на оливково-смуглое лицо чистильщика и кипя негодованием. Обернулся, кликнул шофера, влез в машину и велел немедленно ехать в комендатуру. Ошеломленный Бобочел довольно быстро опомнился, потер щеку ладонью и что-то загундосил, угрожающе подняв щетку вслед офицеру. Потом стал «объяснять» толпившимся вокруг него людям, что он выиграл пари, а немецкий офицер — жулик и обвел его вокруг пальца. Вне себя от ярости он вдруг побежал в книжную лавку. Минуту спустя все увидели, что Бобочел залез в витрину, тяжело ступая по книгам, пеналам, тетрадям, подошел к карте, с трудом удерживая равновесие, ухватившись за остекленную раму, наклонился и торопливо переместил флажки так, что они оказались у самого Будапешта. — Ишь, обозлился немой… Так и до беды недалеко, — заметил инвалид Вэрзару, который был свидетелем сцены, разыгравшейся между немецким комендантом и чистильщиком сапог. — А что они с ним сделают, господин Вэрзару? — спросил молодой продавец книжной лавки, протирая тряпкой стекло витрины. — Он ведь ничего такого не сказал. Он толком и говорить-то не может. — Говорить не говорил, а делал, — раздраженно возразил инвалид. — Как он посмел угрожать немецкому офицеру? Союзнику нашей страны! Союзнику господина маршала Антонеску! Что он себе позволяет? Линию фронта передвинул! Разве туда отступила немецкая армия? — Отступит, не сомневайтесь. Она здорово драпает… Чистильщик выскочил из лавки, нисколько не успокоившись; он останавливал прохожих, подзывал их к витрине, показывал новую линию фронта, объяснял на растопыренных пальцах, что скоро немецкая армия будет разгромлена и война окончится. Но тут вышел хозяин лавки, припадающий на одну ногу, и костылем поспешно опустил жалюзи, велев зевакам разойтись.10
В тот же день учитель Влад Георгиу нервно прогуливался по коридору полицейского управления, недовольно поглядывая на карманные часы. На старых поцарапанных скамьях, стоящих вдоль серых грязных стен, сидели посетители, пришедшие сюда по разным причинам. Они шепотом переговаривались и, когда открывалась дверь, с любопытством следили за комиссарами в черной форме с белыми аксельбантами или надзирателями, снующими из кабинета в кабинет с бумагами и папками в руках, а то и подталкивающими какого-нибудь пьянчугу, приведенного на следствие. Коридор был темный, его освещала одна-единственная лампочка, подвешенная высоко под засиженным мухами, облупившимся потолком. В спертом воздухе пахло известкой и мочой, и это вызывало у Георгиу тошноту. Учитель отошел к окну, выглянул, свесившись через карниз, во внутренний двор управления. Двор был загажен, забит телегами и привязанными к ним волами, которые, лежа в грязи, жевали сухие кукурузные початки. — Это которые по реквизиции, — пояснил ему смуглый небритый человечек в замасленной одежде. Он заметил, что Георгиу удивленно разглядывает двор управления, и ввязался в разговор. — Пригнали вот, три дня как сидят без дела… Приказа никакого нет, а уехать бедным людям не дают… Учитель наклонил голову в знак того, что понял, но ничего не сказал и даже повернулся к человечку спиной, считая, что не стоит в полиции якшаться с кем попало. Он знал, что здесь немало агентов, которые выдают себя за пострадавших, якобы вызванных на допрос к комиссару, а сами подслушивают разговоры о главе правительства, о тяжелой ситуации в стране, о войне. Они провоцируют людей, вызывают на откровенность. Поэтому Влад Георгиу не стал общаться с этим «доброжелателем» или осведомителем и удалился, неслышно ступая по коридору. Беспокойство его нарастало, потому что он не знал причины вызова к начальнику полиции. «Конечно, это связано с Михаем. Неужели они узнали, что он вернулся? Или речь идет о чем-то другом?..» За массивной дверью послышался яростный крик: «Большевик! Тюрьма по тебе плачет!» Звонкая оплеуха, еще и еще… Глухой стон… Кто-то упал, на пол свалился стул или еще какой-то тяжелый предмет, возможно, даже стол — трудно понять, что именно. И снова тот же голос, который, несомненно, принадлежал главному комиссару (кабинет был его): «Ангелеску, оформи документы и отправляй этого подонка в Бухарест! В главное управление! Хватит, два с половиной месяца зря вшей кормит. Ни слова не вытянешь! Пускай там разбираются — тюрьма, фронт, расстрел, мне наплевать! Пусть что хотят, то и делают. Да поживей, чтобы духу его не было в предвариловке». Дверь распахнулась, и в коридор вытолкнули человека лет пятидесяти, со впалыми щеками, растрепанными волосами и такой всклокоченной бородой, что он казался свирепым. На виске — свежий след крови, а на правой щеке — синяя зловещая припухлость. Он был в рваной одежде, в тяжелых стоптанных ботинках с загнутыми носками и в наручниках. — Господин Райку! — невольно воскликнул учитель, увидев своего соседа. Он инстинктивно шагнул к нему, даже протянул руку, но тут же отдернул ее. Вспомнил крик комиссара полиции и, посчитав, что негоже усугублять свою и без того нелегкую ситуацию, собрался было повернуться к нему спиной. — Минутку, господин учитель! — обратился к нему Ион Райку. — Как хорошо, что я вас встретил! Меня держат под арестом без всякого суда и следствия… Скажите, пожалуйста, моему сыну, что у меня все в порядке, пусть смотрит за домом и пусть передаст мне смену белья… Он вздохнул и руками в наручниках попытался стереть кровь, пузырившуюся в уголке рта. Его схватили утром 1 мая. Рабочих судостроительной верфи собрали в просторном монтажном цехе и огласили воззвание, написанное товарищем министра по вопросам труда. Зачитал воззвание плотник Панделе, работающий в столярном цехе, ставленник директора. В воззвании были такие слова: «В нынешнем году 1 Мая омрачено страданиями войны, которой мы не хотели, которую начали не мы…» Возмущенный Райку попросил, чтобы им объяснили, почему же тогда глава государства маршал Антонеску приказал армии вступить в войну. Как можно говорить, что «войну начали не мы»? Теперь, когда нож приставлен к горлу, великие мира сего пытаются обелить себя перед народом, оправдать свои поступки… Панделе, стоя на импровизированной трибуне вместе с директором и военным комендантом судоверфи капитаном Андриешем, притворился, что не слышит выкриков клепальщика. Но через два часа Райку арестовали. Четверо полицейских явились прямо в цех и увели его под конвоем. Затолкали в машину, которая ждала перед административным корпусом. Его посадили в городскую тюрьму, подвергали бесконечным допросам, пытали. — Санду пускай остается на судоверфи, — продолжал Райку, подойдя вплотную к Владу Георгиу. — Прошу вас, господин учитель, скажите ему, чтобы он передал мне свитер… — Шевелись давай и кончай треп! — толкнул его под ребро верзила-надзиратель, который, прикуривая от цигарки, протянутой ему крестьянином, отвлекся и не сразу заметил непорядок. — А ты, очкарик, вали отсюда! Своих делов, что ли, нет? Доложу вот шефу, мол, объявился соучастник. Краска сбежала с лица учителя. С ним еще никто так не обращался, и он оскорбленно опустил голову. «А вдруг кто-нибудь слышал, как тут со мной разговаривают?» — спросил он себя, оглядываясь по сторонам. Но напрасно он волновался. Люди не обращали на него никакого внимания. Они с нескрываемой жалостью смотрели на Райку, которого конвойный зло толкал в спину. Арестованного вели по темному коридору к двери, за которой, вероятно, находился внутренний двор полиции. «Кто знает, за что его посадили? — подумал учитель, глядя вслед соседу. — Многие, очень многие и в городе, и в близлежащих селах неодобрительно отзываются о диктаторском режиме маршала, комментируя и так и эдак тяжелое положение в стране и на фронте, с которого ежедневно приходят неутешительные вести. Болтать-то люди болтают, но осторожно, с оглядкой. А Райку, возможно, высказался в открытую. И поплатился. В каком он ужасном состоянии! Да, так случается со всяким, кто не умеет сдерживать свои порывы, не обдумывает поступки. Человек становится героем собственной трагедии. В такой переплет попал и Михай. Несдержанный, импульсивный юноша на пороге беды… И меня тащит за собой… Но, может быть, вызов в полицию связан не с ним? Тогда с чем же?» Учитель был утомлен. Он приехал из деревни Шишешти, куда перевели гимназию. Преодолел не один десяток километров, чтобы вовремя явиться в полицию. И так долго торчит здесь впустую!.. Дверь отворилась, и Ангелеску, помощник полицейского комиссара, появился на пороге и крикнул на весь коридор: — Учитель Влад Георгиу здесь? — Здесь, господин комиссар! — ответил учитель, вздрогнув, и торопливо подошел к полицейскому. — Давненько жду… — И дальше что? — грубо оборвал рыжий, смерив его суровым взглядом. — Думаешь, у нас как в твоей гимназии? Звонит звоночек — и ты входишь в класс? — Позвольте, но ваш тон… — Кончай базар, мы не в парламенте, где каждый болтает что хочет, — буркнул помощник комиссара. — Господин начальник ждет тебя… Влад Георгиу чувствовал, что ему вот-вот станет дурно. Нервы были напряжены до предела. «И это служащие городской полиции?! — с негодованием думал он. — Стражи законов и общественного порядка!» Учителю и в голову не приходило, что в государственном административном аппарате могут служить такие наглые люди, как этот тип. Но что он мог поделать? Набраться терпения, и только. Приходилось сносить любое унижение, от любого служащего, пока не прояснится ситуация с Михаем. Его, Влада Георгиу, наверняка вызвали сюда из-за сына. — Входите, входите, господин учитель! — раздался из кабинета голос. Встревоженный и напряженный, Влад Георгиу переступил порог. Споткнулся о подстилку у двери и чуть было не упал. — Рано поклоны бить! — засмеялся ему в самое ухо Ангелеску и крепко схватил за руку. — Разрешите доложить, господин главный комиссар, прибыл господин учитель! Мы его вызывали насчет… Начальник полиции был в штатском костюме — белая, туго накрахмаленная поплиновая рубашка, из нагрудного кармана фисташкового пиджака кокетливо выглядывает уголок шелкового носового платочка. Он любезно встал, обошел стол и сердечно пожал руку учителю, как старому знакомому, желая показать, что два курса юридического факультета, которые он окончил, не пропали даром. Он был человеком с хорошими манерами. — Очень рад, господин учитель, что вы откликнулись на наше приглашение, — сказал он, гостеприимным жестом указывая на стул и предлагая Владу Георгиу сесть. Пригладил блестящие от бриллиантина, безукоризненно подстриженные волосы. — Если мне не изменяет память, мы уже однажды встречались… — Да, да… в вашем кабинете, — подтвердил Влад Георгиу, и перед его глазами возникла сцена короткого допроса. Он выгнал тогда из класса нескольких гимназистов в зеленых рубашках… — Прошло четыре года, если не ошибаюсь… — дружески продолжал начальник полиции. — Или три… Да что это я? Такие детали не имеют значения… Ангелеску, — посмотрел он на своего подчиненного, — принеси-ка досье. — И снова повернулся к Владу Георгиу. — Да-с, в жизни бывают разные осложнения, уважаемый господин учитель, приходится принимать те или иные меры, и мы, стражи закона, следим за их исполнением как верные слуги нашего маршала. Так же как и его солдаты на фронте. Надеюсь, вы это понимаете… — Да… Да… Конечно. Главный комиссар полиции Албойю доброжелательно улыбнулся, довольный найденным сравнением. Он слыл человеком любезным, хотя это было и не так, изо всех сил поддерживая репутацию непревзойденного рыцаря вежливости и элегантности. Как он мучил портных на примерках! Требовал, чтобы одежда сидела на нем словно влитая, без единой морщинки. По утрам немало времени проводил у зеркала, то поправляя носовой платок в нагрудном кармане или галстук, то занимаясь массажем век, борясь с приметами надвигающейся старости. Албойю непринужденно взял из никелированной коробки сигарету, закурил, полыхнув зажигалкой, и лениво откинулся на спинку стула, устремив взгляд в потолок и следя за клубами голубоватого дыма. Вспомнив вдруг, что у него гость, он извинился и предложил закурить, протянув с утрированной вежливостью сигаретницу. — Ради бога, извините… Я заболтался и… Курите, пожалуйста, господин учитель. — Благодарю вас, я не курю, — сказал Влад Георгиу и, вынув платок из кармана пиджака, вытер со лба пот. — Это очень хорошо, господин учитель, что вы не курите, — одобрил Албойю, захлопнул крышку сигаретницы и снова небрежно развалился на обитом кожей кресле. — Здоровье вам обеспечено. Позавчера я имел честь познакомиться у господина Клаузинга с одним немецким врачом, выдающимся, надо сказать, человеком. Он был проездом в Бухаресте, от нас — прямо на фронт. Знаете, что он сообщил? Табак не только вызывает большое число легочных заболеваний, но и серьезно расшатывает весь организм. И что любопытно, он не успокаивает нервы, как принято считать, а как раз наоборот. Я человек интеллигентный, впрочем, как и вы… Однако, пришел Ангелеску… Ну-ну, пошевеливайся, не тяни!.. Рыжий, весь в веснушках, полицейский вошел в кабинет и положил на стол Албойю серую папку, завязанную трехцветными шнурками. По жесту шефа тут же удалился, с шумом захлопнув за собой дверь. — Та-а-ак! — сказал начальник полиции, медленно развязывая шнурки и открывая папку. — Посмотрим, все ли у нас в порядке, как говорится, с… делопроизводством. Он доставал бумаги одну за другой и, держа на расстоянии, нарочито внимательно изучал, будто читал впервые. Хмурил брови, цокал языком, шевелил большими жирными губами, с явным неудовольствием качал головой. Кислая мина его свидетельствовала, казалось, о крайне затруднительном положении, в каком начальник полиции очутился, но он тут же поспешил заверить, что сделает все от него зависящее, чтобы дело утряслось. — Господин учитель… — начал он, театрально выронив последнюю бумагу на письменный стол. — Я хотел бы знать, если возможно, какими сведениями вы располагаете о вашем сыне Михае? Он был направлен в военное училище в Германию, не правда ли? Нам известно, что он писал вам оттуда, потом вы долго не получали писем и вам пришлось наводить справки о нем. Ваше отцовское рвение весьма похвально. Увенчалось ли оно успехом? Напали ли вы на след сына? Влад Георгиу ждал подобного вопроса и все же растерялся. Чтобы выиграть время и продумать как можно более правдоподобный ответ, он снял очки и начал протирать стекла платком. От беспокойства и тревоги засосало под ложечкой. Ему никогда не приходило в голову, что в нынешнем, столь почтенном возрасте, при его социальном положении, он будет вынужден выкручиваться. И где? На допросе в полиции. Из-за кого? Из-за собственного сына! Из-за его неразумности и своеволия, которые могут стоить жизни. — Слушаю вас, господин учитель! — настойчиво повторил Албойю, поправляя платок в нагрудном кармане. — Вы спросили меня про сына? — повторил Влад Георгиу, в явном замешательстве падевая очки. — Ну как вам сказать… Я ничего не знаю о его судьбе почти год. Разумеется, я обеспокоен таким долгим молчанием и делал запросы в компетентные органы; как я вижу, вы об этом осведомлены. Нигде, однако, мне не могли дать вразумительного ответа. Со временем я решил, что он погиб в бою или попал в плен. Прошел год, а я так ничего и не знаю… Он замолчал и опустил голову, глядя на шляпу, которую вертел в руках, чтобы их чем-то занять и чтобы не было видно, как сильно они дрожат. «Неужели он догадался, что я лгу? — подумал учитель. — Неужели они знают, что Михай неделю назад вернулся и тайно живет дома? Может, они только ждут удобного момента, чтобы устроить засаду? А в полицию вызвали, чтобы проверить мою честность и лояльность?» — Итак, год вы ничего не знаете о сыне, — подытожил полицейский, задумчиво барабаня по столу уродливыми, толстыми, как сосиски, пальцами, ногти, правда, были у него ухожены и наманикюрены. — Мда… очень интересно… — Я действительно ничего не знаю, — упорствовал учитель, опасливо поглядывая на Албойю. — Воображаю, как вы беспокоитесь! — с притворным сочувствием сказал тот. — Неприятнейшая ситуация… — Разумеется… — Ну, раз уж вы целый год ничего не знаете о сыне, — тут начальник полиции причмокнул толстыми губами, — прошу вас, изложите все это на бумаге… — Он выдвинул ящик письменного стола. — Вот чистый лист бумаги, вот ручка, пожалуйста, пишите… — То есть, попросту говоря, дать показания? — Да, показания, если угодно, — Албойю утвердительно кивнул. — Вы считаете это противоестественным, господин учитель? Здесь, у нас, ежедневно пишутся сотни показаний, и на их основе мы проводим следствия, дознания, допросы, выдвигаем обвинения, словом, занимаемся своей работой. Учитель растерянно вертел шляпу в руках, словно хотел положить ее, но не знал куда. Он молчал и беспокойно ерзал на стуле. Было видно, что ему нелегко выполнить то, что от него требовали. — Представьте себе, вы на уроке. Вызвали ученика к доске и попросили рассказать, например, о битве даков и римлян, — засмеялся Паул Албойю, обнажив громадные, желтые от курения зубы. — Разве это ненормально, разве есть что-то необычное в том, чтобы спросить заданный урок? Это ведь ваша профессия… Не говоря ни слова, Влад Георгиу взял протянутый ему лист бумаги, ручку, чернильницу с письменного стола начальника полиции и пристроился за маленьким столиком в углу, приготовившись писать. Он снова снял очки, протер стекла и долго, не двигаясь, как-то опустошенно смотрел на сточившееся перо и белый лист бумаги. «Что писать? Правду? Или утаить ее? А вдруг полиции известно про Михая? Наверняка у них есть какая-то информация, иначе зачем им было вызывать меня? Зачем заставлять давать показания?» — размышлял учитель. В это время пронзительно и тревожно зазвонил телефон. Албойю снял трубку и поднес к уху, вальяжно, откинувшись на спинку высокого стула. — Что ты хочешь, Ангелеску? — спросил он со скучающим видом. — Пой громче, пташка, не слышу. Кто?! Бобочел, чистильщик? Вы что там, спятили? Гони его взашей. Слышишь? Я тебе приказываю. Освободи его немедленно! Ну как он мог выкрикивать оскорбления в адрес Германии, если он немой? Он двух слов сказать не может. Понял? Нас засмеют как последних идиотов… Выполняй, Ангелеску! Всыпь ему пару горячих, чтобы помнил полицию, и вышвырни на улицу. Понял наконец, баранья твоя башка? Паул Албойю кинул трубку на рычаг и пристально посмотрел на учителя, склонившегося над листом бумаги. Потом неспешно встал и подошел к окну поглазеть на прохожих. Ему хотелось понаблюдать, какой интерес представляет в этот час для местных жителей главная торговая улица города. К его огорчению, тротуары были пусты. Ставни лавок закрыты. Старый продавец браги, с белой бородой, в красной феске, подавал священнику бутылку лимонада. Кокетливая, игривая бабенка в узкой юбке и высоких «ортопедических» туфлях торопливо шла в тени каштанов по направлению к городской управе. «Госпожа полковница Дона, — не без удовольствия отметил Албойю. — Интересно, что она делала вчера вечером у жены аптекаря? Кроме игры в покер?» Он уже намеревался перегнуться через подоконник, но тут опять затрещал телефон. Тяжелым, медвежьим шагом вернулся он к письменному столу и снял трубку. — Ну чего тебе? Пой, пой громче! Как?! Я сам поговорю с ним. Не твоего ума дело. Конечно. Сегодня вечером. Скажи Граффу, пускай выкручивается как знает, едет на мельницу, добывает муку, чтоб завтра можно было заткнуть дыру — выбросить в продажу несколько сотен буханок хлеба. Иначе я ему не завидую. У меня все. Что ты говоришь? Нет, не сможем. Я лично велел пригнать с площади эти подводы. Для реквизиции. Ночью отправим их на бистричоарскую мельницу за мукой. Так-то, братец! Так-то, баран безмозглый! Потрудись выслушать меня внимательно. Завтра на рассвете выставишь два-три полицейских отряда на улицах и задержишь штук десять — пятнадцать телег, они нужны позарез. Крестьяне в это время везут дрова, сено, горшки в город. К черту их товар! Пускай поработают извозчиками. А то город останется без хлеба. Понял? Точка. Исполнять приказ! — Он швырнул трубку на рычаг, поправил подтяжки на довольно солидном животике и снова уселся на стул с резной спинкой, у письменного стола. Взял дымящуюся сигарету, забытую в пепельнице, но, увидев, что она догорает, пальцем загасил ее и принялся молча наблюдать за учителем. Влад Георгиу закончил наконец свой труд, встал и стоя перечитал написанное. — Готово, господин учитель? — спросил преувеличенно вежливым тоном начальник и протянул руку к исписанному листу. — Готово. Я изложил все, что мне известно… — Отлично, — сказал Паул Албойю, поглаживая лист бумаги ладонью. — Значит, через несколько дней мы дадим знать, правдивы изложенные вами факты или нет. — Как я должен это понимать, господин главный комиссар? — с беспокойством спросил Влад Георгиу. — Как вам угодно. Вы мыслящий человек, — улыбнулся начальник полиции. — Вероятно, мы сможем помочь вам узнать кое-что о сыне… — Буду весьма признателен… — Вы свободны, господин учитель, благодарю за визит. Влад Георгиу склонился в учтивом поклоне, открыл дверь, вышел в коридор и зашагал мимо измученных посетителей. Выйдя на улицу, он жадно вдохнул чистый воздух летнего полудня и ровным шагом направился к дому. Его обуревали тревожные чувства. С одной стороны, он был обеспокоен внезапным возвращением Михая, с другой — безмерно раздражен грубым поведением служащих полиции. Каждого, кто переступал ее порог, независимо от социального положения и причины прихода, подвергали унижениям, считая, очевидно, всех жуликами. Полицейские могли в любой момент бросить кого угодно в тюремную камеру. Но самым печальным было, что в государственном аппарате творилось то же самое. Человеческое достоинство, порядочность в глазах приспешников Антонеску были, вероятно, чисто абстрактными понятиями. Учитель осознавал несправедливость существующего строя, видел, что произвол, нищета, неуверенность в завтрашнем дне все больше озлобляют людей. Но что он мог поделать? Подчиняться. Ждать. Иного выхода не было. Чего ждать? Он и сам толком не знал. А тут еще неприятности с Михаем. Правда, мальчик так основательно затаился… Но сколько это может продолжаться? Рано или поздно нагрянет полиция, разразится скандал, Михая арестуют и их тоже — как сообщников. И тогда конец его авторитету уравновешенного, миролюбивого человека, всеми уважаемого в округе. Учитель шел по улице, обходя развалины, и размышлял, сопоставлял свое положение с положением Райку, в дом которого каждый месяц вваливались по утрам, вечерам, в полночь, словом, когда им заблагорассудится, наглые полицейские и начинали так называемые «блиц-обыски». Из-за заборов и зашторенных окон люди видели, как они волокли несчастных арестованных к машине, как били их по лицу неизвестно за что. «Неужели и меня ожидает такое? — думал учитель, сердясь на Михая за то, что он втравил отца в такие неприятности. — Чтобы со мной обошлись так же, как с Райку? Нет, никогда! Я поговорю с Михаем вечером и велю ему немедленно покинуть дом. Я не желаю из-за его неразумных поступков подвергаться оскорблениям полиции…»11
Капрал Тудор Динку вошел в канцелярию роты и остановился у дверей, ожидая приказаний. Высокий, худой, с осунувшимся лицом и добрыми карими глазами, он был одет в нескладно болтающуюся на нем, помятую военную форму. На брюках — заплатки из брезента, а обмотки, ветхие и обтрепанные, еле прикрывали лодыжки. За старым, поцарапанным столом, в фиолетовых чернильных пятнах, заваленным множеством папок и бланков, сидел плутоньер[13] Петре Грэдинару, круглолицый крепыш с красными толстыми щеками и коротко подстриженными усами. Выгоревшая парусиновая рубаха, казалось, вот-вот разойдется по швам, так плотно она облегала его коренастое тело, стянутое ремнем с широкой медной пряжкой пониже живота, похожего на мешок с зерном. Фуражка с засаленной тульей и сломанным козырьком браво сдвинута на мощный, как у быка, затылок. Сигарета, как обычно, торчала за правым ухом, для удобства, чтобы сразу закурить, как только покончишь с делами. Но пока не было времени даже поднять глаза от бумаг, так много их накопилось. Грэдинару, ведающий боеприпасами, замещал командира комендантской роты. Младший лейтенант Виктор Ганя находился в командировке. Утром Грэдинару не успел еще достать бумаги из шкафа, как его вызвал полковник Предойю, командир полка, и приказал раздобыть немедленно, хоть из-под земли, фураж для лошадей, потому что бедных животных нечем кормить. В тыловых подразделениях унтер-офицеров было мало, почти всех отправили на фронт, тот же, кто чудом оказался в тылу и спасся от ужасов войны, должен был трудиться изо всех сил, иначе его ждал первый же маршевый батальон. «Деликатнейшая ситуация, Грэдинару, — сказал полковник в то утро. — Фронту нужны люди, а где их взять? Поэтому не будем задерживать отправку того, что еще можно достать и отправить. Разорвись хоть на сто частей, но добудь фураж. Понял? Ты опытный служака. Я не сомневаюсь в твоих способностях и, говоря между нами, представил тебя на повышение — на плутоньер-адъютанта». Грэдинару стал по стойке «смирно»: «Премного благодарен и… и… дай вам бог здоровья, господин полковник! — От волнения и нечаянной радости у него заплетался язык. Надо же, плутоньер — и вдруг в плутоньер-адъютанты! За три года до увольнения в запас! — И я желаю вам, господин полковник, звезды и бригадного генерала, лучше даже корпусного». — «Ладно, ладно, только делай, что велено, и вертись волчком!» — «Ясно! Будет сделано. Заверчусь теперь как пропеллер, вы знаете, за мной не станет, второго такого, как я, днем с огнем не сыщешь». Бросив бумаги на свой стол, Грэдинару кинулся к полевому телефону и попытался связаться с батальоном, дислоцированным в близлежащей деревеньке. — Алло! Первый! Алло! Первый! — кричал он в эбонитовую трубку. — Алло! Эй, ты что, не слышишь? Дрыхнешь на телефоне? Алло! Первый! Первый! Злой, с налитыми кровью глазами и перекошенным от бешенства лицом, он крутил ручку аппарата так сильно, что каждую минуту тот мог развалиться, орал в трубку, стучал кулаком по столу, словно телефонист на другом конце провода мог увидеть его обозленное лицо и испугаться. Пот градом катился со лба плутоньера. — Вот чертово отродье, ночь на дворе, а я все не могу связаться с Эргевицей! — орал Грэдинару. — Строят из себя начальство, нос задрали, а как до дела, у телефона посидеть не могут! — Он кинул трубку и, увидев у дверей капрала, вскочил, руки в боки, и принялся распекать его, готовый испепелить на месте: — Явился? — Так точно, господин плутоньер. — А паччему не докладываешь, что явился? — рявкнул Грэдинару. — Ждешь, пока я тебя не вызову? Генеральских почестей захотел? Не знаешь, что устав гласит? Солдат является, представляется, рапортует! — Не осмелился вам мешать, господин плутоньер, заняты вы были, — оправдывался капрал. — Да, занят по горло, лежебоки-связисты у телефона не сидят, аппарат трезвонит, а им хоть бы хны, дрыхнут сволочи, чтоб им там дрыхнуть вечным сном! В тыловых подразделениях одни ловкачи и жулики пооставались, службу по-людски нести некому, а на войне ведь гибнет цвет страны, так поется в песне… Капрал Тудор Динку молчал. Грэдинару мог говорить с дальним прицелом, намекая и на него, с превеликим трудом доставшего справку. На гражданке Динку был мастеровым по литью, наглотался свинцовой пыли, маялся легкими. На фронте он не был ни одного дня. — Чего тебе? — спросил Грэдинару. — Господин плутоньер, вы сами приказали явиться под вечер, собирались послать меня, только вот куда — не знаю… — Ага! — вспомнил сразу Грэдинару, и лицо его просветлело. — Молодец! Пойдешь к старшему сержанту Гэлушкэ на продсклад, скажешь, чтобы он дал то, что я просил, и рысью ко мне домой, отнесешь пакет мадам. Понял? — Так точно, господин плутоньер! — отчеканил Тудор. — Все! Марш, одна нога тут, другая там! — Может, подождать, пока стемнеет, господин плутоньер? — засомневался капрал. — Вроде понадежней… — К бабе небось спешишь, вот и тянешь кота за хвост, а дела — одна маскировка, а? — пытливо зыркнул и тут же хохотнул Грэдинару, обнажив четыре передних золотых зуба. — Ты изрядный шельмец, в последнее время, чую, не прочь пошляться по городу… — Да не шляюсь я, господин плутоньер. — Ладно, ладно, не спорь со мной, я старая лиса… — Как можно, господин плутоньер? — Сейчас я выведу тебя на чистую воду, — загадочно усмехнулся Грэдинару. — Скажи, где ты провел позавчера все утро? Отвечай попроворней да не вздумай врать! Ну, я жду! — Разве не было воздушной тревоги и бомбежки, господин плутоньер? — попытался вывернуться капрал. — Как я мог свободно ходить по городу? — Храбрость к лицу солдату, — заметил Грэдинару патетически и снова схватился за ручку телефона. — «Под дождем шрапнели, знай, мы не робели…» — поется в песне. Слова знаешь? — Нет, господин плутоньер… — А я что говорю? Сразу видно, ты не из моей призывной роты, а то давным-давно усвоил бы святые правила дисциплины, словом, был бы человеком с головой. Я тут здоровье гроблю на разлиновку табелей, то того, то другого вношу в списки личного состава, вычеркиваю из списков, торчу на ротном складе, проверяю обмундирование срочно мобилизованных, сам знаешь, какая морока, иду туда, бегу сюда: «Скажи, сколько у тебя людей в наличии, выясни, кто болтает лишнее…», а мой писарь в городе прохлаждается… — Да не прохлаждаюсь я, господин плутоньер, вы меня сами отпустили, велели идти к господину полковнику Предойю. Я ему для воды колонку устанавливаю… Не все еще сделал. — И много тебе осталось? — спросил Грэдинару. — Много, господин плутоньер. То того нет, то другого, я и в железнодорожные мастерские наведывался, хотел трубы достать, а там пусто, договариваться не с кем, видать, от бомбежки попрятались… Офицеры и унтер-офицеры тыловых подразделений полка использовали капрала Тудора Динку для разных домашних поручений. Литейщик по профессии, он брался за все, лишь бы чаще бывать в городе, где руководил подпольной работой местного Союза коммунистической молодежи. Он чинил санузлы, краны, велосипеды, работал штукатуром и маляром, прочищал канавы, подправлял заборы, ремонтировал дымоходы, словом, выполнял всякие поручения, только бы вырваться из казармы. Два месяца назад он подрядился вырыть колодец во дворе полковника Предойю и установить для воды колонку, потому что городской водопровод был разрушен при первых же бомбежках. Он достал все необходимые материалы, но нарочно тянул с работой, потому что у него появился удобный предлог надолго отлучаться в город. Капрал отправлялся рыть колодец всегда в военной форме. Но случалось, он и не заглядывал во двор полковничьего дома, а торопливо забегал к себе, переодевался в штатское и шел на собрание организации. Эта мера была необходима для того, чтобы члены СКМ не знали, что он служит в пехотном полку здесь же, в городе. — И сегодня ты ходил за трубой? — снова заговорил Грэдинару, прихлопнув регистрационной книгой муху, назойливо летавшую над столом. — И сегодня, господин плутоньер. — В штатском? — Нет, господин плутоньер, не в штатском. — Выходит, старший сержант Гэлушкэ врет как сивый мерин? — спросил напрямик Грэдинару, снова уперев руки в бока и нахмурив брови. — Разве унтер-офицер может лгать? — Я не говорю, господин плутоньер, что он лжет. Он мог и обознаться. Люди похожи друг на друга… — Он сказал, что ты был в штатском и глазел, как горит дом… — Неправда, господин плутоньер! Там, где я был, не горел ни один дом. — Не горел, не горел! — сердито буркнул Грэдинару. — У меня, может, душа горит, а тут крутись-выпутывайся: отчетность по боеприпасам давать, а ты ключ от склада с собой уволок… Как, черт побери, я в этот склад попаду, если он на замке?! Негоже, когда мужик воюет дома, — вздохнул он, сердито качая головой. — Целый день только и знаешь, что просишься в увольнение да строчишь очередной рапорт, выпусти, мол, тебя из казармы, а только выпустил, ты шасть — и по бабам… — Да не по бабам, господин плутоньер, на задании я был… — Знаю я твои «задания»! Тянешь волынку с колодцем у полковника, чтоб лишний раз заскочить к какой-нибудь бабенке… Грэдинару замолчал и снова нервно завертел ручку телефона. С перекошенным лицом и выпученными глазами он орал в трубку: — Первый! Первый! Черт бы побрал этот первый батальон с дохлым телефонистом! Кто у них там главный? Первый! Первый! — Грэдинару поднял глаза на капрала и, увидев, что тот все еще мнется у двери, гаркнул на него: — Что ты здесь торчишь как пень? — Я думал, у вас еще что, господин плутоньер. — Кошки у меня на душе скребут, вот что у меня! — горячился Грэдинару и охрипшим голосом, почти задохнувшись в крике, рявкнул: — Кругом, шагом марш! Мадам ждет пакет. — Слушаюсь, господин плутоньер! Разрешите зайти в мастерские за шурупами для господина полковника? Я задержусь недолго… — Валяй! Но никому ни полслова, что в пакете! Ясно? — Так точно, господин плутоньер! — Выполняй приказ! Дом ПетреГрэдинару находился на северо-восточной окраине города, вблизи учебного поля. Он был невысокий, красивый, с пятью просторными, светлыми комнатами и застекленной верандой, окруженный каменным забором, увитым вьющимися розами. Общую картину покоя и уюта дополнял сад с цветочными клумбами и разноцветными шарами на низеньких столбиках, окруженных пышными хризантемами и яркими петуниями. Было довольно поздно, когда капрал Тудор Динку прибыл сюда с объемистым пакетом под мышкой; квартал, как и город, был погружен во мрак. Он хорошо знал это место и не мог заблудиться. Но, дойдя до ворот и заглянув через забор, увидел, что в особняке темно. Может быть, хорошая светомаскировка, а может, никого нет дома? Капрал постоял немного, думая о том, что пакет придется, вероятно, тащить обратно, он, правда, не тяжелый: мясо, макароны, мармелад и несколько бутылок. Вдруг он вспомнил, что забыл взять бутылки с растительным маслом. Их приготовил солдат-кладовщик, но, возможно, они были не для Грэдинару? Гэлушкэ отсутствовал, а то бы рассудил, какие продукты кому предназначены. Завтра утром снова придется идти на склад. Динку постучал в ворота, но ему никто не открыл. Постучал еще раз, сильнее. Залаял соседский пес, к нему тотчас присоединился другой. Капрал подождал несколько минут, не выйдет ли кто-нибудь на веранду. Никто не выходил. Тогда он открыл ворота и вошел во двор. Обогнул дом, скрипя по галечнику дорожки, и остановился у черного входа, ведущего на кухню. Динку отлично ориентировался здесь, знал и жену Грэдинару — мадам Флорику, Фифи, как ее звали близкие друзья, он не раз бывал у них в доме, чинил электровыключатели, ручки дверей, менял прохудившийся желоб или перегоревшую лампочку. Не мешкая, он ступил в темный коридор и отворил дверь в комнату; половицы под потами пели на все голоса. В комнате, смежной с той, куда он попал, послышался шепот, пружинная сетка кровати лязгнула, кто-то торопливо вскочил, донесся звон разбитого стакана или чего-то еще, и Динку, застывший в нерешительности на месте, услышал в темноте голос старшего сержанта Гэлушкэ, точнее, его шепот: — Черт бы побрал эту бутылку! Фифи, ты лежи, только не двигайся, а я пойду посмотрю, кто там… — Петрикэ!.. — Да нет, он уехал в Эргевицу, а то бы я не пришел… — Кому же, кроме него? — Какой-нибудь бродяга… Пользуется затемнением. Повадились по ночам воровать, света нет, удобно… Не волнуйся. Я погляжу, кто там… В комнате вспыхнул огонек зажигалки, и через окошко, задернутое легкой занавеской, которое почему-то выходило не на улицу, а в комнату, капрал увидел взлохмаченную голову старшего сержанта, он то наклонялся, то выпрямлялся, словно искал что-то на полу, его удлиненная тень металась на стене, как на экране. Динку не стал дожидаться, повернулся, собираясь уходить, но дверь распахнулась, и старший сержант спросил сонным голосом: — Кто тут? Чего молчишь? Кто тут?! Капрал не отвечал. Он постоял минуту, прислонившись к стене, чтобы его не заметили, потом, когда все затихло, осторожно положил пакет на стол, стоящий в коридоре, и крадучись вышел во двор. Торопливо выскочил за ворота и зашагал по утопающим во мраке улицам к окраине города. «Чертов Гэлушкэ! — подумал он, спеша попасть к назначенному часу к месту встречи. — Рука как деревяшка, а тоже мне, любовь крутит. И с кем? С женой начальника… Грэдинару, видать, догадывается, что к чему, да не хочет спугнуть, надеется застукать, чтобы не открутился». Гэлушкэ был изворотливым типом и связь с мадам Фифи, наверное, скрывал умело. Она была худенькой черноглазой женщиной с белым лицом, резвая, как ребенок, с неизменной улыбкой на ярко накрашенных губах, трудно было поверить, что ей за сорок. Грэдинару познакомился с ней в деревне на свадьбе, когда уже был вдовцом, скоропалительно женился, привез в город, в свой дом, который восхитил ее. Городская жизнь быстро вскружила ей голову, и из прежней наивной девочки, кокетливой и обаятельной, она превратилась в женщину, на которую оглядывались все мужчины. Так что Гэлушкэ, дамскому угоднику, мужчине с довольно смазливой физиономией, было лестно завоевать ее благосклонность. В полку поговаривали, что старший сержант действительно был на фронте, но его ранило совсем не там, как он любил прихвастнуть, показывая искалеченную руку. Все это было сплошным обманом и случилось при других обстоятельствах. Сын кулака, он подкупил, не жалея денег, членов медицинской комиссии, и врачи признали его годным только для тыловой административной службы. В полку он был услужлив с начальством и жесток с подчиненными. Не раз слышали, как он распекал тех, кто жаловался на плохую еду: «Желаете меню, как в королевском дворце? Зажрались! Ничего нет — ни мяса, ни макарон, ни мармелада, ничего! Страна переживает большие трудности. Вы ведь не были, как я, на фронте, не сражались, не проливали кровь, а то бы вернулись калеками… Я вот там был, да помалкиваю и честно исполняю свой долг перед родиной здесь, в полку». Он всегда был свежевыбрит, подстрижен и надушен, в хорошо сшитой из офицерского сукна форме, в коричневых, на заказ, сапогах, начищенных до зеркального блеска. «Когда-нибудь он погорит! — рассудил мысленно Тудор Динку. — Грэдинару в один прекрасный день накроет его, а характер у плутоньера мстительный…» Капрал взглянул на ручные часы и ускорил шаг. Ровно в двадцать тридцать он должен быть в условленном месте. Динку быстро шел по окраинным улицам, мимо домов с немыми, зашторенными окнами. Во дворах, утопающих в зелени, сидели на стульчиках и болтали мужчины и женщины, обменивались слухами, убивая время в ожидании, будет ли привычная воздушная тревога между десятью и двенадцатью ночи или они смогут спокойно лечь спать. Дети вертелись возле родителей, играли, готовые бежать вместе с ними в бомбоубежище. Дойдя до огромного грязного пустыря, капрал увидел на углу улицы Баната, перед пивнушкой, группу мужчин; они сидели с неизменными рюмками цуйки в руках, при тусклом свете закрытого черной бумагой фонаря и шумно о чем-то говорили и спорили, как это бывает с подгулявшими людьми. Один, в военном кителе, с непокрытой головой, прислонился к ставням корчмы и, опираясь на костыль, громко пел на всю улицу. — Кончай, господин Вэрзару, не шуми, тебя по-человечески просят! — унимал его корчмарь, выйдя на порог с бутылкой в руке. — Ты гуляешь, а меня полиция штрафует… — Почему она тебя штрафует? — заплетающимся языком вопрошал Вэрзару. — Почему? Потому что я песню пою? Вот те на, так это мое право! Меня на фронте ранило, я сражался в тяжелых боях, вот, смотри, дядюшка Митикэ, Железный крест заработал. Кто еще здесь такой, как я? — Чуть не падая, калека схватил орденскую ленточку, пришпиленную к кителю, и стал дергать, словно хотел оторвать. — Вот она, видишь? Я герой, дядюшка Митикэ, герой, понимаешь? Но теперь я на костылях. Ничего, что на костылях, это ради родины, ради господина маршала Антонеску, он мне лично руку жал в бухарестском госпитале. Господин маршал обещал мне землю и дом, чтобы я мог снова открыть лавку, такую, как у меня была здесь, в Северине. Но ее разбомбили, все в дым разбомбили американцы. Что же мне делать? Вот я и пою… — Ждешь, что тебе маршал лавочку подарит? Брось, ничего теперь тебе не дадут, — спокойно прервал его сосед, старик. — Маршал сам пузыри пускает, совсем голову потерял, ему не до твоей лавки и не до того, чтобы выполнять свои обещания. — А вот и дадут! — резанул воздух рукой Вэрзару и, выронив костыль, свалился как мешок под стеной корчмы. Двое встали со стульев, взяли его под мышки и усадили на цементные ступени. — Сиди, сиди смирно, господин Вэрзару, и не растравляй себе душу, получишь, обязательно получишь, — сказал все тот же старик, потягивая цуйку. — Ведь тебе обещал сам маршал, он свое слово сдержит… Вэрзару поставил костыли рядом с собой, наклонился набок, опустил голову на грудь и, казалось, не слушал его. Он дремал и время от времени еле слышно напевал свою песню, бесконечно повторяя одни и те же слова, других он, наверное, не знал. Капрал видел этого инвалида несколько дней назад у тополя, Вэрзару тогда старался помочь Ангелеску, но Динку не знал, что его фронтовые заслуги так высоко оценили немцы.На бульваре Королевы Елизаветы Динку остановился. Оглянулся по сторонам, но не заметил ничего подозрительного. Кругом было пусто, ни одного человека. В сером двухэтажном доме на противоположной стороне улицы было темно. Окна заклеены крест-накрест полосками бумаги, на некоторых опущены жалюзи. Соседний особняк, большой, красивый, принадлежавший, кажется, архитектору, тоже не был освещен. Где-то в отдалении в ночной тишине слышался лай собак, с вокзала доносилось равномерное пыхтение локомотива, время от времени раздавался длинный пронзительный гудок. Капрал посмотрел на ручные часы — светящиеся стрелки показывали двадцать тридцать. «Значит, я пришел вовремя, — сказал он себе, осматриваясь вокруг. — Но почему нет связного? Или мои часы барахлят?» Он хотел еще раз взглянуть на циферблат, но услышал приближающиеся шаги. Быстро повернул голову и увидел, что, легко ступая по гальке, идет человек. Его силуэт с трудом можно было различить в тени густых крон разросшихся лип. Динку достал из кармана пачку сигарет, зажал губами одну, чиркнул спичкой и поднес ее к сигарете, чтобы закурить. — Разрешите? — спросил прохожий, останавливаясь перед ним. Это был крепкий, сильный мужчина в рубашке с короткими рукавами и непокрытой головой. Под мышкой он держал сложенную газету. — Пожалуйста! — Капрал протянул зажженную сигарету, украдкой взглянув на незнакомца. Так, значит, человек попросил огонька, под мышкой держит газету… — Вы курите папиросы «Регале»? — Нет, «Маршал Антонеску», как все военные. — Вы не видели, здесь не проходил высокий худой священник в шляпе с широкими полями? — Здесь проходила только цыганка, она вела за руку ребенка, они направлялись в город по Королевской улице. — Идите за мной, — шепнул человек, глубоко затягиваясь сигаретой. — Следуйте на расстоянии. Обращайте внимание на прохожих… Капрал постоял некоторое время, потом, когда силуэт незнакомца почти растворился в ночи, зашагал следом, посматривая по сторонам. Он пытался идти бесшумно, но его большие поношенные ботинки довольно громко стучали по мостовой. Ему пришла в голову мысль разуться, но капрал тотчас от нее отказался, так он только привлек бы к себе внимание. Босой военный, с ботинками под мышкой!.. Ерунда какая-то… Держась на некотором отдалении, он прошел за незнакомцем по нескольким темным улицам, добрался до стадиона и повернул налево. Перед домом с большим окном, на подоконнике которого стояли пять горшков с цветами, связной остановился. Динку вмиг оказался рядом с ним и увидел, что тот пересчитал горшки. Потом обернулся, шепнул капралу «входите» и, быстро удалившись, затерялся во тьме.
12
Динку минут пять ждал в небольшой, скромно обставленной комнате, с любопытством осматривал ее. Простая строгая обстановка. Было видно, что здесь жили люди, которым все это доставалось нелегким трудом. Старомодный шифоньер с зеркалом, двуспальная кровать под дешевеньким покрывалом, окрашенная в коричневый цвет, посреди комнаты — стол и четыре стула. У окна, выходящего во внутренний двор, старая швейная машинка «Зингер», на ней гипсовые статуэтки. Возле двери, в углу, голландская печь с облупившейся местами побелкой. Открыла дверь и провела Динку в эту комнату женщина средних лет, с продолговатым лицом и серыми глазами, одетая в поношенный халат, явно широкий для ее хрупкой фигуры. Она не проронила ни слова, не взглянула на него, только кивком пригласила следовать за собой. Капрал молча повиновался. Приведя его сюда, женщина поспешно удалилась. Он сел на стул и стал ждать человека, с которым у него была назначена встреча. Нестерпимая духота, казалось, висела под низким потолком. От одежды капрала исходил тяжелый запах нафталина, смешанный с потом. Но окна нельзя было открывать. Они были наглухо занавешены синими пледами, прибитыми к рамам гвоздиками. Коротая время, Динку осматривал комнату и на одной стене заметил фотографию в рамке из коры дерева. Где он видел ее? Динку встал, подошел поближе и стал с любопытством разглядывать. Действительно, точно такая же висела в комнатушке его родителей. На снимке, словно окаменев, сидели пятеро мужчин с серьезными лицами, в праздничной одежде, с непокрытыми головами, а около мужчин примостились трое подростков. Все торжественно и неподвижно смотрели в объектив аппарата. Наверху мелким наклонным почерком было написано: «Рабочие и ученики типографии. 1 мая 1937 года». Среди них был его отец — наборщик Штефан Динку, он погиб четыре года назад в железнодорожной катастрофе. Рассматривая фотографию, капрал подумал, что жилец этого дома, один из этих четырех мужчин, знал отца, работал вместе с ним. Но кто именно? Подпольная работа приводила Динку на многие явочные квартиры, но нигде он не испытал такого волнения, как здесь, обнаружив связь жильца с отцом; вероятно, этот человек — сочувствующий или даже член коммунистической партии. Сам собой напрашивался вывод, что и его отец не был чужд целей и идеалов коммунистов и, возможно, состоял в подпольной организации. Пока отец был жив, Тудор ничего об этом не знал. Отец был суровым молчальником, будто обиженным на кого-то и недовольным жизнью, которая представлялась ему сплошным мучением. Он редко баловал жену и ребенка ласковым словом. Случалось, глаза его светились, и тогда он говорил, что пройдет немного времени и «взойдет солнце». Но они с мамой не понимали, про какое солнце толковал отец. Мать недолго прожила после его смерти. Год спустя прачка гостиницы «Траян» Екатерина Динку скончалась от туберкулеза. Проводив ее в последний скорбный путь, Тудор поступил учеником в железнодорожные мастерские. Ни родственников, ни близких у него не было. Жалованье он получал нищенское. Перебиваясь с хлеба на воду, полуголодный, плохо одетый Тудор Динку быстро примкнул к тем, кто боролся за тот день, когда «взойдет солнце» (теперь он понял наконец слова отца), вступил в Союз коммунистической молодежи. Дверь отворилась. Капрал вздрогнул, устыдившись, что его застали за разглядыванием чужой фотографии. — А, это вы, товарищ Хараламб! — сказал он, обернувшись, и улыбнулся, узнав человека, через которого поддерживал связь с местной партийной организацией. — Я тут увидел фотографию… Хараламб — была конспиративная кличка, а капрала знали в подполье только под именем Валериу. Хараламб был пятидесятилетним высоким худощавым мужчиной, с густыми пушистыми бровями и черными, живыми и проницательными глазами. Коротко подстриженные, с сединой, волосы придавали ему строгий, даже чуть надменный вид. Он был в льняной белой рубахе с отложным воротником и суконном зеленоватом, под цвет брюк, жилете. Динку продолжал стоять. А Хараламб повернулся к двери и запер ее на два поворота ключа, проверил, плотно ли прилегают пледы к окнам, и только после этого пригласил капрала сесть. Сел и сам. — Почему вы пришли в военной форме? — спросил он, доставая сигарету из нагрудного кармана рубахи. Постучал ею о крышку стола и продолжал: — Это весьма неосмотрительно. — Не было времени заскочить домой, — честно признался капрал. — Хорошо, что я вообще вырвался из казармы. Мне повезло, плутоньер велел отнести пакет ему домой, а то бы… — Ладно, но в дальнейшем постарайтесь приходить только в гражданской одежде, — посоветовал ему Хараламб, спокойно закуривая. — Так будет безопаснее. Военной формой вы можете привлечь внимание, навести на след. А ваш провал был бы для нас большим ударом. Я говорю не только о том, что нарушатся связи. Вам понятно? — Да, конечно, — заверил его Динку, и щеки его жарко запылали. Он избегал взгляда собеседника, пристыженно вертя глиняное расписное блюдце, стоящее на столе. Как он не подумал об этом! Такое с ним случилось впервые. Обычно он забегал домой, быстро переодевался в гражданское и только потом отправлялся на заседания организации или на встречи со связным. А сегодня… — Вы живете в общежитии? — Раньше жил. Весной, после призыва в армию, я снова перебрался в комнатушку родителей. До общежития далеко, да и переодеваться так, чтобы никто не заметил, сложно. Вот я и рассудил, что дома проще и надежней… Хараламб спокойно курил, изредка стряхивал пепел в глиняное блюдце. Духота в комнате стала невыносимой, как бывает перед грозой. Где-то вдали послышались раскаты грома. — Адела, гроза начинается! Перестань играть и запри цыпляток! — послышался голос женщины во дворе. — Ты что, оглохла, кому я говорю? Беги закрой курятник! Хараламб пристально посмотрел на дверь, на зашторенные окна и только потом наклонился и вынул из-за отворота брюк маленький листок бумаги. — Адела! — снова крикнула женщина. — Накинь что-нибудь, дождь пошел. Скорей! Ну что ты возишься? Капрал мотнул головой в сторону двора и спросил: — Женщина, которая впустила меня, — хозяйка квартиры? — Наверное, — задумчиво ответил Хараламб. — Ее муж — типографский рабочий? — Не знаю. Это конспиративная квартира партии, мы мало знаем о ее хозяевах. Надеюсь, ты понимаешь почему… Динку кивнул и замолчал. Ливень шумно захлестал по веткам деревьев. Коротко и часто забарабанили по оконным стеклам дождевые капли. Лампочка под потолком мигала, и, когда гром гремел сильнее, сотрясая землю, казалось, она вот-вот погаснет. — Товарищ Валериу, — заговорил полушепотом Хараламб, бережно разглаживая на столе крохотный клочок бумаги, — скажите, пожалуйста, все ли поручения выполнили члены вашей организации? — Почти все. — Но вы не забрали листовки… — В голосе Хараламба прозвучало недовольство. — Это ваше задание, друзья. В чем дело? — Верно, мне не удалось организовать… — извиняющимся тоном ответил капрал. — Мне показалось, за нами следят. Собрание пришлось прервать. Потом началась бомбежка. Но я обязательно организую… — Действовать надо как можно скорее и осторожнее, — строго заметил Хараламб, загасив окурок в глиняном блюдечке. — Там четыре пачки самолетиков. — А не пять? — Четыре. Наш товарищ поменял место их хранения и ждет. Но мы не можем так долго обременять его… — Понял… — Вызовите через связного двух-трех ребят, не всех сразу, по одному, и приступайте к делу. Хараламб умолк, пытаясь прочесть то, что было написано на бумажке. Поднес ее ближе к лампе. Но ничего не получалось. Тогда он вынул из кармана жилета очки в металлической оправе и водрузил их на нос. — Зрение ослабло, — сказал он как бы извиняясь. — Вечером я не различаю буквы даже в газете, а уж эти линии и черточки… Лупа нужна, чтобы их разобрать… Ну вот, товарищ Молния ждет сведений о личном составе гарнизона. Вам удалось что-нибудь узнать? — Конечно, — уверенно ответил капрал, — Данные у меня, как говорится, самые свежие… — Вы все записали? — Нет, запомнил наизусть. — Молодец! Слушаю! — Дело обстоит так, — начал Динку вполголоса, — в полку у нас одна строевая рота, одна комендантская. В деревнях Эргевица и Пороиница и в лагере, в Балотском лесу, в нескольких километрах от города, в общей сложности два батальона новобранцев, не прошедших полного курса военной подготовки, артбатарея, зенитный взвод под командой плутоньера. Это что касается 95-го пехотного полка. — А остальные части? — Сейчас, — откликнулся капрал, глядя куда-то в угол комнаты, словно там были записаны нужные данные. — Так… полк, артиллерийский, его казармы на холме за железнодорожными мастерскими, рядом с гражданским аэродромом, в полку две артбатареи и два кавалерийских эскадрона. Артиллеристы и кавалеристы находятся в лагере под Падиной, в шестидесяти километрах от города. — Вы ничего не сказали о командном составе пехотного полка, — напомнил Хараламб, делавший пометки на обороте маленького клочка бумаги, который он вынул из-за отворота брюк. — Батальоны, расположенные в лесу, полностью укомплектованы офицерами и унтер-офицерами, — ответил капрал. — Но я не все фамилии знаю. В тыловых же службах… — Так… — Хараламб продолжал что-то писать на лежащем перед ним клочке бумаги. — А как у нас с оружием? — Я достал еще десять гранат и две винтовки. — Вы их спрятали в старом месте? — Да, в заброшенном холодильнике, про который знает товарищ Молния. Там они в полной безопасности. — Оружие, обмундирование — все должно быть под вашим неусыпным контролем. Недалек день, когда они нам понадобятся. Я уже информировал вас об указаниях Центра относительно подготовки боевых отрядов. Близится час сведения счетов с Антонеску и с немцами. И большую роль в этом будете играть, конечно, вы, члены Союза коммунистической молодежи. Раздался оглушительный удар грома. Хараламб замолчал и посмотрел на облупившийся потолок. На дворе хлестал проливной дождь, струи яростно били в окна. — Горе тому, у кого в такую погоду нет крыши над головой, — тихо проговорил Хараламб. — Из-за американских бомбардировок в городе много разрушений… — И этот дом долго не простоит. Вон сколько трещин на потолке… — Жилище бедняков, что поделаешь. Оно непрочно… — Хараламб поправил очки, посмотрел на клочок бумаги перед собой и продолжал: — Товарищ Валериу, активнее действуйте, призывайте людей немедленно бросать работу и прятаться в бомбоубежище. На судоверфи, в железнодорожных мастерских — повсюду любыми средствами как можно чаще останавливайте производство, тормозите ремонт оружия, в последнее время сюда привозят пушки… — Товарищ Хараламб, — прервал его капрал, — у нас было несколько удачных операций. Вы, наверное, знаете, одна ученица разбила диапозитивы и сорвала доклад немецкого коменданта. Ребята из железнодорожных мастерских испортили электрогенераторную установку и нарушили работу ночной смены. На судоверфи наши товарищи смазали маслом приводные ремни машин, они скользили, передача буксовала. Повредили несколько моторов… Я вас уже информировал об этом. И еще… Немецкое судно «Кеплер» уже на верфи, его должны переоборудовать в военный корабль… — Удалось повредить орудия, как на том судне, ну как, черт побери, оно называется? — На «Дюрере»? — Да, да, на «Дюрере». — Нет, орудия не смогли повредить, они еще не были установлены, но сделали другое. Кстати сказать, хладнокровно и храбро действовали двое ребят. Знаете, что они придумали? Один отвлек немецкого часового, сказав, что возле корабля крутится какой-то подозрительный тип, другой в это время проник в машинное отделение и повредил силовую установку. Отплытие корабля было задержано на пять дней. — Отлично! А кто из ребят выполнял это задание? — Пиус и Габриэль. Габриэль уехал в Констанцу, на судоверфь, с группой рабочих, у которых здесь не было работы, мастерские и стапель сильно пострадали при бомбежках… — Да, да, это хорошо, — одобрил Хараламб. — Продолжайте в том же духе, но не забывайте про осторожность. — Ясно. — Не пренебрегайте работой среди молодежи вашего возраста, привлекайте парней и девушек, недовольных жизнью при диктатуре Антонеску, — продолжал Хараламб. — Вы лично усильте работу в полку, вместе со своими людьми вербуйте патриотов, увеличивайте число групп из антифашистов. Есть у вас на примете такие солдаты? Сколько их? — Четверо, помимо тех, кого вы знаете. — Прекрасно. Поскольку мы заговорили об обстановке в полку, как у нас обстоят дела с офицерами и унтер-офицерами? Есть ли хоть один надежный человек, патриот, с прогрессивными антифашистскими взглядами, на которого мы могли бы положиться в нужный момент? А может быть, и несколько человек… Вы целый день проводите среди них, беседуете, словом, знаете людей лучше меня… Капрал задумчиво разгладил ладонью скатерть и ответил: — Товарищ Хараламб, в этом отношении мне нечем особенно похвастаться, но один верный человек есть. Я склонил его на нашу сторону… — Офицер? — Да, офицер. Командир моей роты, младший лейтенант запаса Виктор Ганя. Я упоминал о нем, когда говорил о личном составе, на гражданке он был учителем латинского языка в маленьком трансильванском городке. Ему нелегко далось высшее образование. Он из деревни, батрачил вместе с отцом у помещика. Понимаете? Жили бедно… — Почему вы обратили на него внимание? — Видите ли, я долго к нему присматривался и понял, что он не похож на других. Добрый, отзывчивый, не унижает солдат, не издевается над ними, понимает солдатские нужды, не зазнается. Я не раз про себя удивлялся: надо же, и среди офицеров есть люди с добрым сердцем! Знаете, что он сказал однажды в разговоре с командирами взводов? Они стояли под окном канцелярии, поэтому я отчетливо слышал голоса. Так вот, он сказал: «Господа, вы понимаете, что война, которую мы ведем, — авантюра. Одни, как это ни печально, на ней наживаются, другие за нее расплачиваются. Ценою жизни…» Это его слова. Сейчас он уехал в командировку в Бухарест. Должен скоро вернуться. Плутоньер Грэдинару, «отец роты», как он любит себя называть, замещает его. Не скупится на окрики да и кулаками поработать не прочь, чтобы держать людей в повиновении. — Хорошо, товарищ Валериу, — сказал Хараламб, — постарайтесь сблизиться с младшим лейтенантом Ганей. Я правильно запомнил его фамилию? — Да, правильно. — Но будьте предельно осторожны. Центр дал задание — как можно больше офицеров вовлечь в наши ряды. У вас на примете Виктор Ганя. Хорошо. Как только он вернется из командировки, займитесь им вплотную, Понаблюдайте, пообщайтесь с ним. Однако еще раз повторяю: будьте бдительны. Мы ждем вашей дальнейшей информации. Будем докладывать товарищу Молнии. — Я убежден на девяносто процентов, что ему близки наши взгляды, товарищ Хараламб, — сказал Динку твердо. — Почему я так думаю? Раза четыре под разными предлогами я был у него дома. Мы, естественно, говорили о войне, которая принесла нам одни беды, о нищете народа, о несправедливости… К немалому удивлению, он беседовал со мной довольно откровенно. Ясно выразил свою позицию: он всегда ненавидел богачей, война нужна только дельцам, спекулянтам и капиталистам, он отрицательно относится к нынешнему режиму, и очень досадно, говорил он, что никак не поднимется новая сила, которая бы покончила с этим катастрофическим положением. Он знает про операции партизан в долине Праховы. Читал даже листовку нашей партии, по его словам, она попала к нему случайно… — Очень интересно… — И еще… — продолжал капрал. — Он пишет письма и открытки за неграмотных солдат и не только не боится передавать их жалобы на нищету и войну, но и усиливает их, точно подбирая слова, чтобы у тех, кто читает, не было неясностей… — Да что вы говорите?! — Да, именно так. Две недели назад, — рассказывал капрал все более взволнованно, — произошла одна история. В казарму доставили под конвоем четырех дезертиров, они бежали с поезда, который шел на фронт. Допрашивали в комендатуре, полку, и солдаты открыто заявили, что не хотят воевать — не хотят, и все тут, пускай, мол, за них теперь повоюют другие, а то много развелось незаменимых, которые освобождены от воинской повинности под предлогом того, что заняты необходимым делом — выращивают табак, фасоль, сою и все такое прочее… Конечно, их препроводили в тюрьму. Дело приказано передать в трибунал. Так вот, Виктор Ганя до сих пор не оформил документы и распорядился выдавать дезертирам полный дневной рацион из общего котла, а не такой, какой получают арестанты в тюрьме. Иногда он позволяет им работать во дворе казармы без часового. — И это ему сходит с рук? — Да, — твердо ответил Динку. — Он умный человек, умеет говорить и с полковником, и с командирами подразделений. Он умеет отстаивать свою точку зрения, рассматривать проблему со всех сторон, и с ним соглашаются, а если нет, то и обвинить его никто ни в чем не может. Товарищ Хараламб, не знаю почему, но у меня такое впечатление, что он знает подпольную работу, осведомлен о борьбе партии. Честное слово, я начинаю в это верить. Мне кажется, он имеет отношение к партии. — На чем основывается ваша уверенность? — Он сам дал мне это понять… — Хорошо, товарищ Валериу, — сказал одобрительно Хараламб, — действуйте! Найдите повод и проведите с ним беседу. Но очень, очень осторожно. И если будете уверены в нем, дайте мне знать. Я сообщу товарищу Молнии. Займитесь и четырьмя солдатами, которые отказались ехать на фронт. Поинтересуйтесь, какие у них взгляды. Вот и все, что я хотел вам сказать. Желаю успеха. Я доложу обо всем, что сделали вы — наша молодежь. Хараламб встал из-за стола и крепко пожал руку Динку. — Прежде чем выйти из дома, внимательно оглядитесь, — посоветовал он. Затем Хараламб отодвинул край пледа, убедился, что во дворе никого нет, и только тогда отомкнул дверь. — Темно, сильный дождь, вам это на руку. Когда сверкнет молния, прижмитесь к стене, не двигайтесь, чтобы вас не увидели. Ждите связного. На следующую встречу ни в коем случае не приходите в военной форме. — Понял. Всего вам доброго! — ответил капрал. Дождь лил как из ведра. Из водосточных труб била фонтаном вода, намывая грязь на тротуары. При вспышках молнии лужи сверкали; словно зеркало, а потом мгла становилась как бы еще гуще и будто уплотнялась, так что уже в двух шагах ничего не было видно. Динку поглубже натянул пилотку, поднял воротник, тенью проскользнул по двору, постоял у ворот затаив дыхание. Вокруг никого не было. Он вышел на улицу и исчез во тьме. Дождь хлестал по лицу. Одежда мгновенно промокла, отяжелела. Он бежал, держась поближе к домам. Спотыкался о водосточные трубы и бежал дальше — спешил поскорее добраться до казармы. И думал о том, что партия живет и борется. Он никого не знал в местной партийной организации, кроме Хараламба, которому было поручено работать с молодежью. Но именно через него, через Старика, как про себя он называл Хараламба, капрал Динку чувствовал свое единство с партией.13
Вечерело. Солнце садилось, и тени домов, деревьев, телеграфных столбов все удлинялись и удлинялись на высохшей от зноя земле. Санду сидел на стуле во дворе своего дома, в тени вишни, и перочинным ножом пытался выстругать скрипичный колок, чтобы натянуть струну. Сегодня утром он вернулся из Констанцы, куда был отправлен вместе со многими рабочими судоверфи. Ему предстояло подготовиться к экзаменам — он должен был сдавать их в гимназии экстерном. Дом Санду нашел таким же пустым, каким оставил: окна забиты досками, на двери приколочены гвоздями толстые рейки — замок был сломан. Двор дико зарос сорняками, высокими, в рост человека. Никто Санду не встретил, некому было. Мать погибла в ночь, когда американская авиация совершила первый налет на город. Бомбы настигли ее на улице, она бежала с судоверфи, где, как она слышала, первая волна «летающих крепостей» все сровняла с землей. Хотела узнать, что с мужем, и больше не вернулась. Санду с отцом искали ее всю ночь и на рассвете нашли бездыханное тело. Она лежала ничком на тротуаре неподалеку от кинотеатра «Регал», осколком ей разворотило грудь и живот. Тем же взрывом были разрушены два соседних с кинотеатром дома. Через несколько недель Иона Райку забрали в тюрьму по подозрению в том, что он коммунист. Райку сидел в подвалах полиции или в тюрьме — мальчик точно не знал где; он узнал от друзей отца, что на судоверфи многих допрашивали, учиняли там внезапные обыски, запугивали и уговаривали, полиция не предъявила Райку никакого обвинения, но и домой не отпустила. Санду видел отца всего один раз, во дворе полиции, когда принес ему свитер, башмаки и пальто. Один из надзирателей сказал ему, что Райку собираются перевести в лагерь, какой — неизвестно. В тот раз отец спокойно улыбнулся сыну, посмотрел ласковыми глазами и наказал, чтобы он заботился о доме, не бросал работу и учебу, чтобы жил честно и не терял надежды на то, что пройдет не так уж много времени и они снова будут вместе. Санду вернулся из Констанцы утром, и на вокзале встретился с матерью своего коллеги, которая сообщила, что прошел слух, будто его отец недели две назад бежал из тюрьмы и никто не знает, где он прячется. Такие слухи ходили на верфи. «Но как узнать правду? — ломал себе голову Санду, идя с вокзала домой. — Наведаться в тюрьму, попытаться уговорить какого-нибудь надзирателя сказать правду? Или пойти в полицию? Неужели семья учителя Георгиу, соседа, ничего не знает?» Сайду обстругивал колок и при этом не забывал поглядывать сквозь щели забора на улицу в надежде увидеть Дану. Он не видел ее почти два месяца и очень соскучился. Но девушки все не было. Двор учителя пуст. Окна и дверь веранды закрыты, а в тени виноградника не видно ни души. Возможно, все ушли в город или отдыхали после обеда, как это было у них принято, потому что ночами люди теперь не спали, опасаясь очередного налета американских бомбардировщиков. Только собака учителя, большая лохматая дворняга, спала возле своей конуры, положив голову на передние лапы; время от времени она вздрагивала, когда ее кусала муха или кто-нибудь проходил по улице. Внезапно окно, выходящее во двор, открылось, и Санду встрепенулся. Он отложил работу и тихо, ступая на носках, подошел к забору, внимательно посмотрел в щель. За белой шелковой занавеской увидел голову Даны, ее длинные золотистые волосы, падавшие на плечи. Она причесывалась. Повесила зеркало на оконную задвижку и смотрелась в него, медленными, ленивыми движениями проводила расческой по волосам, удивительно грациозно склонив голову набок, будто зная, что на нее смотрят и ею любуются. Подобрав волосы к вискам двумя заколками и еще немного полюбовавшись прической, она скрылась в комнате. Но через несколько минут появилась снова, раздвинула занавески и из белой эмалированной кружки начала поливать цветы в горшках, стоявшие на подоконнике. — Дана! — скорее прошептал, чем крикнул, Санду с какой-то робостью в голосе, и, поднявшись на цыпочки, постарался привлечь ее внимание. Глаза его были на уровне края ограды. Девушка вздрогнула и замерла с кружкой в руке. Она оглядывалась по сторонам и все не могла понять, действительно ее кто-то позвал или ей только показалось. — Я здесь, здесь, Дана! — сказал Санду и поднял руку, чтобы она увидела, где он стоит. — Ты видишь меня? — Это ты, Санду? Вернулся? — спросила она удивленно и радостно. — Как я рада! Подожди, я сейчас выйду… Через несколько минут Дана появилась в дверях веранды, веселая, оживленная, в белом открытом платье, схваченном в талии красным поясом. На ногах у нее были все те же сандалеты, она только их и надевала, когда выходила в город. Дана поспешила к калитке, выскочила на улицу и вбежала в соседний двор, где ее ждал Санду. Она еще не успела захлопнуть калитку, как он широко раскрыл объятия, прижал девушку к груди и нежно поцеловал в лоб. Потом, сообразив, что его мог видеть кто-нибудь из соседей, и спохватившись, что он одет неподобающим образом для такой встречи — рубашка грязная, брюки, в которых он ходит на работу, — Санду очень смутился и попросил прощения у Даны за то, что не переоделся. — Да зачем тебе переодеваться?! — Разве ты не замечаешь, какой у меня вид? — А какой у тебя вид? — Ну, сама понимаешь… — Не строй из себя щеголя! — засмеялась Дана, взъерошив ему волосы. — Можно? — Ой, что ты делаешь? Портишь мне прическу! — шутя воспротивился Санду. — Два часа я приводил себя в порядок, чтобы встретить тебя с шиком, а ты… — Теперь ты мной недоволен, я тебе не нравлюсь? — засмеялась Дана, беря его под руку и направляясь вместе с ним к вишне в глубине двора. — Вот именно! — грозно подтвердил он, еле сдерживая улыбку. — Да ну тебя! — совсем развеселилась Дана и, улучив минутку, опять взъерошила ему волосы. — Вот какого красавца я из тебя сделала! Санду, смеясь, отбежал в сторону, пригладил волосы и попытался посмотреться в оконное стекло как в зеркало, но из-за досок, которые защищали окна от осколков, ничего не было видно. Он очень заботился о своей прическе, тем более что после исключения из гимназии уже не был обязан носить короткую стрижку, как того требовал от учащихся Влад Георгиу. Может быть, сейчас, когда Санду пойдет сдавать ему экзамены экстерном, учитель опять заставит его постричься. — Ну хватит, иди сюда, мир! — позвала его Дана и протянула руку. — Когда ты приехал? — Сегодня утром. — Насовсем? — Думаю, что да, — сказал он. — Я так договорился с мастером и написал в заявлении администрации судоверфи, чтобы меня больше не откомандировывали, поскольку я хочу сдать экзамены. Где сейчас размещается гимназия? — Далеко, ее перевели в село Шишешти, — ответила Дана, обмахивая лицо рукой. — Ох как мне жарко, дело к вечеру, а все равно душно. — Значит, в Шишешти? — Да, в Шишешти. Там все классные журналы, ведомости, часть библиотеки. Бедный папа, он приходит домой один или два раза в неделю и валится от усталости… — Как он? — поинтересовался Санду. — Так же строг? — Он не изменился, только очень похудел… — А Михай? Вы что-нибудь о нем знаете? Есть какие-нибудь известия? — Нет, ничего, — солгала Дана. — И отец, и мать очень озабочены, что он не подает о себе весточки. Осторожность не позволяла ей, конечно, рассказать о том, что брат дома. Даже самые близкие друзья не должны этого знать. Любое незначительное слово, касающееся его неожиданного появления, оброненное во вполне безобидной беседе, могло стоить Михаю свободы. Он целыми днями сидел дома, в комнате, окнами выходящей на улицу, и следил из-за занавески, кто куда идет, боясь, как бы его не застали врасплох полицейские или кто-нибудь еще. — Ты скучал по мне? — спросила Дана, чтобы сменить тему. — Почему-то я от тебя не получила ни одного письма. — Скучал, Дана, — искренне признался Санду. — А если не писал — так что писать? Банальности? Из-за цензуры пропадает всякая охота излагать на бумаге свои мысли. — А что ты здесь делал? — спросила девушка, взяв со стула выструганный колок. — Колок для скрипки, мой сломался. — Вот это да! Мы знаем тебя как виртуоза игры на скрипке, но чтобы еще и как мастера… — Нужда всему научит. Я сам стираю, готовлю, пришиваю пуговицы, штопаю носки… С тех пор как я один… Кстати, не знаешь ли ты что-нибудь о моем отце? — Я слышала, что он бежал, — шепотом ответила Дана, — но точно не знаю. Отец видел его неделю назад, нет, две… да… две. В полиции. — Да-а? — удивился Санду. — Значит, если правда, что он бежал, то случилось это совсем недавно… — Вероятно… Некоторое время оба молчали. Во дворе, как и на улице, стояла глубокая тишина. Только где-то вдалеке прогромыхала подвода. Дана подождала, пока в сумерках не затих стук колес по мостовой, потом повернула голову и взглянула на Санду. Как он возмужал! Лицо потеряло былую свежесть и свойственную подросткам бархатистость кожи, огрубело. Плечи раздались, стали мощными. Это было заметно, несмотря на то, что рубашка на нем стояла колом от пота и пыли. Кожа на руках пропиталась маслом и железной пылью. Девушка знала Санду четыре года, с тех пор как они поселились рядом. Все это время они виделись почти ежедневно, писали друг другу первые в своей жизни любовные письма, им даже сны снились одинаковые, как шутила Дана, но порой ревновали друг друга и тогда выслеживали мнимых соперников или соперниц, ссорились, расставались в слезах, клялись больше не видеться, но через несколько дней мирились в кондитерской или на пляже. Она знала, что он терпеливый, душевный, уравновешенный, но решительный человек — на удар отвечал ударом, не хотел мириться с несправедливостью, беззаконием или насилием, которые встречались на его пути. После гибели его матери Дана часто видела через забор, как он сидит на лавочке под вишней и плачет. «Тебе плохо, трудно без мамы, Санду, я знаю, понимаю тебя, но возьми себя в руки, все пройдет, это теперь тяжело, конечно, тяжело…» — говорила она ему в утешение. «Нет, Дана, дело не в том, что мне трудно, мне жалко маму, жалко, что она больше не может радоваться, смеяться, весело хлопотать о доме, о семье, она ведь так это любила…» — «Но только не чувствуй себя одиноким, ты ведь всегда найдешь у нас поддержку». — «Я благодарен тебе и твоим родителям, но ваша поддержка — это не все, понимаешь? Не все…» Он вытирал слезы рукой, встряхивал головой, готовый отбросить мучительные мысли, но через мгновение сникал и опять погружался в глубокую задумчивость. Потом арестовали отца, не раз вызывали и его самого в полицию, били кулаками, мокрой веревкой, резиновой дубинкой, требуя, чтобы он рассказал о «подпольной коммунистической деятельности» своего отца. Он молчал и терпел стиснув зубы; в душе его росла ненависть и жажда мщения. «Рано на твою долю выпали такие страдания, Санду, очень рано», — говорила ему Дана, когда они встречались и он рассказывал ей все, что с ним случалось. «Ничего, — отвечал он, — хорошо, что мы теперь понимаем, насколько несправедлив мир, в котором мы живем, а ведь есть такие, кто считает его прекрасным!» — «Уж очень дорогой ценой ты приобретаешь эти знания!» — «Правда, но что поделаешь, жаль только, что я никак не могу их применить. Завтра — быть может, но сегодня?..» Последний удар настиг его через несколько дней после ареста отца. Санду был исключен из гимназии с правом сдать экзамены экстерном. Поначалу его собирались исключить без права поступления в учебные заведения страны. Единственным человеком на кафедре, который защитил его и добился отмены сурового решения, был Влад Георгиу. «Уважаемые господа, уважаемые коллеги, — сказал тогда учитель на педагогическом совете. — Я не занимаюсь политикой, поэтому то, что я скажу, не должно быть восприняв то как политическое выступление. Идея, которую я намерен высказать, не имеет никакого отношения к той или иной политической концепции, поэтому я прошу, чтобы никто из вас не пытался обвинить меня в приверженности к той или иной из наших политических партий. Но я давно знаю этого юношу, он вырос на моих глазах, знаю его родителей, это честные люди, рабочие, которых все уважают в квартале. Говорят, его отец арестован, потому что он коммунист. Возможно, что это так, но вполне возможно, что и не так. Здесь уже начинается сфера политики, в которой я не разбираюсь. А если бы и разбирался, то все равно она меня не интересует, у меня нет призвания для всего, что с ней связано. Следовательно, я повторяю, неприятности его отца носят политический характер… Но, уважаемыегоспода, в данном случае речь идет не об отце, а о сыне, об ученике нашей школы. Александру Райку, дорогие коллеги, юноша исключительный, прекрасно учится, два раза его награждали ценными подарками, отличается примерным поведением. Учитывая все это, я полагаю, мы допустим большую несправедливость, если согласимся с предложением нашего коллеги Станчу с кафедры латинского языка, с предложением, которое, извините, кажется мне вредным и опасным… Я бы даже сказал, что, приняв подобное решение, мы проявили бы полную безответственность перед лицом больших гражданских проблем». Влад Георгиу занял свое место за столом педагогического совета под убийственным взглядом латиниста Станчу. Выражение лица Станчу было откровенно враждебным, а глаза метали молнии, и Георгиу снова встал: «Я забыл уточнить одно обстоятельство, господа, и прошу меня извинить за то, что займу еще немного ваше внимание. Я уже сказал, что не занимаюсь и никогда не занимался политикой. Наш коллега, господин Станчу, председатель местной организации царанистской партии, ныне распущенной, но продолжающей жить в его сердце, как я думаю, выдвигает свое предложение исключительно из политических соображений. Он царанист, а отец нашего ученика, как я вам уже говорил, считается коммунистом. Думаю, эти личные соображения не должны лежать в основе решения, которое мы примем. Нужно решать по справедливости судьбу ученика, и к тому же ученика исключительного!» Он снова сел, с пылающим лицом, под изумленными взглядами членов педагогического совета. Поставили на голосование предложение господина Станчу, и выяснилось, что «за» были трое, «против» — двенадцать. Так Санду получил право сдавать экзамены экстерном, и его не лишили возможности поступать в другие учебные заведения страны. Дана все это рассказала Санду, и с тех пор он с еще большим уважением относился к Георгиу. Чтобы заработать на жизнь, юноша поступил учеником токаря на судоверфь, его рекомендовали несколько человек — рабочие, друзья его отца, и он начал постигать секреты этого ремесла. А два месяца назад он уехал с группой рабочих, откомандированных в Констанцу… Смеркалось. Шум города постепенно стихал, как бы расплываясь в вечернем воздухе. Наступала спокойная, ровная тишина, характерная для провинции. Близилась еще одна ночь в полном затемнении, еще одна ночь мучительных ожиданий, страха перед возможными налетами вражеских бомбардировщиков. Бледные звездочки зажглись и робко замигали в темнеющей бездне небес, они были как далекие свечи, и пламя их легко колебал ветер. — А в Констанце были воздушные налеты? — спустя некоторое время спросила Дана, беря Санду за руку. — Были, но там разрушений меньше. Я просто ужаснулся, когда увидел, что тут стало. — Что ж, Северин — город-мученик! — грустно усмехнулась Дана. — Читал в газетах? Два раза о нем упоминал Антонеску в назидание всей нации. — Если американцы будут еще бомбить, боюсь, что маршалу придется забыть о назиданиях нации, — ответил с мрачной иронией Санду. — Целые улицы превратились в развалины. Возьми, например, бульвар Кароля. От самого вокзала и до центра разрушены все здания… Их словно разбили огромным молотом! Девушка некоторое время молчала, прислонившись к его плечу, в глубокой задумчивости, потом подняла голову и сказала: — Послушай, Санду, я хочу узнать твое мнение по одному вопросу. Можно? — Конечно, можно! — согласился он. — От тебя у меня нет секретов, так что, пожалуйста, спрашивай, и я отвечу тебе совершенно искренне… С минуту она колебалась, делая вид, что любуется искрящимся ковром звезд, а на самом деле мысленно подбирая слова, чтобы лучше выразить то, о чем хотела спросить. Через некоторое время она заговорила: — Скажи откровенно, что ты думаешь обо всем, что происходит у нас в стране? — Что думаю? О чем именно? — удивился Санду и посмотрел на нее большими глазами. — Я ведь знаю, ты от меня ничего не скрываешь, ты сам говорил… — Разумеется, но я хочу понять, что именно тебя интересует… — Что именно? Я ведь сказала тебе довольно ясно: что ты думаешь обо всем, что происходит в стране?.. — А что, собственно, происходит в стране? — сделал он вид, что не понял вопроса. Он был ошеломлен тем, что она говорила. В ее семье, насколько он знал, настороженно относились ко всему, что связано с политикой. В этом смысле Влад Георгиу был известен как человек подчеркнуто нейтральный, который выслушивает все, что говорят, но избегает каких бы то ни было политических дискуссий, не выступает ни за, ни против правительства, кто бы у власти ни находился. Но каждое утро он покупал в киоске газеты и журналы разных политических партий. «Прочитаю все, — говорил он себе. — В куче лжи найду и крупицу правды!» Влад Георгиу и своим детям не разрешал лезть в дело, которое, как он считал, их не касается. И теперь вдруг совершенно неожиданно Дана заговорила о политике. — Ну что же ты молчишь? — настаивала она, подталкивая его локтем, как бы желая вывести из сонного состояния. — Почему ничего не отвечаешь? — Я же просил тебя высказаться яснее, — упорствовал он, думая при этом, не попытаться ли привлечь ее в молодежную организацию. «Вот было бы здорово! — загорелся он. — Было бы просто чудесно, надо только понять, куда она клонит своими вопросами…» Санду одно время посещал заседания местной молодежной организации, потом, после нескольких обысков у них в доме, ему рекомендовали не участвовать в заседаниях, а получать задания непосредственно от Ромикэ-брксера. В Констанце Санду пробыл два месяца и теперь, возвратившись, собирался наладить связь с Валериу, секретарем молодежной организации. И он тянул время, обдумывал, как лучше начать разговор о вступлении Даны в ячейку, а девушка думала, как привлечь его в организацию коммунистической молодежи, в которой состоит сама. Санду, несомненно, достоин бороться плечом к плечу с другими молодыми революционерами. И Валериу одобрит ее выбор. Она больше не раздумывала и объяснила Санду, что имела в виду, когда задала ему столь неожиданный вопрос. В стране голод, нищета, цены стремительно растут, купить ничего нельзя. Все это прекрасно знал и он сам. Люди ходили в одежде из искусственного волокна и в туфлях на веревочной или деревянной подошве… Уже несколько лет их город, как, впрочем, и все другие, был погружен во мрак светомаскировки и просто во мрак: электрические провода порваны — следствие бесчисленных бомбежек, не работают заводы, кинотеатры, радиосеть. Водопровод поврежден… Огромные очереди выстраиваются с ночи у пекарен и продуктовых лавок, по ночам раздаются короткие злые куплеты:14
Михай жил дома уже почти две недели, за это время он внешне сильно изменился. Теперь он ходил чисто одетым, выбритым, в отутюженном костюме и начищенных ботинках, одним словом, выглядел культурным, интеллигентным человеком. Волосы же оставались нестрижеными, длинными и лохматыми, потому что он не мог сходить в город к парикмахеру. Пробовал подровнять их ножницами, но стало только хуже, и он отказался от этой затеи. Михай немного поправился, лицо округлилось, но все равно он оставался очень худым. Делать ему было нечего, и он проводил время за чтением газет, книг, помогал матери по хозяйству, слушал радио. Чаще всего он сидел в комнате, которая выходила на улицу, и следил за тем, чтобы ни один человек незаметно не вошел во двор. Им мог оказаться сыщик из полиции или военный из городской комендатуры. Он решил в случае необходимости спрятаться в глубокой траншее, вырытой в огороде, на соседнем дворе. Михай вышел бы тогда через заднюю дверь на кухне, прячась за деревьями, пролез бы в дырку, которую приметил в заборе, и через две-три минуты был бы в безопасности. Но прошло много дней, и, судя по всему, никто не интересовался его судьбой. Кроме вызова отца в полицию, не случилось ничего, что могло бы его встревожить. «Вероятно, — думал Михай, — кто-то все-таки караулит меня ночью или днем на нашей улице. Не настолько же они наивны, чтобы пренебречь такой простой возможностью… А может, они думают, что я не вернулся домой? Допустим и такой вариант… Они считают, что я достаточно осторожен, чтобы не явиться к родителям…» Правда, у Михая была одна зацепка… Однажды ночью, когда вместе с поляком, бежавшим, как и он, из лагеря, они пробирались мимо небольшой станции, поблизости случилась железнодорожная катастрофа. Столкнулись два поезда, товарный и пассажирский. Было много человеческих жертв — десятки, если не сотни мертвых; некоторые до того изуродованы, что их невозможно было опознать. Пользуясь ночной темнотой и паникой, которая охватила всех, кто был на станции, Михай смешался с толпой и, сделав вид, что помогает переносить раненых, вынул из кармана мертвого немца документы, положил вместо них свой военный билет, письма и фотографии. С тех пор он путешествовал под именем Отто Малера, поставщика фабрики сафьяновых изделий в Берлине… «Быть может, немецкие власти, найдя мои документы в кармане мертвеца, решили, что я погиб, и отказались от розысков, — говорил он себе. — Сразу после побега они разослали, конечно, соответствующие бумаги, чтобы меня искали повсюду, но потом, найдя на месте катастрофы мои документы, они, возможно, перестали искать меня». Михай поделился своими предположениями с отцом, но учитель был непреклонен. Сын должен обязательно покинуть дом, иначе в любую минуту на семью может обрушиться страшное несчастье. Два дня назад, вечером, они горячо поспорили, каждый остался при своем мнении, и, вместо того чтобы утихнуть, конфликт между ними разгорелся с новой силой. — Итак, мальчик, — заключил Влад Георгиу, — прошу, найди себе убежище, которое бы тебя устроило и где бы ты был в безопасности. Я твой отец, и мне тяжело просить тебя уйти из дому, но подумай о семье. Надежда, что твои документы были найдены в кармане погибшего при катастрофе, иллюзорна, она лишена всяких оснований. Ищейки из гестапо или из нашей полиции не такие дураки, чтобы дать сбить себя со следа столь примитивным способом. Их молчание и то, что столько времени они ничего не предпринимают, не предвещает ничего хорошего, и я очень беспокоюсь… Кто знает, что они затевают… — Ничего они не затевают, — попытался успокоить его Михай. — Я уверен, они пришли именно к такому выводу… — К такому, не к такому, но я прошу тебя покинуть этот дом! — категорически потребовал отец. — Ради бога, Михай, пойми наконец, что мои нервы больше не выдерживают!.. Я чувствую, что схожу с ума. Мне мерещатся всякие кошмары. Днем и ночью я вздрагиваю от любого шороха на улице. Чего ты хочешь? Чтобы я попал в сумасшедший дом? — Хорошо, отец, — согласился Михай слабым, слегка дрожащим голосом. — Через два-три дня или даже завтра, если я смогу с помощью Даны найти себе убежище, я, конечно, уйду, лишь бы ты был спокоен. Ваши нервы вам дороже, чем моя жизнь… — Свою жизнь ты сам поставил на карту, — резко возразил отец. — Так что теперь не остается ничего другого, как пожинать плоды… Михай поговорил с Даной, и она обещала узнать, где бы он мог укрыться, обещала связаться с надежными людьми и все уладить. Взявшись помочь брату, она решила прежде всего обратиться к Валериу. Он был человек опытный, хорошо знал законы конспирации, был в курсе того, что случилось с Михаем. «Да и Михай для него теперь не аполитичный подросток, — размышляла Дана, — а человек, который много пережил и смертельно ненавидит фашистов. Это дает мне основание надеяться, что Валериу обязательно займется его делами». Дана шла по бульвару Кароля на встречу со связным, который должен был сопроводить ее к месту, где было назначено собрание организации. Было жарко. Солнце жгло в этот полуденный час так сильно, что плавился асфальт, на серо-черной смолистой массе отпечатывались следы каблуков, подковок, гвоздей. Раскаленный воздух был пропитан дымом и запахом горелого дерева. Запах этот держался вот уже несколько месяцев, и жители города и не надеялись избавиться от него в скором будущем. В этом пекле Дана искала тень, переходя от одного каштана к другому, обмахивалась иллюстрированным журналом, как веером, чтобы хоть немного охладиться. На ней было белое платье с красным кожаным поясом, на ногах неизменные сандалеты, тоже красные. Напротив гимназии «Траян» она встретила старого седовласого продавца браги в надвинутой на лоб засаленной феске; в руке он держал бочонок, схваченный латунными обручами. Дана остановилась и попросила у него стакан холодной воды. — Нет вода, мадемуазель, — с сожалением пожал плечами турок. — Есть один брага. Хороший брага для красивый девушка! — Ну, брага так брага… Она с удовольствием выпила стакан густой сладковатой жидкости, заплатила и двинулась по бульвару дальше, спеша на встречу со связным. Турок же несколько раз провел монетой по серой бороде, механически повторяя: «Аллах послал мне почин, воздадим хвалу аллаху». Напротив театра два здания рухнули при последней бомбежке. Остались две стены с закопченной штукатуркой, два печных фундамента, а в глубине двора — гараж со сдвинутой набок крышей. Среди груды щебня там и сям валялись обломки мебели, куски ковров, лоскуты горелых занавесок, сломанные двери, осколки оконных стекол, словом, все, что было искорежено, изуродовано и разбито во время взрыва и пожара. Щебень засыпал улицу почти до середины, так что невозможно было проехать. Дана увидела в просторном дворе сгоревших домов ребят из гимназии «Траян», которые очень старательно, но бестолково таскали на носилках кирпичи и ссыпали их на две подводы, стоявшие в тени тутового дерева. С ними было и несколько учителей, которые распоряжались и наблюдали за работой, стоя посреди двора, под палящими лучами солнца. Дана ускорила шаг, надеясь проскочить незаметно, но не убереглась от взглядов мальчиков старших классов. Взобравшись на кучу щебня, один из них первым сообщил: — Ребята, смотрите, дочь учителя истории! Все, как по команде, бросили работу и уставились на девушку, которая с грацией балерины, ступая легко, как сказочная фея, пробиралась под сенью каштанов. Десятки лопат, кирок, заступов полетели под откос, десятки рук были козырьком приставлены к глазам, десятки голосов зашептали: «Хороша, братцы!», «Гляньте, как идет, что твоя лебедь!», «И правда, будто плывет!», «Фигурка-то, фигурка!.. Тонкая да гибкая, ах ты, мать честная!». — Афродита, рожденная из пены! — заорал вдруг высокий худой детина из восьмого класса с взъерошенными волосами. И, засунув два пальца в рот, свистнул так, что эхо прокатилось по соседнему парку. — Скажи лучше, Персефона, дочь Зевса… — Да уж лучше прямо — дочка Влада Цепеша!.. — Вот поставит вам ее папочка кол в первые же дни учебы, вы его обычай знаете… То-то повеселитесь, то-то попляшете!.. Дана знала суровость своего отца, знала, что его называют Владом Цепешем, поэтому, услышав за своей спиной выкрики мальчишек и шутки в свой адрес, сделала вид, что не замечает их. Она шла быстрым, легким шагом, не поворачивая головы, подчеркнуто невозмутимо. — Ты куда бежишь раненько в красноперых башмачках? — продекламировал ей вслед худой детина. — Оставь ты ее в покое, может, она спешит на свидание… — Удирает от трудовой повинности… Удостоверение-то все равно получит. При таком отце да не получить!.. Последние слова Дана уже не слышала; она обошла высокое здание театра, спустилась к широкому шоссе, туда, где оно поворачивало в сторону городской бани, вошла в парк Роз, где все заглушили сорняки и редко-редко мелькал в густых зарослях гордый цветок, и по прямой аллее направилась к памятнику Героям. Щеки ее раскраснелись и стали пунцовыми, она чувствовала, как они горят, а сердце громко стучало, готовое, казалось, выпрыгнуть из груди. Нетрудно понять, что она пришла в такое возбуждение из-за громких выкриков ребят, которые, вероятно, испытали на себе строгую требовательность ее отца. «Бездельники, оболтусы, грубияны! — в сердцах подумала она и быстро оглянулась, чтобы убедиться, что никто за ней не увязался. — Жалко, я никого из них не знаю, а то Михай им задал бы… Хотя теперь…» Потом она сказала себе, что не стоит обращать внимания на это происшествие, его нужно выбросить из головы. Сделав еще несколько шагов, она вздрогнула: со скамьи поднялся связной. Это был тот же связной, что и в прошлый раз, парень лет шестнадцати, высокий, худой, с обсыпанным веснушками лицом и улыбчивыми глазами. — В одиннадцать в городском саду, наверху, у Северинской башни, — прошептал он и прошел мимо, будто они не были знакомы. Дана несколько раз повторила про себя место и время собрания, а когда повернула голову, конопатого паренька уже и след простыл. Как сквозь землю провалился. Она взглянула на ручные часики. Было половина одиннадцатого. У нее еще оставалось полчаса, так что она, сделав несколько шагов, остановилась, постояла, любуясь сверкающим на солнце Дунаем, и медленно, не торопясь пошла мимо памятника Героям по направлению к месту встречи. В городском саду, с прекрасными каштанами, липами и высокими соснами, с широкими аллеями, обсаженными яблонями и украшенными цветочными клумбами, возвышалась Северинская башня; она стояла на берегу Дуная, скрытая от глаз густой зеленью. Примерно в двенадцатом веке здесь находилась Северинская крепость, от которой сегодня сохранились только остатки церкви, следы жилищ, принадлежавших тогдашнему правителю Северина и его войску, и каменная башня десятиметровой высоты. Забравшись на башню, можно было охватить взглядом чуть ли не всю долину Дуная. Жители Северина настолько привыкли к археологическим раскопкам в своем городе, что не придавали значения реликвиям прошлого и ходили их смотреть только в исключительных случаях — сопровождая школьников во время экскурсии по родному краю или прогуливаясь с приезжими родственниками или знакомыми, которые страстно желали увидеть исторические памятники, имеющие, бесспорно, мировое значение. Обычно же они просто любовались окрестностями, гуляя в воскресенье по красивому городскому парку, поднимаясь по крутой тропинке к старой Северинской башне; на закате оттуда такой прекрасный вид на Дунай, где множество пароходов и барж, стоящих на якоре в порту, а вечером на темном просторе вод так романтично качаются десятки бакенов, подмигивая нежными зелеными огоньками, похожими на светлячки; горожанам нравилось смотреть на утопающий в зелени маленький остров Шимиан или на быки римского моста на югославском берегу, там, где когда-то был римский военный лагерь… «Вот почему, — думала Дана, идя в указанном направлении, — Валериу выбрал это место для встречи, оно такое закрытое, никто туда не ходит, тем более сейчас, во время войны; боясь бомбежек, жители города выехали в соседние села». Войдя в старый парк, она стала медленно прогуливаться по аллеям под прекрасными деревьями, простершими тяжелые тенистые ветви над цветочными клумбами. Глядя со стороны, можно было подумать, что девушка просто любуется окрестностями. Между деревьями показалось внушительное здание гостиницы для туристов, белое, светлое, недавно выстроенное и превращенное в военный госпиталь. Вокруг него стояли несколько машин «скорой помощи», возвышались горы железных кроватей, матрасов; в благодатной прохладе парка прогуливались раненые, с трудом волоча свои костыли. Напротив разрушенного павильона, в котором когда-то, по воскресеньям, оркестр пехотного полка играл модные вальсы и танго, Дана остановилась и внимательно посмотрела назад. Кроме раненых, не было видно никого во всем парке и на широком бульваре, который граничил с парком и тянулся к вокзалу. Убедившись, что за ней не следят, она спустилась по лестнице с железными перилами, дошла до тенистой поляны, где в прежние годы проходила церемония вручения общегородских премий, потом стала подниматься по другой лестнице, вырубленной в песчанике, которая вела к Северинской башне. Вокруг была прохладная тишина. С каждой ступенькой волнение девушки росло, как всегда накануне встречи. Наконец она добралась до площадки, где одиноко высилась башня, сильно поврежденная, из грубого камня, поросшего зеленым мхом, заброшенная среди непроходимых зарослей кустарника. Железная ржавая ограда с погнутыми кольцами была настолько низкой, что ее трудно было заметить в буйном бурьяне. Дана сделала еще несколько шагов по скалистому выступу, потом остановилась на минуту, чтобы отдышаться. Далеко внизу сверкали воды Дуная и виднелась пустынная портовая набережная. На якоре у понтонной пристани стояла одна-единственная баржа, и на ее палубе женщина развешивала белье — веревка была протянута между рулевой кабиной и невысокой мачтой. — Что ты тут делаешь? Любуешься видом Дуная? Дана вздрогнула и повернула голову. Перед ней стоял Санду. Он был в белой чистой рубахе, безукоризненно причесан на косой пробор, на лице его сияла улыбка. — Ты… здесь? — прошептала Дана еле слышно, и ей показалось, что сердце перестало биться. А потом кровь прилила к голове, щеки вспыхнули, в ушах зашумело… Нет, нет, не может быть! Что это? Ее разыгрывают? Или… — Тебе нехорошо? Почему ты молчишь? — взял он ее за руку и попытался заглянуть в глаза. — Это от неожиданности? Да что с тобой такое? — Не знаю… не знаю, как и сказать. Это невероятно. У меня не укладывается в голове… Ты мне поверь… Голос у нее сел, стал совсем тихим и словно поднимался из глубины, слегка дрожа, — так была она потрясена. — Что у тебя не укладывается в голове? — удивился Санду. — Все не укладывается… Почему ты здесь?.. — Сказать по правде, и я не ожидал встретить тебя здесь! — признался он и увидел, как живо сверкнули ее густо-синие глаза, как бы изнутри освещенные солнцем. — Я пришел раньше назначенного срока, и Валериу — ты ведь знаешь, кто это, — все это время говорил мне о Лиле. Я никак не мог догадаться, кто она, ведь я столько времени отсутствовал. Но я его внимательно слушал, потому что он рассказывал необыкновенные вещи. И тут появилась ты. Когда ты поднималась наверх, то на минуту остановилась и залюбовалась пейзажем. В этот момент он показал мне тебя и сказал: «Это — Лила». Я вздрогнул, как будто меня ударило током. Честное слово! — Ты рад, Санду? — Очень рад, Дана, — признался он, не выпуская ее руки из своей. — Я думаю, это самая прекрасная встреча в нашей жизни! — Минуту он молчал, глядя на нее с любовью. Ему не верилось, что все это правда, а не плод воспаленного мечтой воображения. — Надо же, и я нащупывала почву, нельзя ли тебя привлечь в наши ряды! — засмеялась Дана. — Чего только в жизни не бывает!.. Помнишь? Тогда, вечером, под вишней, когда ты вернулся из Констанцы… А оказывается, ты уже состоял в нашей организации. — Если уж быть до конца откровенным, то и я собирался тебя привлечь, — сказал Санду. — И знаешь когда? Ты меня опередила всего на несколько минут! — Он засмеялся: — Пойдем, нас, наверное, ждут… Они пошли медленно рядом, держась за руки, обогнули железную ограду вокруг Северинской башни и вышли на поляну. В тени развесистого клена Тудор Динку, в уже знакомой нам военной рубашке, с непокрытой головой и в синих парусиновых брюках, разговаривал с Максимом и Ромикэ-боксером. Услышав шаги, он повернул голову. — Разве вы знакомы? — удивился он и, встав, протянул Дане руку. — Мы ведь соседи, — сказал Санду и постелил на камень газету, чтобы Дана села. Максим, в рваной рубашке и солдатских брюках, был сегодня особенно оживлен. При появлении Даны взгляд у него посветлел, он наклонил голову в знак приветствия и даже лукаво ей подмигнул как старой знакомой. Потом, не усидев на месте, оторвался от Ромикэ и, подойдя к ней, радостно шепнул: — Принцесса, я сегодня получу важное задание! Зря ты на меня смотришь с недоверием, так мне сказал сам товарищ Валер. Ей-богу, не вру… Вон в том свертке он принес мне пару брюк, тоже военные… Только совсем новые, как из магазина… «Разве Валериу военный? — в очередной раз спросила себя Дана, как спрашивала всегда, когда с ним встречалась. — Рубашка военного образца… Коротко остриженные волосы… солдатские башмаки… Вот принес Максиму брюки, тоже военные. Очень возможно…» — Товарищи, подойдите поближе, — сказал Динку и сделал знак Максиму, чтобы он сел где-нибудь и успокоился. — Времени мало, собрание будет кратким. Я собирался познакомить Лилу и Габриэля, думая, что они не знают друг друга, но теперь вижу, что все обстоит намного лучше, чем я предполагал. Они знают друг друга, но не встречались последнее время, потому что так сложились обстоятельства: Габриэль на время уезжал из города… А сейчас перейдем к повестке дня, — продолжал он тихим голосом. — Речь идет вот о чем… Вы меня слышите? — Да… — Если нет, то подойдите поближе, — попросил он. — Слышим, слышим, продолжай! — ответил Ромикэ. — Партия готовит крупные акции, — продолжал Тудор. — Мы, молодежь, должны способствовать их осуществлению. Для начала нам предстоит распространить четыре пачки листовок, отпечатанных на бумаге маленького формата, сложенных в виде самолетиков. Это задание выполнят Лила со Штефаном. Лила, — обратился он к Дане, — ты возьмешь листовки по адресу, который тебе укажет связной в четверг, в девять часов вечера. Ты, Штефан, займешься распространением этого материала, будешь приклеивать самолетики на водосточных трубах, домах, окнах, заборах — везде, где можно, на видном месте, Лила будет тебя страховать… Ну, договорились? — Да, товарищ Валер! — сказал Максим, который был счастлив безмерно; его горячие глаза вспыхнули как угольки. Он распрямил плечи и многозначительно толкнул локтем в бок Ромикэ-боксера. Это можно было понять так: «Видишь, парень, что мне поручают? Не говори больше про меня ничего обидного… что я, мол, отсталый или еще что-нибудь в том лее духе…» — У вас, Габриэль и Пиус, задание более ответственное, — продолжал капрал, обращаясь к Санду и Ромикэ. — Мы получили информацию Центра, что максимум через десять дней через Турну-Северин пройдет состав из семидесяти платформ, будут перебрасывать танки и немецкие машины на фронт под Яссы. Состав прибывает из Венгрии, охрана — немцы. Вы понимаете, что он должен остаться между Шимианом и Балотой… — Как это остаться? — наивно спросил Максим, удивленно обводя взглядом присутствующих. — Он должен взлететь на воздух, товарищ Валер, как тот, помните?.. Иначе… — Ну хорошо, пусть будет так, как ты говоришь, пусть он взлетит на воздух! — согласился капрал, и в его глазах промелькнуло восхищение этим пацаном, так горячо относящимся к делу. — Слышите, товарищи, что говорит Штефан: пусть взлетит на воздух. Поэтому операция должна быть тщательно подготовлена… — Разумеется, — согласился Ромикэ, затягиваясь папироской. — А взрывчатка? — Обсудим и это. Когда я сказал, что операцию нужно подготовить, я подумал, что вы должны заранее изучить все возможности, чтобы план полностью удался, естественно, в условиях максимальной безопасности. Для этого необходимо с завтрашнего дня выехать в район, изучить местность, приготовить план операции и представить его мне. Что касается взрывчатки, то об этом позабочусь я. Договорились? — Когда представить план? — спросил Санду. — В течение трех дней. — Ясно! — Это все, — шепотом заключил капрал. — Я вызвал на совещание только тех, у кого срочное задание. Очень прошу: осторожнее! Конспирация должна быть для нас железным законом… — Не волнуйтесь, товарищ Валер, знаем мы, как себя вести, — заверил его Максим и рваным рукавом рубашки вытер нос. — На этом мы заканчиваем, товарищи, — сказал Тудор Динку, поднимаясь с камня, на котором сидел. — Прошу расходиться с интервалом в пять минут. Лила, ты пойдешь первая… — Нет, я хочу с тобой поговорить… — Хорошо, тогда ты, Штефан, давай спускайся. — Есть, спускаться, товарищ Валер, — вскочил Максим и поспешно сунул под мышку пакет с новыми брюками. — Лечу как ветер… — И смотри позаботься о самолетиках… — Я их заставлю лететь, товарищ Валер! Они нам принесут хлеб и розы, про которые говорил тот ученый… Макс… До свидания и будьте здоровы! Спасибо за брюки! Говоря это, Максим, в надутой от ветра рубахе и слишком широких для него солдатских брюках, полетел как вихрь по тропинке вниз и тут же скрылся из глаз, утонув в зарослях кустарника и высоком бурьяне. За ним последовали Санду и Ромикэ. — Ну так что же ты хочешь сказать? — спросил капрал, повернувшись к Дане. Она вздохнула, глубоко втянув в легкие воздух, посмотрела Динку прямо в глаза и ответила: — Это касается моего брата Михая… — Он дома? — Да, он вернулся. Как раз в тот день, когда у нас сорвалось собрание. — Кто-нибудь об этом знает? — Нет, — сказала Дана, — никто, и ничего плохого пока не случилось. Только вот отец… — Что с ним? — Он не хочет больше прятать Михая у нас. Боится, Требует, чтобы он ушел как можно скорее. Но куда ему идти, бедняге?.. Где прятаться? Он прошел через такие испытания, чудом остался жив, а теперь… Знаешь, ведь он близок нам, разделяет наши взгляды, и мы могли бы попозже даже привлечь его в свои ряды… — Несомненно! — согласился капрал. Он задумчиво смотрел вниз, на Дунай, а сам в это время размышлял, как найти выход из этого довольно сложного положения. — Я решилась просить твоей помощи, — продолжала Дана. — Кто же еще может мне помочь? — Хорошо сделала, — согласился капрал. — Парня надо спасать… Что-нибудь придумаем… Не может быть, чтобы я не нашел выхода, — добавил он убежденно. — Полиция им еще не интересовалась? — Вызывали отца, ему пришлось подписать заявление, в котором он подтвердил то, что говорил и раньше: сына он не видал целый год. А так больше ничего не было… — Хорошо, Лила, — сказал капрал и ласково взял девушку за руку. — Через связного ты получишь инструкцию, самое большее через три дня, куда должен явиться Михай. Только прошу тебя, не говори брату, что мы знакомы. Ты понимаешь, это опасно. Скажешь, его приютит двоюродный брат одной твоей знакомой. Ты меня не видела и не знаешь. Договорились? — Договорились, благодарю тебя от всего сердца! — взволнованно ответила Дана. — Я была уверена, что ты найдешь выход из положения… — Подожди, ведь я его еще не нашел, — улыбнулся капрал. — Поблагодаришь, когда Михай будет в безопасности. — Хорошо… — А сейчас беги домой. Смотри, чтобы не было «хвоста». Они пожали друг другу руки, и Дана стала спускаться по той же тропинке, по которой поднималась десять минут назад. Капрал долго смотрел ей вслед, пока она не исчезла среди деревьев, потом и сам пустился в путь.Дойдя до городской управы, Дана неожиданно встретилась лицом к лицу с учительницей немецкого языка Лиззи Хинтц. Это была высокая блондинка, тощая как палка, с продолговатым веснушчатым лицом, с зеленовато-голубыми глазами — их холодный, ледяной взгляд постоянно выражал высокомерие и презрение. Тонкие, плотно сжатые губы она никогда не красила, и это усугубляло впечатление, которое она производила: человека жесткого, неприветливого. В то утро на ней была оранжевая блузка из голландского полотна, глухо застегнутая на металлические пуговки, и длинная белая юбка, слишком плотно обтягивающая узкие бедра, костлявые, как у скелета. На ногах, как обычно, высокие, похожие на ортопедические туфли на пробковой подошве, изготовленные-из заменителя змеиной кожи. Под мышкой она с трудом удерживала стопку тетрадей, завернутых в синюю бумагу и перевязанных крест-накрест белой ленточкой. Увидев ее, Дана наклонила голову в знак приветствия и хотела пройти мимо, но учительница, сверля ее суровым взглядом, сделала знак подойти. — Где это вы были? — вопросила она, сузив ледяные глаза будто бы для того, чтобы лучше разглядеть ученицу. — Гуляла, мадемуазель. По бульвару до конца и обратно… — Вы разве освобождены от трудовой повинности? — Нет, не освобождена. Вчера я целый день таскала кирпичи у нас в гимназии… — А сегодня?.. — Сегодня… я там не была… — Почему? — Отпросилась у отца, — солгала Дана. — С утра мне надо было кое-что сделать дома, по хозяйству. А когда я закончила, было уже поздно… — Нехорошо, что отец снисходительно относится к такому вашему поведению! — резко и безапелляционно заявила Лиззи Хинтц. — И вы знаете, и он знает, ведь он учитель, что осенью тот, кто не отработал положенное количество часов военно-трудовой повинности, не будет допускаться к занятиям. Немецкие и румынские войска прилагают нечеловеческие усилия, чтобы защитить цивилизацию от большевистского варварства, а вы не можете сделать над собой небольшое усилие, чтобы внести свой маленький вклад в победу. Дане хотелось возразить, сказать, что немецкие войска не защищают, а разрушают Цивилизацию, что гитлеровцы — главные виновники страданий человечества: не начни они войну, не было бы столько человеческих жертв и разрушений… В конечном счете не было бы нужды и в этой ее «работе на войну» (какое странное выражение они придумали!). Но она понимала, что не время полемизировать с дочерью часовщика. Все знали, она проводит много времени в обществе фашистского офицера. — Завтра вы должны обязательно участвовать в работе на войну! — заключила учительница все тем же категоричным тоном. — Вы сейчас домой? — Да, мадемуазель… — Отнесите эти тетради ко мне на квартиру. Знаете, где я живу? — Да, да, на улице Траяна… на Главной, как ее все называют… — Правильно. В мастерскую моего отца при магазине «У золотых часов». Отцу передайте, что я запоздаю немного к обеду, мне надо зайти в немецкую комендатуру… — Я поняла, мадемуазель… Дана взяла тетради под мышку — письменные работы отстающих по немецкому языку, попрощалась и под испытующим взглядом мадемуазель Хинтц поспешно удалилась. — И завтра не забудьте явиться на работу! — крикнула Хинтц Дане вслед. Девушка сделала вид, что не услышала, и ускорила шаг. Нервы были взвинчены. Как оказалась на ее пути эта ужасная женщина, которую ненавидели за надменность все ученицы? И — верх нахальства! — поручила отнести к себе домой тетради, будто Дана ее служанка. Она прошла мимо бакалейного магазина. Там стояла громадная очередь — по карточкам выдавали подсолнечное масло, четверть литра на человека. В очереди она заметила Лилиану, в белом платье с голубыми пуговками, с продуктовой сумкой. Дана помахала ей рукой, Лилиана ответила, и Дана пошла дальше.
15
Солдаты из пехотного полка стояли в открытом поле, неподалеку от глубокого карьера, где брали глину. Стояли они, разомлевшие от жары под палящим августовским солнцем, и слушали плутоньера Грэдинару, который читал им лекцию по ведению ближнего боя. Большинство из них были молодые парни, призванные совсем недавно, в линялых, пропотевших гимнастерках и парусиновых брюках, непомерно широких для их хилых тел. Были и пожилые, мобилизованные давно, а то и уже побывавшие на фронте; сутулые, с серыми от усталости лицами, обветренными и обожженными солнцем, с длинными усами цвета соломы. Они все норовили облокотиться на винтовку, как на палку, боясь упасть, бедные, измученные старики. Некоторые из них дремали стоя, легонько покачиваясь, как камыш на ветру, вздрагивая время от времени, когда плутоньер кричал особенно громко, и тогда глядели ошалело, вытаращив глаза, будто не понимали, где они и что происходит. — Значит, так:врага надо побеждать внезапностью! — орал Грэдинару, мокрый от пота, красный, с всклокоченными усами. — Что значит внезапность? Это когда он тебя не видит! Когда враг тебя не видит, это значит, ты его захватил врасплох! Внезапность, сюприз! Так-то. Что же такое внезапность? Сюприз? Отвечай, солдат Ницэ Догару! Солдат Ницэ Догару, худой, сгорбленный старик, в криво сидящей пилотке, спал, чудом удерживаясь на ногах. Его счастье, что стоявшие с ним рядом подталкивали иногда его и тем самым будили. Благодаря им он держался надежно, как ворота между столбами. — Солдат Ницэ Догару! — рявкнул плутоньер и шагнул в его сторону, готовый испепелить одним взглядом. — Слушаю, господин плутоньер, — промямлил старик и вяло стукнул каблуками. — Ты что себе позволяешь, дурья твоя башка?! — совсем вышел из себя Грэдинару. — Спать?! — Не спал я, господин плутоньер, так, думал немножко и вас слушал, как вы нам объясняете. — И что же я вам объяснял? — Ну… про это, про армию… господин плутоньер. Про армию и про это… про всех нас… про врага… про его величество короля… — Ах ты, дубина безмозглая, да разве я говорил вам сегодня про его величество? — Грэдинару сделал еще один шаг к солдату. — Нет, господин плутоньер, об этом вы нам рассказывали тогда, в прошлый раз… — А теперь про что я объяснял? Солдат Ницэ Догару потупился и мучительно соображал, что примерно мог говорить плутоньер, а что-то он говорил, это уж точно, и Ницэ слышал его, правда, как сквозь сон, плутоньер говорил и скрипел зубами, точь-в-точь как скрипела жерновами мельница дядюшки Гиндока у них в деревне, господин Грэдинару скрипел зубами и молол, молол так, что и словечка от его речи не уцелело. Ах ты господи, как ни силишься, а повторить невозможно. И что же он такое говорил? Хоть тресни, не повторить… Он посмотрел украдкой на своего соседа справа, высокого юношу с румяным лицом, с черными живыми глазами. Посмотрел заискивающе, просительно. — Про сюрприз, дядюшка Догару, — подсказал сосед и быстро отвернулся, чтобы плутоньер ничего не заметил. — Не понял… — Про сюрп… — Отвечай, дубина, отвечай сейчас же! — опять взъярился Грэдинару. — Про что я вам говорил? Может, я вам говорил не по-румынски? — По-румынски, господин плутоньер, по-румынски… — Так в чем же дело? Ницэ Догару поднял понурую голову, и в его небольших, запрятанных в бесчисленные морщины глазах читались озабоченность, страх, тревога. — Ну, долго это будет продолжаться? — Господин плутоньер, вы нам говорили про… про этот… того… про сюрп… — Ну, давай-давай, рожай! Рожай, тебе говорят! Это ж надо, как он надо мной издевается, пресвятая матерь божья! — хлопнул он себя ладонью по фуражке. — Всю душу мне вымотал!.. — Про… про… — Сюрприз! — опять подсказал ему сосед справа. — Сюприз, господин плутоньер! — неожиданно выговорил Догару, и его лицо просияло, как от великой победы. — Вот про что! Про сюприз… — А что такое сюприз? Старый солдат опять помрачнел. Что мог он знать про этот «сюприз»? Он знал лишь собственные беды, знал, что тяжело носить солдатскую форму вот уже пять лет подряд, то на сборах, а то и на фронте, что у оставшейся в деревне семьи нет ни пшеницы, ни проса, ничего, хоть помирай с голоду. А война все идет и идет, и нет ей конца. Когда же наконец люди перестанут маяться, когда вернутся домой?.. — Ну говори, говори же, кретин безмозглый! Догару молчал, понурив голову, весь трепеща от страха, ему казалось, что у него отнимаются ноги, что он вот-вот упадет. Он знал плутоньера еще по тем временам, когда они вместе были на сборах, и позже, на фронте. Грэдинару и тогда был бешеный, жестокий, выходил из себя по любому поводу. А когда на него находила дурь, мог ударить пряжкой, лопатой, а то и ногой в живот так, что и через неделю не опомнишься. — Значит, в молчанку играем, так? — Грэдинару сверлил солдата глазами, грозно насупившись и засунув руки глубоко под ремень. — Ты надо мной просто смеешься, как над последним дураком! Да как ты смеешь? Как ты смеешь играть у меня на нервах? Это тебе что — корм свиньям рубить? Ты у меня дождешься!.. Значит, не хочешь говорить? — Нет, скажу, господин плутоньер… — Тогда почему, черт побери, ты заставляешь меня ждать, почему я должен клещами вытягивать из тебя каждое слово?! — вопил Грэдинару, и его лицо становилось все более свирепым. — Ну? Отвечай немедленно, что такое сюприз! В поисках спасения Догару опять взглянул направо, и парень понял, что несчастный солдат принимает его за человека бывалого, что это его последняя надежда. Делать нечего, и он начал ему шепотом подсказывать. Но не успел сказать и двух слов, как плутоньер это заметил. — Кирикэ! Мерзавец! Ты что же подсказываешь этому старому хрычу, а?! — Господин плутоньер, я не под… — Молчать! — рявкнул Грэдинару и закатил ему несколько оплеух. Кирикэ качнулся и повалился на Догару. — Дурачить меня вздумал, ты, умник? — накинулся на него плутоньер, багровый от ярости, ощетиня усы. — Подумать только, он не подсказывал!.. Слепой я, что ли? Куриная слепота на меня напала?! Кирикэ нагнулся, поднял свою пилотку, сунул под мышку, этой же рукой удерживая винтовку, и принялся вытирать кровь, хлынувшую из носа. Ницэ Догару торопливо пошарил по карманам и протянул ему свой платок — большую сероватую домотканую салфетку, мятую и грязную. — Брось, перестань сейчас же, что ты ухаживаешь за ним, как за бабой! — одернул его плутоньер. — Он фронта не нюхал, с противником носом к носу не встречался, вот я его и поучил легонько. Если бы он на передовой побывал, я бы с ним разделался покруче! Динку! — повернулся плутоньер к капралу, который стоял на правом фланге роты. — Слушаю, господин плутоньер! — Ну-ка подойди на минутку… Капрал Динку проворно подбежал и остановился на шаг сзади Грэдинару. Бросив сочувственный взгляд на Кирикэ, он замер в ожидании приказа. — Вот что, — обратился к нему Грэдинару, — поручаю тебе этого дылду Кирикэ и недотепу Догару, будешь ночью отрабатывать с ними элементы боевой подготовки. Бросок в атаку. Ясно? — Ясно, господин плутоньер! — отчеканил Динку, отдавая честь. — Сто бросков, двести, триста, тысячу бросков — вот тогда они научатся делать врагу сюприз. Понятно? — Понятно, господин плутоньер! — Потому что сюприз делать удобнее ночью, когда врагу труднее тебя заметить… Я так и объяснял этим мужланам, но они, черт бы их подрал, совершенно безмозглые, тупые, как развалившийся башмак. Ну ладно. А теперь спросим кого-нибудь еще… И Грэдинару все спрашивал да объяснял, объяснял да спрашивал, пока солнце не поднялось в зенит. Он устал и прямо озверел от этой бестолочи: «теория» отскакивала от них, как резиновый мячик. Никто ничего не понял из его старательных объяснений. И один за другим солдаты поступали в распоряжение Динку. Таких к концу занятий набралось пятнадцать человек. С наступлением темноты они должны были явиться на учебное поле и «делать броски», иными словами, осуществлять «сюприз»…Вечером пятнадцать солдат отправились к месту проведения занятий, которое находилось за городской чертой. Старые и молодые, они шли строем, с винтовками за плечом. — Споем, братцы? — в шутку предложил Динку, шагая рядом с колонной. — Нешто нам теперь до песен, господин капрал? — заметил Догару, шедший в последнем ряду. — Разнесчастная наша жизнь, не песни нам петь, а кручиниться, горе наше горькое, на старости-то лет да чтоб такую издевку терпеть! То один в тебя плюнет, то другой… — Тсс, дедок, что это ты разговорился? — предостерег его кто-то. — Неровен час, услышит господин капрал. — С ним я за себя не боюсь, — возразил Догару, — потому как я его разгадал, у него доброе сердце, из наших он. Все бы такие были… Они подошли к краю карьера. Капрал дал им несколько минут на отдых. Солдаты опустились на теплую от летнего зноя землю. Кругом стояла тишина, такая глубокая, что было слышно биение собственного сердца. Откуда-то из темноты, очень издалека, доносились звуки города, погруженного во мрак. Ни один огонек не мелькнул в той стороне. Все тонуло в густой кромешной тьме, едва угадывались очертания ближайших домов окраины, а над ними — силуэты одиноких тополей. — Будем ломать косточки, господин капрал? Как думаете? — начал разговор старик Догару, сидя на земле по-турецки и положив винтовку на колени. — Да что ты, дядюшка Ницэ, господин капрал сделает все как надо, — послышался голос из темноты. — Кто это говорит? — Это я, дядюшка Ницэ, я — Тотэликэ… — Ага… — Я не хочу, чтобы вы ломали косточки, Ницэ, — вступил в беседу капрал; он только что зажег сигарету и держал ее в кулаке, как его учил плутоньер Грэдинару, так курят на передовой. — Черт возьми, разве мы не люди? Плутоньер приказал мне привести вас сюда, вот я и привел. А теперь мы подумаем, какие боевые приемы нам надо отработать… — Подумайте, господин капрал, подумайте хорошенько, чтоб польза вышла, — многозначительно вставил Догару. — Господи боже мой, сколько бросков я сделал и на сборах, в дождь, метель, и на фронте, в заправдашних боях; кто на войне, не был, ни в жизнь этой штуки не уразумеет… — Ну а которые там побывали, пришли без рук, без ног. Или недужные да умом убогие. — А то и вовсе не пришли, — печально заключил Догару. — Скажу я вам, люди добрые, — продолжал он, выдвинувшись немного вперед, чтобы все его слышали, — сегодня кто живет? Живет припеваючи тот, кто умеет ужом виться, у кого родственнички или вообще заручка какая в армии, их освобождают от военной службы, да еще эти, кто откупается либо деньгами, либо подарками… А мне, бедная моя головушка, мне-то что им дать? У меня двор без забора, какой уж из меня богатей? — Сколько у тебя земли, дядя Ницэ? — поинтересовался капрал, жадно затягиваясь сигаретой. — Земли у меня полпогона[14] да огород при доме. Хозяйство бедняцкое… Ну что еще у меня есть? Да ничего… Разве что на нашем деревенском кладбище небольшой кусочек-шаг влево, шаг вправо… Вот сколько земли! — почесал в затылке старый солдат и посмотрел на всех вокруг, как бы ища хоть кого-нибудь, кто мог бы дать иной ответ. Солдаты рассмеялись, улыбнулся и Динку, потом затянулся сигаретным дымом и задал следующий вопрос: — Кто самый богатый человек у вас в деревне? — У нас, господин капрал? У нас таких несколько, кто с положением, — ответил Ницэ и растопырил пальцы, чтобы удобнее было сосчитать. — Перво-наперво, Тинтореску, у него имение — едешь, едешь, думаешь, и конца ему не будет. Вот, значит, Тинтореску, Оскар Тинтореску, богатей, я его в деревне не видел лет двадцать. Бают, он все в заграницах сидит. — И кто же заботится об имении? — Его зять, полковник кавалерии. Дона зовут его, этот всем и крутит, ох и лютый! Ну да сейчас и он на фронте. Так… значит, Тинтореску… Есть еще этот, как его, Стеликэ Султан — он держит два магазина: один на большом шоссе, другой ближе к краю села. В этом, что возле шоссе, есть и салон для новобрачных, и автомат для заправки сифонов. А окромя магазинов у него и молотилка, и трактор, и амбары, и дома! Три дома, а он говорит: еще выстрою, хочу, мол, переплюнуть помещика Тинтореску. Во как играет деньгами, окаянный! — Ницэ Догару замолчал, посмотрел направо, налево и спросил: — Ребята, кто угостит меня сигаретой? А то во рту пересохло… — Возьми у меня, дядя Ницэ! — протянул ему пачку Динку. — «Национале» куришь? — Курю, господин капрал, как не курить? Разве я стану выбирать? Дареному коню в зубы не смотрят!.. — Он прикурил, выпустил несколько колечек дыма, сухо кашлянул и продолжал: — Да, так вот, я вам говорил про купца, про Султана… У него двое сыновей, чуть постарше нашего Кирикэ и некоторых других в роте, пригодных для войны. Эти двое даже не знают, где находятся казармы полка, не говоря уж про передовую… Ей-богу, не знают. — Небось заплатили большие деньги, дядя Ницэ… — Заплатили, господин капрал, заплатили, потому что есть откуда взять и есть кому дать, — сказал Догару с негодованием. — Такие, как наш господин плутоньер, всюду есть… — Эй, дедок, опять глупости болтаешь! — послышался голос за спиной Догару. — Почему глупости? — удивленно обернулся Ницэ Догару, пошарил в темноте взглядом: — Слышь, не вижу я тебя чтой-то. Так вот знай, господин плутоньер предлагал мне сделку: я ему даю пять тысяч лей, а он меня оставляет дома насовсем… — Пять тысяч?! — Пять! — подтвердил Ницэ Догару. — Накажи меня господь, если вру! Пять тысяч кругленькими! Это было в начале войны, когда деньги были дороже… Я ему тогда сказал: «Господин плутоньер, нет у меня даже пятисот, не то что пяти тысяч, нет даже пятидесяти лей в кошельке, откуда у меня деньги?! Горюшко мое горькое… Отпустите вы меня, говорю, сын у меня погиб на фронте, некому обрабатывать клочок земли даже около дома, жена уже шесть лет мается ногами, еле на завалинку выползает, вот-вот один останусь, платить налог нечем, пристав стучит в ворота: дай да дай…» — У тебя был сын, Ницэ? — заинтересовался Динку. — Был, господин капрал, был… — вздохнул старик, и у него вырвался стон: — Был… И что за парень! Высокий, красивый, послушный, работящий, душевный… — Старик замолчал, опустил голову и вытер слезы рукой, в которой держал зажженную сигарету. — Пропал бедняга в пехоте, и многих парней из нашей деревни поубивало, — продолжал он еле слышным голосом, — куда ни посмотришь, господин капрал, везде черная материя на воротах. Только сыновья Султана, нашего купца, и другие такие же сидят дома, живут-поживают… И как живут! Тут все решают деньги. — Ницэ Догару безнадежно махнул рукой, поправил ружье на коленях и умолк. Динку несколько минут молча смотрел на него, как бы приводя свои мысли в порядок, потом сказал: — Что ж делать, война, дядя Ницэ, гибнут люди… Раз уж мы ее начали… — Я ее, что ли, начал, господин капрал? — подскочил старик, резким движением сдвинув пилотку на затылок. — Или, скажем, вы? А может, бедолага Кирикэ или Георге Кырлиг? Вот он, дед, сидит, как тень, в военной форме… Скажите, бога ради, разве мы ее начали? — Ты хочешь сказать, что не мы? — Смеетесь вы над нами, господин капрал. Честное слово, смеетесь! А то бы вы так не говорили… — Кто же тогда? — притворился наивным капрал. — Как кто? Помещики, министры, те, кто с деньгами, им и война нужна, чтобы деньги делать! Они ее и начали! — сказал, как припечатал, Ницэ Догару. — Так ведь, люди добрые? — повернулся он к остальным. — Правду я сказал либо нет? — Правду, дядя Ницэ! — Ну вот видите? То-то… Если бы от нас зависело, господин капрал, мы бы опрометью кинулись на склад, сдали бы вам свои винтовки и ушли бы, даже не оглянувшись. — А я бы оглядывался, не бежит ли за нами господин плутоньер Грэдинару, не хочет ли он вернуть нас в казармы, — сказал Тотэликэ, человек неопределенного возраста, с черными короткими усами, съежившийся от холода. — Ну а если бы и бежал, я схоронился бы за горкой, на повороте, подождал бы его — и р-раз камнем по голове, чтобы помнил всю жизнь, если после этого он вообще что-нибудь бы да помнил! — Ницэ Догару облегченно вздохнул, как будто одна эта мысль, что он когда-нибудь расправится с тем, кто глумится над его старостью, принесла ему облегчение. Рядом полулежал, облокотившись на локоть, Кирикэ и пробовал играть на листочке, который то и дело облизывал. Но ничего не получалось, он не мог извлечь ни звука. — Листик от липы, а, Кирикэ? — заинтересовался Ницэ Догару. — Нет, дядя Ницэ. Тополиный. Когда мы выходили из казармы, я отстал, чтобы поправить обмотки, и увидел сломанную веточку. Ну и взял с собой, думаю, поиграю. — Хорош и тополиный, но разве тебе хочется играть? — А почему бы и нет, дядя Ницэ? — Ты молодой, тебя ничем не проберешь… Это у нас душа ноет… — У каждого свое горе, дядя Ницэ, — спокойно ответил Кирикэ, — но я стараюсь об этом не думать. Как подумаю, начинаю с ума сходить. Да-да, зря ты на меня так смотришь, есть и мне от чего выть, как вспомню, все готов крушить! — А что у тебя случилось? — спросил Тотэликэ, который сел поближе, чтобы принять участие в разговоре, послушать, что говорят люди. — Очень мне худо, но я терплю, пока однажды не лопнет мое терпение… Тотэликэ вопросительно глянул на Ницэ Догару, но тот в недоумении пожал плечами: откуда ему знать, что стряслось у Кирикэ. Подошел поближе и Динку, щелчком отбросив сигарету в сторону. Он участливо попросил Кирикэ поделиться своим горем. Парень не заставил себя долго упрашивать, тем более что просил его сам капрал, а он питал к Динку глубокое уважение. Год назад в имение помещика Петре Соряну прибыл его сын, Георге Соряну, майор генерального штаба, чтобы провести отпуск на винограднике. Он приехал не один, с ним был немец, подполковник, высокий блондин в очках с золотой оправой, в семье Соряну его называли господином Клаузингом. — Я запомнил это имя на всю жизнь! — говорил, задыхаясь, Кирикэ, и взгляд его блуждал. — Сколько жить буду, не забуду! — Ну, приехал этот немец, а дальше что? — с любопытством спросил Ницэ Догару. — Приехал это он, значит, в имение, и несколько дней шла у них гулянка, — продолжал Кирикэ охрипшим от волнения голосом. — Как раз в эти дни моя сестра Мариоара приехала из города, где занималась в школе домоводства. Ее туда определил отец, хотел, чтобы она выучилась грамоте, тоже чего-нибудь достигла, она была очень способная, вот он и настоял на своем. Приезжает она к нам в деревню, хорошенькая такая, ей исполнилось тогда шестнадцать. Она всегда была послушная и работящая и тут, услышав, что отец, мать и я идем на виноградник к помещику, чтобы заработать немного денег, решила пойти с нами, это ведь ради нее шел работать отец, чтобы содержать ее в городе. Вообще-то отец у нас был учителем. На следующий день мы все вместе пошли на виноградник. Управляющий имением занес Мариоару в списки, по которым производился расчет за работу. А когда на третий день мы шли мимо веранды помещичьего дома, которая выходила на виноградник, увидели, что в тени разлеглись в креслах сын помещика Георге — он был в белой рубахе, темные очки на носу — и рядом с ним этот немец, Клаузинг… Они сидели и курили, глядя вниз на село, на сады, на то, как восходит солнце в это утро. Мы шли, неся мотыги на плече, по дороге на виноградники. Уже прошли мимо дома помещика, когда отец оглянулся и увидел, что немец смотрит в бинокль нам вслед. Мы дошли до вершины и начали работать мотыгой, выпалывать сорняки. Не прошло и часа, как явилась пожилая женщина, Аристица, она работала в имении прислугой, и сказала, что господин Георге велел, чтобы моя сестра Мариоара пришла к нему, он должен у нее кое-что спросить, посоветоваться с ней. Отец посмотрел на меня и, почесав в затылке, ответил этой женщине, чтобы она возвращалась в имение и передала господину Георге, что не о чем ему разговаривать с Мариоарой, он — помещик, у него натура тонкая, а Мариоара — дочь бедных и поэтому говорить ему с ней не о чем, ничего она ему посоветовать не сможет. Аристица пошла к помещику, но через некоторое время вернулась вся запыхавшаяся и сказала, чтобы отец вместе с Мариоарой шли к помещику. Но отец и тогда не пошел. И вот, когда солнце уже высоко поднялось, появились на винограднике двое господ: майор и немецкий офицер. Они медленно поднимались в гору: господин Георге все в той же белой рубашке, темные очки на носу, руки за спиной, и немец в мундире с черным лакированным ремнем и высокой коричнево-зеленой фуражке. Они остановились около нас, и Георге спросил, почему отец не захотел прийти по его просьбе. Или мир перевернулся и теперь помещик должен приходить к крестьянину сам? Отец ничего не ответил, даже не посмотрел на него, а продолжал работать, взрыхляя землю у корней виноградного куста. Мы очень спешили закончить, нужно было еще много сделать и дома. «Видите, господин Клаузинг, как ведут себя наши крестьяне?» — повернулся Георге к немцу. «Ошень пльохо, ошень пльохо, софсем некарашо, — покачал головой немец, а глазами все высматривал мою сестру, которая немного нас опередила и махала теперь мотыгой чуть выше на горе. — Крестьянин долшен слюшать свой барин». Отец раскусил этих двоих, и, когда Мариоара повернула к нему голову, он подал ей знак. Она сразу все поняла, бросила мотыгу и что есть духу понеслась через виноградник домой. Немец кинулся было ее догонять, будто это игра такая, но я с поднятой мотыгой загородил ему дорогу. Он пришел в ярость, отвел мою руку, сжимавшую мотыгу, и попытался расстегнуть свою кобуру. Но отец схватил его за локоть. Взбешенный немец повернулся к отцу, выхватил пистолет и ни за что ни про что разрядил ему в грудь. Мать страшно закричала. Я поднял мотыгу и замахнулся, чтобы ударить немца по голове, но между нами стал Георге, и я ударил его, да так, что глубоко рассек ему плечо. Немец направил на меня пистолет, и не знаю уж, откуда взялись у меня силы и как это пришло мне в голову, только ударил я его мотыгой по руке, так что пистолет упал на землю. Я нагнулся, схватил его, отбежал на несколько шагов, навел дуло на них и сказал им, чтобы они уходили, или я буду стрелять. Они ушли. Но перед этим Георге, держась за плечо, повернулся ко мне и сказал, что я за все это отвечу в полицейском участке. Отец умер через неделю, а меня отправили в штрафной батальон. Так я попал в армию раньше, чем подошел мой срок… — А когда у тебя срок? — Осенью… Кирикэ умолк и посмотрел вокруг себя, чтобы увидеть, какое впечатление произвел его рассказ на солдат. А те молча курили, качали головами, но никто ничего не говорил. Только капрал Динку через некоторое время спросил: — А что сталось с помещиком, парень? — С этим Георге? Когда вернусь домой, отдам его под суд. Правда, мне сказал наш нотариус, что я ничего не добьюсь, потому что застрелил отца не он, а немец, а с немца, мол, взятки гладки. Он чужой, и его не достанут наши законы… Так он сказал… — Этот немец здесь, в городе, — проговорил Динку. — Он начальник немецкой комендатуры. — Какой немец? — Кирикэ от удивления не смог правильно сформулировать свой вопрос. Он подошел вплотную к Динку и схватил его за руку, изумленно глядя ему в глаза. — Какой? Тот, который убил твоего отца. Клаузинг. Я вижу, ты хорошо запомнил его имя… — Здесь, в городе? — не мог прийти в себя Кирикэ. — Ну, выродок, — скрипнул он зубами, — теперь только бы он попался мне в руки, уж я из него дух вышибу! — Тише, Кирикэ, тише, не горячись так, — сказал ему Тотэликэ. — Не забывай, ведь немцы наши союзники… — Ну и что, что союзники? — вспыхнул старик Догару, который все это время молчал. — Они отбирают хлеб у крестьян, гонят нас на передовую, им все дозволено, они ведь «илита», или как там это называется, они убивают нас, как скотину, слышите вы, как скотину! Могут стрелять в невинного человека и делать что им заблагорассудится. Это, стало быть, наши союзники? Да пропади они пропадом! Этот Клаузинг — да чтоб он подох, как собака!.. Я сам, как увижу, вцеплюсь ему в глотку! — Ну, знаешь, дядюшка Ницэ… — Довольно, браток, хватит, нельзя столько терпеть, — сердито проворчал Ницэ Догару. — Вот ты, Тотэликэ, загляни к себе в душу и прочтешь в ней, как в книге, что со мной согласен. Загляни и к другим, ты убедишься, что в душе все со мной согласны. Ни я, ни ты, ни другие — мы не можем больше терпеть эту войну. Хватит! Не знаю, как с этим покончить, а только чую, терпение наше лопнуло. Что-то скоро случится, кончится наконец это злосчастье… Так, господин капрал? Правду я сказал, разрази меня господь, если я что наврал, а сердце мне подсказывает, что вы — хороший человек, и я не боюсь за нас, хотя мы здесь так вольно говорим обо всем! Динку улыбнулся в темноте, он чувствовал огромное удовлетворение: вокруг такие же простые люди, как он сам, у большинства из них нет никакой политической подготовки. Но они готовы стать рядом с истинными патриотами, чтобы избавить страну от иностранных и собственных фашистов. В своем воображении он сравнивал эту массу народа с глиной, податливой и мягкой, если она находится в руках настоящего мастера. «Сколько силы, сколько мудрости, сколько боевой мощи у нашего народа! — размышлял Динку, вглядываясь в лица солдат, которые слабо угадывались в темноте ночи. — И какая проницательность, какой аналитический склад ума, способность спокойно и правильно судить о самых сложных явлениях…» Он всегда мог с уверенностью рассчитывать на их твердую и надежную поддержку, они были тружениками, как и он, у них были те же стремления и надежды. Эксплуатируемые и угнетенные, постоянно унижаемые богатеями, эти люди благодаря своим правильным суждениям и ясному разуму нашли в окружающей их неизвестности подлинную причину несчастий, которые обрушились на страну. Может быть, они предугадывали и путь, по которому следовало идти в поисках истинного света справедливости… — Вот почему я иногда схожу с ума, — сказал как бы в заключение Кирикэ. — Стоит мне увидеть на улице немца в коричнево-зеленой форме, как я забываю, что он наш союзник, что он тоже человек, мною овладевает желание навалиться на него сзади, проткнуть его штыком, вот что на меня находит, честно вам говорю… Эх, братцы, — вздохнул он, — мой отец всю свою жизнь трудился, как муравей, никого не обижал, и все равно нашелся подлец, который наступил на него и раздавил… Вот какие дела! Кирикэ замолчал, выплюнул листочек, который долго пытался заставить петь, и растворился в темноте, волоча за собой винтовку. — Он прав, бедняга, — сказал Ницэ Догару. — Это как помешательство! Почти каждый из нас это знает по себе, у каждого чей-то неоплаченный счет: помещика, купца, полицейского. Счета тех, кто укорачивает нам жизнь своими «банковскими процентами», и со всеми, та же история… — А ты бы хотел, дядя Ницэ, чтобы страной не командовали больше разные господа? — спросил капрал и дружески положил руку ему на плечо. Он чувствовал, что они духовно близки друг другу. Ницэ Догару рассмеялся от всей души. Засмеялись и остальные солдаты. — Ей-богу, господин капрал, — сказал он, вытирая рот тыльной стороной ладони, — вы меня вроде спрашиваете: «Скажи-ка, дядя Ницэ, тебе было бы приятно, если бы тебя поцеловала красивая женщина?» Солдаты опять засмеялись, а вместе с ними и капрал Динку, которого все это страшно развеселило. — Как же мне не хотеть, господин капрал? — продолжал Ницэ Догару и по очереди посмотрел в лицо каждому. — Я бы хотел, чтобы страной командовали крестьяне, такие, как я, или рабочие, такие, как вы, люди, которые знают и понимают наши нужды и наши беды… — Правильно, дядя Ницэ, — сказал капрал, — каждый из нас хотел бы, чтобы управляли страной рабочие люди. Но, чтобы эти люди оказались у власти, необходимо изменить несправедливый порядок, который существует у нас в стране, нужно другое отношение к рабочему человеку, такому, как я, вы, Тотэликэ и другие. А этому не бывать без борьбы, только в борьбе мы можем исправить несправедливость, в борьбе не на жизнь, а на смерть против всякой гнили, против всего, что унижает нас, укорачивает нашу жизнь, и без того горькую и тяжелую. Эту борьбу, дядя Ницэ, должны вести люди, которые сами работают, и работают для того, чтобы жить, а не для того, чтобы накопить богатство и жить за счет других… Динку старался говорить как можно понятнее про тяжелую жизнь и нищету униженного, эксплуатируемого народа, втянутого в войну, которой он не хотел, народа, над которым издеваются богатеи и банкиры; о том, как должен поступить каждый честный человек, который надеется, что придут другие времена, что загорится наконец свет во мраке, который окутал страну. Он говорил, а солдаты слушали, не сводя с него глаз, ловя каждое слово, удивляясь, сколько здравого смысла у их командира, который сейчас стал ближе их душе и сердцу. Они считали, что это совершенно нормально, что так и надо, ведь он сам рабочий и живет тем, что заработает своими руками. — Поняли вы меня? — закончил он свою короткую беседу с солдатами. — Вы не читаете газет, не слушаете радио, ничего не знаете о происходящих в мире событиях, не слышите, о чем говорят люди в городе, вас ведь не выпускают из казармы, а я хожу с разными поручениями, слышу о чем говорят люди, и знаю, что они копят злость в душе, каждый ищет дорогу, которая ведет к лучшей жизни… — Ваша правда, господин капрал… — Люди сыты войной по горло, — продолжал капрал все более напористо и убежденно, — многие не только отдали последнюю корову со своего крестьянского двора, они отдали жизнь или безвозвратно потеряли здоровье, людям надоело получать по карточкам хлеб, керосин, масло, надоело погибать, защищая интересы правителей страны. Наш смертельный враг у нас в стране, в двух шагах от нас, он ходит поблизости как призрак, можно подумать, он невидимка, но он пьет нашу кровь и держит нас за горло, он не дает нам вздохнуть — это маршал со своими подпевалами, Гитлер со своими фашистами и все, кто встал на их сторону. Вот как все происходит. Это я и хотел вам сказать. — Близкую сердцу правду говоришь ты, господин капрал. — Еще минуту внимания! — попросил Тудор Динку. Солдаты замолчали и затихли. Тесно прижавшись друг к другу, они приготовились ловить каждое слово своего командира. — О чем я хотел бы с вами договориться, — продолжал Динку, стараясь заглянуть в глаза солдатам. — Мы здесь беседовали как люди, у которых общая беда, я верю, что среди нас нет предателя, который бы продал нас начальству… — Как вы сказали, господин капрал? Который бы продал? — Ницэ Догару схватил Динку за руку. — Продаст, говорите? Я смотрю в их глаза, как смотрю в ваши, господин капрал, я вижу в них тот же свет, черт побери, мы ведь знаем друг друга, давно тайком обсуждаем разные разности, нам это не впервой, только теперь, если и вы с нами, у нас полегчает на душе, сердца наши не будут закрыты. Так, братцы? — Слово твое закон, дядя Ницэ, не спрашивай ты нас, не студи зря рот, — послышался из темноты голос Тотэликэ. — Я давно распознал господина капрала, понял, что он наш. Я однажды тебе сказал: этот человек страдает вместе со всеми обездоленными. — У меня, как и у вас, — заговорил опять Тудор Динку, — одно желание, братцы, чтобы наступил мир и чтобы соблюдалась справедливость в нашей стране. — Вот именно, господин капрал, и справедливость! — горячо поддержал его Ницэ Догару. — Потому что мало толку нам будет от мира, если мы не добьемся справедливости у себя в стране… — А теперь пора кончать беседу, — сказал капрал, — давайте займемся бросками, как приказал нам плутоньер Грэдинару. — С этими словами он поднялся, отряхнул брюки и подождал, пока встанут остальные солдаты. — Господин капрал, — обратился к нему Ницэ Догару, подойдя поближе, — я хотел замолвить словечко за нас, грешных, — и лукаво посмотрел на окружавших их солдат. — Ну говори, дядя Ницэ… — Зачем нам ломать косточки на этом проклятом поле? Скажем, что мы сделали, как велено, и готово! Так ведь, братцы? — повернулся он к солдатам. — Ведь полезнее нам было послушать то, что вы нам рассказали, чем падать животом на землю… — Верно, господин капрал, дядя Ницэ прав, — поддержал его Тотэликэ. — Никто не проговорится, господин капрал… — Лучше побеседуем еще о нашей жизни, очень хорошо вы об этом говорите, как будто читаете по книге… честное слово, люди добрые, я готов без конца слушать, когда он говорит… Капрал Динку опять снял с головы пилотку, вытер ладонью пот со лба, улыбнулся в темноте краешком губ, не зная, что ответить. Он не знал, на что решиться, колебался, думая, как поступить… Он и сам не собирался зря гонять людей — некоторые из них имели фронтовой опыт, — тем более что был уверен в несправедливости наказания, все произошло из-за дурацких выходок Грэдинару, который только и знал, что материться, избивать солдат, сажать их в карцер или мучить нарядами… Какой толк от таких занятий, когда большинство этих людей уже побывали на передовой, под градом пуль? Он попытался объяснить это Грэдинару, но тот бросил на него взгляд, в котором легко читалось: «Будешь делать эти броски вместе со всей ротой». Было ясно, что плутоньер не понял, что ему хотел сказать Динку. — Только чтобы никто не трепал языком, что мы занимались разговорами, а не боевой подготовкой… — Кто же это у нас такой, господин капрал? — спросил Ницэ Догару и посмотрел вокруг. — Если я про такое узнаю, ему не жить, истинное слово, не жить! Неужели такой затесался, а, братцы? Пусть лучше сейчас сознается, потом хуже будет… — Не приставай, дядя Ницэ, ну чего зря спрашиваешь? — проворчал стоявший рядом Кирикэ. — Будто ты нас не знаешь… — Будем молчать, как могила, дядя Ницэ! — изрек из темноты Тотэликэ. — Какой нам интерес болтать? — отозвался кто-то другой. — Дураков нету идти к господину плутоньеру и докладывать, что не шлепались тысячу раз животом об землю я хотим теперь проделать это под его командой! — Хорошо, — согласился капрал. — Тогда давайте строиться и не спеша двинемся к казармам. — Есть, господин капрал! Через несколько минут по темному полю по направлению к казармам двигались вольным шагом пятнадцать солдат во главе с капралом Динку. В тишине был слышен только резкий стрекот кузнечиков и монотонный топот ног. — А теперь споем, дядя Ницэ? — спросил капрал и повернулся лицом к старому солдату, который шел в середине колонны, слегка припадая на одну ногу. — Споем, господин капрал! — согласился Ницэ Догару. — Мы о своем поговорили, на душе полегчало… — Тогда запевай, Кирикэ! — Что прикажете петь, господин капрал? — Спой ту песню, которую мы позавчера учили… — О горнисте, что ли? — Да, о горнисте. Кирикэ откашлялся, пропел первые такты песни, и по команде Динку солдаты подхватили:
16
Вечером Дана предупредила Михая, что следующей ночью, в одиннадцать тридцать, он должен быть на том краю учебного поля, где начинается улица Брынковяну. Там его будет ждать невысокий плотный парень, в форменной фуражке гимназиста, белой рубашке и с сосновой веткой в руке. Пароль и отзыв такие: «Вы, случайно, не знаете, где тут улица Южная?» — «Не знаю, я нездешний, но вы можете спросить в корчме на углу». — «Корчма закрыта». Михай очень обрадовался, что для него наметился какой-то выход из тупика. Но где ему предстояло скрываться, он не знал. Не знала этого и Дана. Капрал Динку назвал ей только число и время. «Куда ты спрячешь Михая?» — попыталась она выяснить. «Я не могу тебе этого сказать, — открыто признался он. — Его будет ждать парень, про которого я тебе говорил; будь уверена, его спрячут надежно, он окажется в полной безопасности, ему не придется ни в чем нуждаться». Михай встретился с тем, кто его ждал, они назвали пароль и отзыв и пошли рядом по полю. Метров через триста из учебной траншеи вышел капрал Динку, одетый в штатское. Он взял на себя дальнейшую заботу о Михае, поблагодарил юношу в гимназической фуражке и, когда тот растворился в ночи, попросил Михая подождать его, самое большее двадцать минут, в учебной траншее, где ждал их он сам. Ему нужно было зайти домой, чтобы сменить гражданское платье на военную форму. — Вы военный? — удивился Михай. — В настоящее время — да, — ответил Динку, собираясь уходить. — Я должен быть в военной форме, мы пойдем в казармы… — Я буду скрываться там? — Да, там. — Вы меня кому-то поручите? — спросил Михай с беспокойством. — Нет, о тебе я буду заботиться сам. И уверяю тебя, Михай, ты будешь в полной безопасности. — Откуда вы знаете, что меня так зовут? — Ты думаешь, я взялся бы прятать неизвестного? Ровно через двадцать минут Динку вернулся уже в военной форме. В штатском он пришел на встречу, чтобы даже связной не знал, что он военный. Только Хараламб и товарищ Молния знали об этом. — Пойдем, Михай, — сказал Динку, беря его за локоть. — Вы кто по званию? — спросил Михай, пытаясь разглядеть в темноте нашивки на погонах Динку. — Капрал… — Мне кажется, я вас знаю… Когда вы ушли и оставили меня одного, я все думал об этом. У меня такое впечатление, даже уверенность, что где-то я вас видел… — Очень даже может быть, — согласился Динку. — И знаешь где? Увидев тебя, я сразу понял, что мне знакома твоя внешность. Порылся в памяти, и меня осенило: мы с тобой вместе залезали на тополь, чтобы спасти ребенка… — Точно, залезали! — радостно воскликнул Михай. — Вот теперь и я вспомнил… Они дошли до ворот позади казармы, выходящих на учебное поле, через которые обычно пропускались колонны солдат, повозки с севом, продовольствием и обмундированием. Динку попросил Михая подождать в сторонке, а сам подошел к часовому, силуэт которого еще вырисовывался в темноте. — Дядя Ницэ? — спросил Динку. — Это еще кто? Аль ты мне брат? — спросил Догару хриплым голосом. — Капрал Динку… — Здравия желаю, господин капрал, я маленько того… старость не радость, — печально ответил Ницэ Догару. — Стою вот в ночи, винтовку обнимаю, звезды стерегу… — Подойди поближе, я тебе кое-что скажу… Старый солдат подошел, и Динку шепнул ему, что к нему приехал шурин из деревни, ночевать негде, он его устроит в казарме, пусть до утра отдохнет, парень прошел пешком километров тридцать, у него здесь жена в больнице лежит, давно, вот уже два месяца, он очень расстроен… — Пускай себе спит на здоровье, господин капрал, — сказал Ницэ Догару, обрадованный тем, что может быть чем-то полезен капралу. — Ваше слово для меня закон… Редко встретишь такого человека… — Да, но ведь ты часовой, у тебя есть свои обязанности… — А ну их к черту, эти обязанности, господин капрал! — вспыхнул Догару, перекидывая винтовку за плечо. — Пусть бы лучше там, наверху, помнили про свои обязанности, а то вот ведь какое безобразие допустили… Михай и Динку вошли в ворота казармы. Сразу около ворот находились конюшни и сараи, стоял тяжелый запах перегнившего навоза. Чуть дальше виднелись навесы, штабеля дров и копна сена. В пыльном дворе не было никого. С большими предосторожностями Динку и Михай прошли мимо полковых складов, построенных в одинаковом стиле — невысокие, с открытым наружным коридором, под железной крышей. Тяжелые дубовые двери были закрыты на железные брусья. В сторону улицы смотрели немые высокие корпуса; они были из красного кирпича, со множеством окон, ни одно из которых сейчас не горело, ступеньки побелены известью, чтобы их было видно и ночью. Остановившись напротив одного из складов, Динку полез в карман, вытащил связку ключей на цепочке и отомкнул замок боковой двери. Отодвинул брус, открыл дверь, зажег спичку и пригласил Михая войти. Они прошли мимо пирамид с винтовками и полок, на которых стояли массивные ящики, и добрались до комнаты в глубине склада. — Здесь будет твое жилье! — сказал Динку и пригласил Михая войти. Воздух был тяжелый, застоявшийся, остро пахло ружейным маслом. Михай переступил порог и остановился у двери, осматриваясь. Здесь ему предстояло провести несколько недель, а может быть, и месяцев. Это была небольшая комната, окрашенная в белый цвет, с низким потолком, вдоль стен стояли штабелями ящики. Потертые, прогнившие доски пола при каждом шаге жалобно скрипели. В помещении было одно окно, забранное решеткой, через его матовое, замазанное белой краской стекло ничего нельзя было разглядеть. С облупленного потолка спускалась грязная лампочка, обрызганная известью, она излучала слабый, рассеянный свет. — Спасибо, господин капрал, от всей души спасибо, — сказал Михай, садясь на импровизированное ложе, которое Динку сделал из двух ящиков от ручного пулемета. Продолжая оглядывать свое новое жилище, он добавил: — Я вам очень благодарен за ваши труды… — Нравится? — спросил капрал и тоже окинул взглядом маленькое убежище. — Сойдет… — Я не нашел ничего лучше. Тем более что у меня было очень мало времени… — Хорошо, очень хорошо, — сказал Михай, радуясь, что избавился от заботы, которая мучила его столько бессонных и беспокойных ночей. — Спасибо от души и вам и всем, кто занимался моими делами! Динку молча слушал Михая, незаметно изучая его. «Интересный молодой человек», — подумал он. И правда, Михай был ловкий, сильный, хорошо одетый, его не портили отросшие волосы; у юноши был проницательный, живой и открытый взгляд. Чистое, гладковыбритое лицо как бы освещалось изнутри, что говорило о его богатом духовном мире. Уверенность в своих силах сочеталась у него с откровенным оптимизмом, правда, чересчур радужным для положения, в котором он находился. Капрал пытался себе представить, что испытал этот парень, не старше его по возрасту, вовремя военной учебы в немецкой армии и особенно за колючей проволокой, в лагере под Бременом, куда был заключен. — Вы, наверное, знаете все обо мне. Я дошел до того, что мне пришлось обратиться за помощью, — тихо сказал Михай и, поскольку было очень жарко, снял рубашку, остался только в белой майке. — В этом нет моей вины, меня вынудили… — Да, мне кое-что известно… — Но я бы хотел, чтобы вы знали и правильно поняли мое отношение к братьям по оружию, немецким солдатам, — продолжал Михай, глядя Динку прямо в глаза. — Вы решились помочь мне, дать мне убежище, надеюсь, это потому, что наши представления, наши взгляды совпадают… — Представления? О чем? — попросил уточнить Динку, озадаченно подняв брови. — Наше отношение к братьям пооружию, — разъяснил Михай. — К немецким солдатам… Динку был в замешательстве, он совсем не собирался откровенничать на эту тему. — Видишь ли, — сказал он, — как бы это выразиться пояснее, чтобы ты меня понял… Я с ними не сталкивался так близко, как ты, и мне не пришлось пережить то, что пережил ты… В общем, я не вполне разделяю твою точку зрения… — Можно, я скажу еще одну вещь? — Конечно, пожалуйста… — Знаете, ваш поступок, то, что вы меня спрятали здесь, пошли на такой риск, свидетельствует о том, что вы человек с определенными принципами. — Михай взял капрала за руку. — Человек цельный… А какая у вас гражданская специальность? — Литейщик. Но я разбираюсь и в водопроводе, электропроводке, сантехнике. — А из какого вы города? — Отсюда, из Турну-Северина… — Так, значит, вы местный! — обрадовался Михай. — А как вам удалось остаться в тылу? — Меня не послали на фронт по болезни. У меня больные легкие… А кроме того, я мастерю то, что бывает нужно начальству: офицерам, полковнику Предойю и даже плутоньеру Грэдинару, он у нас «отец роты», — засмеялся Динку. — Да, конечно, именно эти люди и делают погоду, от них в полку зависит все. Могут послать на фронт, а могут и не послать. Полк должен, например, направить на передовую какое-то количество солдат вместо убитых и раненых. Но ведь сверху не уточняют, кто именно должен быть послан… Вот от этих людей и зависит, кто поедет, а кто останется. — Я смотрю, ты разбираешься в скрытых механизмах поведения начальства! — весело заметил Динку. — А кто же в них не разбирается? Михай спросил еще, есть ли у Динку родители, где он живет в городе, знает ли учителя Георгиу. Динку с удовольствием отвечал на его вопросы и делал это не из вежливости, а потому, что брат Даны оказался человеком образованным, хорошим собеседником и просто славным общительным парнем, к тому же капралу было известно об антифашистском прошлом Михая. Пока Михай увлеченно рассказывал о своих заграничных приключениях, Динку думал, как бы привлечь его к участию в деятельности Союза коммунистической молодежи, а самому при этом остаться в тени, чтобы Михай даже не знал, что он, Динку, состоит в этой организации. В конце концов он придумал, как это сделать. — Михай, — сказал он, — ты можешь быть совершенно спокоен в отношении питания и пребывания в этой комнатке. Я сделаю все возможное, чтобы обеспечить тебе, если можно так выразиться, максимальный комфорт. — Большое вам спасибо… — Но у меня есть к тебе просьба… — Я сделаю все, что могу… — Чтобы тебе не было скучно, могу предложить тебе одно занятие. Совсем несложное… — Конечно, — согласился Михай, ни минуты не раздумывая, обрадованный тем, что может отплатить за доброе отношение к себе. — Разговор, видимо, пойдет о том, чтобы чистить время от времени винтовки? Я вижу, здесь много ящиков… — Нет, не об этом! — засмеялся Динку. — Я имею в виду совсем иное занятие. Видишь ли, я хочу знать настоящее положение дел на фронте, быть в курсе международных событий… — Но как же я смогу помочь вам в этом, я ведь буду вынужден сидеть в четырех стенах? — улыбнулся Михай в ответ; в данный момент он находил просьбу капрала совершенно невыполнимой. — У вас есть какая-то конкретная идея? Может быть, вы сумеете приносить мне газеты, а я буду выбирать из них соответствующие статьи? — У меня совершенно определенный план. — А именно? Без лишних слов, просто и коротко Динку объяснил ему, что не может доверять ни немецкой, ни румынской информации, которая искажает положение дел на фронте и истинный ход войны. Он и некоторые его товарищи по полку непосредственно заинтересованы в том, чтобы знать обстановку на различных участках фронта, товарищи интересуются также вопросами внутренней и внешней политики Румынии, международной обстановкой. Из отрывочных сведений ему известно, что Михай, будучи в Германии, помимо немецкого языка изучал еще и русский, даже окончил специальные курсы. Значит, он немного понимает русскую речь. Если это так, то Динку принесет ему маленький радиоприемник, с помощью которого он смог бы ловить передачи подпольной румынской радиостанции — она, кажется, называется «Свободная Румыния», — мог бы слушать Москву, Лондон, Алжир и составлять небольшие сводки, а утром передавать ему, Динку. Он никогда не решился бы попросить Михая о таком одолжении, но из разговора понял, что и он, Михай, настоящий патриот, который понимает, что долг каждого честного человека сделать все, чтобы страна не погибла. — Если люди доброй воли сумеют договориться между собой, — продолжал Динку, — и перейдут к действиям, может быть, еще удастся кое-что изменить на благо нашей страны, попытаться спасти от катастрофы, до которой довел ее диктаторский режим Антонеску. — Значит, вы, как и я, настроены против Антонеску, немцев и их приверженцев? — спросил Михай. — Если на основании всего, что я тебе говорил, ты пришел к такому выводу… — Да, пришел. — Мне возразить нечего… Михай так обрадовался, что не удержался и обнял капрала. — В таком случае, — весело сказал он, — мы смотрим на вещи одинаково. — Верно, а вот как со зрением? — Что со зрением? — удивился Михай. — Не понимаю… — Очень просто: у одного зрение может быть лучше, у другого — хуже, — засмеялся Динку. — От этого зависит, что человек увидит. Но очень важно, чтобы мы были вместе… Динку закурил сигарету, протянул пачку и Михаю, но тот сказал, что не курит и очень хочет спать. Он чувствовал себя утомленным, весь день прошел в напряженном ожидании, что нагрянет полиция, и прошлую ночь он не сомкнул глаз по этой же причине: малейший шорох, чьи-то шаги на улице, звук автомобильного мотора заставляли его вздрагивать и ждать, что с минуты на минуту кто-нибудь войдет к ним во двор. Правда, когда он узнал, что вопрос об убежище вот-вот решится, он несколько приободрился, стал лучше владеть собой, надеясь, что все будет так, как ему обещали. — Да, нелегкое у тебя положение, — заметил Динку и надел пилотку, собираясь уйти. — Но теперь ты, я думаю, успокоишься. — Конечно… — Об одном тебя прошу, постарайся не производить ни малейшего шума, особенно днем, когда плутоньер и некоторые другие должностные лица будут приходить на склад… — Как, — удивился Михай, — значит, этим складом… пользуются? — Да. — Я думал, он всегда на запоре и сюда никто не ходит… — Нет, наоборот, это довольно оживленное место… — Как же тогда?! — Не бойся, тебя не обнаружат, — заверил его капрал. — Дверь комнаты всегда закрыта, а ключ у меня. Михай облегченно вздохнул и провел ладонью по лицу, будто стирая что-то, что мешало ему видеть. — Тогда я спокоен… — Я сказал, не волнуйся, ты в полной безопасности… Но соблюдай тишину, особенно когда услышишь рядом шаги или голоса… — Это в моих интересах, так что я приму все меры предосторожности. На этот счет не сомневайтесь. Да, кстати, а когда я получу радиоприемник? — Может, даже сегодня ночью, если смогу, принесу. У меня есть знакомые в городе… — Хорошо, я буду ждать. — Нет, ты ложись. Когда приду, я тебя разбужу… Спокойной ночи. — Спокойной ночи. Еще раз благодарю вас от всего сердца! Через несколько дней Динку получил первые сводки новостей, переданных радиостанцией «Свободная Румыния», а также из Москвы и Лондона. Каждую ночь Михай добросовестно слушал все передачи, крутя ручки «Телефункена» с таким расчетом, чтобы звук был еле слышен, и старательно записывал все, что удавалось поймать. — Я тебе очень благодарен, Михай! — воскликнул Динку, читая первые записи. — Мы все очень тебе обязаны… При первой же встрече с Хараламбом, которая состоялась на конспиративной квартире, капрал сообщил ему о том, что спрятал в казармах Михая и дал ему задание. Вначале Хараламб не был в восторге от инициативы Динку; он очень рассердился, ведь этот шаг мог нанести ущерб подпольной работе организации. Нашел где спрятать — в казарме! Лучшего места найти не мог?.. Неужели нельзя было где-нибудь в городе или соседнем селе? Однако убедившись, что изменить ничего нельзя, согласился на то, чтобы работу с Михаем продолжать, но с большой осторожностью… — В конечном счете, товарищ Хараламб, парень целиком зависит от меня, ключ от двери в моем кармане. Он не предаст. — Ну хорошо, а как ты ему объяснил, зачем тебе понадобились сводки? — Я сказал, что мне это нужно, чтобы знать истинное положение на фронте. Солдаты интересуются, когда кончится война, ходят разные слухи — они не понимают, чему верить, чему нет… — Прекрасно. Ты мне их тоже давай, эти его записи.17
Прошло несколько дней. Хмурым утром, когда небо было затянуто грозовыми тучами, из которых вот-вот должен был хлынуть дождь, в канцелярии роты находились капрал Динку и плутоньер Грэдинару. Неожиданно появился командир полка полковник Предойю. Грэдинару ел арбуз, губы и усы у него были мокрые, сок капал на мундир. Динку сидел за столом около окна и разлиновывал красным карандашом страницы в толстой тетради, составляя какую-то ведомость. Как только на пороге возник полковник, Грэдинару вскочил, словно ошпаренный, и застыл с недоеденным ломтем в руке. — Здравия желаю, господин полковник! — промямлил он с полным ртом и поспешно положил арбуз на стол. — Простите, что я… — Все себя ублажаешь, Грэдинару, любишь ты это занятие, — проворчал, полковник. Он сделал несколько шагов по комнате, заложив руки за спину, и внимательно оглядел помещение. Это был не очень крепкий на вид мужчина, с белыми, коротко остриженными волосами и карими, кроткими, как у подростка, глазами. — Уплетаешь за обе щеки, как рекрут в увольнительной… Плутоньер незаметно вытер рот рукой. — Так точно, господин полковник, кушаю, а как иначе? — смущенно оправдывался он. — Видите ли, когда я сегодня утром шел в казармы, ко мне привязалась молочница из деревни Чернецы и не отстала, черт бы ее побрал, пока не всучила мне этот арбуз. Возьми да возьми… Это, говорит, турецкий сорт, с черными семечками, прямо сахарный. Я и не стерпел, отрезал ломтик, чтобы убедиться, сахарный он или так, одна болтовня… Ведь если он не сладкий, спрашивается, зачем мне его тащить два километра до дома? Грэдинару говорил и говорил, язык у него работал как мельница, но полковник расхаживал по комнате с отсутствующим видом и не очень-то слушал его. Он подошел к столу, за которым работал капрал, раскрыл реестр и углубился в чтение занесенных туда данных. Пролистав несколько страниц, вернулся к началу, внимательно изучил первые записи, потом опять посмотрел последующие, после чего со скучающим видом захлопнул тетрадь и старательно сдул с пальцев пыль. Отвернувшись к окну, он некоторое время смотрел во двор, где босые, в одних рубашках, солдаты сгружали с телеги старые кителя и брюки. — …Помните, когда мы с вами были на фронте, господин полковник, — упорно продолжал Грэдинару, — к нам точно так же пристала женщина, и тоже с проклятым арбузом… — Да отстань ты с этим чертовым арбузом! — резко оборвал полковник и подошел к его столу. — Скажи лучше, откуда у гражданских лиц в городе оружие? — Что у гражданских лиц, господин полковник? — вытаращил глаза Грэдинару. — Оружие. О-ру-жи-е! Понял? Винтовки… Ну?! — Откуда же у них винтовки? — Вот об этом я тебя и спрашиваю. Ты несешь ответственность за склад оружия и боеприпасов. Может, ты начал торговать винтовками, как та молочница арбузами? Грэдинару, ошарашенный и встревоженный, даже изменился в лице, стал красный как рак, еще раз вытер рот ладонью, не сводя глаз с полковника, ладонью же отмахнулся от мух, во множестве роившихся вокруг арбуза. — Господин полковник, разрази меня бог, если я хоть что-нибудь знаю об этих винтовках! — выдавил он из себя, заикаясь от страха. — Может, они прихватили с собой оружие, когда возвращались с фронта? Вы же знаете, человек так устроен: что может, все прибирает к рукам… такие уж мы все бережливые… — Не болтай попусту, это не имеет никакого отношения к делу! — рассердился полковник и ударил хлыстом по крышке стола. — Я говорю об одном, а ты плетешь о другом. Я спрашиваю, тебе что-нибудь известно о винтовках, которые полиция нашла у жителей города? — Ничего не известно, господин полковник, провалиться мне на этом месте, если знаю! — отбивался Грэдинару, вытянувшись по стойке «смирно». Его лицо покрылось капельками пота, подбородок и руки подрагивали. — А сколько винтовок нашли? — полюбопытствовал он. — Две винтовки. — Две? — удивился Грэдинару. — Хотя возможно. Все теперь возможно. Ведь вся армия вооружена винтовками. Кто его знает, откуда, черт побери, утащили эти две… Во всяком случае, не у нас: наши все на месте… — А если не на месте? — полковник испытующе, почти подозрительно смотрел на Грэдинару. Потом вытащил из кармана бумагу и положил на стол, на самое видное место. — Вот, гляди, здесь записаны номера винтовок, — шлепнул он по бумажке ладонью. — Мне продиктовал их по телефону начальник полиции… Посмотри по реестру, они у нас зарегистрированы? Грэдинару взял листок бумаги, отодвинул его от глаз, рассматривая цифры, которые обозначали номера найденных винтовок, потом резко повернулся к Динку: — А ну-ка, парень, дай сюда реестр! — Который, господин плутоньер? — Динку встал из-за стола. — Опись оружия, находящегося в эксплуатации или на складе? — Того, что на складе. — Так он там, на складе, и есть. Схожу принесу… — Не надо, мы сами туда пойдем, — сказал полковник, нервно ударил хлыстом по голенищу и направился к двери. — Посмотрим, может, там не так уж все надежно, есть какие-нибудь лазейки для жуликов. А если есть, мы обязаны принять меры, чтобы обеспечить сохранность оружия. Пойдем, Грэдинару! Все трое вышли во двор. Полковник шел впереди, молчаливый, серьезный, еще более задумчивый, руки за спину — в одной из них хлыст. Плутоньер еле поспевал за ним на расстоянии шага, шел тяжело, враскачку, пыхтя и захлебываясь, но, не умолкая ни на минуту, говорил, говорил, говорил… путано, иногда бессвязно. Он пытался убедить полковника в том, что у него четко налажено хранение наличного имущества. Там, на фронте, гибнут люди, не то что винтовки, и эти наши хамы могут обмениваться друг с другом оружием, винтовка может свободно оказаться в другой части, какой уж тут инвентарный номер, была бы винтовка. Другими словами, разве возможно, чтобы все сошлось при проверке, да еще и номер в номер по реестру!.. — Замолчи, Грэдинару, тебя сам черт не переговорит! — рассердился полковник. — Что ты все оправдываешься? Разве я сказал, что винтовки с твоего склада? Не сказал. Я только предположил. — Хорошо было бы, господин полковник, чтобы все оказалось лишь предположением, ведь подумать только, эти чертовы штатские на фронт не идут, всеми правдами и неправдами отлынивают, а дома, черт бы их побрал, держат винтовки; вот было бы хорошо, если бы и их прижали! — Не болтай, иди быстрее. Где ключи? — У капрала Динку, господин полковник! — Почему ты ключи доверяешь ему? — Потому что на него можно положиться, я ему поручил вести отчетность по некоторым реестрам. Винтовки, гранаты, пистолеты находятся в опечатанных ящиках, к ним он доступа не имеет… Динку! — Слушаюсь, господин плутоньер! — подбежал к Грэдинару капрал. — Живо, парень, открывай склад! Дуй рысью, чтобы не задерживать господина полковника, он торопится… — Ну-ка подожди, капрал, — остановил его полковник. Динку повернулся, встал по стойке «смирно», поднес руку к пилотке: — Слушаюсь, господин полковник! — Скажи-ка, парень, как продвигается работа с колодцем у меня дома? Водопровод сломан, трубы невозможно достать; если ты не выроешь нам колодец, у нас не будет ни капли воды… — Берите пока из источников, господин полковник, — посоветовал Грэдинару, услужливо склонившись. — Там, внизу, около гимназии «Траян», есть несколько источников… — Знаю я эти источники, но не буду же я всю жизнь пить воду из них! — бросил через плечо Предойю, — Да и далековато туда ходить… Что ж вестовому — целый день по воду бегать? Эй, капрал, — повернулся он снова к Динку, — так когда же будет готов этот колодец? — Через две-три недели, господин полковник! — ответил Динку, продолжая стоять по стойке «смирно». — Трубы я достал. — Достал? Это хорошо! — Да, достал. Теперь мне нужна пакля, сурик, несколько разводных ключей… Я схожу в мастерскую… — Так сходи не откладывая, а то земля во дворе разворочена, все это так некрасиво выглядит… — Понял, господин полковник! — А теперь поторопись и открой склад… Встревоженный происходящим, размышляя, чем все это кончится, и в первую очередь для Михая, Динку кинулся к складу, лихорадочно отомкнул замок, высвободил прижимавшие дверь железные брусья, и они с грохотом опустились, повиснув вдоль двери. Потом плечом распахнул дверь. За несколько последних месяцев он унес со склада семь винтовок, спрятав их по совету Хараламба в заброшенном погребе на окраине города, но особенно не беспокоился, так как их отсутствие было оформлено: три находятся в оружейной мастерской армейского корпуса, четыре, со стершейся нарезкой, списаны. Его тревожило только положение Михая, предупредить которого не было возможности. Но Динку надеялся, что полковник не потребует осматривать эту комнату. Капрал торопливо подравнивал винтовки в пирамиде и жестяные коробки на полках, которые, как ему казалось, стояли недостаточно ровно. «В комнате, где находится Михай, только пустые коробки, нет смысла их проверять. Если же он потребует, скажу, что у меня нет ключа, я его потерял. Попрошу, чтобы они пришли после обеда, пусть тогда проверяют сколько хотят. А я тем временем переведу Михая в другое место…» В эту минуту Михай как раз переписывал начисто сводку новостей, составленную утром. Услышав совсем рядом голоса, он вздрогнул и замер с авторучкой в руке, напряженно прислушиваясь. За дверью кто-то ходил, тяжело ступая по бетонному полу, а кто-то другой отвечал на его вопросы. Из разговора, который был отчетливо слышен, Михай понял, что один из этих людей не кто иной, как плутоньер Грэдинару, которого он слышал и раньше и уже узнавал по голосу, а другой, судя по тому, что Грэдинару называл его господином полковником, был, видимо, командир полка. — А здесь что? — услышал Михай. — Списанные противогазы, господин полковник, — быстро ответил Грэдинару. — Мы их должны сдать. Документы составлены… — Документы на списанные противогазы готовы? — Готовы, господин плутоньер! — ответил Динку откуда-то из глубины склада. «Значит, и капрал с ними, — немного успокоился Михай, надеясь, что в присутствии Динку с ним ничего не случится. — У него, конечно, хватит сообразительности объяснить, почему дверь этой комнаты заперта». — Грэдинару, взгляни, какие номера были у тех двух винтовок, — приказал полковник. — Ты говорил, что реестр лежит здесь, вот и сверь номера… А я пока осмотрю решетки на окнах, нельзя ли их снять. Не могут ли бандиты проникать таким способом на склад, чтобы красть оружие? — Это исключено, господин полковник! — возмущенно воскликнул Грэдинару. — Как может ступить чужая нога на наш склад? — Случались же подобные вещи в других местах, — сказал Предойю, делая ударение на последних словах. — Нам сообщили об этом из армейского корпуса, об этом же сказал мне главный комиссар полиции Албойю. Сломали железную дверь. Ты понимаешь? Железную… Кстати, это что за дверь? Полковник решительным шагом направился к двери запертой комнатки. Михай замер на своем импровизированном ложе, с бумажками в руке, неподвижный как изваяние. Предойю сильно дернул замок. — Грэдинару, ты слышишь, о чем я тебя спрашиваю? — Нет, господин полковник, не слышал я, извините, пожалуйста! — испуганной скороговоркой ответил плутоньер и подбежал к Предойю. — Слушаюсь, господин полковник! — Что в этой комнате? — Почти ничего, господин полковник, — запыхтел Грэдинару. — Несколько пустых ящиков, бидоны из-под ружейного масла, стол для чистки винтовок… — А оружие?.. — Нет, господин полковник. — Ну, сравнил номера винтовок? — Они не совпадают, господин полковник. — Ты уверен? — Совершенно уверен. Так что эти две винтовки не из наших… — Хорошо, еще раз проверь решетки на окнах и на ночь будешь выставлять часового, пусть ходит вокруг склада. Скажешь дежурному офицеру, что я приказал. — Ясно, господин полковник… — Так. Что еще? Нужно выполнять распоряжение, поступившее из армейского корпуса. Никто не имеет права входить на склад, кроме тебя и капрала. Все ясно? — Так точно, господин полковник! Михай услышал удаляющиеся шаги. Вскоре они затихли где-то в глубине склада, а через четверть часа захлопнулись двери и раздался шум задвигаемых железных брусьев. Только тогда Михай облегченно вздохнул и растянулся на своей «кровати», измотанный сильнее, чем после трех бессонных ночей.18
Помещение магазина, точнее говоря, мастерской «У золотых часов» было не особенно обширным. Находилась мастерская на центральной улице города, вблизи муниципалитета. Петер Хинтц, ее владелец, был тщедушный человечек, сутулый, с сильно поредевшими белесыми волосами, в очках с железной оправой, сквозь стекла которых испуганно смотрели на мир его голубые выцветшие глаза. У него была репутация самого исполнительного часовщика в городе, он чинил любые часы, с ним было очень легко договориться о сроке. Если, например, он обещал, что заказ будет выполнен к пятнадцати часам в субботу, можно было не сомневаться, он это выполнит неукоснительно. О качестве и говорить нечего. Но прежде всего он был известен в городе как непревзойденный золотых дел мастер. Кольца, браслеты, серьги, цепочки его работы были превосходны. С утра до ночи один, без помощника, он сидел, склонившись над рабочим столом, с лупой в глазу. Он колдовал в пустой мастерской, молчаливый, с головой погруженный в свое занятие. Когда колокольчик над дверью издавал тихий звон, извещая о приходе заказчика, Хинтц мельком кидал взгляд на посетителя и продолжал заниматься своим делом, будто никто его и не потревожил. Ни на минуту не отрываясь от работы, он немного погодя спрашивал: — Чем могу служить? Человек объяснял, что привело его в мастерскую, и протягивал часы. Хинтц рассматривал их, подставив под абажур из черной бумаги, открывал крышку, изучал их металлические внутренности, потом называл срок изготовления и стоимость ремонта. Что касалось оплаты, то тут он был непреклонен, уговорить его на другую сумму ни одному заказчику не удавалось. Сколько он назначил, столько, значит, и стоила работа. Гарантийный ремонт. Кому дорого, пусть идет в другое место. Он и так перегружен и к тому же работает без помощника. Было у него еще одно любимое занятие — ухаживать за красавицей канарейкой; птица сидела в клетке, прикрепленной крюком к стене, на которой тикало множество стенных часов с маятниками, исправно и одновременно отбивавших каждые полчаса. Канарейку несколько месяцев назад подарил ему подполковник фон Клаузинг, и Петер Хинтц считал, что эта птица приносит счастье. Не только потому, что теперь, когда в его маленьком магазинчике весело распевала эта прелестная пташка, число клиентов вроде бы возросло, но главным образом потому, что именно с того дня господин Клаузинг почти каждый день оказывал ему честь своим посещением, справлялся о том, как идут у него дела, как здоровье, а на самом деле интересовался мадемуазель Лиззи, учительницей немецкого языка в женской гимназии. — Как себя чувствует фрейлейн Лиззи? — прежде всего выяснял немецкий офицер. — Как она провела ночь? — Прекрасно, господин офицер. Прекрасно… — Не шелает ли она погульять? Не ошень ли она усталь? — Для вас она никогда не устала, господин подполковник! — вспыхивал польщенный Петер Хинтц, краснея до кончиков ушей от внимания, которое ему оказывал немецкий комендант. О такой чести он и не мечтал. — Прошу пройти… Лиззи! — звал он хриплым от волнения голосом, обернувшись в сторону расположенной позади мастерской комнаты дочери. — Лиззи! Пришел господин комендант… Интимное пребывание господина коменданта в комнате Лиззи продолжалось два-три часа, иногда всю ночь, и каждый раз оттуда доносился смех, звуки радио или звон бокалов. Петер Хинтц не смел в это время окликнуть свою дочь даже шепотом. Он молча сидел за рабочим столом, с лупой в глазу, и напряженно работал, невольно прислушиваясь ко всему, о чем говорилось за закрытой дверью. Его не беспокоили ни приступы пламенной любви, случавшиеся у господина коменданта, ни страстные признания Лиззи, обращенные к «бесподобному» Гансу, ни бурные оргии, которыми обычно завершались эти визиты. Покидая комнату Лиззи, Клаузинг надевал фуражку, вежливо и любезно беседовал со старым часовщиком, произносил несколько банальных фраз, после чего жал ему руку и уходил. Чаще всего он уходил на рассвете покачиваясь, от него разило спиртным, и тогда господин комендант не замечал часовщика, проходя мимо, даже не поворачивал головы, тогда как Петер Хинтц, усталый после бессонной ночи, с трудом приподнимался со стула и старался как можно почтительнее его приветствовать, низко склоняя голову. Чтобы Петер Хинтц обиделся на отсутствие внимания к его особе? Нет, об этом не могло быть и речи! Ведь у господина коменданта столько забот. Вскоре часовщику стало известно об одном тайном намерении Клаузинга. Оказывается, он собирался сделать предложение Лиззи еще до того, как уедет в Германию. Лиззи сама это подтвердила в разговоре с отцом. Война будет выиграна армией фюрера, наступит мир, и он, Клаузинг, вернется домой вместе с ней, они пока будут жить на вилле его родителей, которая расположена в маленьком городке на границе с Францией. Ганс получит философское образование в Берлине и будет преподавать в Берлинском университете. И они поселятся в столице великой Германии или, может быть, в Париже. Это будет, судя по всему, счастливый брак… Что может быть лучше?! О как это все было лестно для старого часовщика!.. Какие открывались перспективы! А уж как счастлива была мадемуазель Лиззи, когда думала о своем блестящем будущем! Однажды вечером Лиззи от имени Ганса предложила своему отцу маленькую сделку: господин офицер владеет некоей собственностью, у него есть чемоданчик, где лежат золотые зубы, кольца, перстни, браслеты — все, что он мог скопить, когда служил в разных гарнизонах на севере Польши. Он их скупал у маклеров по ничтожным ценам, ведь поляки нуждались в деньгах, их хозяйстве было разрушено войной. — Но в чем состоит сделка? — удивился Петер Хинтц. — Лиззи, дорогая, ты хочешь, чтобы я их у него купил? — Нет, нет, ничего подобного, — успокоила его Лиззи. — Эти вещи ты, как ювелир, обработаешь, это увеличит их стоимость, а потом их надо будет продать. Вырученные деньги мы возьмем себе, это будет наше состояние. Мое и Ганса… — Но ты ведь сказала, что собираешься уехать вместе с ним в Германию, что вы будете жить там… — Совершенно верно. И ты поедешь вместе с нами… — Что же ты будешь делать там с румынскими деньгами? Лучше возьмите с собой золото, а не деньги… — Неблагоразумно было бы продавать эти вещи в Германии. На румынские деньги мы купим золотые слитки… Таков план Ганса, и ты должен помочь. Петер Хинтц долго думал над этим, сидя за рабочим столом. Держа в руках часы, он никак не мог заняться их ремонтом. Какую цель преследует господин офицер такой сделкой? И как он сумел раздобыть такое количество золотых зубов? Неужели поляки действительно продавали свои зубы, чтобы наладить хозяйство, как уверяет его Лиззи? Трудно себе представить что-либо подобное. Хорошо, в конце концов, его не интересует происхождение золота, господин офицер хозяин своих богатств, но как ему, ювелиру, удастся продать эти изделия? И как быть с финансовой инспекцией? Ведь по закону золото должно быть зарегистрировано… — О чем ты думаешь, папа? — нежно спросила его немного погодя Лиззи. — Как поступить с финансовым надзором, — признался он. — Золото необходимо зарегистрировать. — О, в этом отношении не беспокойся! — Лиззи погладила его по седым волосам. — Разве Ганс не главный человек в городе? Кто посмеет задавать лишние вопросы? Петер Хинтц снова задумался. Опустив голову, он уставился отсутствующим взглядом в крышку стола, на котором было разложено множество деталей: крышечек, молоточков, отверточек и колесиков. — Папа, все, что ты делаешь, ты делаешь для моего будущего, — продолжала Лиззи настойчивее. — Я тебе уже сказала, мы не можем везти с собой в Германию эти золотые зубы… — Хорошо, моя девочка, — помолчав, ответил старик. — Завтра я тебе дам ответ. Конечно, такой, какой не рассердит господина Клаузинга. — Значит, ответ может быть только один: ты согласен с моим предложением. Вернее, с предложением Ганса… Не прошло и двух недель, как в витрине мастерской «У золотых часов» появились всевозможные ювелирные изделия — золотые браслеты, кольца, изготовленные из «материала клиента» или из материала владельца. А через четыре дня, утром, колокольчик на двери предупредил Петера Хинтца о том, что клиент переступил порог мастерской. Это был невысокий, плотный мужчина, рыжеватый, с зелеными глазами и широким красным лицом, словно покрытым ржавчиной. На нем был коричневый костюм, под мышкой портфель из желтой кожи. — Чем могу служить? — безразличным тоном спросил старый часовщик, не поднимая глаз от деталей, которые выбирал пинцетом из тарелочки. — Я из городской полиции, помощник полицейского комиссара Ангелеску, — отчеканил незнакомец и бросил портфель на стул. — Вы Петер Хинтц? — Да, я. — Старик поднял бледно-голубые, выцветшие глаза и, сняв лупу, надел очки в железной оправе, чтобы получше разглядеть посетителя. — Чем могу быть вам полезен? Помощник полицейского комиссара не обратил внимания ни на вопрос часовщика, ни на то, что лицо у него стало белее мела. Он спокойно подошел к витрине, открыл ее, протянул руку, взял крышку от часов и браслет, долго их рассматривал, поворачивая то одной, то другой стороной. — Настоящее золото? — повернулся он к часовщику. — Настоящее, господин помощник полицейского комиссара! — Какого происхождения? — Что вы сказали? — подставил ухо старик. — Я не расслышал… — Откуда у вас это золото? — Откуда золото? — Да, откуда? — Ну… как откуда?.. От клиентов. Я его покупаю, потом продаю. Вы ведь знаете, как ведется торговля. Времена теперь тяжелые! Человеку не на что жить, и он склоняется к мысли, что может обойтись без перстня… — Или без зубов… — Иногда и так… Ангелеску кашлянул в кулак, долго и подозрительно смотрел на старика, потом открыл портфель, вытащил какую-то бумагу, внимательно прочитал ее и снова положил в портфель. — Вы, господин Хинтц, обвиняетесь в том, что поддерживаете связь с бандой преступников, которые по ночам раскапывают могилы, вытаскивают у покойников зубы и приносят вам, чтобы вы их обработали для продажи… — Я, господин помощник полицейского комиссара? — изумился старик. Ноги у него задрожали, и он медленно, с трудом встал. — Я связан с преступниками? Да что вы, господин Ангелеску! Это обвинение совершенно безосновательно… — Вам придется это доказать, а пока я вынужден опечатать все вещи, сделанные из золота. Прошу, соберите все с витрины и положите в сейф. — Господин Ангелеску, я не могу этого сделать, — сказал Петер Хинтц, обходя стол. — Вещи не мои… Это личная собственность самого подполковника Ганса фон Клаузинга. Так что… — То есть как собственность господина подполковника? — в свою очередь удивился Ангелеску, и лицо его покраснело еще больше. — Какое отношение он имеет к вашей мастерской? И потом, даже если это и так, закон запрещает немецкому офицеру продавать вам золото, не имея на то специального разрешения! Ясно? У него что, склад драгоценных металлов? — Вы меня неправильно поняли, господин помощник, — счел уместным добавить старый часовщик. — Я сказал, что вещи являются его собственностью, а вовсе не то, что он мне их продал… — В каком смысле я, должен это понимать? — В том, что это его вещи и он пользуется моей витриной, чтобы продать их. — А это нельзя делать без предварительного разрешения! — отрезал Ангелеску. — Тем более что он, господин подполковник, не является гражданином румынского государства и, стало быть, торговля, которой он незаконно занимается, лишает таможенные власти больших денег! — Господин Ангелеску, я ничего не знаю, — пожал плечами Петер Хинтц с самым невинным видом. — Возможно, так оно и есть, как вы говорите, потому что вам виднее, вы знаете законы… В таком случае прошу вас лично побеседовать с ним… — Но сейчас я беседую с вами, потому что нарушение допустили вы! — строго заметил помощник полицейского комиссара. — Так что соберите, как я уже сказал, все вещи и положите в сейф, а я их опечатаю. После этого вам надлежит подписать протокол. Петер Хинтц широко развел руками, как бы говоря, что он бессилен что-либо изменить в этом трудном положении, затем, еле волоча ноги, по-стариковски сгорбившись, пошел к витрине. Дрожащей рукой стал собирать все, что лежало там на серебряном подносе: перстни, крышки от часов, браслеты, монограммы, серьги. Потом вернулся и положил все это в сейф. Ангелеску стоял в стороне и ковырял спичкой в зубах, потешно перекосив лицо. Старый часовщик ни разу не посмотрел в его сторону. Занятый опустошением витрины и ее новым оформлением, он думал о том, что у него нет возможности предупредить господина Ганса фон Клаузинга. Ведь если бы господин подполковник знал, что в этот момент опечатывают его вещи, в сущности его личное имущество, события развернулись бы, конечно, совершенно по-иному. А так? Хинтц вынужден сложить все в сейф, подписать протокол и ждать конфискации… И что он скажет Клаузингу? Что не проявил твердости? Но разве можно проявлять твердость в отношении полиции? Теперь, когда Хинтц познакомился с помощником полицейского комиссара, он понял, что это действительно самый грубый, самый жестокий из всех служащих в полиции! Этот человек может зверски избить крестьянина на рынке только за то, что тот продал несколько пучков шпината или горстей фасоли, не предъявив квитанцию об уплате налога на торговлю. В это время зазвенел колокольчик над дверью, на пороге появилась запыхавшаяся мадемуазель Лиззи, в шелковом голубом платье и белых туфлях на высоком прямом каблуке, очень модных. Увидев ее, Ангелеску посторонился, чтобы дать ей дорогу, и проследил взглядом, как она идет к старому часовщику и целует его в лоб. Лиззи сразу заместила, что отец чем-то огорчен и встревожен, его потемневшее лицо свидетельствовало о том, что случилось что-то очень серьезное. — Что с тобой? — спросила она по-немецки, сильно обеспокоенная, и бросила быстрый взгляд на Ангелеску, понимая, что он причастен к тому, что произошло. — Лиззи, сходи, пожалуйста, к своему жениху, — Хинтц не хотел называть имя Клаузинга, — скажи ему, что вещи будут опечатаны… — Это еще что такое? — поразилась мадемуазель Лиззи и возмущенно уперлась руками в бедра. — На каком основании? — Я не все могу тебе объяснить. Передай ему то, что я тебе сказал, и попроси, чтобы он принял срочные меры… Мадемуазель Лиззи зашла в свою комнату, причесалась перед зеркалом, слегка подкрасила губы и заторопилась на поиски Клаузинга. Проходя через мастерскую, она даже не взглянула на Ангелеску.19
Немецкая комендатура размещалась в старом двухэтажном доме, на Главной улице, рядом с судом. Грязный, облупившийся фасад был увит плющом, и этот зеленый покров молодил его и даже делал кокетливым. Одно из немногих приличных зданий, не тронутых бомбежками, к тому же расположенное в центре, — это и определило решение подполковника Ганса фон Клаузинга, когда он подбирал помещение. В небольшом тенистом дворе, под старым абрикосовым деревом, стояли две немецкие машины с откидным верхом. Около одной сидели на канистрах два солдата в темно серых спецовках и чинили колесо. Третий, в серо-зеленом кителе, с расстегнутым воротом и в пилотке, надвинутой на лоб, расположился на крыле машины и, болтая ногами, развлекался тем, что наигрывал на губной гармошке. У ворот, перед будкой, окрашенной в серый цвет, с двумя широкими черными полосами, важно прохаживался часовой, невысокий белобрысый солдат, с голубыми глазами и белесыми бровями; на плече у него висел автомат. Мадемуазель Лиззи прошла мимо него стремительно, с высоко поднятой головой и неприступным видом. На часового она не обратила ровно никакого внимания. Немецкий солдат вздрогнул от удивления, но тут же встал по стойке «смирно», слегка наклонив голову в знак приветствия, и проводил взглядом «избранницу господина подполковника» — в таком качестве она была известна всей комендатуре. Он не без удовольствия отметил ее горделивую походку, высокие модные каблуки и не спросил у нее пропуска, хотя пропуск было положено требовать у любого, кто входит в комендатуру, и даже не поинтересовался, к кому она идет и зачем. Это было бы неслыханной дерзостью со стороны подчиненного господина коменданта, тем более что всем было известно его распоряжение касательно мадемуазель Хинтц. И если бы кто-нибудь по оплошности нарушил это распоряжение, его, без сомнения, ожидало бы довольно суровое наказание. В то тихое августовское утро Ганс фон Клаузинг находился у себя в кабинете. Он стоял у окна, обрамленного синими портьерами, чопорный и подтянутый, одна рука за спиной, в другой — зажженная сигарета, и обсуждал с начальником городской управы полковником Димитрие Жирэску вопрос об обеспечении немецких частей хлебом. — Ошень пльохой кашеств, господин полковник, — выговаривал ему Клаузинг, лениво затягиваясь, пуская колечки дыма и брезгливо морщась. — Мука пльохой… хлеп пльохой… Болит желуток… Германский зольдат долшен воевать, долшен иметь сила… Хлеп пльохой — сила пльохой… — Вы правы, господин подполковник, — поддакивал Жирэску, высокий, стройный, с седыми, гладко зачесанными назад волосами. В правом глазу у него был монокль, прикрепленный черным шнуром к одной из петель кителя. — Но, видите ли, — продолжал он, — снабжение города очень затруднено. Несколько дней назад я беседовал с главным комиссаром полиции Албойю, он заверил меня, что будет и впредь делать все возможное, чтобы каждое утро реквизировать все телеги и повозки, которые обнаружит на рынке. Только таким способом мы можем обеспечить перевозку муки на мельницу и завоз хлеба в город. Что же до качества муки, тот тут мы бессильны!.. — развел он руками. — Ошень пльохо! — сердито покачал головой Клаузинг. — Ошень пльохо… — Конечно, господин подполковник, я не спорю, но хорошо, что хлеб у нас все-таки есть. На днях хлебопекарня «Братья Графф» прислала в муниципалитет письмо, в котором говорится, что в дальнейшем из-за отсутствия воды и электричества — следствие воздушных налетов — они не смогут обеспечивать город хлебом. Кроме того, господин Графф жалуется, и он прав, что ему не выделили рабочих, и работать некому. — Забастофка? — поднял белесые брови Ганс фон Клаузинг, глубоко затягиваясь табачным дымом. — Расстрельять, расстрельять! — нажал он пальцем на воображаемую гашетку. — Это есть решение… — Речь идет не о забастовке, — попытался объяснить полковник. — Люди не хотят работать под бомбежками. Если бы хлебопекарня была военным объектом, тогда другое дело. К тому же там не всегда есть работа, а оплата у них поденная… — Тогда кто делать хлеп? — удивился Клаузинг и надменно посмотрел на Жирэску. — Германский войска долшен воевать, долшен иметь сила… — Я договорился с хлебопекарней «Братья Графф», они будут выпекать хлеб в пробной печи в селе Бистричоара и каждый день привозить в город по тысяче буханок… — Ошень карашо! — на этот раз остался доволен подполковник. — Ошень карашо! Все для германский армия… — О нет, господин подполковник, — вспыхнул Жирэску. — Хлеб, о котором я вам говорил, предназначен для гражданского населения. Люди в городе, что они едят? Мы постараемся выделить из этого количества приблизительную норму и для вашего гарнизона. — Что это — прибль… тель… — «Приблизительное» означает, что мы не можем назвать точную цифру, а будем выделять столько, сколько найдем возможным, — объяснил полковник, поправляя монокль в глазу. — Во всяком случае, мы не оставим без хлеба немецкие войска, дислоцированные в нашем городе. Это было бы смешно… — Да… да… ошень карашо продумаль… ошень карашо, — согласился Ганс фон Клаузинг. Подойдя к столу, он еще раз затянулся, затушил сигарету в металлической пепельнице, которая стояла у телефона, потом уселся на стул, вытащил очки и стал протирать их носовым платком. На несколько минут в кабинете воцарилось молчание. Через широко открытые окна снизу, со двора, долетали звуки губной гармошки, звучала немецкая песня. Где-то в порту басом промычал пароход, а мимо гимназии «Траян», неподалеку от комендатуры, с грохотом промчался поезд, сотрясая землю, а заодно и здание комендатуры так, что зазвенели стекла. Немного погодя, увидев на столе подполковника развернутую немецкую газету и пытаясь разобрать некоторые, наиболее жирные заголовки на ее страницах, полковник Жирэску счел уместным спросить Клаузинга, нет ли новостей в связи с покушением на Гитлера, которое было осуществлено 20 июля. — Все ошень карашо, — ответил Клаузинг, надевая на нос очки. — Фюрер есть немношко раньен, ошень немношко, он даже потом улыбаться и пригласить Муссолини для беседа. Был у фюрер и рейхсмаршал Геринг. Так пишет газета… — Значит, фюрер здоров? — Здороф. — А бандиты? — Что это такое… бандиты? — Те, которые стреляли… — В него не стрелять, — нервно поправил его Клаузинг. — Был подложен бомба с часами. — А эти, которые подложили бомбу, наказаны? — Да, — важно подтвердил подполковник и, развернув газету, постучал согнутым пальцем по одной из страниц. — Восьмой — пригофор… Трибунал великий рейха приговорил их на казнь. Восьмой август… смертный казнь. К смерть… ошень карашо… К смерть… Полковник Жирэску промолчал, кивком подтвердив, что понял, потом надел фуражку, собираясь уходить. Клаузинг сразу встал, одернул мундир и,убедившись, что черная лакированная пряжка на месте, вежливо и любезно улыбаясь, потянулся через стол и крепко пожал руку полковнику. — Не забывайть! — шутливо погрозил он пальцем и снова улыбнулся, в упор посмотрев на него сузившимися от злобы глазами. — Ошень карашо хлеб для немецкой армия… — Будем стараться, господин подполковник, — заверил его Жирэску, став по стойке «смирно» и поднеся руку к козырьку. — Большие трудности, я вам уже говорил, но примем все меры… — Ошень карашо… Ошень карашо… До сфидания… Только Жирэску успел выйти из кабинета, как открылась дверь и ураганом влетела Лиззи, не дожидаясь, пока о ней доложат. — Ганс, дорогой! — затараторила она по-немецки и небрежным жестом бросила сумку прямо ему на стол. — Я чувствую, что схожу с ума! Просто схожу с ума, понимаешь! Лицо Лиззи налилось кровью, стекла очков запотели, а на лбу выступили блестящие капельки пота. — Но что случилось? — поднялся он со стула, озабоченно подошел к ней и взял ее руки в свои. — Успокойся… — Ганс, полиция опечатала наши драгоценности в железном сейфе отца! — Что сделала? — не понял сначала Клаузинг и, силясь уяснить себе смысл ее слов, поднял брови и наморщил лоб. — Кто опечатал драгоценности? — Полиция! — Почему? — Не знаю. Пришел помощник полицейского комиссара, рыжий такой, мордастый, и приказал отцу собрать все с витрины, где у него выставлены золотые вещи, положить все в сейф с тем, чтобы их опечатать… И домнишоара Лиззи совсем вышла из себя от возмущения; она говорила, и кричала, и махала руками, и в какой-то особенно острый момент, стукнув металлическим пресс-папье по крышке чернильницы из бакелита, разбила ее. — Какой болван! — заключила она и все еще резкими движениями начала поправлять волосы, которые падали ей на глаза. — Кретин! — Успокойся, — убеждал ее Клаузинг. — Я приму срочные меры. Прошу тебя, успокойся, сядь… И чтобы показать, что будет действовать немедленно, он снял телефонную трубку и попросил соединить его с городской полицией.Через десять минут в кабинет главного комиссара полиции Албойю вошел слегка напуганный Ангелеску и выжидательно остановился у двери в положении, напоминающем стойку «смирно»; одну руку он вытянул вдоль тела, другой же, с платком, вытирал потный лоб. — Слушай, Ангелеску, какого черта ты самоуправствуешь, кто тебе разрешил ходить к часовщику Хинтцу и опечатывать его драгоценности или что там еще у него? — Здравия желаю, господин начальник, да никто мне не разрешал, я ни у кого и не спрашивал, — начал, заикаясь от волнения, Ангелеску и быстро сглотнул слюну, увидев, что грозный начальник полиции встает из-за стола и направляется прямо к нему. — Видите ли, я получил донос и… решил сразу принять меры… — А что, ты теперь все решаешь единовластно?! — дико заорал Албойю, и его заплывшие жиром черные глазки пробуравили Ангелеску насквозь; комиссар был готов убить помощника на месте. — Ты опечатываешь вещи в домах людей, связанных с рейхом? Да ты в своем уме?! — Но, господин главный комиссар… — Этот часовщик — их человек, понимаешь ты это или нет?! — Он кричал так, что оконные стекла дребезжали, как при землетрясении. — Что ты лезешь в их дела? Кто ты такой? — Закон, господин комиссар… — начал было оправдываться Ангелеску. — Вы же знаете, закон не разрешает… — Когда речь идет о немцах, наших союзниках, законы ломаного гроша не стоят, понял? Ты что, хочешь, чтобы этот фон Клаузинг… удалил нас, как гнилые зубы? Чтобы я потерял свое место из-за твоих идиотских выходок?! Ангелеску молчал, опустив голову. Он не смел шелохнуться, хорошо зная, на что способен главный комиссар в подобных обстоятельствах: закатит ему пару оплеух и даст коленкой под зад, а то и прикажет связать да послать в Бухарест, где ему учинят допрос за оскорбления, которые он якобы нанес начальству. Албойю не терпел ни малейшей инициативы, способной пошатнуть его личный авторитет. — Живо беги к часовщику, снимай пломбы с сейфа и проси извинения! — почти спокойно закончил главный комиссар, возвращаясь к своему столу. — Понял? Чтобы духу твоего здесь не было… Объясни, произошла, мол, ошибка, донос был на другого часовщика, говори, что хочешь, но чтобы вернулся и доложил, что все в порядке, ясно? — Ясно, господин главный комиссар! — Тогда — сгинь! — Слушаюсь! Но не успел Ангелеску открыть дверь, как Албойю остановил его: — А ну-ка погоди… — Слушаюсь, господин начальник! — Как продвигается дело Михая Георгиу? Ангелеску оцепенел. — Чего глаза пялишь? — снова вышел из себя комиссар полиции. — Я тебя спрашиваю, как продвигается дело Михая Георгиу? Ты что, не помнишь? Сын учителя истории из гимназии «Траян». Тот, что сбежал из немецкого лагеря. — Помню, помню, господин начальник, ведь я и занимаюсь этим вопросом… — А если занимаешься, то почему, черт побери, ты смотришь на меня, как баран на новые ворота? — рявкнул начальник полиции и тяжело плюхнулся на стул. — Ну, так какие у тебя на этот счет новости? — Господин начальник, нет у нас никаких новостей, — робко заблеял Ангелеску, и на лице его было написано: «Не знаю я, где этот парень, хоть режьте, не знаю!» — Мои люди рыскали повсюду, всех опрашивали, ничего! — Что говорят соседи? — Никто ничего не знает. Они его не видели вот уже два года. — А если он дома прячется? — Исключено, господин начальник, — убежденно сказал Ангелеску. — Это было бы большой оплошностью с его стороны! — Пока все это большая оплошность с нашей стороны, — сурово возразил главный комиссар полиции. — Или, лучше сказать, преступная небрежность. Дело поручено тебе. И ты должен был принять все меры, чтобы поймать преступника. Сразу после того, как я вызывал его отца… — Господин начальник, разрешите доложить, у нас ведь нет никаких данных о том, что он действительно появился в городе, — упорно защищался Ангелеску. — Мы знаем только, что он сбежал из лагеря… Но ведь земля велика, неизвестно, в какую именно сторону он подался… Зачем делать шум из ничего? — Какой шум, болван, какой шум? — гаркнул комиссар полиции и снова поднялся во весь свой внушительный рост. — Разве полиция должна шуметь, когда кого-то преследует? Разве мы имеем право рассуждать, мог ли он появиться в городе, велик ли мир? Как ты можешь нести такую чушь?! Мы должны выполнить свой долг, проверить, расследовать, принять меры, понятно? Хочешь, чтобы немецкий комендант посчитал нас абсолютно беспомощными? Ты хорошо знаешь, он интересуется этим делом… — Знаю, господин начальник… — Ну так что же ты? Он мне звонил несколько минут назад насчет ляпа, который ты допустил, и заодно поинтересовался, как идет расследование, касающееся Михая Георгиу. Что я мог ему сказать? Ничего! Потому что ничего нет у тебя в голове, там пусто. Понял? — Понял, господин начальник, — кивнул Ангелеску и решился наконец вытереть лоб, пот заливал ему глаза и мешал смотреть на Албойю. «Шеф сегодня не в духе, — размышлял он, — плохо приходится подчиненному, когда не везет начальству. То ли он проиграл вчера в покер, то ли жена аптекаря завела себе нового любовника». — А раз понял, действуй! Возьми в прокуратуре ордер на обыск и в ближайшие два часа обыщи, весь их дом, все переверни вверх дном. Может, найдешь хоть какой-нибудь след… — Ясно, господин начальник. Разрешите идти? — Давай поворачивайся, черт бы тебя побрал! Потом напишешь мне рапорт о результатах обыска, и мы его направим к немецкому коменданту. Повторяю: подполковник Клаузинг лично интересуется этим делом!
20
Влад Георгиу сидел за столом, в тени вьющейся виноградной лозы, и читал газету. Он был очень озабочен ходом событий на фронте. Интересовали его и дипломатические переговоры, и новости театральной жизни, и сообщения о преступлениях, катастрофах — словом, все, что можно почерпнуть из газеты, даже если она поступает в городской киоск с опозданием на несколько дней. Рядом в шезлонге, штопая чулки, сидела его жена Ана. Их племянник Костел копал около ножек стола маленькие траншеи, наполнял их водой и накрывал осколками стекла, которые подобрал на улице у разрушенных домов. В комнате, выходящей окнами на улицу, играла на пианино Дана. — Подорожали ткани, — заметил Влад, листая газету. — Об этом написано в газете? — удивилась Ана. — Да, в виде рекламы на эти товары… Такая реклама только отпугивает покупателей! — Жизнь дорожает с каждым днем, — вздохнула Ана, торопливо работая иголкой. — Знаешь, сколько стоит килограмм свинины? Почти триста лей. А о подсолнечном масле мы и не мечтаем! Его и по карточкам нет. Сейчас уже август, а мы не получили масла даже за апрель! — Я слышал, его выдают в отделе рабочего снабжения общественных организаций, — сказал учитель, поднимая глаза от газеты. — Говорят, они сегодня получили целую бочку. — Надо попросить Санду, чтобы он нам достал хоть литр, — решила Ана, и эта спасительная мысль осветила ее лицо. — Завтра утром отдам ему наши карточки… И жир невозможно достать… На чем готовить? Дана услышала этот разговор и поняла, что отец читает газету (достать газету в городе было очень трудно); она закрыла пианино, спустилась во двор и, взяв скамеечку, села около матери. — Смотрите, наш город попал в список наиболее пострадавших от бомбежек! — неожиданно воскликнул Влад и, поправив очки, склонился над газетой. — Кроме Турну-Северина здесь названы Плоешти, Брашов, Яссы, Крайова. Стоит подпись самого Антонеску. — Он может подписать сколько угодно сообщений, — вступила в разговор Дана и, движением головы отбросив волосы назад, взяла из подола матери носок, иголку с ниткой и тоже стала штопать. — Это никоим образом не облегчит человеческие страдания! Влад вздрогнул, как от удара током, отложил в сторону газету и долго, пытливо смотрел на дочь. Она опять не соображает, что говорит! Высказывается на политические темы, когда он тысячу раз ее предупреждал, чтобы она и думать об этом забыла! — Ты что там болтаешь, дочка! — упрекнул он ее. — Хочешь попасть в новую историю? — Болтаю? — удивилась Дана. — Вовсе нет. Я хочу сказать, что не было бы у нас таких бедствий в перечисленных городах, если бы у власти не стояли нынешние правители! — Трагедии, которые ты имеешь в виду, произошли не по вине правителей, а в результате бомбежек… — Если бы они вели другую политику, не было бы и этих бомбежек, в этом суть! — стараясь выразиться яснее, уверенно заявила Дана. Влад не знал, что и думать, он был страшно встревожен, даже напуган. «Что с ней? Какие глупости вбила она себе в голову? И ее ведь не переубедишь… Неизвестно, что еще она может выкинуть, и вряд ли я смогу ее спасти, как спас тогда, после спора с учительницей немецкого». — Зря ты на меня сердишься, папа, — продолжала Дана, не поднимая головы и делая вид, что занята только штопкой. — Посуди сам: политика нынешнего режима привела страну к войне, а война повлекла за собой бомбежки. Разве это не логично? Мы что, дураки, чтобы поверить, будто народ хотел войны? Будем серьезны… Никто не взял винтовку в руки и не сказал: «Гей, ребята, гей, жизни не жалей! Умрем за короля, за родину, друзья!» Так поется только по радио. — Хватит! — внезапно гаркнул Влад и вскочил. — Ты что, рехнулась? — Он посмотрел вокруг, чтобы убедиться, что никто из соседей не слышит эти крамольные речи. — Хочешь попасть под трибунал? Кто тебя научил так разговаривать? Ты слышишь, Ана? Слышишь, что она несет? Подумай только, что у нее в голове! Какой чудовищный вздор она мелет!.. Он был потрясен до глубины души, лицо у него горело, очки съехали на нос, подбородок слегка дрожал. Ана отложила штопку и молча, озабоченно посмотрела на Дану. Что она могла сказать? Как повлиять на дочь? — Твоему брату тоже нечем было заняться, на него тоже напал политический зуд, вот он и стал дезертиром, а полиция бродит по его следам, — сердито, не повышая голоса, чтобы кто-нибудь не услышал, внушал Влад. — Господи, что за детей ты мне послал! Каких неразумных детей! — А ты, папа, разве не занимаешься политикой? — отважилась спросить Дана и отложила работу, решив довести разговор до конца. — Ну скажи, не занимаешься? — Я-а-а-а? — Влад поднял брови и онемел от удивления. — Я — и политика? Что за ахинея? Ты в своем уме или нет? — Я в своем уме. В полном здравии. И отвечаю за свои слова… — Почему же ты болтаешь всякую чуть? Откуда ты взяла, что я занимаюсь политикой? — Активно ты себя никак не проявлял, это правда, — спокойно сказала Дана, — но тот факт, что ты молчишь и не высказываешься против бесчеловечных порядков, которые существуют в стране, означает, что ты оправдываешь режим Антонеску. Ты его оправдываешь молча. Разве это не политика? Разве твоя терпимость к этой трагедии — и прошу тебя, будь искренним, ты ведь прекрасно понимаешь, что это действительно трагедия, — разве твоя терпимость не означает, что ты на стороне тех, кто в ней повинен? Ну, что ты об этом думаешь? Влад стоял у стола, скрестив руки на груди, в глубоком молчании, растерянный, как громом пораженный. У него было такое чувство, что его ударили чем-то твердым по голове, все плыло перед глазами, почва уходила из-под ног, он не мог выговорить ни слова. И это он слышит от родной дочери? Его дитя! Дана, самый послушный ребенок на свете!.. Они относились к детям с таким вниманием, отдавали им все свободное время, воспитывали в них послушание, уважение к взрослым, скромность, добросовестность в учебе, воспитывали так, чтобы в будущем их не коснулись превратности судьбы, чтобы они прошли по жизни, не шарахаясь из стороны в сторону, не вмешивались в дела, которые их не касаются. И вот, пожалуйста, чем полны ее мысли! Он даже не знал, что и сказать. Он никогда не брал ничью сторону, конечно, занимал активную позицию, только если кто-нибудь грубо нарушал школьную дисциплину или поступал явно несправедливо, это верно. Но разве это можно квалифицировать как политику? По-ли-ти-ку, ни много ни мало… Как соглашательство с правительством? И разве есть хоть один человек в стране, который мог бы открыто заявить о своем несогласии с политикой верхов? — У тебя вообще нет своего мнения, папа? — через некоторое время спросила Дана и, увидев валяющуюся на столе газету, отложила носки, собрала разлетевшиеся страницы и принялась их листать. — Может быть, ты и не хочешь его иметь? Отец, не обратив внимания на иронию дочери, повернулся к ней спиной и решительным шагом направился к дому. Но решительность эта была чисто внешней. На самом деле он был растерян, его осаждал рой недоуменных вопросов. Он жил неправильно? А как надо было жить? Разве он не мучился, разве не точил его червь сомнения, когда он смотрел на все, что происходило вокруг, разве не охватывали его страх, беспокойство и неуверенность в завтрашнем дне? Но что мог он изменить, что сделать? И кто он такой, чтобы осмелиться дерзать? Было ли ему это предназначено судьбой? Хватит ли у него твердости духа? Дана несколько секунд смотрела отцу вслед, потом уткнулась в газету. Она была довольна собой: ей удалось наконец заставить отца задуматься над своим поведением. Боже правый, неужели ее отец — никчемный человек? Интеллигент такого масштаба, такой эрудиции, человек, не раз проявлявший страстную непримиримость и независимость в суждениях, — на это ведь нужен характер! — чтобы такой человек спокойно довольствовался скромной ролью статиста на сцене, где идет потрясающая драма? Ничего, ему пойдет на пользу холодный душ! Он пробудит сознание и прояснит видение мира… Мать прервала работу, и весь ее вид говорил о том, что она тяжело переживает. — Да разве можно так разговаривать с папой? — положила она свою руку на плечо дочери. — А как я разговаривала? — Дана подняла глаза от газеты. — Сказать, что он занимается политикой!.. Да как можно? Ты хорошо знаешь, он не состоит ни в одной партии. Тем более что партии, насколько мне известно, уже несколько лет как распущены… — Не обязательно, мама, состоять в партии для того, чтобы заниматься политикой, — ответила Дана и резко отвернулась, давая понять, что ее эта тема больше не интересует. И опять уткнулась в газету. — Ах, — радостно воскликнула она, — посмотри-ка, в Бухаресте, в «Кассандре», новый фильм с Алидой Валли… «Я буду тебя любить вечно…» В нем еще участвуют Антонио Чента и Джино Черви. Какая жалость, что кинотеатры у нас закрыты!.. Уф, когда это кончится, меня бесит, что электричества и того нет! Видишь, что значит война? — снова разгорячилась Дана. — Что она нам принесла? А отец… — Ну ладно, ладно, — успокаивала ее Ана. — Если бы только эти заботы… А то сколько всего на нашу голову! В глубине сада появилась тень и легкими шагами стала приближаться. Это была тетя Эмилия в своем выгоревшем ситцевом платье и рваных войлочных туфлях. Поседевшие волосы распущены, лицо бледное, прорезанное глубокими морщинами. Она неотрывно смотрела вверх, пытаясь сквозь густую листву увидеть небо. Молитвенно сложив руки на груди, она тихо шептала слова, никому не известные и неведомо откуда взятые:21
Михай сидел в сырой комнатке, при свете лампочки, прикрытой газетным листом, и делал заметки в блокноте, редактируя сводку последних известий, которые он прослушал по радио. Кончив работу, он взглянул на часы. Подошло время передачи радиостанции «Свободная Румыния». Он закрыл блокнот и склонился над радиоприемником, ища нужную волну. Звуки были тихие, он боялся, как бы его не услышал часовой на улице или кто-нибудь, кто проходит в это время мимо склада. Настраиваться надо было очень тщательно, чтобы голос диктора был слышен отчетливо. Только Михай собрался настроиться на волну радиостанции «Свободная Румыния», как кто-то постучал в дверь. Михай вздрогнул, но тут же успокоился. Это, конечно, капрал Динку принес ужин. И правда, дверь приоткрылась, и появился Динку, держа в руках котелок с перловым супом; из-под кителя он вынул кусок черного, ноздреватого, будто выпеченного из одних отрубей хлеба. — Как дела? — поинтересовался он и бережно опустил котелок на ящик из-под боеприпасов. — Хорошо, — кивнул Михай и, оставив приемник, поспешил к капралу. — Я собирался настроиться на волну «Свободной Румынии». — Что нового? — спросил капрал. — Советская Армия наступает на всех фронтах. — А как дела в районе Молдовы? — Ничего особенного. Идет перестрелка. Хотя, мне кажется, там что-то готовится… Посмотрим, что передаст Москва… — Что еще? — Разные международные новости, — шепотом продолжал Михай. — Маршал Маннергейм стал президентом Финляндии. Те, кто покушались на Гитлера двадцатого июля, приговорены к смертной казни. Во Франции дело идет к освобождению Парижа. Эту новость передали из Алжира… Я все записал. — Хорошо, — торопливым шепотом сказал капрал, и Михаю показалось, что он хочет побыстрее закончить разговор. — Когда будет передача? — Через четверть часа. — Знаешь, у вас дома побывала полиция, — сказал Динку, усаживаясь на жестяной бидон, который служил стулом. — Когда? — Несколько дней назад. — И что там произошло? — Ничего. Обыкновенный обыск, они просто перевернули все вверх дном… — Ах, как хорошо, что я вовремя ушел! — обрадовался Михай. — Теперь я в безопасности. Как мне отблагодарить вас, Динку? Просто не знаю… — Оставь, Михай. Давай ешь, а я тебе кое-что расскажу и сделаю одно предложение… Михай повернул ручку приемника, звук стал совсем тихим. Еще раз посмотрел на часы, взял котелок и принялся с аппетитом есть перловый суп. Динку подсел к нему поближе, провел рукой по лицу, помолчал, опустив голову, стараясь сосредоточиться. Потом начал излагать Михаю просьбу. Ему нужно что-то вроде мины, это может быть простая жестяная коробка с тротилом. Через несколько дней предстоят учения на тему «Рота в атаке», и надо, чтобы взрыв на условной территории противника создал иллюзию массированного артобстрела; он должен быть как можно более эффектным и правдоподобным… Михай слушал капрала, улыбаясь уголками рта, медленно и задумчиво помешивая ложкой суп. Он, конечно, не верил тому, что говорил капрал. Очень уж все было шито белыми нитками, как Динку ни старался,чтобы его объяснения выглядели убедительными. «Почему он так темнит? — спрашивал Михай себя, немного раздосадованный поведением Динку. — Из этого предложения ясно вырисовывается его подпольная деятельность. Зачем пытаться ее скрыть? Неужели он считает меня таким наивным, думает, я не разгадаю, что ему нужно, чем он занимается и к чему стремится? Неужели он не доверяет мне?.. Он ведет себя осторожно, и это совсем неплохо. Но неужели он не понимает, что именно за эту деятельность, за поддержку честных людей, антифашистов, я его уважаю и ценю? Или он думает, что я его предам? Не понимает, что я больше, чем он, ненавижу немцев, что для этого у меня есть все основания? Как видно, он еще не доверяет мне… Все-таки ему надо бы лучше разбираться в людях… Как я могу ему повредить, находясь здесь? Ведь я ни с кем не вижусь, моя судьба в его руках…» — Ну что скажешь, Михай, поможешь сделать такую мину? — спросил капрал и положил руку на плечо Михаю. — Хочешь, чтобы рота, в которой я служу, хорошо провела учение? Будут и господин младший лейтенант Ганя, и инспекция… Ты ведь, кажется, знаком с саперным делом?.. — Да, знаком, — подтвердил Михай, — и вам помогу. Только я хочу, если разрешите, задать один вопрос. Можно? — Пожалуйста… — Видите ли, мне, в сущности, должно быть совершенно безразлично, почему с просьбой изготовить мину вы обратились ко мне. Я ее сделаю, и все. Для чего, почему, меня не касается! Благодаря вам я сегодня в безопасности, укрыт от гестапо и румынской полиции, и не сомневайтесь, я сделаю все, что вы скажете. И мне не нужно ничего объяснять про военные учения в роте, инспекцию и тому подобное, по-моему, это лишнее. Я уже сказал: я вам многим обязан, поэтому я целиком в вашем распоряжении. Но… вы меня слушаете, господин капрал? — Конечно, слушаю… — ответил Динку, не очень понимая, куда клонит Михай и что его обидело. — Как я уже говорил, меня не должны интересовать смысл и значение ваших просьб. И все-таки кое-что меня не устраивает… — Что именно? — Почему у вас нет ко мне доверия? Вы считаете, я наивен, не понимаю некоторых вещей, мне чужды ваши мысли и ваша деятельность? — Я не понимаю, чего ты хочешь. — Динку всем своим видом показывал, что относится к разговору очень серьезно. — Прошу тебя, выражайся яснее… — Постараюсь, — согласился Михай и осторожно отодвинул котелок. — Понимаете, господин капрал, я из семьи интеллигента, вы знаете, хотя бы по слухам, что мой отец против того, чтобы мы, его дети, вмешивались в политику. Эти принципы он внушал мне и моей сестре еще в ту пору, когда мы только-только начали разбираться в окружающем. С этими принципами я уехал в военное училище в Германию. Меня послали — так будет точнее. Послали против моей воли. Я уехал в приказном порядке. Здесь мне говорили одно, в Берлине я увидел совершенно другое. Дело в том, что в среде командного состава и даже моих коллег, курсантов училища, существует твердое мнение, что мы, румыны, им не союзники, как об этом трубят на всех перекрестках наши и германские государственные деятели, мы их вассалы и должны быть вечно признательны за то, что они защищают нас от «большевистского варварства», под которым подразумевается Советский Союз, и, сверх того, приобщают к своей высокой культуре. — Говоря это, Михай все больше горячился. — Очень интересно! — Там, в Германии, я понял истинное положение вещей. Я люблю мою страну, где родился и вырос, люблю свой народ, оскорбленный и униженный теми, кто идет рука об руку с Гитлером. Меня самого унижали и били по щекам немецкие инструкторы. И я сидел в лагере под Бременом, где каждая минута жизни могла быть последней. Я мог погибнуть, если бы вы не проявили такой доброты, не спрятали меня. И во мне накопилось столько ненависти к фашизму, такая жажда мщения… — Михай сделал глубокий вдох и продолжал: — Таковы мои убеждения, господин капрал, мое отношение к режиму Антонеску и к немцам, и вы это знаете; я сразу понял, и мне было приятно сознавать, что мы с вами одинаково думаем, поэтому меня удивляет ваша сдержанность, то, что вы скрываете от меня вашу деятельность, в которой мог бы участвовать и я. Динку молчал. Взволнованный, он смотрел на Михая теплым взглядом, в котором светилась симпатия. После каждой беседы с Михаем к его портрету в сознании Динку прибавлялся новый штрих. Сейчас этот портрет обрел глубину и заиграл всеми красками. Динку был страшно рад, почувствовав в Михае единомышленника, соратника по борьбе, и в горячем порыве готов был обнять его, поцеловать, как брата, взять за руку и показать путь, по которому он должен теперь следовать. Его путь и путь многих других… Но разве мог Динку сделать это в таких трудных условиях? Разве мог раскрыть себя, задачи, которые поставила перед ним городская организация коммунистической молодежи, цели их подпольной борьбы? Это было рискованно. Михай восстал против тех, кто унизил его достоинство, но пока этим все и ограничивалось. Сможет ли он подняться до марксистско-ленинских идей? Вот вопрос, от которого будет зависеть его вступление в ряды коммунистической молодежи. — Ну, что скажете, господин капрал? — спросил немного погодя Михай и взглянул на Тудора Динку. — Ты совершенно прав, Михай, — ответил капрал. — Конечно, каждый честный человек не может не видеть пропасти, в которую мы катимся, бедственного положения страны, в котором повинен Антонеску. И люди не сидят сложа руки, а действуют, ищут путь к победе. — Вы тоже ищете, действуете? Предпринимаете какие-то конкретные шаги? — И да, и нет, — перешел на совсем тихий шепот Динку. — Что-то, конечно, мы делаем… Как я уже говорил, патриоты озабочены судьбой страны, ищут пути борьбы… — Сводки радиопередач могут облегчить эти поиски? — Михай многозначительно улыбнулся. — Конечно… — Во всяком случае, эти настроения желательно распространить как можно шире, и прежде всего среди военных, — подчеркнул Михай. — И мне кажется, у вас есть все данные, чтобы вдохновлять людей на такую работу… — Развернуть работу в казарме — дело нелегкое, — попытался уйти от ответа Динку. — Условия определяют многое… — И все-таки условия должны быть подчинены цели, — настаивал Михай. — Иначе мы останемся рабами условий, ничего не добьемся и никогда не пристанем к берегу. Вы не согласны? Люди нуждаются в организации, кто-то должен указать им правильный путь, о котором вы только что говорили. Я встречался со многими, когда пробирался на родину; все кипит, мы живем на вулкане, и лава может хлынуть в любую минуту, горячая, раскаленная лава… Так больше невозможно, понимаете? Невозможно! Он замолчал и стал помешивать ложкой остывший перловый суп. Отломил кусочек хлеба и задумчиво принялся за еду. — Я подумаю обо всем этом. — Динку поднялся: ему пора было уходить. — А пока я хотел бы, чтобы ты приготовил мне байку со взрывчаткой. — Хорошо, — ответил Михай и тоже встал. — Тем более, — добавил он с улыбкой, — что учения не состоятся, если не будет подготовлен… «артиллерийский обстрел». Капрал улыбнулся, пожал ему руку и пошел к двери. — Да, чуть не забыл! — оглянулся он с порога. — Что тебе нужно, какие материалы? — Ну, железная коробка, будильник, четверть килограмма тротила, бикфордов шнур, немного проволоки, это пока все… Может, и еще что-то, там посмотрим. Когда все должно быть готово? — Ровно через два дня. — Если завтра я получу то, что просил, все будет готово вовремя. Разве учения могут пройти без этого сценического эффекта? Капрал снова засмеялся, потом напомнил ему, что он не должен пропустить передачу радиостанции «Свободная Румыния», коснулся двумя пальцами пилотки и вышел, осторожно прикрыв дверь, чтобы не услышал часовой, который расхаживал около склада.22
К вечеру Санду проснулся и спрыгнул с кровати. Он проспал два часа в жаркой, душной комнате и теперь чувствовал себя разбитым. Сняв рубашку, бросил ее на стул и вышел во двор. Уже ощущалась вечерняя прохлада. Солнце село за крыши домов, и в синеватых сумерках горела только рыже-красная полоса вдоль горизонта. Он взял из шкафа жестяную кружку и пошел к бочке с дождевой водой. Зачерпнул тепловатой воды и стал умываться. Вытерся полотенцем и хотел было войти в дом, но остановился и прислушался. В соседнем дворе, у Георгиу, звучала музыка. Дана играла на пианино, и через открытые окна плыла мелодия Шумана. Санду приблизился к забору, приподнялся на цыпочки и несколько минут смотрел на окна, где за шелковой занавеской слабо вырисовывался силуэт девушки, потом пошел в свой дом. Повесил полотенце, снял с плиты кастрюльку, в которой осталось от обеда немного зеленой фасоли, поставил ее на стол, на деревянную подставку, нашел в шкафу ломоть черствого хлеба и начал есть. Было не очень вкусно, поварского опыта у него не хватало, но что оставалось делать? Иногда ему помогала Дана, а иногда ее мать тайком от соседей приносила тарелку борща. Но чаще Санду готовил сам, вечером после работы, предварительно зайдя на рынок. Сумерки сгущались. В комнатке, которую незадолго до своей смерти его мать переделала в кухню, было жарко и пахло едой. На потолке и стенах чернело множество мух, одни замерли в ленивой неподвижности, другие суетливо метались, и это действовало ему на нервы. Санду попытался их выгнать, энергично помахав полотенцем, но безуспешно. Окно он оставил открытым, чтобы проникал вечерний воздух. С улицы доносился замирающий шум города, который готовился ко сну. Прибрав на кухне, Санду посмотрел на часы с почти стершимся циферблатом и подумал, что до встречи с Пиусом остается час. Пиус кончал работу в четыре, потом собирался пойти в спортзал позаниматься боксом, затем — домой, поесть, а ровно на половину девятого вечера у них была назначена встреча. «Интересно, принесет ли Валериу взрывчатку? — одеваясь, гадал Санду. — Он сказал, что план операции хороший, все зависит от того, как мы его выполним…» От этих мыслей юноша пришел в легкое возбуждение, сердце его сжалось, потом забилось сильными толчками. Ему и раньше не раз приходилось испытывать довольно сильное душевное волнение, однажды он участвовал в тайной операции на немецком судне «Кеплер», но это было давно, и он об этом почти забыл. Сейчас Санду испытывал особое чувство, вероятно потому, что впервые шел на дело, связанное с большим риском. «Главное, не распускаться, — сказал он себе. — Если будем действовать спокойно, осторожно, не суетясь, все будет в порядке». Он выложил из карманов брюк документы и все лишнее. С собой взял только перочинный нож. Поискал и нашел в одном из ящиков немецкий электрический фонарик, который купил ему отец. Фонарик работал не на батарейке, а от непрерывного нажатия рычажка. Работал прекрасно; фонарик шутливо называли «труд и свет», потому что его все время нужно было сжимать и разжимать, единственным же недостатком его было то, что он, как кофемолка, достаточно сильно шумел. Санду ничто больше не задерживало; он запер дверь кухни и входную дверь, а ключи спрятал за цветочным горшком, который стоял у крыльца, и вышел на улицу, совершенно пустынную. Уже стемнело. Дома с опущенными шторами слились с окружающей темнотой, утонули в ней. Санду прошел мимо калитки учителя, но, услышав звуки пианино, повернул обратно и осторожно, стараясь остаться незамеченным, вошел в соседний двор. — Дана! — прошептал он, подойдя к открытому окну. — Дана, ты меня слышишь? Дана вскочила и подбежала к окну, чтобы посмотреть, кто ее зовет. Она была в халате, волосы собраны под школьной сеточкой. — Чем занимаешься, принцесса? — засмеялся он и, поднявшись на цыпочки, взял ее за руку. — Развлекаешься? — Упражняюсь! — ответила она, капризно надув губки и изображая избалованного ребенка. — Почему ты зовешь меня принцессой? Подражаешь Штефану? — Да, — признался Санду, — люблю умные комплименты и охотно их повторяю. — У тебя нет воображения! Придумал бы что-нибудь более удачное или уж прямо зачислил бы меня в королевы… — Да, у меня нет воображения!.. — Куда уходишь на ночь глядя? — К другу… Во дворе послышались шаги. Кто-то шаркал тапочками по мелкому гравию. — Уходи, — прошептала Дана, — пока отец тебя не увидел. — А что такого, если и увидит? — Ты же его знаешь… У него железные принципы. — Хорошо, ухожу. Из-за угла дома показалась тень. Это была Эмилия, она шла медленно, осторожно, словно боясь потревожить чей-то сон, сложив руки как для молитвы. Дойдя до ворот, она повернула и исчезла в темноте. — Бедняжка, — сказала тихо Дана, — так вот и ходит день и ночь. Совсем не спит… — Уже поздно, я пошел, Джульетта! — пошутил Санду. — Ромео целует тебя!.. Он быстро вышел за калитку, помахал рукой и исчез в темноте. Дана еще немножко постояла, облокотившись о подоконник, наслаждаясь ночной прохладой, потом возвратилась в комнату и опять уселась за фортепьяно. Санду встретился с Пиусом в назначенное время, на пустыре, позади церкви. Боксер был в легкой синей майке и полотняных брюках, на ногах рваные теннисные туфли, перевязанные шнурками у лодыжек. Он был потный, раскрасневшийся; широкая, сильная грудь мерно ходила, как кузнечный мех. — Ну и пробежка, будь здоров! — отдувался он, вытирая со лба пот. — Понимаешь, я пошел на тренировку, ждал, ждал, вижу, тренер не идет, и отправился домой. А тут отец с работы вернулся. Заставил рыть ямы позади дома, чтобы вкопать столбы для забора, забор два месяца как упал, и куры гуляют прямо в поле… Ну и намахался я ломом! — заключил он, все еще тяжело дыша. — Думал, помру, так бежал, я ведь знал, ты меня уже ждешь… Давно пришел? — Несколько минут назад… Санду с восхищением смотрел на него, он очень ценил их дружбу. Пиус был первым, кого Санду встретил, когда перешагнул порог слесарной мастерской, их верстаки оказались рядом, они держали одежду в одном шкафу, вместе шли в столовую, когда гудок судоверфи возвещал о перерыве на обед, и так же неразлучны были в парке, на стадионе, на матчах по боксу, когда выступал Ромикэ. Санду был самым горячим его болельщиком. Когда Ромикэ наносил точный удар противнику, Санду оглушительно бил в дырявую сковородку и кричал сколько хватало сил, увлекая за собой галерку: «Давай, парень! Давай, засвети ему! Отделай так, чтобы мать родная не узнала, дава-а-ай!» А когда Ромикэ одерживал победу, энтузиазм Санду не знал границ. Он прыгал от радости, неистово аплодировал, и, глядя на него, аплодировали другие. — Пока не пришел Валериу, пойдем выкурим по сигарете… — предложил Ромикэ и потянул Санду за руку. Они направились к телеграфным столбам, сваленным позади церкви. Уселись. Ромикэ вытащил пачку, предложил закурить и Санду, но тот отказался, и тогда он закурил сам. Закурив, зашвырнул погасшую спичку и задумчиво сделал первые затяжки. — Знаешь, что случилось сегодня после того, как ты ушел? — Ромикэ подсел поближе к Санду, чтобы можно было говорить шепотом. — Нет… — У нас есть паренек в кузнечном цехе, маленький такой, щупленький, чернявый… — Юликэ? — Да, Юликэ. Он из села Балотешти, ну, оттуда, из-за холмов. Живет в общежитии судоверфи. — И что с ним? — Подзывает его дядя Чинкэ, мастер, и говорит: «Эй, парень, возьми ведро и дуй к динамо-машинам, попроси там у ребят, пусть они тебе отольют электротока, скажи, мастер прислал». — Он и пошел? — Пошел. Ну и дали они ему взбучку! «Откуда желаете: из крана? из котла?» — измывались они. Кто-то даже схватил палку — и ну за ним… — Злая шутка, что и говорить! — неодобрительно заметил Санду. — Со мной вначале тоже пытались проделывать такое. Но не вышло, да и отца побоялись. А этого беднягу Юликэ кто защитит? Они помолчали, прислушиваясь к ночной тишине. Из-за купола церкви выкатилась медная тарелка — большая круглая луна. И все осветилось, как при восходе солнца. Стали хорошо видны халупы на пустыре, крытые дранкой, покосившиеся, осевшие, с окнами в ладонь, там жил бедный люд, грузчики и извозчики, которые едва перебивались с хлеба на воду. Южнее чернело здание фабрики искусственного льда, от которой шло одуряющее зловоние. — Если будет так светло, мы влипли! — Ромикэ жадно затянулся, озабоченно глядя на огромный диск луны. — Прямо как днем. Первый же полицейский перестреляет нас, как зайцев… — При луне лучше, — возразил Санду. — Легче ориентироваться, не заплутаем… Тебе страшно? — Мне? — Ромикэ повернул голову: — Нет, но мне не хотелось бы попасться. — Главное, чтобы сработала мина. Вот тогда все будет в порядке. — Не хватало, чтобы мы прогулялись впустую! Ромикэ еще раз затянулся, щелчком отбросил окурок, который, описав широкую дугу, упал довольно далеко, так что Ромикэ многозначительно посмотрел на Санду, давая понять: вот, мол, какой он молодец, лихо бросает. В этот момент из-за угла церкви кто-то появился. Когда человек оказался на освещенном луной месте, Санду толкнул локтем Ромикэ… — Валериу… — Да, фигура и походка его, — согласился Ромикэ. — Слушай, он военный? — шепотом спросил боксер. — Я припоминаю, он работал в мастерских. Внешность его мне знакома… — Не знаю, может, и военный… — А я почти уверен. Ты разве не заметил, он ходит в военной рубашке, на груди номер, черт его знает, что за номер, разглядеть невозможно, вылинял при стирке. — Ну, военные рубашки сейчас носят все мужчины, кто мобилизован, кто на сборах, — сказал Санду и, закрыв нож, положил его в карман. — Разве поймешь? Человек пересек пустырь, и теперь можно было разглядеть его лицо. В самом деле, это был Валериу. Как всегда, в белой полотняной рубашке, темно-синих узких брюках, в сандалиях. — Привет! — сказал он шепотом и остановился. Он нес старый портфель, видимо довольно тяжелый. — Вы готовы? — Готовы, — ответил Санду и встал. За ним поднялся и Ромикэ. — Вы знаете, как действовать? — все так же тихо спросил Валериу и огляделся, желая убедиться, что за ним никто не следит. Пустырь был безлюден, не было видно никого и около церкви. — Здесь, — показал он на портфель, — взрывчатка. Заряд достаточно мощный. Придется попыхтеть, пока дотащите до места. Поезд проследует через два с половиной часа, то есть в одиннадцать десять. Товарный состав, сорок восемь платформ… — Разве их не семьдесят? — удивился Ромикэ. — Ведь говорили… — Нет, сорок восемь, с танками и бронемашинами. Накрыты брезентом. Вы заложите взрывчатку только после одиннадцати вечера, договорились? В это время состав выйдет со станции, без остановки минует Шимиан и, сбавив ход, пойдет под уклон у Балоты. Тогда мы можем быть уверены: раз ему дали зеленую улицу, другой поезд раньше его не пойдет. — Порядок, — сказал Санду, беря портфель у капрала. — Ого, какой тяжелый! — Он с любопытством приоткрыл портфель, заглянул внутрь и потрогал лежащий там сверток. — Вы знаете, как обращаться со взрывчаткой, — продолжал Тудор Динку. — Думаю, вы не забыли то, о чем мы договорились. — Нет, не забыли… — Найдите подходящее место, заложите под рельс мину. Проверьте запал, плотно ли сидит. Правильно установите детонатор. Колеса паровоза надавят на детонатор, он сработает, мина взорвется, и три-четыре вагона взлетят на воздух. Смотрите отбегите вовремя… В мине мощный заряд тротила… — Ясно, товарищ Валериу, — сказал Ромикэ. — Я только хочу спросить, точно ли, что состав пройдет именно в это время. — Да, точно, — заверил его капрал. — Операция подготовлена товарищем Молнией, все тщательно проверено… — Чего там, все ясно! — вставил Санду, давая понять, что пора двигаться. — Пошли, а то опоздаем… Валериу протянул им руки. Молча посмотрел на парней, как бы желая прочитать их мысли. Лицо его стало суровым. Он взволнованно прошептал: — Желаю успеха, Габриэль и Пиус, не забывайте, что это задание нам поручила партия! — Всего доброго, и не волнуйся. Мы не подведем… На небе весело сверкали звезды, ярко светила луна, окрашивая в белое дома, деревья, строения. Санду и Ромикэ проскользнули в тени церкви, быстро пересекли улицу. А капрал стоял неподвижно и смотрел им вслед, пока их силуэты не исчезли. Затем отправился домой, чтобы переменить одежду; ему нужно было скорее возвращаться в казарму, откуда он ушел час назад, не спросив ни у кого разрешения.23
Они ползли по-пластунски или шли пригнувшись, с трудом преодолевая довольно крутой склон холма, поросшего лесом. Ромикэ тяжело дышал, но не сдавался и упорно карабкался, отвоевывая у склона метр за метром, перекладывая портфель из руки в руку, пуще всего боясь уронить. Сзади, на расстоянии нескольких шагов, бесшумно двигался Санду, цепляясь за ветки кустарников или корни деревьев. Время от времени у них скользили ноги, и тогда они опускались на четвереньки, царапая колени и локти, и, скрипя зубами, еще яростнее штурмовали высоту. Когда дошли до полянки, Ромикэ остановился перевести дух, сел около ствола дуба и подождал Санду, который тоже тяжело, устало дышал, вымотанный подъемом, и держался рукой за грудь, чтобы хоть немного унять сердцебиение. — Который час? — спросил он шепотом. — Почти десять, — ответил Ромикэ, глядя на светящийся циферблат. — Через час надо быть на условленном месте… — Очень уж крут чертов подъем… — Это тебе не прогулка по бульвару! Санду ничего не ответил. Он прислонился спиной к стволу дуба, расслабился, чтобы передохнуть, чувствуя, как у него дрожат ноги и руки. Сквозь густые ветви деревьев вдали светила луна, крыши домов внизу ярко блестели, будто они были из оцинкованного железа. Над городскими постройками возвышалась водонапорная башня, ее остроконечная крыша сверкала словно зеркало. А слева уходили к горизонту воды Дуная, спокойные, тускло отсвечивающие коричневым цветом. — Ты только посмотри, как хорошо отсюда виден город! — прошептал Ромикэ, вытирая влажную шею и затылок. — Это при всей-то маскировке! Огней и вправду не видно, но при луне дома как на ладони… — Если бы сейчас налетели американские бомбардировщики, им бы не понадобились светящие бомбы на парашютах, как тогда, в пасхальную ночь, — поддержал его Санду. — Все так хорошо видно, прямо хоть фотографируй! Вдруг из леса донесся скрип колес. Похоже было, что тяжело груженная телега медленно ползет вверх по дороге. Санду схватил Ромикэ за руку, и оба несколько долгих секунд напряженно вслушивались в шумы и шорохи ночи. — Гей, Наполеон! Гей, Турок! Вот чертовы дети, еле ноги переставляют! Человек погонял волов, и каждое его слово было теперь отчетливо слышно. Вскоре между деревьями, внизу, в долине, мелькнул огонек, он тихонько покачивался, и можно было подумать, что приближается привидение. — Это фонарь, прикрепленный к возу, — прошептал Ромикэ. — Небось едет какой-нибудь крестьянин. Еще какое-то время они пытались понять, в каком направлении движется телега, как вдруг она громыхнула на ухабе сзади них, очень близко, шагах в пятнадцати. Круто повернувшись, они с изумлением увидели позади себя качающийся в просветах деревьев фонарь. — Давай спрячемся! — предложил Санду и, положив руку на плечо Ромикэ, потянул его вниз. — Он может нас заметить при свете луны… Оба легли, прижавшись к корням старого дуба, и, не отводя глаз, следили за огоньком. — Черт побери, не могу понять, как же это получается? — прошептал Санду. — Ведь скрип колес слышался совсем с другой стороны… — Дорога извилистая, вот в чем дело… Через некоторое время телега остановилась внизу на дороге. Внимательно присмотревшись — мешали ветви и кусты, — они с трудом разглядели ее. Старый военный фургон на высоких колесах, крытый брезентом, тянули два вола с большими крутыми рогами. К дышлу был прикреплен фонарик, который излучал слабый, мерцающий свет. Пожилой сутулый солдат подошел, устало волоча ноги, к переднему концу дышла, отцепил фонарь, наклонился и, держа его в руках, стал возиться у колеса, похоже, что-то искал. На ремне у солдата висела винтовка, а у бедра — пустая сумка из-под провианта с расстегнутыми перекрученными ремешками. Он немного повозился возле волов, оправил брезент с боков фургона, потом, поставив фонарь посреди дороги, отошел в сторону, но недалеко, принес два больших булыжника и подложил под задние колеса, ударами башмака загнав их поглубже. — Здесь, в лесу, военный лагерь, — шепнул Санду на ухо Ромикэ. — Для призывников. Принадлежит пехотному полку. Так что мы влипли! — Что ты, разве этот дед новобранец? — беззвучно рассмеялся Ромикэ, кивнув на солдата. — Не видишь, как он ходит? Словно у него на спине не винтовка, а мельничный жернов… Господи, ты только посмотри! Он же… Ромикэ недоговорил и застыл с открытым ртом. Санду приподнялся на локте, чтобы лучше видеть, и тоже замер, испуганно наблюдая за солдатом. А тот, оставив фургон посреди дороги, двинулся через заросли прямо на них, ступая по сухим сучьям, обходя корни и стволы деревьев. Раза два обернулся, словно проверяя, нет ли кого поблизости, и, не дойдя нескольких метров до ребят, остановился. Снял и прислонил к дереву винтовку и начал развязывать болтавшийся на нем матерчатый пояс. Затем расстегнул китель и брючный ремень. — Теперь придется выжидать, пока он не облегчится! — чуть слышно прошептал Санду. Он потянулся к Ромикэ и глянул на циферблат его часов. — Время идет, что делать? — Сейчас удобный момент, чтобы отнять у него винтовку, — решительно заявил Ромикэ. — А потом я заставлю его сдаться… — И что ты будешь с ним делать? — Посмотрим, что в фургоне, может, там винтовки. Мы их захватим, а это будет означать, что мы выполним еще одно важное поручение. Помнишь, что говорил Валериу на одном собрании? Нужно доставать оружие, мы очень нуждаемся в нем. Ведь не вечно же будет продолжаться такое положение. Придет час расплаты… Разгорячившись, Ромикэ заговорил чуть громче, потом, опомнившись, сразу умолк. Но было поздно. Старый солдат, который сидел на корточках за мощным стволом дерева, встревожился, услышав шепот. Высунувшись из-за дерева, стал внимательно оглядываться по сторонам, стараясь понять, откуда он доносится. Ребята прижались к земле, слились с ней. Солдат, испугавшись, что поблизости кто-то есть, протянул руку за винтовкой, Ромикэ увидел это и понял, что все пропало. Он вскочил, в несколько прыжков преодолел расстояние до солдата, бросился на него и сильно толкнул в грудь. Растерявшись от неожиданности, старик упал на спину, болтая ногами в воздухе. Ромикэ навалился на него, прижал к земле, заткнул ему рот ладонью. Солдат глухо застонал, казалось, он вот-вот отдаст концы. Все произошло так молниеносно, что Санду не сразу сообразил, что случилось. Оставив портфель около дуба, он поспешил на помощь Ромикэ, который боролся со стариком, пытаясь засунуть ему в рот скомканный платок. — Слушай, Пиус, а чем мы его свяжем? — Вытащи у него ремень из брюк, — быстро прошептал Ромикэ. — И возьми пояс от кителя… Старый солдат извивался, пытаясь вырваться из объятий боксера, но это ему не удавалось. Он мычал, крутил головой, пытаясь выплюнуть платок, но Ромикэ снова и снова засовывал его ему в рот, сильно прижимая ладонью, и в конце концов чуть не задушил старика. Вдвоем они крепко связали солдату руки и ноги брючным ремнем и матерчатым поясом от кителя, взяли винтовку и, оставив его около дерева, ушли. Санду на ходу схватил портфель, догнал Ромикэ, и они двинулись широким шагом, лавируя между деревьями, вверх по склону горы. — Может, нужно было заглянуть в фургон? — бросил на бегу Санду. — Вдруг там действительно оружие? — Нет, это было бы неправильно, — шепотом ответил Ромикэ, на секунду повернув голову. — Если бы мы задержались на дороге еще минуту, все могло бы сорваться. Вдруг кто-нибудь увидел бы… Вероятно, военный лагерь где-то рядом. Хорошо, что у нас теперь винтовка. Давай посмотрим, есть ли патроны. — Он открыл затвор и заглянул в патронник. — Там три конфетки! — с удовлетворением заключил он. — Нормально. Это кое-что значит. Захват оружия и боеприпасов… Молодцы мы, а? Ромикэ и Санду бежали через лес и часто оглядывались, стараясь держаться рядом. Поразмыслив хорошенько, Санду пришел к выводу, что они поступили неправильно. Они должны были думать только о задании и не подвергать себя опасности, нападая на солдата. Теперь в лагере объявят боевую тревогу и кинутся их искать, это ясно. — Нам надо было стукнуть по голове этого старого хрыча, чтоб он окочурился и не смог болтать! — сокрушался Ромикэ. — Ни за что! — запротестовал Санду. — Может, это какой-нибудь бедняк, измученный проклятой войной, как тысячи других. Он-то чем виноват? — Да, но ведь он протянул руку за винтовкой, хотел стрелять. Нечего было хорохориться… — Любой на его месте поступил бы так же. Инстинкт самосохранения. Подумать не успеваешь, как он срабатывает… — Этот же инстинкт заставил меня отобрать у него винтовку, вот и все. В эту минуту внизу раздался свисток и поплыл над залитым лунным светом Шимианом, протяжный и пронзительный. Через короткий промежуток свисток повторился и замер вдали. — Это поезд! — прошептал Ромикэ и поспешно взглянул на часы. — Самое большее через двадцать минут он начнет подъем. Надо торопиться… — Он поправил ремень винтовки и взял из рук Санду портфель. — Давай побыстрее. И не отставай! И снова они начали карабкаться в гору, пробираясь между деревьями, густая листва которых блестела в ярком лунном свете. Внизу, в долине, слышалось напряженное пыхтение паровоза, который с трудом тащил состав. — Сюда, по этой тропинке! — Санду схватил Ромикэ за руку. Теперь они спускались все быстрее и быстрее, скатывались по тропе, еле видной среди деревьев. Ветви ольхи и ракиты мешали идти, хлестали по лицу и рукам, но они ни на что не обращали внимания, почти бежали, с мокрыми от пота лицами, стараясь быстрее попасть к железной дороге. — Мы, случайно, не заблудились? — со страхом спросил Ромикэ и, задержав шаг, озабоченно посмотрел по сторонам, чтобы сориентироваться. — Тропинка будто бы не та… — Она самая, — заверил Санду. — Разве не помнишь? Мы по ней уже ходили. Иди смело, через несколько минут будем на месте. Смотри, смотри, уже видны рельсы!.. Через просвет в густой листве они различили узкий и глубокий овраг, на его крутых склонах росли молоденькие дубки. В конце просвета серебристо искрились рельсы. Наконец они добрались до телеграфного столба. На нем висела черная дощечка с цифрами, написанными белой краской. Ребята остановились и прислушались. В глубокой тишине все ближе и ближе раздавалось мерное пыхтение паровоза, который медленно тащил в гору сорок восемь платформ. Время от времени на листву сыпались искры, они не успевали отлететь далеко и тут же гасли в ночи. — Ну, парень, держись, паровоз близко! — Ромикэ сбросил с плеча винтовку, взял портфель со взрывчаткой. — Давай подложим эту штуку сюда… — Лучше чуть подальше, — сказал Санду и головой показал куда именно. — Нет, туда не пойдем, только время потеряем, — запротестовал Ромикэ. — Там ли, здесь ли — все едино… Они подошли к насыпи. Санду взял портфель из рук Ромикэ, вытащил железную коробку и положил ее около рельса. Газеты, в которые была завернута коробка, он скомкал и отбросил подальше в канаву. Ромикэ быстро вырыл ножичком углубление под шпалой. — Хватит? — спросил он. — Вполне, — шепотом ответил Санду. — Опускай быстрее коробку. Через считанные секунды все было готово. Ромикэ схватил пустой портфель, забрал винтовку и стал подниматься по склону горы той же тропинкой, какой они спускались несколько минут назад. Санду еще немного постоял, склонившись над железной коробкой, проверяя, все ли в порядке. — Давай, парень, быстрее, а то отбежать не успеем, — торопил его Ромикэ. — Слышишь, приближается поезд… Вдруг, как бы в подтверждение его слов, паровоз пронзительно и протяжно свистнул трижды подряд, словно посылая сигнал тревоги, и над деревьями стал отчетливо виден черный толстый столб дыма, который поднимался из его трубы. Санду побежал по тропинке в гору и вскоре догнал Ромикэ. — К Шимиану спускаться не будем, — проговорил он задыхаясь и еле держась на ногах. — Сделаем небольшой крюк вдоль леса и выйдем как раз к спиртовому заводу в Бановицэ… — Нет ли там солдат? Мы ведь договорились возвращаться по другой дороге. — Договорились, но, я думаю, здесь ближе. Да и солдатский лагерь совсем в другой стороне. Они добрались до покрытой лесом вершины холма, и так же неожиданно, как в первый раз, их взорам открылась панорама Северина — множество крыш, залитых лунным светом. Можно было различить длинные улицы, пересекавшие город из конца в конец, порт, строения судоверфи на самом берегу Дуная. — Сюда, по этой тропинке! — Санду потянул Ромикэ за руку. — Ага, смотри-ка, село Бановицэ. Но не успели они сделать и шага, как сильнейший грохот потряс землю, и его зловещее эхо прокатилось по округе. Стаи разбуженных птиц пронеслись над верхушками деревьев. Немедленно взвились звуки горна — тревога! Раздались одиночные выстрелы, послышались чьи-то голоса. Люди кричали, звали, требовали, бранились, все сливалось в один сплошной гул. Санду и Ромикэ с минуту постояли молча, переглянулись и, улыбаясь, пожали друг другу руки. — Дело сделано… — прошептал Санду; в его глазах светилась радость. — Я счастлив, боксер, счастлив, что мы дали немцам по кумполу! Мы им сделали нокаут, нокаут в три секунды! — Давай, парень, уносить ноги, замешкаемся — попадем черту в лапы, — заметил озабоченный Ромикэ и с винтовкой за спиной побежал вниз между деревьями. Санду поспешил за ним, стараясь не отставать. Он радовался, как ребенок, подбрасывая на ходу пустой портфель и с трудом продираясь сквозь листву. Когда они подошли к Бановицэ, петух, сидевший на заборе спиртового завода, начал кукарекать, возвещая наступление второй половины ночи. Измученный Ромикэ привалился к забору, снял майку и принялся вытирать пот, катившийся градом по лицу и спине. То же самое сделал и Санду. Передохнув, они направились в город, чувствуя себя в полнейшей безопасности, и путь их лежал через учебное поле полка.24
Младший лейтенант запаса Виктор Ганя был высокий, сильный, цветущий богатырь; глядя на него, можно было подумать, что он появился из детской сказки. Ступал тяжело, но шаг чеканил, двигался не торопясь, слегка враскачку. Он всегда одевался аккуратно и со вкусом, даже если речь шла о простой военной форме… Китель сидел на нем как влитой; блестящие пуговицы, изысканный элегантный галстук из шелка защитного цвета, ладно сидящие брюки и черные сапоги из шевровой кожи, начищенные до блеска, придавали ему вид щеголя. Внешне он был похож на чемпиона по штанге или классической борьбе, а его голубые глаза на смуглом лице смотрели открыто и искренне, были добрыми и ласковыми. Родом он был из-под Сигишоары. С детства привык к труду и лишениям. Родители, бедные крестьяне, батрачили у кулака, мальчик каждое утро развозил в бидонах хозяйское молоко на продажу. С рассвета и часов до семи утра, босой и пропыленный, в холщовой рубахе и брюках, он тянул под уздцы костлявую понурую клячу и останавливался у каждого подъезда в центре города. Наливал молоко в кастрюли, кувшины, бутылки, а когда солнце поднималось довольно высоко, сваливал пустые бидоны в повозку, нещадно нахлестывал кобылу и под грохот бидонов, который будил всех собак в округе, приезжал в корчму на окраине города, владелец которой доводился хозяину Виктора братом. Виктор ставил свой экипаж под навес, торопливо мыл бидоны, поил, привязывал клячу и, бросив ей охапку сена, бежал в школу с завернутыми в белое полотенце книгами под мышкой. Там он садился за парту и внимательно слушал учителей, стараясь не пропустить ни слова. После обеда бежал к корчме, выводил лошадь на улицу, стегал ее кнутом и пускался в обратный пятнадцатикилометровый путь до села, где он жил с родителями. В комнатке рядом с конюшней, где жили также три его младших брата, при коптящем огоньке керосиновой лампы Виктор занимался до глубокой ночи. После тяжелого трудового дня, в течение которого он бегал по поручениям хозяина, таскал воду, чистил скребницей лошадь, доил коров, относил точить мотыги, подметал хлев и двор, кормил свиней и выполнял другую работу, которой не было ни конца ни края, Виктор чувствовал страшную усталость. Он был самым сильным мальчиком в школе и, казалось, мог постоять за себя, но ему не доставляло удовольствия ссориться, и он делал вид, что не слышит, как дети богачей кричат ему вслед: «Великан у нас живет, сыр овечий продает!» — Врежь им, Ганя, — советовали ему некоторые, возмущенные их насмешками над ним. Он же, бывало, только улыбнется, махнет рукой — и снова за работу. Он старался никого не задеть и даже, боясь раздавить муравья, обходил муравейники, которые попадались на пути. К концу учебы в гимназии он приобрел пару новеньких башмаков на каучуковой подошве, но надевал их только зимой, когда шел в школу. Однажды, ближе к весне, он пришел в грязной, поношенной обуви из домотканой шерсти на подошве из лыка. Глаза его были заплаканы, лицо потемнело. — Что случилось, Виктор? — сочувственно спросил его сосед по парте. — Ботинки украли? — Вчера утром умер отец, — с трудом выдавил из себя юноша, глотая слезы. — Он строил навес для хозяина, на него упало бревно и зашибло насмерть. Я обул его в свои башмаки, а то ведь и похоронить не в чем… Учился Виктор лучше всех в классе, но первым учеником никогда не считался. Одноклассники очень уважали его, но предпочитали лишний раз не говорить об этом. После гимназии Ганя поступил в Бухарестский университет и закончил его, живя впроголодь, скромно одеваясь на деньги, которые он зарабатывал, давая уроки детям столичных богачей. Позднее он стал учителем латыни в родном городе, по улицам которого до самых выпускных экзаменов в школе разъезжал на повозке, полной бидонов с молоком. Во время войны он прошел сокращенный двухгодичный курс военного училища, и ему присвоили звание младшего лейтенанта запаса. После мобилизации Ганя получил назначение в Турну-Северин, командиром роты пехотного полка, под его началом были плутоньер Петре Грэдинару и писарь (он же кладовщик) капрал Тудор Динку. Ганя был доволен: ему повезло, его не послали на фронт, и он мог спокойно жить в городе на Дунае, который полюбил сразу, как только увидел. Три недели он пробыл в командировке в Бухаресте, несколько дней в армейском корпусе, и вот теперь, выполнив задание, возвратился в роту. Он квартировал в доме на улице Воссоединения, неподалеку от военного госпиталя. Его хозяйка, старушка пенсионерка, когда-то преподавала рукоделие в женской гимназии. Было восемь часов утра. Виктор Ганя широким шагом шел в полк, слегка покачивая плечами, стараясь держаться в тени старых каштанов, еще сохранившихся на бульваре Кароля. Было жарко, он снял фуражку и время от времени обмахивался ею. Возле гимназии «Траян» он встретился с Даной, которая торопливо шла вверх по бульвару, направляясь к зданию театра. — Ave, Dana![15] — произнес он, подчеркнуто галантно склонившись перед девушкой. Они познакомились четыре месяца назад, в апреле, когда во время воздушного налета оказались вместе в бомбоубежище. Тогда они очень интересно поговорили и расстались как добрые друзья, но с тех пор виделись только мельком и случайно. При этом они искренне радовались встрече, старались сказать друг другу что-нибудь приятное и расходились, не договорившись о новой встрече. Дана чувствовала, что нравится ему, но сама оставалась равнодушной, хотя ей было приятно знакомство с умным, образованным человеком, который до тонкости знал и любил свою профессию учителя. Да, только поэтому она допускала эту дружбу, никаких иных мотивов у нее не было. — Куда так рано? — спросил младший лейтенант. — Работать для фронта, — ответила Дана и покраснела, уж очень неожиданной была эта встреча. — Могу себе представить, какое удовольствие доставляет тебе эта работа, — сказал Виктор Ганя, и его синие глаза живо заблестели, он восхищался красотой этой девушки; последний раз он видел Дану почти пять недель назад, с тех пор она очень похорошела. — Или тебе нравится таскать кирпичи? — Вот именно, очень… — ответила Дана. — А как успехи в любви? — Ганя откровенно заигрывал с ней. Дана смущенно опустила голову, не зная, что ответить. Она терялась при случайных встречах с этим учителем латыни, одетым в военную форму, слова не могла вымолвить. Почему?.. Чем-то он ее смущал… Обаянием? Эрудицией? Вежливыми манерами, которые придавали его поведению особое очарование? Она не могла понять. И упорно не замечала его намеков на то, что она ему симпатична, что он считает ее весьма привлекательной, что чувствует себя хорошо в ее обществе. Ганя понял, что его вопрос не понравился девушке, и попросил извинить его, если он ее обидел. — О нет, — запротестовала она улыбаясь. — Я не обиделась. Да и что в этом обидного? Везет ли мне в любви? Хм… могу ответить: точно так же, как и вам! — Ну нет, никогда не поверю! — воскликнул Виктор, которому ответ Даны показался уклончивым. — Знаешь, как говорит Овидий, дорогая Дана? «Diligitur nemo nisi cui fortuna secunda est»[16]. Я человек простой, вырос в деревне, мне трудно встретить здесь девушку, которая была бы такой же простой и бесхитростной… — Зачем же так?.. Вы достаточно серьезны и привлекательны… — С некоторыми оговорками, — засмеялся Виктор. — Exceptis excipiendis[17]. — Он намекал на свой высокий рост. — В остальном, возможно, есть достоинства и у меня… Но ведь impossibilium nulla obligatio est[18], так что ничего не поделаешь, или, как говорили все те же древние римляне: «Ita diis placuit»[19]. — Богов, но не богинь… У богинь могло быть другое мнение… — Дана засмеялась, тряхнув головой. — Кто ведает? — Знать бы этих богинь! — молитвенно сложил руки Виктор. — Хотя бы одну… — Не теряйте надежды, никогда не теряйте надежды, — улыбнулась Дана. — А так как вы щедро осыпали меня латинскими изречениями, то и я позволю себе процитировать мудрый завет Горация из его «Посланий». Помните? «Grata superveniet, quae non sperabitur, hora»[20]. — Да… конечно… учитель латыни да чтоб не знал Горация?.. — Ну так вот, я уверена, у вас все будет по Горацию. А теперь я вынуждена извиниться. — Дана протянула руку: — Надо идти, а то я опоздаю на классное собрание. У настакая несносная классная руководительница, домнишоара Лиззи Хинтц… — Я ее знаю. Очкастая, конопатая, злая как ведьма! — И влюбчивая как кошка! — засмеялась Дана. — Она влюблена в начальника немецкой комендатуры. — Знаю. Да и кто этого не знает? Ну что ж, желаю вам весело провести время. До свидания! — Виктор надел фуражку и отдал девушке честь. — Такого веселья никому не пожелаешь! — Дана помахала ему рукой и ушла. Через полчаса младший лейтенант Виктор Ганя входил во двор полковой казармы. Жара становилась удушливой, невыносимой, от нее мутилось в голове. У административного корпуса, в тени каштанов, стояла наготове коляска полковника. На козлах дремал солдат с землистым, изможденным лицом. Уронив вожжи на колени, он клевал носом, изредка вздрагивая, ему не давали покоя мухи. Во дворе почти никого не было. Два солдатика подметали дорожки большими тугими метлами, сделанными из веток липы, а чуть в стороне, напротив кухни, старший сержант Гэлушкэ, свежевыбритый, в идеально отутюженных брюках и надраенных сапогах, орал что есть мочи на пожилого сгорбленного солдата, который из последних сил вытягивался перед ним по стойке «смирно», держа при этом в руках большую красную эмалированную кастрюлю. — Черт бы тебя побрал, растяпа! — кричал старший сержант, тыча ему хлыстом под ребра. — Кто тебя просил кидать в котел еще картошки? Это же двойная порция! Чтобы эти хамы ели овощное рагу вместо супа? Вынь ее сейчас же из кастрюли, а то от тебя мокрое место останется, понял? Выполняй немедленно! Ганя постоял немного, глядя на эту сцену, и тень грусти пробежала по его лицу. «Большая каналья этот старший сержант, — подумал он. — Кулак проклятый! Мнит, что он пуп земли, а сам с людьми как со скотом обращается. Дождется, я его приподниму за ремень да об землю и шлепну, то-то он вытряхнется из своих господских сапог…» Размышляя так и собравшись уже было войти в административный корпус, Ганя вдруг увидел полковника Предойю. Он спускался по каменным ступенькам, позвякивая шпорами, с фуражкой в руке, красный как рак и явно чем-то удрученный и раздосадованный. — Честь имею приветствовать, господин полковник! — Ганя приложил два пальца к козырьку и посторонился, чтобы пропустить начальника. — А-а, вернулся? — оглядел его полковник с головы до ног. — Да, прибыл, господин полковник, сегодня в четыре утра. — Окончилась командировка? — Окончилась, господин полковник… — Что нового в столице? — Что может быть нового, господин полковник? — пожал плечами Ганя. — Честно говоря, все озабочены одним — судьбой страны. Только немцы, наши союзники, большие оптимисты и все нахваливают какие-то новые части, якобы готовые идти в бой, бесстрашные, отборные, фанатичные… В общем что-то в этом духе… Как сказал Сенека: «Magnifica verba mors prope admota excutit». — Что это значит? — полковник аккуратно надел фуражку. Зная склонность младшего лейтенанта к некоторому многословию, он смотрел на него иронически, прищурившись. — «Близость смерти порождает у умирающего красивые слова», — ответил с улыбкой Ганя. — То есть… — Перестань, эти цитаты тебя до добра не доведут, загремишь под суд военного трибунала, — оборвал его полковник и строго посмотрел ему в глаза. — Я информирован о том, что ты ведешь разговоры, недостойные чести офицерского мундира; не пристало офицеру распускать язык, наша армия — союзница вермахта. Да-да, и слушай, когда я тебе говорю. Займись воспитанием солдат в своей роте и разговаривай с ними по-румынски, чтобы они все понимали, твоя латынь им не по зубам. — Понял, господин полковник, — сказал Ганя, становясь по стойке «смирно». — Знаешь, что случилось позавчера ночью с солдатом из твоей роты? — Нет, господин полковник, не знаю, — откровенно признался Ганя. — Я вам докладывал, что прибыл сегодня в четыре утра на машине… А что случилось? — Вот поэтому меня и вызывает сейчас начальник немецкой комендатуры подполковник Клаузинг. — Что-нибудь серьезное? — Достаточно серьезное. Однако я тебя не очень виню, ты долго отсутствовал, и их воспитанием занимался Грэдинару, хотя ты знаешь пословицу, которую я тебе сейчас скажу: «Рыба тухнет с головы». Если бы ты больше занимался их воспитанием, все было бы по-другому. Но ты им все позволяешь, разговариваешь с ними как с равными, угощаешь сигаретами, а неграмотным, я слышал, даже пишешь письма домой. — Что в этом плохого, господин полковник? — удивился Ганя. — Очень грустно, что многие люди не умеют ни читать, ни писать… Я им помогаю. Ведь я был и остался крестьянином, таким же, как и они… Положение, в котором находится страна… — В связи с войной? — И с войной, и с другими, более давними, бедами, — уточнил Ганя. — Ведь нищета и темнота существовали всегда… Простите, что я отнимаю время, но я вычитал когда-то в английской газете очень интересную цифру: средств, затраченных на изготовление одного самолета, хватило бы на постройку нескольких школ. А наше правительство… — Такие разговоры, младший лейтенант, отдают большевистской пропагандой. Это там офицеры, унтер-офицеры и даже солдаты, все подряд, называют друг друга товарищами. В большевистском, а не в румынском государстве! А ведь кончится тем, что наши солдаты начнут тебя так называть… И, говоря по совести, твое отношение к подчиненным чревато последствиями… Я тебя предупреждаю со всей серьезностью. Ты очень снисходителен, не проявляешь должной строгости в отношениях с нижестоящими, как положено офицеру. — Господин полковник, я полагаю, не только строгость и кулаки помогают офицеру командовать подчиненными, — решительно возразил Ганя. — Я не знаю, как точнее выразиться, но прошу вас согласиться со мной, солдаты — люди, а не животные, и их нужно воспитывать, им нужно спокойно и терпеливо объяснять, и тогда, я уверен, приказы будут выполняться намного лучше, чем если бы они выполнялись из страха перед наказанием… — У тебя слишком широкие взгляды, младший лейтенант! — резко прервал его полковник Предойю. — Видно, ты не военный по призванию и под мундиром у тебя бьется сердце обывателя, а не воина. — Сердце человека, господин полковник. Человека, который любит людей, относится с пониманием к их бедам… — Я знаю, чем они платят тебе за твое отношение! — посмотрел ему в глаза полковник Предойю. — Не сегодня-завтра ты предстанешь перед судом военного трибунала… — Я вас прошу, господин полковник, объясните мне, в чем дело, — настаивал явно обеспокоенный Ганя. — Вы мне говорите о каких-то беспорядках, пугаете военным трибуналом… Вероятно, то, что случилось, имеет ко мне непосредственное отношение. Так что же произошло? — Как бы тебе сказать покороче… — полковник двинулся к коляске, и Ганя сделал за ним несколько шагов. — У меня сейчас нет времени, я тороплюсь, но в двух словах… Вот о чем идет речь… — Я слушаю, господин полковник… — Вчера вечером Грэдинару послал какого-то недоумка, к тому же еще и старого, отвезти пустые мешки из-под провианта и несколько пар башмаков для новобранцев в военный лагерь, что в Балотском лесу. И что бы ты думал? На фургон напали партизаны, отобрали у солдата винтовку, а чуть позже взорвали немецкий товарный состав — почти пятьдесят вагонов!.. Можешь себе представить? Груженный танками и бронемашинами… Такие дела! Начальник немецкой комендатуры в ярости. Я получил приказ из столицы провести расследование. Если бы солдат был хорошо обучен и руководствовался воинским долгом, он задержал бы партизан, ведь он был вооружен. Если бы он их захватил, они бы не взорвали поезд. Они совсем распоясались, эти партизаны! Ганя был ошеломлен. Не потому, что в его роте у какого-то солдата отобрали винтовку, на фронте были потери и посерьезнее, а потому, что полковник сообщил ему сенсационную новость — в этом районе Дуная действуют партизаны! У него была весьма скудная информация о деятельности партизан в долине Праховы под руководством коммунистов — в его руки случайно попала их листовка, и он прочитал ее с большим интересом, — но не представлял себе, что их отряды действуют на такой большой территории, что в сфере их влияния находится и этот район. И это его обрадовало: режим Антонеску, который он ненавидел, мог рухнуть со дня на день. — Иди в роту, Ганя! — приказал полковник, садясь в коляску. — Займись расследованием вместе с Грэдинару. До обеда ты должен подготовить все документы, солдата отдадим под суд! — Понял, господин полковник… Лошади взяли с места в карьер, коляска подняла облако серой густой пыли, миновала ворота, предупредительно распахнутые часовым, и покатилась по грязной мостовой в сторону города. Ганя вяло побрел в канцелярию роты. «Срочно составить документы, чтобы отдать человека под суд, — говорил он себе, вспоминая слова полковника. — Конечно, документы — дело нехитрое… Но сначала нужно понять, в чем он провинился. А если солдат невиновен, зачем зря изводить бумагу и чернила?» Он поднялся по стертым каменным ступенькам в канцелярию. Грэдинару, который стоял, держа в руках ремень, увидев младшего лейтенанта, вытянулся по стойке «смирно», громко и отчетливо выкрикнул «здравия желаю», так как знал, что это нравится некоторым командирам. В углу, у самой двери, переминался с ноги на ногу солдат Ницэ Догару, старая парусиновая рубашка на нем была запачкана и измята, обмотки и шнурки на башмаках отсутствовали, лицо от бессонницы осунулось, он был жалок. Рядом с ним вытянулся молоденький часовой с винтовкой у ноги. — Что здесь происходит, Грэдинару? — спросил Ганя и, сняв фуражку, положил ее на стол. — Что с тобой, Ницэ Догару? — Что может быть, господин младший лейтенант?! — пожал плечами старый солдат и полными слез глазами посмотрел на Ганю. Младший лейтенант прочитал в них, как в открытой книге, всю его боль, все выпавшие на его долю страдания. — Вот ведь какое несчастье свалилось… — Он вздохнул, горестно покачал головой, но больше ничего не добавил и стоял, опустив голову, как воплощение немой скорби. — Это у него отобрали винтовку? — повернулся Ганя к Грэдинару. — У него, господин младший лейтенант, черт бы его побрал, барана безмозглого! — со злостью ответил тот и грозно полоснул взглядом по солдату. — Я ведь объяснял этим тупицам, но где им понять, когда у них ветер в котелке гуляет, провались они пропадом, я уж им и так, и этак втолковывал, что такое сюприз, когда имеешь дело с врагом. И вот на тебе — он не знал, как нападают с сюпризом, у него отобрали винтовку! И кто? Какие-то бродяги, шпана плюгавая… Подумать только, они голыми руками отобрали у него, у солдата, оружие!.. — Хорошо, вы теперь выйдите на несколько минут из помещения, — спокойно сказал ему Ганя. — И ты тоже, — велел он часовому. — Придете, когда позову… Грэдинару надел ремень, с трудом затянул его на солидном брюшке, застегнул пряжку, снял с вешалки выгоревшую и грязную фуражку со сломанным козырьком, натянул на голову, прибрал на столе, аккуратно сложил реестры, бумагу и несколько папок, сделал знак часовому, чтобы тот следовал за ним, и вышел во двор. — А теперь расскажи мне всю правду, как с тобой приключилась эта неприятность? — обратился младший лейтенант к Ницэ Догару. — Садись вон на тот стул и рассказывай. Но только все, абсолютно все, без обмана… — Да разве ж я могу вас обманывать, господин младший лейтенант? — доверчиво сказал старый солдат и о большим трудом (Грэдинару исполосовал его ремнем, дал пятьдесят «горячих») уселся на стул. — Чтобы я да обманывал вас, человека с таким добрым сердцем?! Господин плутоньер держал меня здесь, бил кулаками и ремнем, а я молился пресвятой богородице, чтобы поскорее вернулись вы, как раз вы, потому что чувствовал, помереть мне невиновным, молился, чтоб вы приехали, одна у меня была надежда. И всевышний услышал мою молитву, — ох, дай вам бог много, здоровья! — потому как за пять лет, что я мыкаюсь то на сборах, то на фронте, не попадались мне среди командиров такие добрые люди, как вы… — Ну так расскажи, как все это случилось? — повторил свой вопрос Ганя и, усевшись за стол Грэдинару, вытащил сигарету, зажег ее и пустил дым в потолок. — Куришь? — спросил он солдата. — Курю, господин младший лейтенант, но сейчас мне не до того… — Хорошо, давай говори, я тебя слушаю, но, сам знаешь, чистую правду… — Истинную правду, господин младший лейтенант. Вас я не могу обмануть. Господь покарал бы меня за это! И старик Ницэ Догару стал рассказывать, как два дня назад плутоньер Грэдинару вызвал его и солдата Кирикэ и приказал им отвезти кое-что новобранцам в лагерь в Балотский лес. — Ну а после, — Ницэ Догару вытер нос рукавом парусиновой рубашки, — после, господин младший лейтенант, Кирикэ отстал, он сказал, что потерял обмотку, и вернулся с дороги, чтоб поискать ее, потому что очень боялся гнева господина Грэдинару, он отстал, а я тихонечко погонял волов, думая, что он вот-вот подоспеет. Как увидел, что его нет, остановил фургон, проверил оси, подождал еще чуток, а потом дай, думаю, справлю свою нужду, извините за такие слова. Вот так все и было, господин младший лейтенант, бог мне свидетель, я вас не обманываю. Только я уселся за деревом, слышу — разговор в лесу, я сразу протянул руку, чтобы взять винтовку, — она была прислонена к дереву, рядом со мной. И тут же на меня навалился здоровенный парень, как бык, сильный, молча вытащил платок из кармана и засунул мне в рот. Потом и другой появился, тоже молодой, связали они мне руки и ноги ремнем от брюк и от кителя, связали очень туго, так меня и нашел Кирикэ через час, я валялся на земле как мешок… Я кинулся к дереву, а оружия уже нет как нет. Забрали… — Это все? — Все, господин младший лейтенант, истинная правда, пусть меня покарает всевышний, если я вру! — Ницэ Догару широко перекрестился. — А как был взорван поезд? — спросил младший лейтенант, потягивая дым сигареты. — Я слышал, взлетел на воздух немецкий эшелон с танками и бронемашинами… — Да, я тоже слышал, — подтвердил Ницэ Догару и опять вытер нос рукавом. — Но я этого не видел, потому как лежал на земле и не мог шевельнуться, а только вскоре после ухода этих парней я услышал такой сильный грохот, какой бывал на фронте, когда начинала бить тяжелая артиллерия русских. Я думал, что на меня сейчас повалятся деревья. Земля, которая при этом поднялась, запорошила мне глаза… — Хорошо, Ницэ Догару, — заключил Ганя и поднялся из-за стола. — На, держи, — достал он из ящика и протянул солдату лист бумаги, — напиши все, что рассказал. И подпишись. Вот тебе ручка. Ты грамотный? — Не так чтобы очень, господин младший лейтенант, — тихо ответил старик. — Отец говорил, зачем мне ходить в школу, все равно попом не буду, мое дело, мол, дом да скотина… — Хорошо, пиши как умеешь, — сказал Ганя. — Сильно меня накажут, господин младший лейтенант? — спросил старик со страхом. — Посмотрим, — успокоил его Ганя. — Пока не беспокойся. Я тебя знаю, так что… — Ох, помоги вам бог избавить меня от этой напасти, господин младший лейтенант, при всей своей бедности я бы сумел вас отблагодарить, честное слово, а я ведь слово держу… — Ну ладно, ладно, не для того я занялся этим делом, чтобы получать от тебя подарки, — сказал Ганя и встал из-за стола. — Я хочу, чтобы было по справедливости, понимаешь? — Понимаю, господин младший лейтенант… У нас в роте все знают, какой вы справедливый и как заботитесь о нашем брате… — Ну хорошо, садись за стол и пиши… Ницэ Догару вытер широкие, потрескавшиеся ладони о брюки, взял ручку, долго разглядывал перо, как редкий, можно даже сказать, невиданный предмет, осторожно обмакнул его в пузырек с фиолетовыми чернилами и склонился над белым листом бумаги. Младший лейтенант облокотился на подоконник — окно было открыто — и посматривал на солдата. Своим обликом Ницэ Догару напоминал ему отца, тоже сломленного нищетой и напастями, с потухшим и печальным взором. Вероятно, такая боль живет в душе многих солдат. Виктору стало стыдно: он так давно командует ими, но почти ничего не сделал, чтобы поближе их узнать, стать им другом, помочь в беде… — И про Кирикэ, господин младший лейтенант? — повернул к нему свое заплаканное лицо Ницэ Догару. — Напиши и о нем, — утвердительно кивнул Ганя. — Как мне рассказал, так и напиши. — Хорошо, господин младший лейтенант… В просторном дворе казармы под палящим августовским солнцем старший сержант Гэлушкэ, в расстегнутом кителе и с непокрытой головой, гонял четырех солдат — дежурных по кухне, заставляя их бегать, прыгать, падать на землю, ползти по-пластунски, и кричал во все горло: — Ну вы, вахлаки, тупицы безмозглые! Бить баклуши на кухне — это вы можете, а на фронт — ни-ни, не хотите! Всю войну здесь отсиживаетесь! Не то что я!.. Забыли даже, как надо наступать на врага! Живей, болван, ползи на брюхе, ниже голову, ниже! — С этими словами он поставил ногу на голову солдата. — Вот так! Вот так!.. Это и есть подползание, чтоб вы знали… Грэдинару, не обращая никакого внимания на эти занятия, сидел на кухонном крылечке на низкой скамеечке перед столиком, на котором стоял деревянный поднос с большими кусками вареного мяса, только что вынутого из котла, — от мяса еще шел горячий пар. Он хватал куски узловатыми пальцами, дул, чтобы не обжечься, запрокидывал голову и проворно кидал мясо себе в рот. Жрал он, как изголодавшийся пес, с вытаращенными от жадности глазами. — Велите принести стопочку из офицерской столовой, господин плутоньер! — посоветовал ему Гэлушкэ, хлыстом отряхивая пыль с брюк. — Да и на мою долю не грех. Есть у этих бездельников водочка, холодненькая… Закончу с кашеварами, приду вам на помощь. Грэдинару, казалось, ничего не слышал. Взопревший, измазанный жиром, в сдвинутой на затылок фуражке, он глотал мясо, не прожевывая, без хлеба, без соли, торопясь все съесть, пока кто-нибудь не увидел. Из-за угла кухни появился плутоньер Тэнэсикэ, пожилой худощавый человек, с сединой на висках, чисто одетый, с кротким взглядом карих глаз. Это был один из самых порядочных унтер-офицеров части, отзывчивый, рассудительный и спокойный. Недавно на стрельбах из-за какой-то неисправности взорвался снаряд и несколько осколков попали ему в ногу. Он только что выписался из госпиталя и еще прихрамывал. — Лопаешь, как свинья, Петрикэ! — издали крикнул он Грэдинару, который в этот момент вытирал рот передником одного из кашеваров. — А, Христос, ты вос…крес? — рыгнув, заржал Грэдинару; он так называл Тэнэсикэ за кроткий нрав и доброту. — Я-то воскрес, а вот ты как бы не умер, мыслимо ли столько в себя пихать? — ответил Тэнэсикэ. — Я думал, ты переменился, но нет, все такой же… Позоришь нас, остальных унтер-офицеров. — Знаешь что, Христос, — решил обратить все в шутку Грэдинару, — дождик вот-вот начнется, иди-ка ты отсюда, пока он тебя не намочил. Тэнэсикэ махнул рукой и ушел. Грэдинару весело посмеялся ему вслед, потом, запихнув в рот очередной кусок мяса, пробурчал себе под нос: — В этом полку каждый из себя что-то корчит. И этот умник туда же. «Казарма — рай для солдафона! — размышлял Ганя, глядя в окно на своего плутоньера. — Попробуй перевоспитай такого! Нелегко будет изменить людей. Некоторые черты характера имеют у них слишком глубокие корни!..» Он постоял еще минуту, облокотившись на подоконник, потом расстегнул верхнюю пуговицу кителя, отпустил немного узел галстука и сел на стул. В тишине комнаты слышался лишь скрип пера, которым старый солдат Ницэ Догару с мучительным трудом писал «все как было».25
В просторном кабинете с бархатными вишневыми портьерами на окнах, сидел, развалившись на стуле, обитом кожей, с высокой резной спинкой, начальник полиции Паул Албойю и из чашечки, которую предусмотрительно держал над блюдцем, медленно пил кофе. Он не знал покоя уже двое суток, не сомкнул глаз, не мог даже поесть и похудел на несколько килограммов. Заплывшие жиром глаза его были обведены синими кругами, толстые щеки вяло свисали на белый, накрахмаленный воротник, на висках белела седина. В ночь, когда произошла катастрофа на Балотской горе, его разбудил звонок подполковника фон Клаузинга, который потребовал от него найти злоумышленников до десяти утра. Ни больше ни меньше!.. Позже позвонили из Бухареста, из полиции, потом из штаба корпуса; днем — снова Клаузинг, чрезвычайно раздраженный и злой оттого, что расследование пока не дало никаких результатов. Десятки полицейских и военных патрулей обшарили лес в поисках улик, которые навели бы на след виновных. Они караулили всю ночь, устроили несколько облав, произвели обыски у людей, которые были на заметке у полиции, но все тщетно. Допросили здесь, в полиции, и солдата Ницэ Догару, но старик не сказал ничего нового, все это он уже говорил и в полку: здоровый, сильный парень набросился на него и засунул в рот платок, а другой связал ему руки и ноги, потом они отобрали у него винтовку и скрылись… — Эти двое ни о чем между собой не говорили? — спросил его на первом же допросе начальник полиции, который лично занимался этим делом. — Да вроде бы говорили, господин начальник, — вспомнил Ницэ Догару. — Что именно? — Один сказал: «Слушай, Пиус, а чем мы его свяжем?», а другой велел вытащить у меня пояс от брюк и ремень. — Говоришь, Пиус? — Да, господин начальник, Пиус. — Хм, дядька, но Пиус — это же имя римского папы! — Албойю ударил старика по голове согнутым пальцем. — Ты что, свихнулся или дурака валяешь? — Не знаю, чье это имя, господин начальник, только я так слышал, — не сдавался Ницэ Догару. — Накажи меня господь, если я вру. — Сначала тебя будем бить и наказывать мы, пока ты не скажешь нам правду! — пригрозил ему Албойю. — Покажем тебе разных парней, тебе придется опознать тех, кто на тебя напал… Опознаешь их? — Думаю, что да, господин начальник. Хоть и была ночь, я успел их заприметить… Четыре часа кряду в полицию доставляли молодых людей, которые по одному проходили перед Ницэ Догару, но каждый раз он отрицательно качал головой, говоря, что этот парень даже приблизительно не напоминает ему того, кто на него напал. — Ты, старый хрыч, совсем ополоумел? — начал трясти его Албойю, который потерял терпение и готов был уничтожить старика. — У тебя вовсе память отшибло? Или, думаешь, можно над нами издеваться? В тюрьму захотел? — Если никак иначе нельзя, придется сесть за решетку, — покорно согласился старик. — Что же делать, раз я не вижу того, кто засунул мне кляп в рот? Были просмотрены все картотеки, списки выданных удостоверений личности, книги записей актов гражданского состояния, книги регистрации мобилизованных на призывном пункте, но нигде не обнаружили человека по имени Пиус. Тогда Албойю приказал доставить в полицию всех спортсменов города, и в первую очередь тех, кто занимается борьбой или боксом, надеясь, что, может, среди них окажется здоровый сильный парень с кличкой Пиус. И снова в комнату, где находился Ницэ Догару, вводили одного за другим молодых людей, но измученный старик сидел, полуприкрыв веки, и даже не поднимал на них глаз. — Не тот, господин комиссар! — пожимал он плечами. — Совсем не тот! Полицейский, посланный за спортсменами, застал Ромикэ на тренировке в маленьком темном зале, где он усиленно бил кулаками в огромных боксерских перчатках по мешку с песком. Если бы в этом убогом зале было не так темно, посланец заметил бы, как вздрогнул Ромикэ, когда ему сообщили о вызове в полицию. Он похолодел, и лицо его залила мертвенная бледность. Он вошел в комнату, где на стуле сидел Ницэ Догару, и при виде старика у него перехватило дыхание. Большим усилием воли он взял себя в руки. Тогда, в темном лесу, разглядеть лицо солдата, на которого они напали, было трудно, и все-таки он сразу узнал старика. — Ну как, узнаешь? — Ангелеску, который теперь вел допрос, потому что Албойю измучился и нуждался в передышке, тряхнул Догару так сильно, что солдат чуть не упал со стула. Старик нахмурил брови, прищурился, долго и внимательно всматривался в лицо Ромикэ, потом глубоко задумался. Качнув головой, он снова посмотрел на парня — Ромикэ окаменел, сердце у него замерло. Прошли томительные мгновения. Ницэ Догару покачал головой, широко развел руками: — Нет, это не тот, господин комиссар! Ангелеску сжал руками виски и вышел из комнаты, поминая всех святых и проклиная тот день, когда он пришел на эту неблагодарную службу, где тебя не ценит начальство; возишься тут со всяким сбродом, тратишь здоровье на бродяг да революционеров, а начальство, вечно недовольное, пожинает плоды твоего труда и получает награды. Вот и сейчас приходится заниматься таким запутанным делом, просто непонятно, как его довести до конца, как вести следствие, за какую ниточку ухватиться, чтобы размотать весь клубок. С утра — все очные ставки да очные ставки, однообразные, изнурительные, невыносимые и… ничего! Начальник полиции сам, конечно, отказался вести допрос, мол, очень устал, и спихнул на него эту дохлую кошку. — Ангелеску, возьмешь это дело в свои руки, от его исхода зависит твоя карьера, — распорядился Албойю. — Я доложил начальству, что следствие ведет человек, который прямо лопается от переизбытка интеллекта. — Благодарю, господин начальник. — Ангелеску сделал вид, что польщен: — Рад стараться! — И начал демонстрировать свою сообразительность и несравненное усердие. Но все его усилия были пока безрезультатны. Ни намека, ни факта, ни улики — ничего, что облегчило бы поиски преступников. На третьи сутки Албойю пригрозил, что еще один потерянный день — и его, Ангелеску, свяжут и отправят в главное управление полиции в Бухарест. Тогда Ангелеску пошел прямо к старому Догару и сказал: — Дед, ты признаешь злоумышленника в первом же, кто завтра войдет сюда… — Почему это? — удивился старик и встревоженно посмотрел на полицейского. — Потому. Разом покончим с этим проклятым расследованием. — Пострадает невинный? — А тебе-то что? Не тебя же посадят. — Но ведь у меня есть душа, господин комиссар, есть совесть, не могу я брать грех на душу… — Тогда ты сам в тюрьму и сядешь! — пригрозил ему Ангелеску, красный от злости. — Ты и взорвал этот поезд… — Если вы так решили, воля ваша, поступайте как знаете… — Послушай, дед, я дам тебе десять тысяч лей, только скажи, как я велю. Ну ладно, двадцать тысяч и пару волов! Старик посмотрел долгим взглядом на рыжего полицейского, с осуждением махнул рукой и поднялся со стула. — Ты чего, старик? — А того, господин комиссар… Ухожу к себе в казарму, здесь я больше не останусь, — заявил Догару и решительно направился к двери. — Если уж мы тут начали торговаться, как на рынке, значит, нет правды на земле и бога на небе… — Стой! Не ты здесь командуешь, голь перекатная! — загородил ему дорогу Ангелеску и толкнул солдата опять на стул. — Смотри, пожалуйста, голодранец паршивый, а туда же, про бога разглагольствует! Будешь, черт побери, сидеть и не рыпаться, расследование еще не кончилось! А в это время Албойю сидел в своем кабинете, глотал кофе и ломал голову, как сдвинуть следствие с мертвой точки. Он был взвинчен до предела. «Пропади опа пропадом, эта работа! — кипятился он. — Нет среди моих подчиненных толковых людей, нет, и все тут! — в тысячный раз говорил он себе. — С кем работать? С невеждой Ангелеску? Да он всю полицию опозорил! Это же надо — перепутать археологические исследования с полицейскими расследованиями! Вот бестолочь, кретин безмозглый! А конфискация драгоценностей у часовщика Хинтца?! Из огня да в полымя!.. Чуть не накликал на меня беду с Клаузингом. Немец, с тех пор как произошла катастрофа, не слезает с меня ни на минуту, в него словно дьявол вселился! Каждые десять минут, конечно, под давлением начальства, он звонит и задает один и тот же вопрос: «Что есть нового? Расследование идет карашо? Каковый результат?» А какой у нас результат? Что я могу ему сообщить?» Когда Албойю окончательно вышел из себя, рассуждая на эту тему, дверь распахнулась и ураганом влетел Ангелеску в гражданском костюме, без галстука, потный, всклокоченный, запыхавшийся. — Что с тобой? — дернулся Албойю, с трудом удержав чашку на весу. — Ты так спешишь, словно тебя тут не я дожидаюсь, а разлюбезная краля. — Здравия желаю, господин начальник! — вытянулся Ангелеску. — Разрешите доложить, преступник найден! — Ты нашел преступника? — удивился Албойю и поднялся со стула. Он поставил чашку на стол и, не спуская глаз со своего помощника, подошел к нему вплотную. — Как ты его нашел? Расскажи… Измятое бессонницей лицо Ангелеску просияло, глаза заблестели, и он начал беззастенчиво хвастаться: — Я же старый шпик, господин начальник! — Он расправил плечи и принял внушительный вид. — Я сказал, вы можете на меня положиться, в несколько дней я его заполучу, он у меня попляшет, большевистский выродок… — Ты привел его сюда? — Я сразу его арестовал, господин начальник, чего тут тары-бары разводить? — все так же важно отвечал Ангелеску. — Привести его в кабинет? — Да, конечно! — Эй, Боборуцэ, Тонторойю, ведите этого бандита сюда, к господину начальнику… А ну-ка рысью! Послышались удары и стоны, крики и топот, рассохшийся пол жалобно заскрипел. Кто-то отчаянно плакал, женщина или ребенок, голос тонул в потоке брани. Через минуту два надзирателя втолкнули в кабинет Албойю маленького Максима. У мальчика были связаны руки и ноги, он едва двигался. Лицо было залито кровью, глаз вздут так, что, казалось, вот-вот выскочит из орбиты, а на шее, на плечах сквозь лохмотья рубашки синели полосы — следы ударов резиновой дубинкой. Мальчик тяжело дышал, дрожа всем телом, его била лихорадка. Албойю смотрел несколько минут на Максима, как бы оценивая, потом, схватив его за подбородок, повернул к свету, чтобы получше рассмотреть лицо, отступил на шаг и еще раз молча, сосредоточенно смерил взглядом мальчика с головы до ног, явно раздосадованный тем, что увидел. — Мозги у тебя в порядке? — спросил он у Ангелеску, положив руки на бедра и саркастически глядя на него. — А что такое, господин начальник? — испугался Ангелеску. — По-твоему, у него внешность партизана, а? — спросил Албойю. — Но, господин начальник, я ведь поймал его на месте преступления… Албойю перевел взгляд на Максима и снова принялся его изучать. На лице полицейского комиссара появилось брезгливое выражение: он полностью уяснил себе положение вещей и окончательно был разочарован. Потом Албойю отвел глаза, неторопливо вернулся на место и сел за стол. — Как тебя зовут, парень? — спросил он, легонько отодвигая чашку с кофе. Максим стоял перед ним в своих старых, рваных военных брюках, босой, кожа на ногах потрескалась, его качало от слабости, он дышал тяжело, как загнанная лошадь. Веки на синем, окровавленном лице подергивались и опускались, словно он хотел, но никак не мог проснуться. — Эй, ты что, не слышишь, тебя спрашивает господин начальник! — заорал Ангелеску и так сильно ударил мальчика по затылку, что тщедушный Максим сразу свалился на ковер перед столом. Он несколько раз дернулся, потом затих, еле слышно постанывая, изо рта потекла струйка крови, глаза закатились. — Вот сукин сын, ему ничего не сделали, а у него уже и язык отнялся! — Оставь ты его, Ангелеску, оставь этого недоноска в покое часа на два, на три, пока не придет в себя, а потом возьмете его в оборот, — посоветовал Албойю. Он лениво достал сигарету и закурил. — Если ты считаешь, что у тебя достаточно оснований, начинай следствие немедленно, хотя, по правде говоря, я сильно сомневаюсь. Как ты его застукал? Он связан с какой-нибудь коммунистической организацией? — Сию минуту доложу, господин начальник, — ответил Ангелеску, открывая дверь в коридор. — Только велю убрать отсюда эту падаль. Эй, Боборуцэ, Тонторойю! Живо заберите арестованного из кабинета господина начальника! Надзиратели явились немедленно, взяли Максима под мышки, подняли и поволокли, как мешок. Мальчик был в глубоком обмороке, голова его бессильно повисла, глаза закрылись, он был похож на мертвеца. — Боборуцэ, дружище, вылей-ка на него три ведра холодной воды, а потом опять за дело! — распорядился Ангелеску, стоя в дверях кабинета. — Ты ведь старая полицейская крыса, знаешь порядки… Он постоял на пороге, глядя, как тащат Максима в камору для допросов, и вернулся в кабинет к Албойю. — А теперь расскажи, как ты его поймал. — Очень просто, господин начальник, проще пареной репы, я и не мечтал, что так будет, — начал свой рассказ Ангелеску и по знаку комиссара полиции уселся в одно из кресел, стоявших перед письменным столом. Он был счастлив безмерно, еще бы, начальник оказывает ему такую честь! — У этого оболтуса нет ни отца, ни матери, он работает учеником и продавцом бубликов в булочной «Братья Графф». Сегодня утром приходит ко мне один человек, — есть и у меня свои агенты, а вы как думаете? — приходит инвалид по имени Вэрзару, раньше он содержал лавчонку на рынке, воевал, имеет Железный крест, так вот, этот Вэрзару мне и говорит, что ночью, часов в двенадцать, он шел по Главной улице и напротив магазина увидел девушку, она шла по другой стороне, а позади нее пацан в солдатских брюках, босой. Он шел на расстоянии сорока — пятидесяти шагов от девушки и все прикладывал руку к окнам, водосточным трубам, воротам и заборам. Инвалиду стали любопытно, он перешел дорогу и, чиркнув спичкой, присмотрелся к одной из витрин. На стекле было приклеено что-то вроде маленького объявления. — Что за объявление? — поинтересовался Албойю, спокойно затягиваясь сигаретой. — Какой-нибудь манифест? — Листовка, господин комиссар. У меня есть один экземпляр, в папке, я вам покажу… — Какого содержания? — Вы же знаете, что пишется в таких бумажках… Старая пластинка: призыв к саботажу, неподчинению властям при мобилизации и всякие прочие разности. Нехорошие слова в адрес верхов, германской армии, в общем, все в таком духе!.. Например: «Солдаты, отказывайтесь воевать и умирать ради таких преступников, как Гитлер и Антонеску!» Слышите, как эти бандиты называют нашего господина маршала? И еще более великого полководца, господина Гитлера?.. — Хорошо, оставим это, я тоже почитаю листовку, — прервал его Албойю, откинувшись на спинку стула, — но сначала расскажи, как ты раскрыл это дело. Как пришел к выводу, что именно он отобрал у солдата винтовку, взорвал поезд и проделал все остальное… — Вот, значит, как дело было, — продолжал Ангелеску, пригладив спутавшиеся сальные волосы. — Инвалид попытался схватить подпольщика на месте преступления. Но вы же понимаете, он калека, еле-еле передвигается на своих костылях. Мальчишка заметил, что за ним следят, и улепетнул, исчез за первым же поворотом. Исчезла и девица… — Ты подозреваешь, они связаны друг с другом? — Безусловно, господин начальник! — уверенно ответил Ангелеску. — Иначе она не смылась бы вместе с парнем. — А кто такая эта девица? — Ее мы не смогли задержать, — ответил Ангелеску с глубоким сожалением. — Мы его поутюжили, этого бубличника, но он, чертов сын, как воды в рот набрал! — И про девицу молчит? — И про себя, и про нее. Говорит, ничего, мол, не знает, это не он был ночью на улице, он не связан ни с одной коммунистической организацией, ну и прочую чушь… — Да, эти типы всегда так говорят, их этому учат, — заметил Албойю, изящным жестом стряхивая пепел в пепельницу. — Но ты знаешь, как стоит вопрос. Его нужно заставить признаться. Про то, что пущен под откос поезд, он ничего не говорит? — Абсолютно ничего. Молчит как рыба, будто немой, гаденыш. Молотишь его, как сноп, и все зря. Вы видели, я его превратил в тряпку, а толку чуть… — Может, не он клеил листовки сегодня ночью? — Албойю попробовал поставить под сомнение ловкость своего подчиненного. — Ты же говорил, что инвалид не смог его схватить, не видел вблизи… — В самом деле не видел, — согласился Ангелеску и снова попытался пригладить свои лохмы. — Но кое-какие приметы он мне все-таки сообщил: рост, то, что парень в солдатских брюках, босой… А потом, господин начальник, я нашел и вещественное доказательство. Прямо в пекарне, под ржавыми противнями, я обнаружил листовку. — Из тех, что клеят на витринах и заборах? — Нет, другого типа, но тоже листовка. — А как тебе пришло в голову совершить налет на пекарню? — Очень просто, господин начальник, — надулся от важности Ангелеску. — Видите ли, этот инвалид приходил рано утром ко мне домой; дело в том, что, вы ведь знаете, наш дом разбомбило, я переехал в другое место, живу теперь у зятя этого инвалида, возле рынка, где торгуют скотом. Как я вам уже докладывал, он мне сообщил соответствующие приметы; я оделся в гражданское и отправился на поиски преступника. Не прошел я и двадцати шагов — а шел руки за спину, праздно, прогулочным шагом, — как вдруг вижу — он! Надо же, какая удача! Я сразу заметил в толпе пацана в солдатских брюках. Он нес корзину за барыней, мне кажется, она жена одного из братьев Графф, я ее лично не знаю, толстая такая, с круглой головой и большой грудью, да, так вот, я сразу приметил этого шпингалета и тут же его схватил. «Ты у кого работаешь, а?» — неожиданно для него я вцепился ему в руку. «У господ Графф», — перепуганно промямлил он и изменился в лице. «Пойдешь со мной», — приказал я и подтолкнул его в спину. Но он, гаденыш, начал отбиваться ногами, ударил меня кулаком в грудь, съездил по лицу. Надо же, чертово отродье!.. Но я ухватил его за шиворот, кликнул двух полицейских, они как раз проходили мимо, и мы с ним справились. Барыня и опомниться не успела, как мы были уже там, где он живет, и произвели первый обыск… — Но ведь ты говорил, что нашел эту листовку под противнями… в пекарне… — Верно, — кивнул Ангелеску. — Это потому, что у пацана нет жилья, господин начальник, он спит в пекарне, на рваных мешках, в углу. Ну а когда перевернули в пекарне все вверх дном, я и нашел под грудой противней эту подлую листовку. Так что сомнений в его виновности быть не может… Албойю задумался; он барабанил по крышке стола толстыми пальцами, унизанными кольцами, и с совершенно отсутствующим видом смотрел в окно на ясное, как хрусталь, небо. Через некоторое время он заговорил: — Видишь ли, Ангелеску, ты хорошо поработал, но что мы скажем немцам? Связан этот пацан или не связан с какой-нибудь коммунистической организацией, мы не знаем, у нас есть предположение, что именно он взорвал поезд с танками и бронемашинами наших союзников, но нет никаких доказательств. Понимаешь? Клаузинг требует виновного… — Вы не знаете, что сказать немцам, господин начальник? — подскочил от удивления Ангелеску и снова провел рукой по копне грязных рыжих волос. — Положитесь на меня, завтра же он признается в том, что взорвал не только этот поезд, но и тот, что взлетел месяц назад, или можете выкинуть меня на помойку! Вы мне не доверяете, как будто я новичок зеленый… Можно подумать, у меня первое такое дело… Если до вечера этот змееныш не признается, он забудет, как звали мать родную, а я привяжу к ногам камень и брошусь в Дунай! Клянусь честью, брошусь! Мы не смогли пока что заставить парня признаться, но это не так просто. Вам кажется, он такой тщедушный да худенький, дунь на него — он и повалится, так это потому, что ему врезали хорошенько. А вообще он, сволочь, твердый орешек, не проронил ни слова! Но вы не беспокойтесь, со мной этот номер не пройдет. Не пройдет, господин начальник, потому что в городской полиции нет мне равных! Так что я буду продолжать следствие… — Хорошо, Ангелеску, продолжай, — согласился Албойю и почувствовал большое облегчение после такого поворота дела. Придавив пальцем окурок, загасил его в фарфоровой пепельнице. — Если вопрос стоит так, я позвоню немецкому коменданту, пусть знает, как у нас идет следствие, пусть успокоится и не считает, что мы здесь спим да на бога надеемся… Стремясь продемонстрировать свою оперативность, не откладывая ни минуты, он снял телефонную трубку. Но тут открылась дверь и вошел Ганс фон Клаузинг в сопровождении немецкого солдата, худого и неуклюжего, с белым, как молоко, лицом. Ангелеску быстро отошел в сторону и застыл в почтительной позе, а Паул Албойю положил трубку на рычаг и поспешил встать из-за стола. — Не беспокойтесь! — сказал Клаузинг, резким жестом бросил перчатки в фуражку и ткнул ее солдату. — Доброе утро… — Здравия желаю! — приветствовал его Албойю, по мере возможности приводя в порядок свою внешность. — Садитесь, господин подполковник. Садитесь… Он поспешно обошел стол и поставил кресло перед немецким офицером. Но Клаузинг не принял этого жеста гостеприимства и бесстрастно уселся в другое кресло, с независимым видом вытащил очки и спокойно принялся вытирать их носовым платком. — Какие новости? — спросил он, высокомерно глядя на Албойю. — Я только что собирался вам звонить, господин подполковник, доложить, как идет следствие, а вы в это время… — Ха-ха-ха, — наигранно и саркастически засмеялся Клаузинг. — Есть такой поговорка: «Wenn man vom Wolf spricht, so ist er nicht weit». Понимаете по-немецки? О волке говорят, а он в дверь… — Совершенно верно, господин подполковник! — расплылся в улыбке комиссар полиции, но улыбка получилась вымученной. — В румынском языке есть такая же поговорка… — Ja, — сухо кивнул Клаузинг, давая понять, что больше не намерен отвлекаться от дела. — Ja… Ну, каков результат? — поднял он брови и надел на нос очки в золотой оправе. — Следствие идет хорошо, господин подполковник, — зачастил Паул Албойю. — Мы напали на верный след. Помощник комиссара полиции Ангелеску, он здесь присутствует, добился под моим руководством очень хороших результатов… — Вот видите… — Клаузинг взглянул через плечо на Ангелеску, которому не мог простить легкомыслия в истории с часовщиком: — Я ведь говорил: «Müßiggang ist aller Laster Anfang». — Извините… я не понял, господин подполковник, — раболепно заблеял Албойю. — Вы знаете, немецкий дается нам с трудом… — Вебер! — Клаузинг сделал знак солдату, который как раз собирался испросить у него разрешения закурить. — Господин комендант, — перевел солдат, — сказал, что праздность — мать всех пороков. — Понял, господин подполковник, понял! — На этот раз Албойю изобразил на своем лице эстетическое удовольствие от такой тонкой, свежей и полной юмора мысли. — Вы большой философ, честное слово, и вы правы. Глубоко правы… Конечно, зло рождается от безделья. Но мы приняли необходимые меры… — Herr[21]Албойю, — оборвал его Клаузинг, наставительно подняв указательный палец, — очень много слов! Нужны поступки, ясно? — Конечно, господин подполковник, конечно, — закипал комиссар полиции. — Именно про поступки, про действия я и хотел вам доложить. Сегодня утром Ангелеску, похоже, арестовал одного из тех, кто орудовал в Балотском лесу. Он оказался учеником пекаря. У него обнаружили коммунистические листовки. Люди видели, как он клеил точно такие же на стекла витрин и водосточные трубы… Вебер тут же перевел это на немецкий язык, и Клаузинг сделал большие глаза. — Партизан?! — спросил он, вопросительно глядя то на Албойю, то на Ангелеску, который подошел поближе, полный готовности рассказать лично, как поймали мальчишку. — Ein Kind Partisan?[22] — Да, да, господин подполковник, — лез из кожи Ангелеску, подойдя ближе еще на шаг и горя желанием дать необходимые пояснения. — Видите ли… Но Албойю сделал незаметный знак своему подчиненному, чтобы он не очень-то затягивал разговор, и Ангелеску стушевался, отступил назад, к двери. — Ist hier das Kind?[23] — Здесь, господин подполковник, — ответил Албойю, обойдясь без переводчика. — Он в арестантской. Желаете его видеть? — Ja! Ганс фон Клаузинг поднялся во весь рост и был похож теперь на величественную статую. Он молча протянул руку в сторону Вебера и глазами показал на свою фуражку и перчатки. Албойю проворно обежал стол, подскочил к двери и широко распахнул ее перед немцем. — Ангелеску! — властно обратился он к помощнику. — Беги открой арестантскую!.. — Она открыта, господин начальник, — как ошпаренный, дернулся тот. — Боборуцэ и Тонторойю его допрашивают… Важный, осанистый, Ганс фон Клаузинг зашагал по темному, грязному коридору с закопченными стенами и окнами. В метре от него трусили Вебер и двое полицейских. На каждый их шаг ветхие половицы отзывались жалобным скрипом. Вскоре они свернули направо, в другой коридор, такой же темный и грязный, как первый, с той только разницей, что из дальнего его конца невыносимо воняло мочой. Двери по обе стороны этого коридора были окованы железом и в каждой — маленькие, с ладонь, окошки, забранные решетками. Из-за одной из таких дверей донеслись слабые, надрывающие душу стоны и вдруг раздался звериный крик надзирателя: — Ты будешь говорить, сучье племя, будешь?! Хочешь, чтоб я из тебя лепешку сделал, большевик окаянный! Говори сейчас же, не доводи меня до крайности! Албойю сделал знак Ангелеску, и тот, опередив группу, быстро подошел к двери, из-за которой доносились стоны, и открыл камеру. Два здоровенных надзирателя, без кителей, потные, с резиновыми дубинками в руках, удивленно взглянули на посетителей. Услышав тихий, но внятный приказ Ангелеску, они торопливо вытерли пот со лба и, отойдя к стене, замерли по стойке «смирно». На стертом грязном полу, свернувшись калачиком, колени у подбородка, лежал малыш Максим, весь в синяках и крови, подергиваясь в слабых, редких судорогах. Разодранная рубашка висела на нем лохмотьями, совершенно мокрая, потому что надзиратели обливали мальчика водой, пытаясь привести его в чувство. Вдруг он шевельнулся, заплакал и произнес слова, которые для надзирателей были лишены всякого смысла: — Нет… Не знаю… Беги, принцесса… беги… — Что он говорит, а? Что такое бормочет? — Ангелеску опустился на колени и склонился над арестованным, чтобы получше расслышать. — А черт его знает, господин комиссар! — ответил один из надзирателей. — Бредит! Все про какую-то принцессу, и больше ничего. Больше ни слова… Ганс фон Клаузинг тоже подошел поближе и остановился, руки за спину, прямой как столб, с важным и неприступным видом, такой, как всегда. Некоторое время он с кислой миной презрительно рассматривал маленького Максима, потом попытался носком начищенного сапога повернуть его лицом вверх, чтобы лучше разглядеть. Но усилия его были напрасны, и в конце концов он отказался от своего намерения. — Поднять его, господин комендант? — услужливо предложил Ангелеску, собираясь приняться за мальчика вместе с надзирателями. — Может, господин комендант желает… — Nein![24] — сделал немец решительный жест рукой. — Нет необходимость… — Я ему сейчас так врежу, господин комендант, — услужливо продолжал Ангелеску. — Буду вести допрос сам, лично. Он нам все скажет, назовет сообщников… — Ist hart wie Stahl, — сказал Клаузинг, ткнув пальцем в Максима. — Ничего не сказать… — Я не понял, — обратился Албойю к Веберу. — Он говорит, этот человек тверд как сталь, — переел Вебер. — Как сталь? — удивился Албойю. — Господин комендант, какой бы стальной он ни был, — подскочил к нему Ангелеску, — а я в два счета сделаю из него тряпку, не сойти мне с места, сделаю. Вы убедитесь в этом, когда придете сюда завтра… — А я думаю, его надо дня на два, на три оставить в покое, может, он потом и даст какие-нибудь показания, — предложил один из надзирателей. — Если же мы все время будем его так бить, он не выдержит, загнется… — Что такое? — заинтересовался Клаузинг и посмотрел на Вебера. Солдат перевел ему то, что сказал надзиратель. Клаузинг ухмыльнулся, махнул рукой и брезгливо поморщился, потом опять подошел к Максиму и ударил его под лопатку носком сапога. Мальчик в беспамятстве застонал и замолк. Он лежал, поджав ноги, в луже крови и воды, и по телу его пробегала судорожная дрожь. — «Ich bin zu gut für diese Welt»[25], — продекламировал немецкий комендант и, надев фуражку, собрался уходить. — Расстрельять! Поджарить… на этой… на зажигалке, поджарить и загофорит, немедленно! Расстрельять! Я сам расстрельять! Он вышел из камеры, за ним — Албойю и Ангелеску. Вебер в этот момент закуривал сигарету и немного отстал. — Мы приготовим документы, чтоб отдать его под суд, господин комендант! — угодливо заглядывая в глаза немцу, семенил рядом Албойю. — Под суд военного трибунала. — Расстрельять! Расстрельять!.. Вот так… Если не загофорит, расстрельять!.. Он быстро спустился по ступенькам полицейского управления, не обращая больше никакого внимания на Албойю, и вместе с Вебером сел в синий «мерседес». Машина рванулась с места и понеслась по Главной улице наверх, к муниципалитету.26
В селе Чернец, километрах в трех от города, в маленьком деревенском домике из трех комнат с верандочкой, увитой виноградом, жил надзиратель Петре Мэчукэ. Он работал в городской тюрьме уже несколько лет. До этого он был подметальщиком в железнодорожных мастерских, потом поругался с мастером и его выгнали с работы. Одно время он продавал газеты, затем торговал зеленью на рынке и в конце концов устроился надзирателем в тюрьме. С первых же дней своей работы Петре Мэчукэ проявил исключительное усердие и необыкновенную преданность делу. Очень скоро среди заключенных стали распространяться легенды о силе его кулака. Он безжалостно сбивал с ног любого, кто не подчинялся приказам начальника тюрьмы. «Форменная дубина, — говорили заключенные, наблюдая за тем, как он одним ударом «вбивал в стену» какого-нибудь карманника, который не хотел выходить на работу. — Не ошибся тот, кто дал ему такую фамилию…»[26]. Ночью, во время дежурства, когда он делал обход тюрьмы, можно было быть уверенным — он начеку, ничего не пропустит, услышит малейший шорох. Не прошло и двух месяцев, как его приняли на работу, а он уже раскрыл заговор воров-карманников, которые готовили побег. За это ему было выдано вознаграждение в размере нескольких сот лей, деньги ему вручил сам начальник тюрьмы. В другой раз он своим особенным нюхом обнаружил в хлебе маленькую пилку, которую принесла в комнату для свиданий одна женщина; заключенный мясник, в драке убивший своего зятя, хотел этой пилкой подпилить оконную решетку камеры и бежать через тюремную ограду. Нет ничего удивительного в том, что через шесть месяцев за свое примерное отношение к работе Петре Мэчукэ был назначен старшим надзирателем. Но прошло всего семь недель после этого памятного события, как новое происшествие заставило гудеть всю тюрьму. Ион Райку, находившийся в предварительном заключении в ожидании перевода в лагерь, повысил голос в присутствии Мэчукэ, стал угрожать надзирателю и требовать, чтобы на него, Райку, распространили режим политических заключенных, а не обращались с ним как со взломщиками и карманниками. Рассерженный Мэчукэ поднял кулак, чтобы ударить, но Райку крепко схватил его за руку и крикнул прямо в лицо: «Зверь! Я напишу жалобу в дирекцию тюрем!..» — «Жаловаться?! — с пеной у рта взревел старший надзиратель. — Я тебе покажу жаловаться!» Об этом случае стало известно всем, и о конфликте между Райку и Мэчукэ узнали заключенные, которые высоко оценили смелость и чувство собственного достоинства у рабочего, арестованного по подозрению в принадлежности к коммунистической партии. Однажды ночью Ион Райку бежал, и, несмотря на самые тщательные розыски, не удалось выяснить, как он смог выйти из камеры и перелезть через тюремную стену. Петре Мэчукэ и еще двоих надзирателей нашли на земле за конюшней, они были избиты в кровь и привязаны друг к другу толстой веревкой. А на склоне, который спускался от тюрьмы к казармам пехотного полка, наутро после побега обнаружили следы женских туфель. И это все… Кто осуществил смелую операцию по освобождению узника, неизвестно. Все было окутано тайной, и еще долгое время тюремные надзиратели отдувались за потерю бдительности. «Пусть он мне только попадется, пристрелю на месте, — сурово заявил черный от злости Мэчукэ. — Я предупреждал этих, из канцелярии, что он опасен, что его нужно посадить на цепь, так они мне не поверили!.. А сейчас его и след простыл». Таковы факты. Но пусть читатель не удивится, узнав о том, что Ион Райку нашел себе убежище именно в доме Петре Мэчукэ из села Чернец. Этот человек, сочувствовавший идеям партии, был вовлечен в движение Сопротивления еще в те времена, когда работал подметальщиком в железнодорожных мастерских, он был надежным товарищем, состоял в местной организации коммунистов, и на него возлагались большие надежды. Правда и то, что он пошел на большой для себя риск, но план, предложенный Хараламбом, был подготовлен с величайшей тщательностью и удался прекрасно. Райку теперь находился в безопасности и мог руководить всей партийной работой в городе. Он жил в одной из маленьких комнат, окна которой выходили на задворки, мебель там была самая что ни на есть деревенская, окна от лишних глаз всегда завешены одеялами. Никто из односельчан, знавших надзирателя как человека замкнутого и угрюмого, и так не осмелился бы зайти к нему во двор, но осторожность требовала принять самые строгие меры, дабы избежать любой неприятной неожиданности. Мэчукэ достал старенький, но в хорошем состоянии радиоприемник, который они с Райку поставили в платяной шкаф, чтобы заглушить звук. Теперь Райку мог круглые сутки слушать последние невестин, которые передавали на румынском языке радиостанции разных стран мира. Связь с партийной организацией он держал через Хараламба. Тот приходил изредка, ночью, пробираясь со всеми предосторожностями через огород, позади дома, коротко отчитывался и получал указания, которые передавал затем всем первичным ячейкам. Здесь, в этой комнатке, в одну из таких ночей Райку и Хараламб разработали до мельчайших деталей план организации боевых отрядов, которым предстояло бороться за свержение фашистского режима Антонеску и изгнание гитлеровцев. Они назначили командиров и определили стоящие перед ними задачи. Взвешивая со всех сторон этот план, Райку все время что-то совершенствовал в нем, добавлял, заботясь о том, чтобы все было разложено по полочкам, чтобы не возникло ни одной неожиданности во время его исполнения, когда руководство партии даст сигнал к действию. Однажды вечером после ужина Райку сидел, облокотившись на стол, в своей комнатке и только хотел прикурить от лампы, как послышался короткий стук в дверь. Он вздрогнул и замер, прислушиваясь. Кто бы это мог быть? Инстинктивно он бросил взгляд на дверь шкафа и убедился, что она закрыта. Через мгновение стук повторился трижды, потом через короткий промежуток раздался снова, и тогда Райку пошел и открыл дверь. На пороге, тяжело дыша, стоял разгоряченный Хараламб. — Здравствуй! — Он протянул руку Иону Райку, и тот ответил ему рукопожатием. — Что поделываешь? — Да вот, ждал тебя, беспокоился, что задерживаешься… — В городе была облава, и мне пришлось сделать большой крюк, чтобы незаметно выйти в поле, а потом уж бежать сюда, в деревню, — ответил Хараламб, все еще не отдышавшись и торопливыми движениями вытирая платком лоб и затылок. — Боялся опоздать да и не хотел, чтобы ты беспокоился, вот я немного и пробежался. — У тебя такой вид, словно-за тобой гнались полицейские собаки… Садись же, вот стул… — Ишь чего! Нет, не видать полицейским такого счастья! — фыркнул Хараламб, усаживаясь. — Я стреляный воробей, меня так просто не поймаешь… Он тоже вытащил сигарету и прикурил от пламени лампы, которая стояла на столе. На стенах плясали их тени. В комнате было тихо. — Петре на улице? — спросил Райку. — На улице, — ответил Хараламб. — Стоит на углу дома, накинув на плечи полицейскую форму, караулит. — Ну скажи, какие ты мне принес новости? — Райку стряхнул пепел в банку, которая служила пепельницей. — Новости очень хорошие, — начал Хараламб, продолжая вытирать лицо платком. — Как продвигаются у тебя дела с организацией боевых групп, особенно в мастерских? Нужно заканчивать эту работу. — Дела продвигаются. Группы в мастерских укомплектованы. — Задания выполнены? — Да. Ячейка с судоверфи оказалась на высоте, честное слово! Цепь бурового станка, уж на что толстая, разорвалась, ящики с оборудованием для немецких судов пошли к чертовой матери, на дно Дуная, всего за несколько секунд. — Что ты говоришь! — Точно… — Их вытащили? — Вытащили, но не все, значит, зубчатая передача некомплектна. А те, что вытащили… можешь себе представить, на что они годятся… Ремонт задержался на две недели. — Очень хорошо. А в железнодорожных мастерских? — И там наши на высоте. То и дело подают ложный сигнал воздушной тревоги, как, впрочем, и на судоверфи. Люди выскакивают на улицу, разбегаются, и рабочий день пропал… Издан приказ о принятии самых жестких мер по отношению к тем, кто самовольно оставляет работу. Они считаются саботажниками и идут под трибунал. — Пусть попробуют запугать нас приказами! — сказал Райку, махнув рукой. — Кого-нибудь поймали? — Никого… — Что еще слышно? — Два паровоза задержаны позавчера у нас на станции под предлогом того, что они нуждаются в ремонте, и отправлены в мастерские, — шепотом продолжал Хараламб. — Состав цистерн с бензином для Германии остался без паровозов. В мастерских паровозы разобрали, можно сказать, до последнего винтика… — Это здорово! А чем занимаются комсомольцы? — Да все тем же. Пока они успешно выполняют все задания. В Балотском лесу пустили под откос эшелон с немецкими танками и бронемашинами. — Я обрадовался, когда услышал взрыв! — Глаза Райку оживленно блеснули в свете лампы. — Никто не провалился? — Нет. — А кто участвовал? — Двое, Габриэль и Пиус, оба с судоверфи… — Это их подпольные клички? — Да, так мне, во всяком случае, сказали… — Передай им через Валериу благодарность от Молнии. Ладно? — Конечно. — Как случилось, что схватили этого мальчугана, продавца бубликов от «Братьев Графф»? — озабоченно спросил Райку, и его лицо помрачнело. — Он комсомолец? Мне сказал Петре, что в полиции его чудовищно пытают, будь они прокляты, эти зверюги! — Да, он комсомолец, — подтвердил Хараламб. — На последней встрече Валериу мне рассказал, как это произошло. Один инвалид увидел, как он расклеивал листовки, и выдал его помощнику комиссара полиции Ангелеску… Парень держится хорошо. Никого не назвал. Не проронил ни слова. — Плохо, что мы несем потери, — заметил Райку задумчиво и грустно. — Особенно жаль детей, которые борются вместе с нами, воодушевленные мечтой о счастье! Много ли они видели в своей жизни, пока еще такой короткой? Почти ничего. Но они жертвуют собой ради великого дела, и кто-то из них не доживет до победы… Как это ужасно! — Райку замолчал, стряхнул пепел в банку и несколько минут размышлял, наблюдая за кольцами сизого дыма, которые плыли к низкому потолку. Чуть погодя он спросил: — Ты что-нибудь знаешь про моего Санду? — У него все в порядке, — ответил Хараламб. — Вернулся из Констанцы и работает на судоверфи. Я его видел на прошлой неделе, он покупал на рынке зелень. Сам кухарничает… — Про меня ему не говори ничего, слышишь, Хараламб? Так только, что со мной, мол, все в порядке, я здоров и постоянно думаю о нем. Пусть будет умницей и заботится о доме… — Хорошо… — Как с оружием? Раздобыли еще что-нибудь? — Один из комсомольцев, взорвавших поезд, отобрал винтовку у старого солдата. Парню это могло дорого стоить. Да и операция провалилась бы… — Этот вопрос обсуждался в молодежной организации? — Обсуждался. Комсомолец оправдывался, говоря, что другого выхода не было, солдата, на которого они напоролись, следовало или убить, или связать и отобрать у него винтовку. Так они и сделали. — Где она, винтовка? — Сдали Валериу, и он отнес ее куда надо, приобщил к остальному, оружию. — Очень хорошо. Учти сам и передай Валериу, главное, что теперь требуется, — это оружие и еще раз оружие: винтовки, гранаты, боеприпасы. В любую минуту они могут нам понадобиться. И необходимо, чтобы оружие хранилось в идеальном состоянии. — А у тебя что слышно? — спросил Хараламб. — Я знаю, сюда приезжал представитель руководства. Что он говорит? Как развиваются события? У меня уже не хватает терпения ждать, руки чешутся… — Да, приходил товарищ, он вернул наш план действий с кое-какими уточнениями. — Серьезными? — Не очень, число групп и их состав прежние. То же самое можно сказать и о тех, что ты комплектовал в железнодорожных мастерских. Они укомплектованы полностью? — Да. — Прекрасно. Ну а в отношении военнослужащих гарнизона? Как мы будем действовать? Этим очень интересовался и товарищ из области. Дни идут, а дело не движется. Свергнуть существующий режим и повернуть оружие против немцев невозможно без участия военных. Мы такое указание получили, и я убежден в его правильности. Ты себе представляешь, на какую силу мы можем при этом рассчитывать? Какой огромный вклад способна внести во все это армия? Свои группы мы уже составили, знаем, на что надеемся, но достаточно ли этого? — Не волнуйся, дружище, — попытался успокоить его Хараламб. — Младший лейтенант Ганя, единственный, кого нам прямо рекомендовали привлечь к нашей деятельности, был в отъезде. Едва он вернулся, мы с ним связались, все сделано так, как ты просил. — Что он вам сказал? — Согласился. Даже обрадовался, что ему поручают такое дело, благодарил за доверие нашу инициативную группу — так я назвал ему нашу организацию. Я объяснил, что надо делать, поручил составить план действий патриотических отрядов по нашему гарнизону… Он уверенно рассчитывает на роту, которой командует. — Хорошо, но разве нас интересует только Ганя? Разве мы будем иметь дело с ним одним? А кого-нибудь еще не сумели бы вы или Ганя привлечь к нашему делу? — Пока нет, товарищ Райку. — Хараламб широко развел руками. — Рано вербовать кого-то еще. По словам Валериу, есть один офицер, лейтенант Сабин Ницулеску, его можно было бы привлечь, но мы недостаточно знаем, какие у него убеждения. — Хорошо, остановимся на Викторе Гане, но не будем упускать из виду и Ницулеску. Нужно с ним работать, убеждать в правоте нашего дела… Ну а с Ганей, мне кажется, все ясно. — Он человек надежный, уверяю тебя. Насколько я понял, у него есть какой-то контакт с партией… — Это меня радует, — сказал Райку. — Тем более что, по твоим словам, этот Ганя пользуется большим влиянием на солдат своей роты. — Безусловно. — Ну что ж, раз теперь с нами и младший лейтенант, мы можем быстро доработать наш план, — заключил секретарь. — Нужно согласовать его предложения с нашими. При условии, что за основу будут взяты наши разработки. Следовало это сделать раньше, но, ты говоришь, его не было в городе… А теперь необходимо торопиться. Завтра к вечеру ты мог бы принести его план действий? Как ты думаешь? — Думаю, что да. Сегодня же свяжусь с ним, пусть подготовит материалы. — Я составлю общий план, мы его обсудим в узком кругу, и каждый получит конкретное задание… — Когда мы созовем людей? — В воскресенье вечером, в двадцать два часа, на чердаке спиртового завода. Место надежное. — Кто примет участие в этой встрече? — Все, кто ответствен за это дело: я, ты, клепальщик с судоверфи Флоря, Валериу и, разумеется, младший лейтенант Ганя… — И он? — спросил Хараламб. — Да, и он. Мы будем обсуждать только те вопросы, которые связаны с вооруженной борьбой против немцев в нашем городе: задачи, цели, средства… — Хорошо, товарищ Райку. — Хараламб поднялся, собираясь уходить. — Значит, так: завтра вечером я приношу тебе материалы от Гани, а в воскресенье, в двадцать два часа, мы встретимся, как условились… — Договорились… — А как ты живешь? Не нужно ли тебе чего? Продукты, сигареты, я знаю, у тебя есть. Но, может быть, еще что-то надо? Какую-нибудь книгу? Что-то передать? Да мало ли еще… — У меня все есть, — сказал Райку, положив руку на плечо своему связному. — Я только жду того дня, когда смогу выйти на свет божий. Устал от этой темноты! — Уже недолго осталось, — ответил Хараламб. — Не сомневаюсь и потому терпеливо жду… — Ну, будь здоров, счастливо тебе! Они крепко пожали друг другу руки. Хараламб осторожно открыл дверь и вышел на цыпочках в сени. Постоял немного, прислушиваясь к ночной тишине, выглянул и, увидев сигнал Петре Мэчукэ, спустился во двор, обошел дом и как тень исчез в непроглядной тьме. Выбравшись из села, Хараламб зашагал полями, которые тянулись к городу. Подойдя к городской окраине, он вдруг услышал возбужденные голоса. Шла перебранка между несколькими мужчинами, плакала женщина, неугомонно лаяли собаки, ночь усиливала эти звуки, придавая скандалу преувеличенные масштабы. У кого-то в руках мелькал зажженный фонарь; тот, кто его держал, не считался, видимо, с правилами светомаскировки, очень строгими в последнее время. Луч света то поднимался, то опускался, иногда и вовсе исчезал за спинами столпившихся людей. — Перестань, Думитру, перестань! — отчетливо звучал в ночи рыдающий голос женщины. — Мне плохо… Хараламб постоял минуту, напряженно вслушиваясь, не зная, как поступить. Ему очень хотелось узнать, что там творится, но в его положении следовало избегать встреч с кем-либо из знакомых или с полицейскими. И он, не обращая больше внимания на ночной переполох, свернул на другую улицу, торопясь к центру города. Но не успел он сделать и нескольких шагов, как столкнулся с бедно одетой старой женщиной, которая тянула за собой ребенка лет пяти, босого, в одной рубашонке. — Господин хороший, его поймали? — спросила она, останавливая Хараламба, который хотел было ее обойти. — Кого поймали? — Убийцу. — Какого убийцу? — Разве вы не оттуда идете? Не от дома Замфиройю? И что вы на меня так смотрите? — Нет, я там не был, — тихо ответил Хараламб и, пряча от нее свое лицо, стал вытирать его платком, как будто оно вспотело. — А что случилось? — Значит, вы не знаете? — поняла женщина. — Так вот, сейчас я вам объясню. За домом Замфиройю нашли тело убитого немца. Кто-то ударил его ножом. Страшный, видно, был удар, немец, говорят, не пикнул. Свалился в бурьян у забора… Немецкий солдат. — За что его так? — спросил Хараламб. — А кто его знает за что? — пожала плечами женщина. — Всякое болтают. Видели его будто и раньше, он ходил к жене Замфиройю, а ее муж подкупил каких-то бродяг, чтоб они, значит, его убили, а ее, мол, убьет он сам. А кто говорит, его убили цыгане, чтобы очистить ему карманы и забрать ручные часы, вроде бы они у него были дорогие, золотые… Потому что, слышишь, стянули с него и сапоги. Сапоги-то у него были хорошие, из воловьей кожи, новые… — Да что ты говоришь? — прикинулся удивленным Хараламб. — Вот какая история, душа моя, — заключила женщина, с трудом удерживая ребенка, который все тянул ее за руку, чтобы идти дальше. — Ну до свидания, всего вам доброго. Женщина с ребенком исчезла в ночи, и Хараламб несколько минут смотрел ей вслед, взволнованный услышанным. «Какова бы ни была причина этого преступления, — рассуждал он, думая о немецком солдате, — ясное дело: наши уже не могут терпеть так называемых союзников, допекли они народ…» Где-то очень близко послышался глухой шум мотора. Наверное, это была машина полиции или немецкой комендатуры, она мчалась на большой скорости к месту происшествия.27
Комната на чердаке спиртового завода, в которой проходило совещание, принадлежала когда-то сторожу этого предприятия. Сторож в ней давно не появлялся. Это было маленькое, тесное помещение, неуютное, убогое, со стойким запахом мышей и плесени. Потолок в нескольких местах обвалился, всюду паутина. Пол прогнил, и сквозь щели можно было разглядеть огромный цех, слабо освещенный луной, и даже большие котлы, железные лестницы. Крошечное, круглое, как донышко ведра, окно выходило во двор, сейчас оно было занавешено чьей-то курткой, так что свет от керосиновой лампы с улицы не был виден. В назначенный час все были в сборе. Клепальщик Глигор (партийная кличка Флоря), хорошо сложенный, широкоплечий мужчина, с прекрасным цветом лица, сидел на деревянном чурбане и большими ладонями разглаживал лист газеты, пытаясь при слабом свете лампы разобрать печатный текст. Рядом с ним, на другом чурбане, сидел Хараламб и протирал платком очки, изредка поглядывая на Ганю, который о чем-то тихо разговаривал с капралом Динку. Ганя был в штатском: клетчатый спортивный пиджак, брюки гольф, поношенные альпинистские ботинки с широкими белыми шнурками. Большой, тяжелый, он разместился на ящике, который, едва выдерживая такой вес, трещал при каждом движении младшего лейтенанта. Динку что-то рассказывал ему про колодец — возня с этим колодцем во дворе полковника Предойю все еще продолжалась, — но мысли Гани текли по другому руслу. Со времени первой встречи с Хараламбом Виктора наполняло особое чувство удовлетворения и спокойной уверенности: наконец-то он встретил людей, которым суждено было изменить ход событий в стране. В этой убогой комнатке собрались те, к кому он рвался, кто представлял собой огромную силу. Здесь разрабатывался план свержения режима Антонеску и изгнания гитлеровцев, эксплуатирующих румынский народ. Взгляд Гани остановился на Глигоре. Сколько силы и решимости выражали черные страстные глаза клепальщика! А Хараламб? Внешне спокойный, он таил в себе неиссякаемую энергию. Или капрал Тудор Динку, молодой, убежденный в своей правоте, умный, сдержанный в спорах, неторопливый в суждениях, точный в анализе, осторожный и при этом очень деятельный во всем, что касается интересов страны… И сколько еще таких в армии! Сегодня утром, например, он встретился с лейтенантом из пехотного полка Сабином Ницулеску, высоким худеньким юношей со смышленым взглядом и легкой, спортивной походкой. Ганя знал его уже довольно давно. К Ницулеску люди относились по-разному: одни считали его пройдохой, другие говорили, что он человек цельный, прямой, в принципиальных вопросах не уступает начальству, не заискивает, не подлаживается. Кое-кто упрекал его в строптивости, даже вздорности. По слухам, его отец был крупным промышленником. Но сын придерживался иных взглядов, чем отец, и был настроен против режима Антонеску. Он мечтал о мирной жизни, о путешествиях по белу свету, о знакомстве с новыми людьми, новыми странами, иными обычаями: он был мечтателем, романтиком, не видел смысла в том, что народы враждуют между собой, не понимал страсти к завоеванию чужих земель, которая охватила фашистскую Германию. — Как дела, медведь? — окликнул он Ганю. Они поздоровались, отошли в сторонку, и тут Ницулеску доверительно передал ему то, что сам узнал из надежного источника: военные действия скоро прекратятся. — Знаешь, что я нашел у солдат? Сигареты, особенные. Когда их зажигаешь и делаешь первые затяжки, на бумаге проступают буквы. И тогда можно прочитать: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», «Солдаты, покидайте фронт!». Или проступает серп и молот, — сказал он. — Ты видел их своими глазами? — спросил Ганя. — Один сержант принес мне несколько штук. Я сделал вид, что не придаю этому никакого значения, и продолжал заниматься своим делом. А потом проверил одну за другой. Это работают коммунисты, честное слово! Я тебе говорю, парень, еще месяц-другой — и пойдет совсем иная пьеса! Вдруг заскрипела деревянная лестница. Ганя насторожился. Остальные резко повернулись к двери. Хараламб быстро поднялся с деревянного чурбака и сделал им знак, чтобы они сидели тихо. Потом вытащил из кармана фонарик с маскировочным фильтром, зажег его и встал на пороге комнаты, глядя вниз, на лестницу. — Здесь живет сторож Кристя Тудорашку? — послышался снизу шепот. — Нет, он переехал в село Гура-Вэйи, — ответил Хараламб с верхней площадки, стоя так, чтобы его лучше было видно тем, кто находился внизу. — Вот уже три недели. — Он продавал кухонную плиту? — спросили снизу. — Нет, не плиту, а чугунную печурку, но он ее уже продал… Давай заходи, мы тебя ждем… Через минуту, нагнувшись, чтобы не удариться головой о притолоку, в комнату вошел довольно высокий человек, в надвинутой на глаза черной шляпе, в коричневой рубашке с засученными рукавами. Это был Ион Райку. — Добрый вечер! — поздоровался он, прошел в угол комнатки и сел за стол, на котором стояла керосиновая лампа. Сняв шляпу, пригладил волосы на лбу и, прищурившись, внимательно осмотрел всех. — Кто это? — шепотом спросил Ганя, наклонившись к уху капрала. — Не знаю, его лицо мне незнакомо! — пожал плечами Динку. Стало совсем тихо. Райку придвинул лампу, и только при ее свете все увидели его суровое, смуглое лицо с ранними морщинами, сжатый рот и угольно-черные глаза, которые живо поблескивали из-под кустистых бровей. Густые, на косой пробор, волосы серебрились у висков, а непослушная прядь падала на высокий лоб, и он часто откидывал ее легким движением головы. Подошел к столу и Хараламб, надел очки и по едва заметному знаку Иона Райку открыл совещание: — Прежде всего я хотел бы представить нового члена организации. Младший лейтенант 95-го пехотного полка, офицер, призванный из запаса, Виктор Ганя. Недавно он вошел в состав одной из боевых групп нашего города. Все повернулись к Гане. Райку улыбнулся ему и поднял лампу над головой, чтобы каждый рассмотрел Виктора получше. Глигор подвинулся ближе к столу. — А сейчас перейдем к повестке дня, — сказал Хараламб. — Прошу тебя сделать сообщение, — повернулся он к Райку. — Нам нужно уложиться самое большее в двадцать минут… Райку спокойно и неторопливо кивнул, прибавил в лампе огня, так что она стала слегка коптить, и еще раз осмотрел лица всех собравшихся. Он начал говорить медленно, тщательно взвешивая слова, стараясь быть как можно более понятным и убедительным. — Народные патриотические силы, — говорил он, — готовят в стране свержение Антонеску и заключительный этап борьбы против настоящих врагов нашего народа, гитлеровцев. Пока неизвестно, когда этот решающий момент наступит. Задача первостепенной важности для всех патриотов сегодня — готовность к вооруженной борьбе. Для этого, — продолжал он ровным голосом, — коммунисты уже давно начали сплачивать патриотические силы нашего города, вооружать людей и готовить их к решающей схватке. Для чего мы собрались здесь в таком тесном кругу? Чтобы посоветоваться, обсудить во всех деталях наш план действий, принять конкретные организационные меры, предусмотреть все, что необходимо. Вы уже слышали, что мы имеем теперь в своих рядах офицера Виктора Ганю, чьи знания военного дела чрезвычайно ценны для нас. Мы поздравляем его со вступлением на благородный путь спасения родины. Ганя был искренне тронут и так смущен, что не знал, куда девать свои большие руки. Нерешительно задвигавшись на ящике, который вот-вот мог развалиться под его тяжестью, он наконец решился и медленно поднялся во весь свой богатырский рост, чуть не упираясь головой в грязный облупленный потолок. — Прежде всего я должен вас поблагодарить, — тихо, почти шепотом начал он. — Поблагодарить за то, что нашел путь, по которому, я уверен, хочет идти каждый честный человек нашей страны, путь борьбы с несправедливостью, путь, который ведет к лучшим и более счастливым временам для всех нас… Я не читал программы коммунистической партии, но я знаю, как разворачивались события 1933 года в Гривице и позже, на процессе в Крайове, и я понимаю, что политика коммунистической партии проводится в интересах простых людей, людей угнетенного класса, рабочих… И я был безлошадным крестьянином, жил трудно, да что там говорить, все и так ясно! — заключил он, смутившись оттого, что заговорил о себе. — Спасибо и капралу Динку, это он взял меня за руку и привел к вам… Прошу вас, не сомневайтесь в моей преданности. Уверяю вас, я не боюсь трудностей и риска. Вы убедитесь, я человек верный. Еще раз спасибо, что вы приняли меня в свои ряды. Мы будем вместе бороться и победим… Все были взволнованы. Им понравилось, как говорил Ганя; они оценили простоту, искренность, естественность этого человека, вышедшего из народа, горящего желанием принять активное участие в революционной борьбе, идти вместе с теми, кто хочет вытащить страну из болота нищеты, спасти от гибели. — То, что сказал наш друг Виктор Ганя, — заметил Райку, — прекрасно выражает чаяния истинных патриотов у нас в городе, как и во всей стране, они ненавидят до глубины души режим Антонеску и готовы в эти трудные минуты взять в руки оружие. — Моя рота, простите, что я вас перебил, полностью в вашем распоряжении. Заверяю вас, как ее командир… Верно, капрал? — Верно, — энергично подтвердил Динку. — Я тоже беседовал с людьми, знаю их, знаю, чего они хотят… — Вот видите! Так оно и есть! Прошу прощения, что вмешался. — Молодец, младший лейтенант, — прошептал ему Глигор и крепко пожал руку. — Жизнь многому меня научила. Вот я и пришел к вам. Ведь здесь все коммунисты? Себя я считаю коммунистом. И хочу, чтобы вы это знали… Хараламб попросил всех говорить тише, чтобы их не услышали с улицы. Ганя очень смутился, он понял, что замечание относится к нему. — Извините меня, я увлекся и повысил голос, — сказал он. — У меня в душе словно плотина прорвалась… — Ничего, — вмешался Райку. — Придет время, Виктор, когда мы будем говорить в полный голос. А пока… Законы подполья суровы, и их нужно соблюдать свято. Любая ошибка может стоить нам жизни. Так что не сердись на замечание друга… — Что вы, совсем нет! — с улыбкой заверил его Ганя. — Тогда продолжим, — сказал Райку, движением головы откидывая волосы со лба. — Я вам уже говорил, составлен план борьбы, борьбы с гитлеровцами. Некоторые с этим планом уже ознакомились. Мы учли и предложения младшего лейтенанта. — Ну, не так уж их много и было, но все-таки хорошо, что я смог рассказать вам о конкретных возможностях нашего гарнизона… — Ваши предложения оказались очень дельными, — сказал Райку. — Они помогли мне улучшить первоначальный вариант. Мое мнение — все пункты выполнимы. А теперь, друзья, перейдем к делу. Мы должны создать местную группу действий. Попросим нашего друга Флорю принять на себя руководство боевыми отрядами патриотов города, его помощником станет младший лейтенант Ганя. Флоря, ты согласен стать командиром боевых отрядов города? — спросил Райку. — Согласен! — торжественно поднял руку Глигор. — Только нужна полная ясность в том, что нам предстоит сделать… — Будет тебе ясность, не беспокойся, — ответил Райку. — Переходим к обсуждению конкретного плана действий. — Он вытащил из кармана бумагу, положил ее на стол, пододвинул лампу, чтобы можно было разобрать полузашифрованный текст, написанный бисерным почерком. — Наименование плана — «Западный Дунай», — сообщил он. — Он содержит несколько пунктов, прошу внимательно их прослушать. Речь пойдет об организации боевых групп, каждая группа состоит из восьми человек во главе с командиром. Люди получат оружие и боеприпасы, которые будут выдаваться в назначенное время, каждый боец отвечает за их сохранность. Бойцы народных дружин обязаны знать это. Операция по сигналу «Восход» начнется с того, что наши бойцы и солдаты Северинского гарнизона должны будут занять помещения почты и телеграфа, вокзала, судоверфи, железнодорожных мастерских, городской управы, полиции. Будет нарушена телефонная связь немецкой комендатуры, а также полиции и жандармерии с городом. Отряд вооруженных рабочих и солдаты из роты младшего лейтенанта Гани должны оцепить немецкую комендатуру и арестовать Клаузинга. Нам известно, что фашисты не располагают крупными силами. Десять офицеров, двадцать унтер-офицеров, остальные — солдаты. Всего человек пятьдесят. Правильно, господин младший лейтенант? — Так точно, господин Райку! — ответил Ганя. — В соответствии с данными о численности немецких и румынских сил гарнизона в целом мы составили предварительный план операции. Необходимо уточнить, каково положение на сегодняшний день. — Об этом я позабочусь. Это нетрудно. У нас есть все сведения. — Прекрасно. Теперь еще один важный момент. Вам, господин младший лейтенант, возможно, придется принять на себя командование гарнизоном. Конечно, правильно оценив ситуацию, полковник Предойю сможет осознать свой патриотический долг, и тогда… — А если не сможет, я приму командование на себя. Все это время я буду в казарме и даже заночую там. Ключи от склада с оружием у меня. Вторая связка — у капрала Динку. — Тут все ясно… но необходимо вот еще что… — Райку сосредоточенно разглаживал бумагу со своими записями. — Город стоит на одной из главных магистралей страны. Добраться к нам не составляет труда. А если местные фашисты не сложат оружия и запросят помощи у своего командования? К тому же некоторые румынские военнослужащие могут не присоединиться к нам… Следовательно, нам необходимо держать под неусыпным наблюдением подъездные пути и быть готовыми их перекрыть. Даже если сил у нас будет меньше, чем мы рассчитываем. — Мы выведем из строя их телефонную связь! Они уже не смогут взывать о помощи. — Глигор посмотрел на Ганю, ища у него поддержки. — Без телефона как без рук… — А рация? — возразил Динку. — Наверняка у них есть и радиосвязь. — Несомненно, — подхватил Райку. — И к такому варианту нам надо быть готовыми. — Насчет румынских военнослужащих волноваться, по-моему, не стоит. Настроение в гарнизоне такое, что вряд ли кто-то из них будет сражаться на стороне гитлеровцев. — Но предусмотреть такую возможность мы обязаны… Друзья, — продолжал Райку, — относительно операции «Западный Дунай», которая начнется по сигналу «Восход», я беседовал с представителем ЦК Коммунистической партии и уполномоченным по области. Эта операция явится составной частью боевых действий патриотических сил в масштабах всей страны. Мы будем действовать с единой целью, по общей схеме. Я их заверил, что мы приложим все усилия к тому, чтобы выйти победителями из неминуемой схватки с врагом. Они просили вам передать, что надеются на вас, на патриотический дух Северина и желают нашему городу скорейшей победы. Вот и все, дорогие товарищи! Теперь за дело! Райку повернулся, пожал руку Хараламбу, потом остальным присутствующим. Тихо открыл дверь, постоял минуту на пороге, напряженно прислушиваясь, спустился по прогнившим деревянным ступенькам и окунулся в кромешную тьму.28
Прошло несколько дней. Полковник Предойю назначил Гане время, когда тот должен прийти к нему с рапортом о боевой готовности роты. Младший лейтенант явился утром, сразу после подъема, точно к указанному времени. Но прошло десять, пятнадцать минут, а полковника все не было. Для такого пунктуального человека, как Предойю, это было довольно странно. В ожидании начальства Ганя мерил шагами кабинет и пытался себе представить, что могло так задержать полковника. Он подошел к окну. По дороге тащились запряженные волами телеги, рядом с ними, помахивая кнутами, шли крестьяне. Во дворе казармы перед самым окном несколько солдат, изнуренных духотой жаркого августовского утра, таскали ведрами воду и поливали цветы, росшие по бокам дорожки, усыпанной мелкой речной галькой. Старые солдаты последнего призыва двигались медленно, молча, не глядя один на другого. «Вот для чего держат этих несчастных в армии, — размышлял Ганя. — Для того, чтобы поливать цветы в полку!.. Скольких война оторвала от дела! И ради чего?» Отворилась дверь, и вошел полковник Предойю. Лицо его было усталым, бледным, волосы растрепались, взор потух. За два дня он постарел на десять лет. — Здравия желаю, господин полковник! — Виктор стал по стойке «смирно». — Здравствуй, Ганя, — ответил Предойю вяло, равнодушно и, подойдя к столу, с отвращением бросил на него папку, которую держал под мышкой. — Что ты тут делаешь? — Прибыл по вашему приказанию, господин полковник!.. — Ты знаешь, зачем я тебя вызвал? — Нет, господин полковник. — Вот почитай, ты поймешь, что нас ожидает… Предойю вытащил из папки лист бумаги и протянул младшему лейтенанту. Ганя взял бумагу и заскользил глазами по напечатанному тексту. — Насколько я понял, началось наступление советских войск в районе Молдовы. Корпус требует, чтобы мы послали туда еще один маршевый батальон… — Представляешь?! — глаза полковника сердито блеснули. — Откуда мы возьмем людей? Сделаем из глины, дунем, чтобы ожили, как это сделал господь бог? Ну скажи на милость, откуда? Ганя еще раз пробежал глазами телефонограмму, адресованную командиру полка, и молча положил ее на стол. — Ну что ты думаешь? Неужели в корпусе не знают, какое у нас положение? — Думаю, господин полковник, что они очень хорошо его знают, —ответил Ганя, почтительно вытягиваясь перед начальником. — Ты говоришь о нашем численном составе? — раздраженно уточнил Предойю. — Я имею в виду другое. Положение на фронте. — То есть? — сузил глаза Предойю. — Фронт разваливается, господин полковник, — сказал Ганя, продолжая стоять навытяжку перед Предойю. — Это осознают и те, кто дал телефонограмму. Но они исполняют приказ, который получили сами, и в такой же интерпретации передают его нам, как говорится, «на исполнение». Вышестоящее начальство требует сейчас от наших солдат фанатического героизма. Но какой моральный источник должен питать этот героизм, никто сказать не может. Потому что каждый солдат, каждый гражданин спрашивает себя: за что мы воюем? Какова цель нечеловеческих усилий, которые стоили многих жизней? Никогда, господин полковник, наш народ не зарился на чужие земли. Об этом говорит история. Мы всегда только защищались… — Мы и сейчас защищаемся, — перебил Предойю, но как-то не очень уверенно. — Разве нет? — Но мы начали военные действия не с обороны, — не сдавался Ганя, глядя прямо в глаза Предойю. — Мы первыми напали, господин полковник, вы это хорошо знаете. А сейчас мы потому и защищаемся. Яснее ясного!.. Не народ начал войну, а фашисты, буржуазия, Антонеску. Не народ виноват в преступных махинациях, от последствий которых он страдает, а выразитель интересов буржуазии — сам маршал! Предойю был ошеломлен; он ужаснулся тому, что услышал, и, испуганно покосившись на дверь, строго сказал своему подчиненному: — Послушай, Ганя, мне не нравятся твои рассуждения! Честное слово, не нравятся. Да я и не обязан их выслушивать. Я тебе уже говорил: ты можешь очень просто загреметь под суд военного трибунала… — Все зависит от того, кто будет меня обвинять, господин полковник, — твердо возразил Ганя, не теряя присутствия духа. — Во всяком случае, вы не стали бы выступать как свидетель обвинения. Вы разделяете мои взгляды и… — Я?! — захлебнулся от возмущения Предойю. — Ты в своем уме, парень? — полковник нервно закурил. — Мне всегда хотелось быть с вами откровенным, — спокойно продолжал младший лейтенант. — Я твердо уверен, господин полковник, что в глубине души вы считаете меня правым и, споря с собственным «я», не можете не прийти к тому же выводу. — Вот что, Ганя, — заговорил все так же нервно Предойю, выдохнув дым и отгоняя его ладонью. — Я отношусь к тебе с симпатией, потому что ты умный, цельный человек, но я не позволю тебе искажать мои мысли, понимаешь? — Не сердитесь, господин полковник, но речь идет не об искажении. Моя догадка основана на анализе жизни и людей, на серьезных наблюдениях… И разве только я или только вы так думаете? Уверен, сегодня из каждых десяти человек девять приходят к такому же выводу, советуются со своим собственным «я», боясь выдать себя в разговоре с другими. Девять из десяти поняли: наш народ не может больше мириться с тем, что происходит. А мы, господин полковник, простите за резкость, мы отдаем себе отчет в том, какая трагедия разыгрывается в стране, но довольствуемся ролью сторонних наблюдателей, и только. — А что мы можем? — спросил Предойю. — Что можем? Выйти на сцену и изменить действие пьесы. Вы меня поняли, господин полковник? — Извини, но ты безумен! Честное слово, ты не в своем уме. А я тоже безумец, потому что слушаю тебя, вместо того чтобы вытолкать за дверь. Вытолкать — это в лучшем случае… — Не сердитесь, господин полковник, но если вы считаете, что я подстрекатель, отдайте меня под суд военного трибунала. — Дело не в том, что ты подстрекатель, я так не считаю. Просто ты очень неосторожен. Понимаешь? Я лично, из определенных соображений, ради доброго отношения к тебе, о котором ты знаешь, сделаю вид, что и не слышал твоих слов. Я не хочу иметь неприятности. Скажи, ты так говоришь только со мной? Ведь даже со мной ты должен сдерживаться! — А вы всегда сдерживаетесь? — не сдавался Ганя. — Я же вижу, что сегодня вы растерянны… потому что должны послать людей на фронт. Послать их на смерть… А я уверен, что эту бессмысленную войну вы осуждаете… И разве вы можете сохранять самообладание, спокойствие, делать вид, что ничего не слышите, не видите? Реальность, жестокая реальность не даст вам пройти мимо! Людям все надоело, господин полковник. И в тылу, и на фронте. Особенно на фронте… Они теперь больше понимают, смотрят глубже. Обратите внимание — люди по собственному желанию, а не по приказу своих командиров бросают оружие и бегут… Вам известны приказы штаба корпуса о дезертирах? Наши «братья по оружию», гитлеровцы, посылают нас на передовую, чтобы мы ценой жизни создавали им условия для «планомерного» отступления. Предойю отвернулся от Гани и, молча затягиваясь сигаретой, уставился в окно. Он думал, искал ответы на мучившие его вопросы. Конечно, Ганя прав, аргументы его неопровержимы, страна идет к гибели, это понимают все. Но парень ведет себя слишком смело, не следит за своими словами, несдержан и в любой момент может допустить оплошность. Разве он, как командир, должен терпеть такое поведение подчиненного, разделять такие взгляды и, более того, следовать им в жизни? Приказы относительно подрывных элементов армии были абсолютно недвусмысленны. Нет, он постарается подавить в себе всякую сентиментальность. И полковник, словно не было у них только что важного и тревожного разговора, спокойно ответил: — Оставим пока в стороне вопросы, которые нас не касаются. — Он размеренным шагом вышел на середину комнаты. — Скажи, как, по-твоему, следует поступить, чтобы выполнить указание командования? — Вы имеете в виду телефонограмму? А что по этому поводу думаете вы сами? — Надо послать хотя бы две роты, — неуверенно ответил полковник. — И где же вы их наберете? — спросил Ганя. — Возьмем у вас, перетряхнем новобранцев… — Господин полковник, простите, но я не могу с вами согласиться, — Ганя старался говорить как можно убедительнее. — Из моей роты не следует отдавать ни одного человека. И из батальонов новобранцев тоже брать нежелательно. — Потому что люди еще не обучены? — Это только одна из причин… — А другая? — То, что годилось вчера, уже не подходит сегодня, господин полковник, — уклонился от прямого ответа Ганя. — Я говорю о положении в стране. Вы видите, как оборачиваются события, как стремительно они развиваются… Даже из приказов, которые получаем мы, видно, что люди под руководством коммунистов организуются, вооружаются, готовятся к борьбе… — Ты думаешь, скоро произойдет государственный переворот? — оглянувшись, шепотом спросил Предойю. — Не знаю! — пожал плечами Ганя. — Мои предположения интуитивны, я просто анализирую обстановку, как любой человек, который хочет сегодня предугадать то, что случится завтра… — Весьма рискованные предположения! Ты заходишь слишком далеко… — заметил Предойю. — Вы абсолютно правы, — согласился Ганя. — Да, это только предположения, и к тому же рискованные… Но есть и бесспорные факты. — А именно? — Вы ведь читаете те же информационные сводки, что и я. Видите, что на фронт идут снаряды с неисправными взрывателями, недоброкачественный бензин, в результате чего выходят из строя танки и автомашины, на железнодорожном транспорте авария следует за аварией, сотни ящиков с боеприпасами и винтовками пропадают со складов и в пути… А отчаянные циркуляры полиции и военного гарнизона, где скупо, но прямо говорится о саботаже, где призывают к бдительности и крайней осторожности? Вы знаете, что только здесь, в этом городе, партизаны взорвали два немецких поезда… Не говоря уж о действиях партизан в районах Молдовы, Валя Праховей, Баната… — Зачем ты мне все это говоришь? — в недоумении пожал плечами полковник. — Затем, что в такой опасный период мы не можем оставить гарнизон без солдат. — У нас есть два батальона новобранцев, они стоят в нескольких километрах от города, — спокойно возразил Предойю. — Эти батальоны останутся на месте, чтобы гарнизон был обеспечен солдатами в соответствии с приказом штаба корпуса. А на фронт пошлем обученных, старый состав… Поэтому я и говорил, что людей надо взять только из твоей роты… — А в моей роте только новобранцы, так что же, будем уповать на детей, которые только что научились обращаться с оружием? Таким решением мы нарушим приказ штаба корпуса об обеспечении боеспособности гарнизона. — Остальные стары, Ганя. Они не годятся… — Стары, господин полковник, вы правы, стары, посмотрите во двор, они еле-еле поднимают ведро с водой. Но у них есть фронтовой опыт, они знают, что такое по команде открыть огонь, совершить маневр на местности, как действовать в обороне, в атаке, в окружении. И здесь, в гарнизоне, мы можем положиться на них, мало ли что случится… — Тогда давай сформируем две роты из новобранцев, — предложил полковник. — Простите, но я и с этим не согласен, — запальчиво возразил Ганя. — Я вам уже докладывал. Разве вы сможете подписать смертный приговор двум сотням необученных молодых солдат, которые даже не научились укрываться от пуль? Они виноваты лишь в том, что из-за войны им раньше времени подошел призывной срок, они надели военную форму и вынуждены теперь исполнять, еще раз извините, бессмысленные приказы… Неужели вы так бессердечны? Я уважаю и ценю вас, господин полковник… Я простой учитель латыни, мобилизованный, у меня самый маленький в армии офицерский чин… Но для меня главное в человеке не чины, а душевные качества… — Что же мне делать, на что решиться? — совсем растерялся Предойю и быстрым движением затушил сигарету в пепельнице. — Взять новобранцев — плохо, старых — тоже. Что же остается? Разве ты не видишь, сколь категорична телефонограмма? — Доложите в корпус, что у нас нет возможностей, — высказал свое суждение Ганя. — Кто может, тот пусть и посылает. Ведь необходимо выполнить и другой их приказ: обеспечить безопасность гарнизона в эти бурные и тревожные времена… Почему они издают такие противоречивые приказы? Что у нас тут — бездонная бочка? Сокращение численности тоже имеет свои пределы. Пусть немного протрезвеют и вышестоящие начальники, пусть не выполняют больше приказы господина маршала так… слепо. Полковник Предойю не знал, как поступить, голова у него шла кругом. «Всю свою жизнь кадрового офицера, — думал он, — я только и знал, что соблюдал дисциплину, исполнял «без ропота и сомнений» вышестоящие приказы, приказы, которые мне всегда казались правильными, которые не подлежали обсуждению. А теперь я ничего не понимаю! Или я совсем свихнулся, или, как сказал этот Ганя, тем, наверху, пора, черт побери, протрезветь! Он совершенно прав: то они требуют, чтобы мы обеспечили гарнизон солдатами, то шлют телеграммы с просьбой прислать новые пополнения. И верно, что мы им, бездонная бочка?! Прав этот парень! Но разве я могу ему об этом сказать? Разве могу обсуждать с ним приказы вышестоящих командиров? Что тогда будет с дисциплиной, железной дисциплиной, основой основ солдатской жизни?» Размышляя так, он обошел стол, сел и несколько минут молчал. Потом поднял глаза на младшего лейтенанта и сказал: — Хорошо, Ганя, спасибо за совет. До обеда у меня еще есть время подумать. — Конечно… вам решать. Я свободен? — Можешь идти, — разрешил полковник. — Не забудь только составить план обороны казармы, как я говорил тебе вчера вечером. Сделай и чертеж. — Нет кальки, господин полковник. — Ну ее к черту, сделай на обыкновенной бумаге, только сделай, — заключил Предойю. — Чтобы то и другое я получил до обеда. — Понял. — Да, вот еще что! Как там идет следствие? Ну… по делу старого солдата, у которого отняли винтовку? — Он сейчас в роте. В полиции его допросили, но задерживать не стали. — Взыщи с него за винтовку. Так потребовал Грэдинару, и я думаю, это правильно… — А нельзя ее просто списать? Мы столько винтовок потеряли на фронте, одной меньше, одной больше, какая разница? Человек не просто потерял оружие, это оружие украли, мое мнение такое… — Хорошо, посмотрим… Может, ты и прав. Через несколько минут Ганя вошел в канцелярию роты. Склонившись над столом, капрал Динку неумело чертил на листе бумаги план казармы. — Это хорошо, что ты за него взялся, — сказал младший лейтенант, вешая фуражку на гвоздь. — Кончишь — отдашь мне, я дополню его планом обороны, обозначу огневые точки. До обеда я должен вручить его господину полковнику… Где Грэдинару? — Не знаю. Где-то в казарме. Что слышно с отправкой на фронт, господин младший лейтенант? — шепотом спросил Динку. — Солдаты прослышали, что немцы требуют пополнения. — Я только что был у командира, — ответил Ганя, садясь за свой стол. — Убеждал его, что мы не можем послать ни одного человека, особенно из нашей роты. Причину ты знаешь… — Знаю, — заговорщически подмигнул ему капрал, — никого отправлять нельзя. Мы должны на них опираться здесь, на месте… — Безусловно. Только так, — подтвердил Ганя. — То, что мы там решили, — свято. Мы должны выполнить свою задачу. Только у меня большая просьба… Но оставим это пока, поговорим в другой раз. Кто-то идет… И действительно, в канцелярию вошел Грэдинару, держа фуражку, полную обойм. — Черт бы их побрал, мужичье проклятое! — ворчал он себе под нос. — Вот, полюбуйтесь, заставляешь их чистить оружие, а они теряют имущество под стенами склада… И я, старый человек, должен ползать и собирать все в фуражку… Как будто это отцовское наследство, золотые монеты… Но Ганя не слушал его. Он встал, подошел к окну и устремил взгляд куда-то вдаль, поверх корпусов казармы, залитых лучами солнца, которое поднималось все выше и выше в синем небе.29
Темнота незаметно спустилась на город, окутав его черной, давящей тишиной. Пустынные улицы словно погрузились в пучину. В двух шагах ничего не было видно. Окна уцелевших домов были зашторены черной бумагой или завешены одеялами, чтобы на улицу не пробился ни один лучик света. Но немного погодя над лесом выплыла большая, круглая, похожая на медную печать луна, и ее сияние щедро разлилось в пространстве, высветив контуры домов. Стала видна водонапорная башня, разверзлась бездна мрака и явила взорам изрытые бомбами парки, разрушенные здания, целые кварталы в руинах. Капрал Динку шел неторопливо, держась поближе к стопам. Он побывал у Грэдинару дома, починил плохо закрывавшуюся дверь. В награду он получил от мадам Флорики чашку цуйки и кусочек брынзы с хлебом из военной хлебопекарни, так что чувствовал себя теперь сытым, хотя еда была отмерена в аптекарских дозах. До казармы оставалось еще далеко, и он брел усталый и задумчивый. Его очень угнетала судьба маленького Максима. Как он ни старался, ему никак не удавалось найти объяснение провалу парнишки. Как мог малыш быть таким неосторожным и не обратить внимания на то, что кто-то шел за ним по пятам! Дана приписывала это тому, что сама она в какой-то момент отвлеклась. Ее задачей было наблюдать за дорогой впереди, но хоть изредка она должна была обращать внимание и на то, не идет ли кто-нибудь сзади, тем более что ночью шум шагов нетрудно различить даже на большом расстоянии. «Нет, Валериу, я ничего не слышала, поверь мне. И даже того, что инвалид стучал своей деревяшкой по тротуару, — объясняла она капралу. — Правда, я была довольно далеко от Максима, метрах в пятидесяти, ты ведь мне так велел. Я думаю, инвалид вынырнул откуда-то со стороны, из-за угла, иначе бы Максим его услышал. А разглядеть все равно ничего было нельзя, темно…» Капралу удалось узнать, что мальчика подвергли страшным пыткам, допрашивал его сам помощник полицейского комиссара Ангелеску, но Максим не проронил ни слова, не выдал товарищей. Хотя ему было всего четырнадцать лет, он доказал свою зрелость, проявил исключительную силу духа, мужество и стойкость, сохранив тайну организации. «Я и не представлял себе, что этот пацан способен на такое, — думал Динку. — Было видно, что он самолюбив и горит желанием выполнить какое-нибудь особое задание… Жаль, что это первое задание окончилось провалом… Если бы только задание!.. Положение очень опасное. Возможно, что в конце концов он не выдержит и проговорится о действиях Габриэля и Пиуса на Балотской горе. И он, и девушка присутствовали, когда ребята получали свое задание… Нет, я надеюсь, что он будет таким же стойким, каким был до сих пор, надеюсь… но ценой каких страданий докажет он эту свою стойкость!» Динку было тяжело сознавать, что перенести зверские пытки полицейских выпало на долю самого молодого члена организации. С первого дня знакомства он почувствовал, что Максим близок ему, как брат, что у этого сердечного мальчика с ласковыми карими глазами, одетого в лохмотья и почти всегда голодного, большая и щедрая душа. «Товарищ Валериу, — говорил он иногда Тудору, — ведь правда, придет время, когда и мы, рабочие, будем хозяевами, у нас будут свои заводы и столько денег, сколько у моего хозяина, господина Граффа?» Тудор Динку слушал его с улыбкой, гладил по длинным лохматым волосам. «Наступят такие времена, малыш, — отвечал он ему. — Наступят… Мы не будем похожи на твоего Граффа, но станем жить хорошо…»Тудору Динку предстояло заскочить домой, узнать, все ли там в порядке. Два новобранца полка подарили ему красивого щегла, он посадил птицу в самодельную клетку, а клетку повесил под стрехой. Капрал опасался, что какая-нибудь кошка доберется туда и сожрет щегла. Почти у самого дома Динку увидел машину. Большой, черный, сильно подержанный «форд» резко затормозил у самой кромки тротуара, чуть не сбив Динку. Он испуганно вздрогнул, решив, что это полиция, и собрался было спастись бегством, но в эту минуту дверца машины распахнулась и он очутился лицом к лицу с Хараламбом. — Где ты шатаешься по ночам, парень? — сердито пожурил он Тудора. — Я целый час гоняюсь за тобой и нигде не могу найти. Давай в машину быстро… — А что случилось? — Товарищ Молния передал: операция началась. — Как? Уже? — Динку изумленно посмотрел на Хараламба. — Когда началась? — Объяснения потом. Через несколько минут состоится совещание группы действий. — Мой командир знает об этом? — Знает. Он уже там. Я привез его из дома. Все там. Только тебя и ждут. Гони, Барбу, жми на всю железку! Машина рванулась и помчалась по освещенным луной мостовым. Шофер, сухонький старичок с большими усами, в полотняной, низко надвинутой на лоб панаме уверенно вел «форд» на предельной скорости, лавируя среди многочисленных ям и выбоин. — Кто это? — шепотом спросил капрал, кивнув головой на молчаливого старика за рулем. — Наш человек. — Машина его? — Да. Он работает на рынке… Через несколько минут «форд» остановился у низкого домика под железной крышей, сплошь увитого виноградом. Они торопливо вошли во двор, темный из-за раскидистых ветвей большой липы. Загремела цепью собака, залаяла, потом, признав Хараламба, успокоилась и затихла. Они прошли через темную кухню с низким потолком, в которой была плита, корыто, полное белья, железная кровать у стола, заваленного грязной посудой. Перед ними открылась дверь. На пороге стоял Глигор. Он был явно взволнован. — Ну наконец-то, хорошо, что вы пришли! Поднялся со стула Райку и пожал руку капралу. Динку огляделся. При свете газовой лампы, стоявшей на старомодном шифоньере, он различил Ганю, который дружески ему улыбнулся и пригласил сесть рядом с ним на сундук. — Ну вот, все в сборе, — торопливо начал Райку, тоже очень взволнованный. — Друзья, — сказал он, — я буду краток, каждая минута дорога. Час назад — может, кто-нибудь из вас слушал радио — передали, что диктатура Антонеску свергнута… Это значит, что мы воюем с гитлеровцами. Патриотические силы под руководством коммунистической партии действовали успешно. Итак, началась борьба с настоящим врагом нашего народа. Мы начинаем вооруженную борьбу. Ганя, — обратился он к младшему лейтенанту, — примите необходимые меры и выставьте часовых на почте, телеграфе, на судоверфи и у железнодорожных мастерских, как это обозначено в плане… Освободите арестованного мальчика… — А что делать с фашистами? — спросил Глигор. — Мы окружим комендатуру, лишим их возможности выйти и предпринять какие-нибудь действия… — Надо их разоружить! — Конечно. Но сначала оцепим комендатуру. Если они сдадутся, том лучше. — А телефонная связь? — Отключите линию связи с немецкой комендатурой, — решил Райку. — Остальные линии пусть работают. Мы нуждаемся в связи. Наши люди получили винтовки? — Получили, — ответил Глигор. — Все готово, — вмешался Хараламб. — Мы дожидались только команды. — Прекрасно, — сказал Райку. — Теперь за работу. Где находится штаб патриотических сил, вы знаете. Флоря, ты обеспечен всем необходимым, чтобы занять здание женской гимназии? Она ведь пустая, ученицы разъехались на каникулы… — Не беспокойся, за мной остановки не будет. — Все держите связь с Флорей. Я тоже буду там этой ночью. Утром проверим, как заняты объекты, предусмотренные нашим планом. Товарищ Хараламб, запаслись ли вы трехцветными повязками? — спросил Райку. — Мы их уже роздали, одновременно с винтовками. — Господин младший лейтенант, — обратился Райку к Гане, — в городе должны патрулировать военные вместе с рабочими. Комендантский час начинается с наступлением темноты. Договорились? — Хорошо, но сейчас уже ночь. — Я говорю о последующих днях. Вводить этот порядок надо сразу. Мы начинаем действовать немедленно! — Понял. — Пока все, друзья! — заключил Райку. — Долгожданный час пробил… — Как мы поступим с машиной? — спросил Глигор. — Возьмите ее себе. Быстрее с Ганей доберетесь до постов… Не теряйте ни минуты! Все встали. Пожали друг другу руки. — Помните, — добавил Райку, — действовать надо внезапно. И очень решительно. Ну счастливо, желаю победы! Они еще раз пожали друг другу руки и расстались.
30
Капрал прибежал к своему связному, веснушчатому пареньку, и велел ему немедленно оповестить всех членов молодежной организации о том, что операция началась. — Как? Уже началась? — удивился связной. Он мгновенно выскочил на сигнал к калитке и стоял теперь в одних трусах и майке, заспанный и растрепанный. — А почему вы в военной форме? Вас успели призвать в армию? — спросил он. — Давай, парень, одевайся и беги, некогда нам сейчас болтать! — оборвал его Динку. — Слышишь? По цепочке связи нужно передать всем комсомольцам, чтобы они явились на свои посты. Значит, не забудь: «Восход». Не забудешь? — Да как это можно? — вспыхнул парнишка. — Ну, я помчался!.. Динку тоже заторопился, чтобы быстрее добраться до казармы. В эти минуты он должен находиться в своей роте. Повернув на Главную улицу, он столкнулся лицом к лицу с солдатом Кирикэ, мокрым от пота, с пилоткой в одной руке и винтовкой в другой. — Куда это ты? — удивился капрал. — Тревога, господин капрал! — Кирикэ еле переводил дыхание. — Господин плутоньер назначил меня связным и велел бежать за господином полковником. Что-то случилось с телефоном!.. — А что случилось? И какая тревога? — Капрал сделал вид, что ему ничего не известно. — Не знаю, — пожал плечами Кирикэ. — Роздали оружие, боеприпасы… Люди стоят в касках на улице и чего-то ждут. — Хорошо, ступай и нигде не задерживайся, — сказал Динку и тоже заспешил. Войдя во двор казармы, капрал сразу заметил переполох. Начальство орало, солдаты бестолково суетились, кто с полотняным мешочком, набитым патронами, кто с ящиком, полным автоматных дисков и пулеметных лент. Перед зданием, где размещалась его рота, шло построение: солдаты в касках, винтовка к ноге, коротко стукали каблуками, звякали лопатками и флягами. Перепуганные, невыспавшиеся, они двигались неуклюже. Старший сержант Гэлушкэ залез на ящик от боеприпасов, чтобы его все видели, и отдавал нелепые приказы. — Десятый взвод, у каждого по десять патронов? Да или нет? — Да-а-а! — хором отвечали солдаты. — Вынуть патроны и сдать их в роту. Живее, служивый, а то я тебя сейчас так потороплю! — Он поднял руку, в которой держал хлыст из плетеных ремешков, и грозно посмотрел на того, кто не проявил должной живости. Строй рассыпался, солдаты столпились у ящика из-под боеприпасов, и возвращали старшине патроны, которые получили несколько минут назад. — Давай, служивый, давай шевелись… байбак, пентюх, треклятый! Крики, толчея, перезвон лопаток и фляг, глухой топот башмаков, тучи пыли… Но вот патроны сданы, на плацу возобновилось построение роты. — Построились? Ро-о-та! Рав-няйсь!.. Солдаты переступали с ноги на ногу, глядя вправо вдоль строя, сдвигались вперед или назад, стараясь, чтобы шеренга была безупречно прямой. Тот, кто выдавался хоть на несколько сантиметров туда или сюда, рисковал получить тычка от Гэлушкэ. Старший сержант слез с ящика, подошел к солдатам, остановился перед строем и рявкнул: — Смир-на! — Все повернули головы вперед. — Слушай мою команду: каждому получить по пятнадцать патронов! Вольно! Разойдись! Динку подошел и удивленно осмотрелся. Трудно было хоть что-нибудь понять: патроны получить, патроны сдать, а теперь снова получить… Гэлушкэ сразу его заметил и сделал знак хлыстом, чтобы он приблизился. — Где ты был? — Выполнял поручение господина плутоньера, — ответил Динку, становясь по стойке «смирно». — А-а, знаю, — вспомнил Гэлушкэ. — Беги на склад, помоги господину плутоньеру вытащить оставшиеся боеприпасы! Динку отдал честь и побежал к складу. Но дверь была заперта, а Грэдинару нигде не было видно. Капрал достал ключ, открыл замок, откинул железные брусья и отворил дверь. Пахнуло спертым воздухом, прогорклой краской. В помещении как попало были свалены пустые ящики из-под боеприпасов, большие картонные коробки, фляги. Динку выглянул на улицу, внимательно посмотрел вокруг и, убедившись, что никто его не видел, закрыл за собой дверь и изнутри запер ее на ключ. Потом подошел к дверям комнатки и несколько раз отрывисто постучал — это был условный сигнал. Замок щелкнул, дверь отворилась, и на пороге возник Михай. — Господин капрал, как хорошо, что вы пришли! — прошептал он и, схватив Динку за руку, втянул в комнату. — Потрясающие события! — Глаза Михая горели от возбуждения. — Что случилось? — Капрал сделал вид, что ничего не знает, спокойно снял с головы пилотку, поплотнее закрыл дверь. — Случилось то, чего мы давно ждали, — ответил Михай хриплым от волнения голосом. — Антонеску смещен, Румыния вступила в антифашистскую коалицию. — Что ты говоришь?! Объявили по радио? — Да, по радио. Я расскажу вам все по порядку. Часов около восьми, шла музыкальная передача, диктор торжественным голосом объявил, что через некоторое время будет сделано важное сообщение. Я все гадал, что могло случиться. Прошло минут двадцать, передача опять прервалась, и снова диктор объявил, что будет передано важное сообщение. Господи, нас держали в таком напряжении до четверти одиннадцатого, пока наконец я не услышал сообщение о том, что диктатуре Антонеску пришел конец и вместе с войсками союзников мы будем теперь освобождать нашу страну от чужеземных захватчиков. Значит, мы повернули оружие против немцев… Потом нам прочли несколько декретов — о назначении генерала Санатеску председателем совета министров, об амнистии, о ликвидации концентрационных лагерей… Ну, что вы скажете, господин капрал? — Слезы радости выступили на глазах Михая. — Великий день наступил! Иначе и быть не могло! — Он взял лежавший около приемника лист бумаги и протянул его капралу. — Вот, я записал сообщение, насколько мог поспеть за диктором. Тут о некоторых декретах. Динку взял бумагу, быстро пробежал ее глазами, сложил и засунул за подкладку пилотки. — Вы ничего этого не знали? — спросил Михай, проводя рукой по усталым глазам. — Не может быть, я не верю… — Кое-что знал, конечно, но только в общих чертах. — Я думаю, полк получил какой-то приказ, — продолжал шепотом Михай. — Во дворе большое волнение. — Да, объявлена тревога, — подтвердил Динку и надел пилотку. — Пойду посмотрю, что там происходит. Продолжай записывать всю информацию. Это сейчас очень важно. — Не сомневайтесь! Я ничего не пропущу. Как вы думаете, завтра мне уже можно будет выйти на свободу? — Может статься, даже сегодня ночью. Но поручиться нельзя. Все зависит от того, как развернутся события… Он пожал Михаю руку и, быстро выйдя, запер за собой дверь. В канцелярии, слабо освещенной керосиновой лампой, Динку застал младшего лейтенанта Ганю. Сидя за столом в расстегнутом мундире, Виктор заряжал свой пистолет и так увлекся этим занятием, что не слышал ни скрипа открывающейся двери, ни шагов капрала. — Здравия желаю! — сказал Динку и, став по стойке «смирно», коснулся пальцами своей пилотки. — А, это ты? — вздрогнул Ганя и, повернув голову, улыбнулся. — Я как раз о тебе думал. Как ты был прав тогда! Помнишь наш разговор? Сколько событий произошло за последние дни! Я ждал этого известия, но, сказать по правде, оно все равно меня ошеломило. И знаешь почему? Может, ты подумаешь, что я неискренний или двуличный человек, но, честное слово, я только сейчас понял, какая это сила — коммунистическая партия! Как она мудра, как великолепно организовала всю работу, какой поддержкой пользуется у народа! — Я никогда не считал вас двуличным, господин младший лейтенант. Разве бы я говорил с вами откровенно, если бы не верил в вашу искренность? А события и впрямь ошеломляющие… Они помолчали, прислушиваясь к доносившимся с улицы звукам: коротким резким командам, топоту башмаков, звяканью касок, котелков, фляжек, лопат. Ганя зарядил пистолет и вложил его в кобуру. — Приготовились? — улыбнулся Динку. — Конечно. Может оказаться, что пистолет мне понадобится, и очень скоро. Смотря как развернутся события… — Вы не знаете, какие-нибудь распоряжения уже поступили? — Динку прошел к своему столу и сел. — Понятия не имею. Я только что пришел. Полк поднят по тревоге, и какие-то распоряжения, вероятно, уже даны. Одно ясно, нашей роте предстоит сегодня занять основные объекты города. Так было предусмотрено на случай боевой тревоги. Зазвонил телефон. Младший лейтенант снял трубку. В ней послышался торопливый хриплый голос. — Вас понял, господин полковник, сейчас буду. — Ганя повернулся к капралу: — Нервничает наш полковник, растерян… Срочно вызывает к себе… — Вы уж там смотрите, господин младший лейтенант, не упустите такой ответственный момент. — Динку снял с вешалки и передал Гане его фуражку. — Если командир откажется действовать вместе с нами, принимайте командование на себя. Наша рота к этому готова. — Не беспокойся, Динку, все будет в порядке. — Ганя застегнул мундир на все пуговицы, поправил портупею, надел фуражку и вышел. Во дворе он увидел, как конвоир с винтовкой наперевес и с примкнутым штыком гонит куда-то арестованных дезертиров. Их было четверо, и выглядели они настоящими оборванцами. Лица солдат осунулись, потемнели, глаза ввалились. При виде офицера они остановились, подравнялись и замерли по стойке «смирно». — Куда это вы, ребята? — поинтересовался Ганя. — Дрова колоть, господин младший лейтенант, — ответил самый пожилой из них, с лицом, поросшим щетиной. — Для кухни треба, потому как тревога, в поход, значит… Еду горячую варят. — Кто вас послал? — Господин старший сержант послали, — ответил конвоир. — Пусть идут, — согласился Ганя. — Только ты им, дружище, не нужен. Они и одни доберутся. Вложи штык в ножны и возвращайся. А вы топайте дальше да поработайте хорошенько. Я с вами потом поговорю. Дезертиры молча посмотрели друг на друга, затем на конвоира, который никак не мог снять штык с винтовки, и недоверчиво уставились на офицера. Он весело улыбался, и они не понимали, шутит он или говорит серьезно. Ведь если это не шутка, они чудом спасены от страшных неприятностей. — Итак, уважаемые, шагом марш! — приказал младший лейтенант. — Чего вы ждете? Привыкли, чтобы вас караулили? Боитесь, украдут? Ну все, хватит, пора приниматься за дело. Наколете дров, явитесь в канцелярию. Поняли? — Поняли, все поняли. Дай вам бог здоровья! Солдаты повернулись и нерешительно и боязливо направились к складу, все время оглядываясь, не идет ли за ними конвоир… Но тот справился наконец со своей задачей, отделил штык от винтовки и двинулся в противоположную сторону, к караульному помещению. Начальник приказал ему отпустить на свободу дезертиров, он и отпустил. Его дело выполнить приказ. Об остальном пусть голова болит у начальства. Виктор Ганя поднялся в полной темноте на второй этаж административного корпуса и вошел в комнату командира полка. На столе еле светила закоптелая керосиновая лампа. Полковник стоял у окна и задумчиво смотрел в темноту. На скрип двери он обернулся и сказал: — Это ты, Ганя? Явился? — Имею честь приветствовать, господин полковник! — Ганя стал по стойке «смирно». — По вашему приказанию прибыл. — Ты уже знаешь, что случилось? — Предойю говорил почти шепотом, словно боясь звука собственного голоса. — Невероятно, просто невероятно! Как я понял, маршал Антонеску арестован… Во всяком случае, из сообщений радио вытекает, что правительство пало. — Знаю, господин полковник. Я слушал радио. — Мы получили приказ поднять полк по боевой тревоге. Нам предписано обеспечить порядок в гарнизоне и принять меры к охране важнейших объектов. — Да, я видел, полк строится на плацу. — Думаю, батальоны в Эргевице и Балоте тоже приведены в боевую готовность. Ждем дальнейших распоряжений. — Так или иначе, но с маршалом и с войной покончено, — сказал Ганя, пристально глядя в глаза полковнику. — Я вам говорил… — М-да, говорил, — задумчиво согласился Предойю. — Тебе что-то было известно… — То же, что и всем: страна идет к гибели и долго так продолжаться не может. Счастье, что было кому ее спасти. — Коммунисты… — Да, коммунисты, — подтвердил Ганя, — единственная способная на это сила. Мощная. И ответственная… А о декретах вы слышали? Один из них — об амнистии. Так что я уже отдал распоряжение, чтобы освободили задержанных дезертиров. Велел им вернуться в строй; обвинение этих людей в дезертирстве потеряло свою силу. — Ты отдал такое распоряжение? — Предойю испытующе посмотрел на младшего лейтенанта. — Да. Мне казалось, это логично. — Не вижу логики. — Очень просто, господин полковник. Их обвиняли в том, что они дезертировали с фронта. Так? — Так. — А этого фронта больше не существует. Какие же претензии теперь к этим солдатам? Никаких! Я поступил логично. И демократично. Полковник моргнул несколько раз светлыми ресницами и устало опустился на обитый кожей стул с высокой прямой спинкой, который стоял у его письменного стола. — Ты позволил себе отдать такой приказ, но ведь у тебя нет официального письменного подтверждения о том, что военные действия прекращены. — А у вас? У вас ведь есть? — У меня-то есть, а вот у тебя нет… А ты командуешь… Это грубое нарушение воинской дисциплины. — Извините меня, господин полковник, но, уверяю вас, на моем месте вы бы поступили точно так же. Это была вполне своевременная демократическая мера. — Какая, какая мера? Демократическая? — Вот именно. — Демократия несовместима с армейскими порядками, с духом армии, — категорическим тоном отрезал полковник, — и демократические меры здесь неуместны… — Несовместима сегодня, а завтра будет очень даже совместима. Вы ведь знаете, tempora mutantur, et nos mutamur in illis[27]. — Ну вот что, Ганя, я сыт по горло твоей латынью. Довольно, черт побери! — Извините, господин полковник… — Ты, Ганя, занимаешься политикой, а это запрещено воинским уставом. За-пре-ще-но. Понимаешь? И не надо злоупотреблять тем, что я к тебе хорошо отношусь. Всему есть предел. Я не хочу подвергать себя ненужному риску. Предойю страшно разволновался и даже рассердился. Ганя понимал, в какой растерянности находится полковник, как мечется в поисках правильного решения, как ему трудно. Ведь он, в сущности, мягкий, сговорчивый и абсолютно порядочный человек. В противном случае разве можно было бы вести с ним такие смелые, открытые разговоры? Полковник снова подошел к окну, отдернул тяжелую шелковую занавеску и несколько минут молча наблюдал за тем, что происходит во дворе. Потом повернулся к младшему лейтенанту, который из деликатности продолжал стоять у двери, ведь полковник не приглашал его подойти поближе или тем более сесть. — Вернемся к проблемам, которые непосредственно касаются нас, — сказал полковник, многозначительно упирая на слово «непосредственно». Он старался казаться спокойным и уверенным. — В соответствии с приказом полк поднят по тревоге… — Да, господин полковник, я вам уже докладывал, роты собрались на учебном плацу. — Прекрасно. Я тебя прошу, проверь, все ли у них в порядке с амуницией, боеприпасами, есть ли у каждого сухой паек. — Будет сделано, господин полковник. — Поскольку ты единственный строевой офицер, не считая, конечно, меня, тебе придется меня заменить на время моего отсутствия. Хочу съездить в Эргевицу и Балотский лес, к новобранцам. А ты тут смотри… чтобы все было в порядке. — Ясно, господин полковник. — И еще: из корпуса поступило распоряжение усилить охрану на почте, телеграфе, на основных предприятиях и в учреждениях города, удвоить патрули. Держать под наблюдением немецкие войска. «Значит, все идет нормально, — подумал Ганя. — Румынские вооруженные силы получили приказ перейти на сторону патриотов». — Разрешите уточнить, господин полковник, я не совсем понял, что имеется в виду, когда требуют, чтобы мы держали под наблюдением немецкие войска. Как это понять? — Они нам больше не союзники. Вот и надо за ними наблюдать, чтобы они не застали нас врасплох. — Если не союзники, то кто же? Может быть, враги? Если враги, так их надо разоружить, пока не поздно, — осторожно гнул свою линию Ганя. — Господин младший лейтенант, — взорвался Предойю, — вы замучили меня своими бредовыми идеями! Издеваетесь вы надо мной, что ли? Я говорю одно, вы слышите совершенно другое! Я отдаю приказ, вы его перетолковываете по-своему!.. — Я просто высказал предположение, господин полковник. — Никаких предположений! — стукнул по столу полковник. — Начальство отдает достаточно ясные приказы. Они в толковании не нуждаются. Может, кто-то уже получил приказ разоружать немцев. Может быть. Не спорю. Но не мы. Немецкий гарнизон у нас небольшой — пятьдесят человек. Поэтому начальство, видимо, решило, что на рожон они не полезут. Клаузинг не дурак, понимает, что сложилась совершенно новая обстановка. А ты все со своими гипотезами… — Не сердитесь, господин полковник, как бы там ни было, приказ держать немцев под непрерывным наблюдением имеет более глубокий смысл. — Может, и имеет. Но мы-то не должны обсуждать приказ. Ясно тебе? Его надо вы-пол-нять, а не обсуждать. — Но разве мы лишены всякой инициативы? Ведь события так неожиданны, а их развитие непредсказуемо… — Инициативы?! — изумился полковник. — При чем тут инициатива? — Да все при том же: надо разоружить немцев и доложить начальству, что мы их разоружили. Не будут же наши начальники возражать. — Ты совсем спятил?! — Предойю был в ярости. — Я тебе внушаю, что мы не можем отклоняться от приказа, а ты все свое!.. Какая-то навязчивая идея, ничем тебя не прошибешь… — Господин полковник… — Все. Точка. Разговор окончен, — оборвал его Предойю. — И чтобы ты знал, я согласовал этот вопрос с полковником Жирэску. Мы с ним виделись полчаса назад. Он тоже против стычек с немцами, ненужных жертв, особенно когда никто от нас этого не требует. — Но сторонник Антонеску ничего другого и не скажет! Как можно с ним советоваться? — Пока что полковник Жирэску — начальник городской управы. Для меня важно, что он человек опытный в военном деле. Более опытный, чем я. Он прочитал телефонограмму, которую мы получили от командования корпуса, и сделал вывод, что немцы больше не наши союзники, тут вы с ним думаете одинаково, но уточнил, что из текста приказа никак не вытекает, будто они стали нашими врагами. Никак не вытекает… — Как не вытекает? — запротестовал Ганя. — Это ясно даже из того, что передали по радио: война с немцами и их сообщниками, венгерскими фашистами. — Это все твои домыслы… Лично я не имею права поступать иначе, чем гласит приказ. Я тебе уже говорил, армия есть армия. И нарушать этот порядок мы не будем. — Мы разорвали военный союз с Германией, и немцы нам этого не простят, господин полковник, они постараются отомстить, уверяю вас. — Пока это ничем не подтверждается. Будем надеяться, что немцы и впредь поведут себя разумно и примут решение, единственно правильное в их положении. Так что успокойся и приступай к выполнению моего приказания. — Есть, выполнять приказание! — Ганя надел фуражку, отдал честь и вышел из кабинета командира. «Эх, какой он трус, заячья душа!.. — думал младший лейтенант, спускаясь по темным ступенькам во двор. — Не может же он не понимать, что мы теперь развернулись против немцев. Хотя кто его знает, вполне возможно, что он и правда ничего не видит дальше своего носа. Что ж, возьму всю ответственность на себя…» И младший лейтенант зашагал туда, где выстроилась рота. Солдаты ждали его приказаний.31
Той же ночью Михай переступил порог родного дома, спеша как можно скорее увидеть близких. Первый, кого он встретил еще во дворе, был Костел. Мальчик вынырнул из-за собачьей будки, кинулся ему на шею: — Ура! Дядя Михай пришел! — Ты что не спишь, непоседа? — Михай поцеловал мальчика, подбросил в воздух и ловко подхватил. — Скучал по мне? Не забыл? — Нет, что ты! Конечно, скучал. А ты где так долго был? — Далеко. — И опять уйдешь? — Нет, теперь не уйду. Дома кто-нибудь есть? — Только мама и тетя. Михай вошел в дом. Мать, увидев его, заросшего, небритого, грязного, вздрогнула и чуть не уронила тарелку. — Михай?! Что с тобой? — Ничего, все в порядке, мама… Кончилось мое добровольное заключение, я вернулся домой. — Где же ты был? Уезжал из города? — Я тебе все потом скажу… Она обняла его, погладила по голове, поцеловала и робко, тревожно спросила: — Ты все еще в опасности? Тебепо-прежнему надо скрываться? — Нет, мама, я же тебе сказал — мое затворничество кончилось. — Господи, как я рада! — Ана снова обняла сына. — Какое счастье, что ты вернулся! Я все глаза проплакала, так за тебя боялась!.. — Успокойся, ну вот, ты опять плачешь… Мама, я дома, все горести позади. — Да, конечно, все позади. Ты ведь слышал, какие невероятные новости? Заключен мир, немцы уходят из страны. Бог дал, чтобы свершилось это чудо! — молитвенно сложила руки мать. — Мы снова будем все вместе, настанут наконец спокойные счастливые дни… В дверях появилась Эмилия. Нелепо накрашенная, во взбитых волосах яркие ленты, взор блуждающий. Тенью она проскользнула мимо них и вышла в боковую дверь. Костел выскочил за ней следом. — Мама, вы не пробовали сводить ее к врачу? — спросил Михай. — Какой врач! — грустно возразила Ана. — Они все уехали из города, спасаясь от бомбежек. Осталось двое: стоматолог, эвакуированный поляк, да наш местный терапевт. Но ты знаешь, Эмилия ведет себя довольно спокойно. Вот только молчит, все время молчит. А то выйдет на улицу и смотрит, смотрит на небо. Иногда и ночью выходит. Теперь вот лентами занялась. Видел? Все их меняет, вплетает, бантик на бантике, и без конца в осколок зеркала смотрится… — А где Дана? — Два часа назад ушла в город. К подруге, так она мне сказала. — А отец? — Пошел к господину Пинтилие, судье, ты его знаешь. Радио послушать. Я его жду с минуты на минуту. Вскоре появился и учитель Георгиу, бледный, исхудавший, весь какой-то поблекший. — Михай! — радостно воскликнул он и крепко обнял сына. — Ты слышал, весь этот кошмар кончился!.. Хотя, что я говорю, конечно, слышал, иначе бы не вернулся домой… Где ты был все это время? — Неважно, где я был, — холодно ответил Михай, высвобождаясь из его объятий. — Важно, что я жив и снова дома, а главное, что ты теперь ничем больше не рискуешь… Надеюсь, у тебя нет возражений против того, чтобы я жил вместе с вами?.. — Ты несправедлив, мой мальчик, — сказал учитель и мягко сжал его руку. — Как жаль, что ты меня не понимаешь!.. — Я неплохо тебя понимаю, папа. Не обижайся, но ты слишком стараешься ладить со всеми, без разбора. Поэтому-то у тебя и нет собственной позиции… Ты многое видишь, не можешь не видеть, но у тебя не хватает гражданского мужества определиться, выбрать свой единственный путь. — Такой уж у меня характер, Михай. Я наблюдаю, но не участвую. Историк должен быть объективным, а значит, нейтральным. Понимаешь? Так я устроен, таково мое кредо… И давай сейчас не спорить. У нас еще будет время поговорить. — Если ничего не случится… Но я согласен, вернемся к этому разговору позже. Мама сказала, ты был у судьи Пинтилие. Что ты там слышал по радио? Последние два часа у меня такой возможности не было. — Передавали, что сформировано новое правительство во главе с генералом Санатеску. Изданы декреты: об амнистии, о ликвидации концентрационных лагерей… — Это я знаю. А что еще? — Что еще? — Учитель задумался, припоминая: — Ах да! Освобожден силами Сопротивления Париж. Освободили и Марсель. Пожалуй, все… Ты давно пришел? — Да нет, минут тридцать. — А где ты был? — В 95-м пехотном полку… — В полку? Господи, как ты туда попал?! И Михай рассказал, как благодаря дружескому участию одного капрала он столько дней скрывался в маленькой комнатке — кладовке оружейного склада. Но там он не чувствовал себя в изоляции: читал газеты, слушал радио, был в курсе всего, что происходит в мире. Вот только о близких ему ничего не было известно… — А ты знаешь, что у нас был обыск? Нам пришлось нелегко. Продуктов нет, воду носим издалека, мы ее берем из колонки возле гимназии «Траян». Налеты, бомбежки и страх, вечный страх за завтрашний день… Понимаешь? Так все это надоело!.. Гимназию перевели в село Шишешти, и мне приходится ходить туда пешком два раза в неделю, а ведь это не так близко. Принимаю экзамены у заочников… Всю жизнь нам перевернула эта война! Такое страшное бедствие… — Ты только сейчас это понял? — Нет, почему же, я понимал это и раньше, но вслух сказать не мог. И потом, сам знаешь, люди разные, поневоле приходится быть осторожным. Я потому и рассердился так на Дану, когда она принялась критиковать режим, правительство, порядки… От нас ведь ничего не зависело!.. Погибнуть же было легко и просто. На всех заборах плакат: «Болтуна ждет тюрьма». — Говорят, Антонеску арестован. Ты ничего не слышал? — Судья мне говорил, ходят такие слухи. Но официально об этом не сообщалось. Влад Георгиу замолчал и глубоко задумался. Как изменился Михай, просто не узнать! Возмужал, стал сдержанным, более твердым. Впрочем, учителю в глубине души и раньше нравилась настойчивость и целеустремленность сына, нравилась смелость, с которой он отстаивал свои убеждения. Вот ведь не растерялся, не впал в отчаяние, когда отец потребовал, чтобы он ушел и искал себе убежища в другом месте. Он уже тогда пережил больше, чем все они, видел дальше, чем они, у него было обостренное чувство ответственности. — Знаешь, отец, — заговорил снова Михай, — когда я думаю о том, как много нам пришлось пережить, то вижу, что просто обязан участвовать в борьбе до победного конца… — Не думай ты больше о прошлом! — досадливо махнул рукой отец. — Думай о том, чем бы тебе хотелось заняться, о том, как построить свою жизнь. — Но именно ради будущего, ради счастливой жизни я не могу отмахнуться от прошлого, не могу не довести до конца борьбу с теми, кто пытался лишить нас этого будущего, калечил наши жизни, наживался на горе и смерти людей: Не могу! — Михай почти кричал. — Я должен с ними рассчитаться! — Рассчитаться? — удивленно поднял брови отец. — Как, каким образом?! — Вероятно, путь один, по крайней мере для меня, — записаться добровольцем в армию. — Что за вздор ты болтаешь!.. — нахмурился и помрачнел Георгиу. — Вместо того чтобы радоваться, что все благополучно закончилось, что тебе уже не грозит смертельная опасность, ты собираешься начать все сначала и подставить голову под новые удары судьбы! Мало ты мучился? Хватит, теперь пусть другие нас защищают. Это было бы справедливо. А тебе надо позаботиться о своем будущем, о том, чтобы создать себе положение. Осенью ты мог бы поступить в университет… — До осени еще столько предстоит сделать! — задумчиво сказал Михай. — Все должно успокоиться, прийти в норму, но сразу так не получится. И знаешь почему? Думаешь, немцы так просто уйдут? Мол, спасибо за гостеприимство, разрешите откланяться? Вот увидишь, они еще попытаются взять реванш. — Давай пока оставим этот разговор. Ты устал, тебе надо поесть, отдохнуть, отоспаться. Ана, накрывай на стол! — крикнул он жене, которая ушла в соседнюю комнату, чтобы постелить постель Михаю. — Смотри-ка, уже первый час ночи!.. Через четверть часа все сели за ужин. Не было только Даны, она еще не вернулась из города.Дана пришла около двух часов ночи. Бледная, усталая, с ввалившимися глазами и растрепанными волосами. Трехцветная повязка, в руке пистолет… Она привела с собой истощенного, измученного мальчика лет пятнадцати, одетого в лохмотья. Лицо его было в кровоподтеках, правый глаз заплыл, губы разбиты. Он еле держался на ногах. Мать заахала: — Доченька, что случилось?! Где ты пропадала? Что это у тебя? Какой ужас! Брось сейчас же! Слышишь? Брось! — Не пугайся. Я умею обращаться с пистолетом. Он не стреляет сам!.. — Где ты взяла эту мерзость? — Сейчас я вам все объясню… Заходи, Максим, не стесняйся, — повернулась она к мальчику. — Входи в комнату. Мальчик робко вошел, с опаской ступая по ковру грязными босыми ногами. — Это еще кто такой? — проворчала Ана. — Где ты его подобрала? — Это Максим, он работает в булочной братьев Графф. А жить будет у нас. — То есть как у нас?! — Ана грозно скрестила руки на груди. — Что все это значит? — Что значит? Многое, — решительно отрезала Дана и сделала знак Максиму, чтобы он сел. — Мы с Максимом состоим в молодежной организации, она называется Союз коммунистической молодежи. Он был арестован за распространение антифашистских листовок. Его били, пытали… Ты что, не видишь, в каком он состоянии? Его выпустили час назад. — Как ты сказала? Союз? Какой еще союз?! Влад, иди сюда скорей! О господи! В дверях появились Влад Георгиу и Михай. Учитель был в пижаме, он уже лег, но ему не спалось и он читал, а потому так и вошел в комнату с книгой в руках. Михая тревожный голос матери застал в тот момент, когда он только что намылил щеки, собираясь бриться. — Что такое? Что случилось? — Боже мой, Михай! — Дана швырнула пистолет на стол и кинулась в объятия к брату. — Когда ты вернулся? Бережно отстранив сестру, Михай принялся стирать полотенцем мыло с лица. — Вечером, — ответил он и внимательно оглядел Дану, переводя взгляд с ее растрепанных волос на трехцветную нарукавную повязку. — Ну и как… было? — спросила Дана. — Нет, сначала рассказывай ты! — попросил Михай; он был явно заинтригован и ее видом, и присутствием Максима, и их появлением в такой поздний час. — Ты стала революционеркой? Откуда у тебя оружие? — Все скажу как на духу! — шаловливо пропела Дана и, раскинув руки, весело закружилась по комнате. — Все скажу, скажу, скажу… Ничего не утаю… — Потом остановилась и уже серьезно закончила: — Мы ведь теперь можем говорить не таясь. — Конечно. Вот и объясни, что у тебя за повязка и зачем тебе пистолет? И парнишка этот — кто он такой? Растерянные Влад и Ана в полном недоумении глядели то на раскрасневшуюся, сияющую Дану, то на Максима, который сидел на стуле у самой двери, опустив голову, и дрожащими руками разглаживал на коленях свои драные, слишком широкие для него штаны. — Что вы его разглядываете, как чудо заморское?! — набросилась на родных Дана. — Мальчик как мальчик… Лучше сядьте и выслушайте все, что я могу вам сказать уже сегодня. Не робей, Максим, теперь бояться нечего, все прошло, все позади!.. Мои родители — люди хорошие, добрые, ты наверняка о них слышал, не мог не слышать, они всегда помогают всем в беде. Мама! Папа! — повернулась она к родителям. — Да сядьте же вы наконец за стол! Михай! Почему ты стоишь? Давайте сядем и спокойно обсудим… — Она переложила пистолет на этажерку и села во главе стола. — Что можно сейчас обсуждать? — рассердился Георгиу. — Ты ведь с нами не считаешься, делаешь что хочешь! Подбираешь на улице бродяг, приводишь ночью в порядочный дом, изображаешь из себя богиню милосердия. И этот пистолет на этажерке!.. Черт знает что такое! — Замолчи! — Дана сверкнула глазами так яростно, что отец просто рот открыл от изумления. — Да как… как ты смеешь?.. — крикнул он, вновь обретя дар речи. — Перестань, папа! — все так же строго и властно остановила его Дана. — Неужели мы и в такой день будем по-прежнему разыгрывать друг перед другом недостойный спектакль?! Ты всегда прятался за собственную репутацию, сделал из нее себе визитную карточку. Ты забился в скорлупу того, что называешь нейтралитетом, и не желаешь видеть дальше собственного носа. Ты упорно не замечал того, что творится в мире, не хотел видеть, что одни бесчинствуют, а другие страдают. Было бы все хорошо у тебя, а до остальных тебе и дела нет! Кичился своей порядочностью, словно ты один такой на свете! Считал непорядочными тех, кто смотрит на мир открытыми глазами и твердо отстаивает свои взгляды. А почему, спрашивается, это непорядочно? По отношению к чему и к кому? По отношению к режиму, который обрушил на наши головы такие страшные бедствия? Который обездолил нас и ожесточил? Мне тяжело говорить это тебе, но и молчать больше невозможно!.. — Ну зачем ты так, Дана? — Ана взяла ее за руку, пытаясь успокоить. — Что с тобой, моя девочка? — Оставь, мама, не надо меня уговаривать. Я уже взрослая, и у меня взрослые проблемы, может быть, не всегда тебе понятные. Ты знаешь, я не взбалмошная и люблю своего отца, ценю, даже горжусь им, но есть что-то, чего я в нем не понимаю, не принимаю, что возмущает меня до глубины души. Как он поступил тогда с Михаем? Фактически выгнал из дому. Михая, родного сына, которого мы все так долго ждали! Чудовищно! Счастье, что нашлись хорошие, порядочные люди, которые приютили его, укрыли, спасли от верной смерти. У них слово не расходится с делом, как у тебя, папа. Ты ведь учил нас относиться к людям независимо от их социального положения. А что теперь? Осуждаешь меня за дружбу с бездомным мальчиком? — Да, осуждаю. Ты получила не такое, как он, воспитание. Я учил тебя иным правилам поведения. Но, я вижу, они тебя не устраивают, ты от меня отдалилась, отвергла мои принципы. — Ничего подобного! Нисколько я от тебя не отдалилась и защищаю сейчас твои, именно твои принципы. Просто мне обидно, что ты сам их нарушаешь. Ты учил меня и Михая любить правду, любить людей, ненавидеть ложь, несправедливость, быть честными… И вы с мамой действительно любите людей. Так как же ты можешь осуждать Максима за то, что он получил иное воспитание, чем я? Мне повезло, я росла в доме просвещенного интеллигента. Но разве Максим виноват в том, что он сирота? И разве он не заслуживает величайшего уважения за то, что рисковал жизнью ради счастливого будущего других?! — О чем ты говоришь? Какое счастливое будущее? — Дана совершенно права, — вступился за сестру Михай и ободряюще поглядел на Максима. — В чем-то, отец, тебя можно понять. Но ты должен более терпимо относиться к некоторым нашим поступкам, в сущности вполне естественным и понятным. Дана хочет, чтобы мы ее выслушали, ей надо сказать нам что-то очень важное. Так не будем же ее перебивать. — Но почему это надо делать ночью? Что за срочность? Разве нельзя подождать до утра и тогда уж выяснить, что я должен и чего не должен делать? — Не сердись, папа, я погорячилась. Но мне стало очень обидно за Максима. И говорить я собиралась не о тебе, а о нем. Максим вдруг встал и шагнул к двери. — Куда ты, куда? — кинулась за ним Дана. — Я не хочу вас беспокоить, — тихим, срывающимся голосом ответил мальчик, не поднимая головы. — Останься, Максим, не уходи. Все уладится, все будет хорошо. — Она оттащила Максима от двери, и он покорно опустился на стул и замер, безучастный и одинокий. Дана помолчала, как бы собираясь с мыслями, обвела всех взглядом и заговорила торжественно и очень проникновенно: — Дорогие мои, только теперь я могу вам сказать, что состою в молодежной организации, я член Союза коммунистической молодежи, как и Максим. Мы входим в состав боевого отряда патриотов, потому и получили оружие. Вчера бойцы таких отрядов города были направлены на все предприятия и во все центральные учреждения. Я дежурила на почтамте… — Боже мой, что я слышу! — воскликнул Влад, и лицо его побелело. — Союз… почтамт… оружие… Но вы же еще дети!.. — У нас в стране существует коммунистическая партия, — невозмутимо продолжала Дана, — партия рабочего класса Румынии. Она действовала в подполье. — Да, это я знаю, — уже спокойнее заметил Влад, — коммунистов судили на процессе в Крайове, были процессы в связи с забастовками в Бухаресте и Гривице… — Правильно. На этих процессах судили членов коммунистической партии. Под руководством этой партии был создан Союз коммунистической молодежи, в котором я и состою. Теперь все ясно? В комнате наступило тягостное молчание. Слышалось только ритмичное тиканье настенных часов, да доносились голоса с улицы, где, несмотря на поздний час, люди громко обменивались новостями. — И с каких же пор ты состоишь в этой организации? — спросил Влад. — С весны. До вчерашнего дня мы были в подполье. Теперь коммунистическая партия перешла на легальное положение. Это она руководила и руководит всем антифашистским движением. Форма борьбы с фашистами становится иной, вы ведь знаете, со вчерашнего дня Румыния находится в состоянии войны с Германией и ее союзниками, мы теперь воюем на стороне Советского Союза. — Опять война… — печально обронила Ана. — Снова жертвы, снова горе. Воцарилась тишина. Каждый был погружен в свои мысли. Максим устало перебирал в памяти пережитое: издевательства, побои, пытки… Хорошо, что все это позади. Но на многое он теперь будет смотреть другими глазами. И вряд ли вернется к господам Графф… — А теперь, — продолжала Дана, — я вам расскажу про мальчика, которого привела с собой. Его задержали, когда он расклеивал на улицах листовки нашей организации. Новое правительство издало декрет об амнистии, и мы пошли в полицейский участок, чтобы забрать оттуда Максима. Вы бы видели, что они нам устроили, эти полицейские! Целый спектакль. Они, конечно, прекрасно знали о декрете, и все равно, мы их просим отдать нам Максима, а они ни в какую!.. Нет и нет, без главного комиссара полиции Албойю они, видите ли, не имеют права. Особенно разорялся рыжий, который делал у нас обыск. Уж как он нас материл, страшно вспомнить!.. Даже пригрозил, что, если мы сейчас же не уйдем, он нас самих арестует. И тогда Ромикэ, есть у нас такой парень, боксер, как боднет его головой в грудь! Тот так и повалился. Ромикэ еще попугал его автоматом, сказал, что таких прихвостней Антонеску, как этот рыжий, стрелять надо. Ну рыжий и скис. Вот как все было. Рыжий освободил Максима, и мы с ним пришли сюда. Дело в том, что на вчерашнем собрании нашей ячейки мне поручили заботиться о нем, пока он не поправится и не определится с жильем и работой. — Значит, у тебя нет родителей, мальчик? — уже доброжелательно спросил учитель. — Нет, господин Георгиу, — с трудом ответил Максим, еле шевеля разбитыми губами. — Отец погиб на фронте, мать — под бомбежкой в пасхальную ночь… — Где же ты жил до ареста? — Работал и жил в пекарне у господ Графф. Спал на полу, мешки подкладывал… Холодно… — А с листовками как попался? — Так уж получилось. Моей вины в том нет. Домнишоара Лила, ваша дочь, знает… — Мою дочь зовут Даной, а не Лилой. — Да что вы? — удивился Максим. — Мы, комсомольцы, звали ее Лилой. — Моя подпольная кличка, — объяснила девушка. — Мы жили по законам конспирации… Они говорили долго. Многое стало понятным: и строптивые выходки Даны, так раздражавшие отца, и ее конфликт с учительницей немецкого, и другие «странности». Когда в окне забрезжил рассвет и часы пробили четыре раза, учитель сказал: — Знаешь, Дана, не хочу скрывать, на меня твой рассказ произвел сильное впечатление. Слишком легко, слишком часто ты подвергала опасности свою свободу и жизнь. Но раз дело сделано, цель достигнута, что же теперь говорить… Победителей не судят. — Вот именно, отец, цель достигнута! Молодец Дана! Теперь и мне надо, не откладывая, определить свои цели. — Это ваше дело, вам и решать, что делать дальше. Вы уже взрослые, умные, вот и отвечайте за свои поступки сами… Ана, — обратился он к жене, — дай мальчику поесть и постели ему постель. Вскоре дом погрузился в сон. На улице уже совсем рассвело, вовсю пели птицы. Они оживленно летали по саду, а там, уронив голову на грудь, спала в своем шезлонге, где ее застиг сон, несчастная Эмилия.
32
Вечер 23 августа подполковник Ганс фон Клаузинг проводил у себя дома. Он занимал роскошную виллу, с высокими окнами, плотно зашторенными из-за светомаскировки, со стенами, увитыми плющом. Подполковник, в элегантной домашней куртке и рубашке с открытым воротом, сидел, развалясь, в соломенном кресле и курил, отпивая кофе из маленькой чашечки… В кресле напротив расположилась домнишоара Лиззи Хинтц, оживленная и чрезвычайно довольная своим женихом. На ней было легкое шелковое белое платье. Подполковник рассказывал, как пятнадцать лет назад охотился вместе с отцом на пантер в Южной Африке. — Пантера — страшно опасный зверь, дорогая. И надо быть очень хорошим стрелком, чтобы охотиться на нее. Если ты ее не убьешь, а только ранишь, она бросится на тебя и разорвет на куски. — И ты не боялся, мой милый? Ах, я бы не смогла сделать и шага в этих ужасных джунглях… — Боялся? — Клаузинг снисходительно хохотнул. — Чего же мне бояться? Звери не страшнее людей. Зато какие интересные, какие дикие места я видел! Отец отснял несколько сот метров пленки. Она сохранилась у меня дома, в Германии. Приедем, я тебе покажу. — Когда это будет, Ганс? — Очень, очень скоро, моя драгоценная. Но пей же кофе, он стынет. — Да нет, кофе еще горячий. — Горячий вкуснее, ароматнее. Пей. — Клаузинг похлопал невесту по руке: — У нас говорят: кофе должен быть горячим, как ад, черным, как дьявол, чистым, как ангел, и сладким, как любовь. — Сладким, как наша любовь, добавила бы я. — Да, как наша любовь, — мечтательно улыбнулся Клаузинг. Он считал себя счастливым человеком. Сразу по приезде в этот город он познакомился с Лиззи и влюбился в нее. Он знавал многих женщин в Польше, Венгрии, Чехословакии — всюду, куда его бросала судьба, но ни с одной из них у него не было такого созвучия чувств, такого взаимопонимания. Она отдалась ему в первый же вечер, и он считал это самым убедительным доказательством ее вечной и нерушимой любви. Через несколько дней после их знакомства ему рассказали, что возле мастерской Петера Хинтца еще осенью крутились какие-то итальянские летчики и однажды, когда Лиззи прокутила с ними в ресторане целую ночь, ее обнаружили утром, в одной комбинации спящей на скамейке городского парка. Однако рассказ этот не произвел на Клаузинга ровно никакого впечатления. Мало ли какие грязные сплетни распускают про красивых женщин! Мужчины порочат их, как правило, из мести и досады за унизительное поражение, а женщины — из зависти к более удачливым соперницам. Так или иначе, Лиззи стала его любовью и он к ней не на шутку привязался. Темнело. Фиолетовые сумерки окутали искалеченный город. Немец посадил Лиззи к себе на кресло и, нежно поглаживая ее колено, замурлыкал ей на ухо модную мелодию из кинофильма «Любимый вальс». — Какая прелесть! — томно прошептала домнишоара Хинтц. — Я видел этот фильм в кинотеатре «Кассандра» в Бухаресте. Актрису тоже зовут Лиззи. И фигурой на тебя похожа. Как услышу эту мелодию, тут же о тебе вспоминаю. — И Клаузинг нежно поцеловал невесту. Охваченная сладкой истомой, она опустила голову к нему на плечо, замерла и сидела так долго-долго. Она думала о том счастливом дне, когда наконец уедет в Германию и обоснуется там навсегда в каком-нибудь большом городе, Мюнхене или Берлине, со своим возлюбленным Гансом, который станет ее законным супругом. И тогда уже никто не посмеет злословить на ее счет и обзывать содержанкой немецкого офицера. Потом она стала думать о Гансе. Последние дни он ходил мрачный, раздражительный. Но сегодня к нему вернулось хорошее настроение, он пригласил ее к себе и предложил совершить на машине небольшую прогулку за город. Она радостно согласилась, и они поехали по шоссе вдоль Дуная, а под вечер вернулись в город. В машине Лиззи спросила, не было ли у него каких-нибудь неприятностей из-за нее или из-за ее отца. Уж не потому ли он все эти дни был таким сумрачным? И Клаузинг рассказал, что его тревожило. Оказывается, еще три дня назад, в воскресенье утром, советские войска начали наступление в районе Молдовы. Поначалу все там складывалось очень плохо, он не находил себе места. Но сегодня он встретил господина Пранге, начальника немецкого речного агентства, который только что вернулся из Германии и привез потрясающую новость: в ближайшие дни будет применено новое, совершенно секретное и невероятно мощное оружие, которое поразит мир. Советские войска мгновенно будут разбиты и уничтожены, а армия фюрера вернется на прежние позиции и, мало того, захватит Москву, Лондон… — Не выпить ли нам вина? — У меня отличное вино, дорогая. Жирэску присылает с виноградников Коркова, это где-то здесь, неподалеку. Я уже отослал бутылок триста в Германию отцу, друзьям… Руди! — позвал он денщика. — Руди! На пороге вырос долговязый белобрысый солдат в синем кухонном фартуке. Щелкнул каблуками коротких сапог и вытянулся в ожидании распоряжений. — Принеси-ка шесть бутылок вина из тех, что прислал Жирэску. Руди исчез и через несколько минут появился снова, неся бутылки и два бокала. — Господин подполковник будет ужинать дома или в ресторане? — поинтересовался он. Клаузинг вопросительно взглянул на свою гостью, но та только кокетливо повела плечиками, давая понять, что решение этого вопроса оставляет на усмотрение повелителя. — Приготовишь шницели. Подашь сардины, икру, салат… Мы остаемся дома. …К десяти часам Клаузинг успел основательно набраться. Пять пустых бутылок валялись на полу, а шестую, наполовину опорожненную, крепко прижимала к груди домнишоара Лиззи. — Нет, дорогой, ни за что! Больше не дам. Хватит! — твердила она, старательно выговаривая слова заплетающимся языком. — Nein! — протестовал Клаузинг. — Не хватит! Совсем не хватит! Ах, какие вина у этих чертовых румын… Отдай бутылку, дорогая! Я требую… Слышишь? Он потянулся за бутылкой и смахнул бокал на пол. Попытка встать и обойти вокруг стола ему тоже не удалась — ноги решительно отказывались повиноваться, и Клаузинг, тяжело дыша, плюхнулся обратно в кресло. — Тебе пора баиньки! — Лиззи покровительственно погладила его по голове. — Пойдем в кроватку. Резкий телефонный звонок раздался в холле. Денщик снял трубку: — Господин Пранге настоятельно требует господина подполковника, уверяет, что срочно, дело не терпит отлагательства. Поддерживаемый Руди, Клаузинг потащился в холл, а через мгновение Лиззи услышала крик. Задыхаясь от ярости, Ганс громко ругал кого-то страшными словами. Потом из холла донесся еще чей-то голос. Что там происходит? Любопытство ее росло с каждой минутой. Но вот наконец и Ганс!.. Он вошел с багровым перекошенным лицом, внезапно протрезвевший и сам на себя непохожий. Бессильно опустился в кресло и сжал ладонями виски. — Свиньи! — прохрипел он. — Канальи! — Что-нибудь стряслось? Не дай бог, несчастье какое? — испуганно лепетала Лиззи. Никогда еще она не видела Ганса в таком состоянии. — Антонеску и его правительство пали. Мы уже больше не союзники!.. И даже, кажется, в состоянии войны… Лиззи закрыла лицо руками, и ей показалось, пол у нее под ногами качнулся. — Звонил Пранге, сказал, чтобы я срочно включил радио и слушал выступление короля Михая. Я включил уже на середине и не все понял. Он еще так заикается, этот ваш монарх, черт бы его побрал. Антонеску больше нет. Смещен, сложил с себя полномочия, арестован? Непонятно. Расформирован, кажется, и весь кабинет министров. Я тут же попытался связаться с немецкой комендатурой в Бухаресте или с нашим посольством. Черта с два им дозвонишься!.. Мадемуазель с телефонной станции говорит, что ни тот ни другой номер не отвечает. Дежурный по комендатуре унтер-офицер тоже не смог ни с кем связаться и по нашим каналам связи. — А может, провод поврежден? — Скорее всего, все необходимые нам каналы отрезаны. В этой ситуации, когда мы, по существу, во вражеском окружении, это самое вероятное. — Что же с нами теперь будет, Ганс? Что нам делать? — Лиззи робко заглянула ему в глаза, пытаясь поймать его ускользающий взгляд. Клаузинг не ответил. Отрешенный, он сидел, вертя в руках бокал. Потом вдруг вскочил, с силой хватил бокал об пол и кликнул денщика. — Пусть машина отвезет домой мадемуазель и тут же вернется за мной. Мне необходимо в комендатуру. — Притянул к себе Лиззи и сказал спокойно и твердо: — Не волнуйся, дорогая. У меня возник отличный план. После комендатуры я загляну к тебе и все объясню. — Я не лягу, буду тебя ждать. — Нет, ты должна выспаться, это очень важно. Обещаешь? — Но я боюсь, мне страшно… — Не падай духом, Лиззи, и не теряй головы… Мы уедем из этого города. Другого выхода нет. Хочу только напоследок кое с кем расквитаться. — А может, обратиться к начальнику городской управы? Я знаю, он тебя уважает… — Никому я теперь, кроме фюрера, не верю. Даже самому господу богу.33
Той же ночью Клаузинг созвал совещание офицеров и унтер-офицеров комендатуры. На совещании были капитан Отто Вильке, маленький человечек с лицом мертвеца, его заместитель, два младших офицера и пятнадцать унтер-офицеров, в том числе переводчик Вебер. Собрались в небольшой комнате, скупо освещенной стоявшими на камине двумя керосиновыми лампами. — Господа, — заговорил Клаузинг, — я думаю, вы уже осведомлены о том, что верное фюреру правительство Антонеску пало и Румыния расторгла союз с Германией. — Голос его звучал глухо и дрожал от нервного напряжения. — Но мы не должны терять присутствия духа, господа. Мы получили приказ покинуть город не как побежденные, а как победители. — Это была явная ложь, потому что вообще никаких приказов не было. — Сейчас я сообщу вам план действий, пусть каждый осмыслит свою задачу и приготовится к ее выполнению. План сводился к минированию основных городских объектов: железнодорожных мастерских, почтамта, судоверфи, больницы, театра, городской управы, водонапорной башни, электростанции, вокзала и железнодорожных путей. Минирование должны будут осуществить патрули немецкой комендатуры, которые под предлогом ремонта нарушенной связи установят мины с часовым механизмом. Действовать нужно хладнокровно и оперативно. — Сейчас, — посмотрел он на свои ручные часы, — двадцать три часа пятьдесят минут. Вы свободны, господа. Об исполнении приказа доложить мне завтра в восемь ноль-ноль. Капитан Вильке отвечает за подготовку и выполнение второй части плана — эвакуацию комендатуры. Закончив совещание, Клаузинг отправился домой. Подполковник был доволен. Он действовал четко и оперативно, и будущее сейчас не рисовалось ему таким безнадежно мрачным. Устал он, правда, чертовски, но возбуждение еще не улеглось, и, велев принести бутылку коньяку, он прошел на веранду, сел в плетеное кресло и просидел в одиночестве до утра.Всю ночь Санду Райку дежурил на телеграфе, а утром, придя домой, стал поспешно готовить корм для уток. Он очень устал, но ему надо было успеть до работы накормить птиц. Стоя на крыльце в майке и парусиновых штанах, он крошил в деревянной миске листья лебеды. Было еще очень рано, солнце только взошло, но день обещал быть жарким. С улицы доносился голос разносчицы молока, лаяли разбуженные собаки. Через забор было видно, как по двору одиноко бродит Эмилия. Окна в доме учителя были закрыты, все еще, видно, спали или, может, ушли на рассвете в город. Далеко в порту гудел какой-то пароход, словно звал капитана отправиться в дальнее плавание. Утки сгрудились у ног Санду и отчаянно крякали от нетерпения. Самая смелая принялась клевать его сандалию, дергать за ремешок. Он слегка стукнул ее деревянной ручкой ножа, она отскочила, но потом снова принялась за свое. — Не галдите, кумушки, готово вам угощение! — Санду вспомнил, как ласково, бывало, разговаривала с ними его мать. В эту минуту послышался стук калитки. Санду обернулся. — Отец! — Миска полетела в одну сторону, нож в другую. — Ты вернулся! — Он кинулся навстречу отцу. — Где ты был? Ты вернулся совсем? Ион Райку изменился мало. Осунулся, оброс щетиной да поседел, вот, пожалуй, и все. Черные как угли глаза по-прежнему светились живо и ласково. — А как ты? — Райку обнял сына за плечи и повел к дому. — Здоров? Все в порядке? — Все хорошо. О себе лучше расскажи. Я знаю, ты бежал из тюрьмы, а потом что было? Наверное, есть хочешь? Давай я что-нибудь приготовлю. Знаешь, я наловчился готовить… — Есть не буду. Спешу я, Санду. Дела в городе… — На судоверфи? — Да. И в железнодорожные мастерские нужно еще успеть. Ищем помещение для нашей организации. Да и с товарищами повидаться надо. Кое-кого я, правда, уже видел этой ночью, они патрулировали в городе. — Это ты руководишь боевыми отрядами? — Не я, а партия. — Как я тобой горжусь! Все время о тебе думал, только помочь ничем не мог. Я же не знал, где ты. — Теперь все позади… Дома порядок? — спросил Райку, поднимаясь по ступенькам. — Все как было. Вот только стена, что выходит на улицу, треснула при бомбежке. И несколько черепиц слетело. Как дождь, в комнатах течет. Я корыто на чердаке поставил. Собирался побелить стены, валик у приятеля достал, но тут меня в Констанцу отправили… Недели три как вернулся. Райку прошелся по дому, внимательно ко всему приглядываясь, словно был здесь впервые. Две скромные, бедно обставленные комнатки: железные кровати под домоткаными покрывалами, стол, потускневшее зеркало на стене, деревянный умывальник с жестяным тазом, старомодный потрескавшийся платяной шкаф, полка с книгами, обернутыми в газету, на буфете салфетка. Ее вышивала покойная жена, дожидаясь долгими зимними вечерами, когда он вернется с работы домой. У Райку было такое чувство, будто он отсутствовал не три месяца, а годы. Столько событий произошло за это время! В памяти стерлось представление о том, как выглядели эти комнаты прежде, и теперь он испытывал радость узнавания. Но радость эта померкла, стоило ему вспомнить ту, что делила с ним в этом доме счастье и горе. Она никогда уже больше сюда не вернется, значит, не утихнет в его душе боль утраты. Он ощутил это особенно остро здесь, где все напоминало о жене, глядевшей с фотографии на стене… Нет, он не смеет, он не позволит себе предаваться печали. И Райку поспешно спросил: — Что нового на судоверфи? — А что там может быть нового? Все как было. Разве что люди стали другими. Так ведь это естественно, правда? Сегодня ночью раздавали листовки с воззванием партии. Все тебя ждут не дождутся. — Я тоже с нетерпением жду встречи, — сказал Райку. — Говорят, ты секретарь городской партийной организации. Это правда? Вопрос сына застал Райку врасплох. — Кто это тебе сказал? — Рабочие. — Ну, раз рабочие говорят, значит, правда. — Райку улыбнулся, и глаза его лукаво заблестели. — Знаешь, нам в ячейке говорили: товарищ Молния сообщает, товарищ Молния интересуется, товарищ Молния поручил… — Ты вступил в комсомол? Когда? — Прошлой зимой. — Подумать только, а я и не знал!.. Хотя секретарь и своих коммунистов-то не всех знает, а уж про комсомольцев и говорить нечего. Что поделаешь, законы конспирации!.. Рад, очень рад за тебя, мой мальчик! Почему же ты мне раньше не сказал? — Ты же сам говоришь, законы конспирации… — Санду широко улыбнулся. — Уже два задания выполнил, очень ответственных, — не удержался он, чтобы не похвастаться. — Аварию на немецком судне подстроили, пустили под откос гитлеровский эшелон в районе Балотской горы. Мы были тогда вдвоем с товарищем… Слыхал об этом? — А как же! Это твоя подпольная кличка Пиус? — Нет, моя подпольная кличка Габриэль. А Пиус тоже один из наших, мы с ним эшелон и взрывали. Вообще-то его зовут Ромикэ, он у нас на верфи работает, увлекается боксом, ты с ним, наверное, еще встретишься. — Молодец, Санду! — Райку с гордостью похлопал сына по плечу. — Молодец, не подвел отца! — Д еще я состою в боевом отряде, мне даже винтовку сегодня ночью дали и трехцветную повязку. — Будь осторожен, зря не рискуй. Никакой самодеятельности, понял? У тебя кто командир-то? — Дядюшка Томицэ Грозя, маляр… — Знаю такого. Хороший человек… У дома остановилась пролетка. На козлах сидел смуглый молодой солдат. — Из пехотного полка! — выглянув в окно, сказал Санду. — Похоже. Ты оставайся здесь, я сам разберусь. Из пролетки выскочил младший лейтенант Ганя — на боку пистолет, в руке фуражка. Казалось, он чем-то сильно раздосадован. Райку протянул ему руку и отвел в тенек — солнце уже сильно припекало. — Ума не приложу, что с ним делать! — кипятился Ганя. — Представляешь, он даже слышать не хочет о том, чтобы разоружать немцев! Уперся, как пень, и все тут! Нет, говорит, у меня такого приказа! — Приказа нет? Он что же, радио не слушает? Не знает, что немцы учинили в Бухаресте? Он что, не знает, что мы теперь с немцами в состоянии войны? — Да знает он все это, не хуже нас с тобой знает! Только почему-то пляшет под дудку проклятого Жирэску, чуть что — бежит к нему!.. Сам ничего не решает. А инициативы боится как огня. Сегодня утром я уже было совсем его уговорил разоружать их. Так нет, опять проклятый Жирэску мне все карты спутал! — И что же собирается делать твой полковник? — По-моему, думает предложить Клаузингу сдаться добровольно. Вместе со всей комендатурой. Без кровопролития. Будем, говорит, держать здание комендатуры под контролем, а в случае необходимости начнем действовать… — И когда же она наступит, эта необходимость? Как он считает? — Молчит, — пожал плечами Ганя. — Ну ладно, черт с ним! Вы-то сами что предлагаете? — Подождать до завтра, посмотреть, как развернутся события, и выступать своими силами. Моя рота вполне надежна. Полковник, правда, может вызвать новобранцев из Эргевицы. За этих поручиться нельзя. Могут произойти стычки… В общем, подождем до завтра. — Ты что? Ждать никак нельзя! Поговорите еще раз с полковником. Если опять ничего не выйдет, действуй через его голову, и сегодня же. Арестуй Клаузинга, займи его комендатуру, разоружи гарнизон. Подготовь людей, предупреди Флорю. Учти, настоящее его имя Глигор. Пожалуй, я сам с ним поговорю. Сегодня же днем. — А где, по-вашему, лучше арестовать Клаузинга? — Во всяком случае, не в здании комендатуры. Брать его надо в городе. И вынудить издать приказ по гарнизону, чтобы немецкие военнослужащие сложили оружие. В противном случае — занять комендатуру силой. — Так и сделаем. — Все ясно? — Все. — Желаю удачи! В добрый час! Ганя направился к своей пролетке. — Держи меня в курсе! — крикнул ему вслед Райку. — Я буду на верфи, потом в железнодорожных мастерских и в штабе боевых отрядов. Меня разыскать легко…
34
— Господин Райку, вы ли это? Райку обернулся. Перед ним стоял Влад Георгиу. В руках сумка с зеленью, дыня, должно быть, ходил на рынок. Учитель положил сумку на землю и горячо пожал соседу руку. — Рад вас видеть, господин Райку, искренне рад! Как дела? — Да вот, на работу иду. — Я слышал, вы были в тюрьме? С тех пор как мы встретились с вами тогда в полиции, я ничего о вас толком не слышал. — Да, они пытались состряпать на меня дело. Чуть до военного трибунала не дошло. — Но вам, кажется, удалось бежать? — Сумел. Потом скрывался долго, путал следы. Теперь вот домой вернулся… — Да, под амнистию попали люди, совершившие проступки не только в последнее время, но начиная с 1918 года. Поразительно! Я сам это слышал по радио. — Это логично и соответствует принципам демократии. — Конечно, конечно! Жить по-старому стало уже невозможно. Хорошо, что пришел конец тирании. Наступают новые времена… — Они уже наступили! — улыбнулся Райку. — Об этом еще рано судить. Поживем — увидим… Ну, мое почтение, господин Райку! — И Георгиу, забрав сумку, зашагал к своему дому. — А знаешь, Дана теперь тоже комсомолка, — сказал отцу подошедший Санду. — Что ты говоришь? Вот это новость! — Да, да, уже несколько месяцев. Ее приняли, когда я был в Констанце. И представляешь, родители ничего не знают! — И слава богу! Отец вполне мог ее погубить, сам того не желая. Человек он, конечно, честный, правдивый, ничего не скажешь, только очень уж осторожный! Мол, мое дело сторона, вы меня в свои драки не путайте. Он бы просто выгнал Дану из дому! Они свернули на Главную улицу, и Райку, потрясенный, остановился. Он и представить себе не мог, что город пострадал до такой степени. Торговая улица лежала в развалинах. Сколько тут прежде было магазинов, магазинчиков, лавок, ресторанов, закусочных… Чего только не было на этой улице! А теперь? Груды щебня, сплющенные водосточные трубы, покореженное кровельное железо, черные балки… Тут — уцелевшая часть стены, дымоход, похожий на диковинную башню, там — чудом сохранившийся телеграфный столб с оборванными и перекрученными проводами… Каштаны, на ветках которых торговцы, заманивая покупателей, развешивали, бывало, костюмы, платья, косынки, стоят теперь изувеченные бомбежками или валяются на земле сломанные, вырванные с корнем. В зияющей черной пасти подвала, над которым кое-где сохранился прогнивший, провалившийся пол — остатки бывшего магазина, — торчит колесами вверх детская коляска, валяется смятая кухонная плита. Все поросло бурьяном. А рядом с подвалом сохранилась стена, закопченная, с облупившейся штукатуркой. На ней фотографии: улыбаются, тесно прижавшись друг к другу, жених и невеста… Парень смотрит прямо в объектив фотоаппарата открытым, не ведающим горя взглядом… Все, что осталось от фотоателье. Где эти люди? Что с ними?.. Может быть, они выросли на этой улице, здесь учились, работали, ходили в лавочки за продуктами, в магазины за обновой, радовались жизни, как и сотни других жителей этого города, от которых остались одни воспоминания. Всех их поглотило время… Солнце уже сильно припекало, в воздухе стоял удушливый запах гари. Людей было мало, они шли сумрачные, с темными окаменевшими лицами, осторожно пробираясь между ямами и завалами. — И все это натворили проклятые фашисты. А теперь притаились! — Но мы же объявили им войну! — сказал Санду. — Я говорю о тех, кто пока еще здесь, в городе. Начальник городской управы Жирэску не желает, видите ли, дать им под зад коленкой и сбивает с толку полковника Предойю. Похоже, наше начальство решило вести дело с фашистами, не снимая белых перчаток. — Стапельный цех разрушен прямым попаданием бомбы, повреждены электростанция, металлоремонтная мастерская, механический и сборочный цехи. Одно время мы даже работали не здесь, сначала в селе Моловэц, а потом в Крихальском лесу. Ближе к городской управе стали попадаться уцелевшие магазинчики. На прилавках был разложен нехитрый товар: ткани, домашние туфли из клеенки с шелковыми помпонами, калоши, мужские шляпы, катушки с нитками, льняное полотно. У книжного магазина сидел на своей скамеечке чистильщик Бобочел. Перед ним стоял ящик с гуталином и щетками, на коленях — ломоть черного хлеба и кисть винограда. Бобочел закусывал. Впрочем, это приятное занятие не мешало ему все время быть настороже. Оно и немудрено: у противоположного тротуара, в тени своих пролеток, расположились извозчики, извечные его недруги. Бобочел знал: с этой братией держи ухо востро, того и гляди, какую-нибудь пакость подстроят. Вот и сегодня — наладился кто-то стрелять в него из рогатки, и не чем-нибудь, а крупными красными сливами! Стрельнет и спрячется зарекламным щитом лотереи. Процент попадания, правда, невелик, но достаточен, чтобы вывести человека из себя. И ловкий, бестия, никак его не выследить! Бобочел схватил сапожную щетку и злобно погрозил извозчикам. Он ни минуты не сомневался, что подлый обидчик — один из них. — За что ты на нас взъелся, Бобочел? — крикнул дюжий детина. — Мы тебя не трогаем, чего ты расходился? В ответ последовала яростная, очень выразительная жестикуляция. Мол, хоть и взрослые вы люди, а ни стыда у вас, ни совести, тьфу! Пантомиму чистильщика они встретили дружным хохотом. Оскорбленный Бобочел демонстративно повернулся к извозчикам спиной и принялся возиться со своими щетками. Раздался резкий звук клаксона: из-за поворота вынырнул синий «мерседес» немецкого коменданта и, проскочив мимо здания городской управы, резко остановился возле «резиденции» Бобочела. Из машины вышел Клаузинг и, бросив белобрысому шоферу: «Ein Moment»[28], — важно зашагал к парадному входу городской управы. Следом за ним семенил переводчик. — Гляди-ка, Бобочел, приятель твой приехал! — крикнул один из извозчиков и весело подмигнул немому. — Самое время о часах напомнить. Коли проиграл, пусть отдает! — И он выразительно постучал себя по запястью. Бобочел вскочил и возбужденно замахал руками. Ткнул в сторону «мерседеса», потом звонко шлепнул себя по оттопыренному заду, обтянутому черными, в кожаных заплатах, штанами, и, поднеся к губам сложенные щепоткой пальцы, со смаком чмокнул. Мол ликуйте, братцы, немцам хана! Прохожие, наблюдавшие эту сцену, одобрительно засмеялись.Через некоторое время Райку с сыном уже входили в широкие ворота судоверфи. Старик вахтер Тудосе радостно кинулся навстречу. Райку знал его многие годы, когда-то даже сам обучался у него ремеслу клепальщика. Но что поделаешь, годы берут свое, состарился Тудосе, теперь вот вахтером устроился. Самый, можно сказать, осведомленный на верфи человек, подноготную каждого знает. И сейчас, едва увидев. Райку, старик с готовностью выложил: это Панделе выдал его тогда директору. Какой Панделе? Да этот, из столярного цеха, мерзкий человечишка, слизняк, агент полиции. Ребята от него шарахаются, как от чумы… Райку огляделся. Лозунги, лозунги. На стенах, на дверях, на кусках жести, где мелом, где красной краской… Компартия призывает рабочих к бдительности. Враг еще не сдался. Предстоит серьезная схватка и с немецкими фашистами, и с их румынскими прихвостнями. …За электростанцией, в доке, лежала перевернутая вверх днищем баржа. На огромном металлическом брюхе белела прокламация, напечатанная крупным типографским шрифтом. Прилепил, наверное, кто-то из ночной смены. Вокруг толпились рабочие, молодые и старые, с молотками, разводными ключами, сверлами. Каждому интересно было узнать, о чем написано в прокламации. Пожилой слесарь в замасленной рубахе тщетно пытался навести порядок. — Потише напирайте, эй вы там, сзади! Чего навалились? Так недолго и покалечить! — Верно, ребята, чего пихаетесь? Пусть кто-нибудь один прочитает! В толпе задвигались, и вперед, энергично работая локтями, протиснулся широкоплечий коротышка. Пробившись к барже, он оперся на плечо долговязого соседа, одним прыжком вскочил на кучу листового железа и обвел толпу презрительным взглядом. У коротышки был красный, как спелый перец, нос и под ним черные усики щеточкой. Рабочая куртка в опилках, из нагрудного кармана торчал складной железный метр и большой красный карандаш, какими обычно пользуются столяры. «Панделе… Панделе», — зашептались рабочие. — Чего глаза пялите? А ну разойдись! — заорал Панделе, размахивая для большей убедительности кожаной кепкой. — Господин директор приказал всем немедленно разойтись по рабочим местам. Нечего терять время! — Он сорвал прокламацию и поспешно стал сворачивать ее трубочкой. В толпе негодующе зашумели, послышались крики, ругательства, свист… — А ну слезай оттуда, подонок! Кто-то швырнул в Панделе увесистым камнем, но тот вовремя увернулся, и камень гулко ударился о днище баржи. — Не тронь прокламацию, не хватай ее грязными лапами, выродок! Толпа раздалась, пропустив вперед высокого большелобого человека с новеньким автоматом и трехцветной повязкой на рукаве. — Верно, Глигоре! Дай ему коленкой под зад! — одобрительно загудели вокруг. Подошедший схватил Панделе за ногу и с силой рванул вниз. Началась потасовка, и вскоре измятая прокламация оказалась в руках клепальщика Глигора. — Солдаты идут! — закричал вдруг кто-то. — Солдаты на верфи! По двору быстрым шагом, почти бегом, двигались трое солдат и сержант. Почуяв, что пришла подмога, Панделе с трудом поднялся с земли, отер кровь с лица и осторожно потрогал подбитый глаз. — Что здесь происходит? — крикнул сержант. — Немедленно прекратить драку или я открою огонь! Стоять всем на месте! Рабочие хмуро попятились назад. Чертыхаясь и сплевывая кровь, Панделе пригладил кое-как волосы и уже было открыл рот, чтобы пожаловаться на обидчиков, но сержант даже и не поглядел в его сторону. — Кто устроил драку? — спросил он. — Да будет вам, господин сержант! Никакой тут драки не было. Так, поразмялись немножко, вот и все, — примирительно сказал кто-то. — Это все Панделе виноват, господин сержант! Вызвался нам песенку сыграть, а у самого гармошка сломалась! — пошутил другой. — Да уж теперь не играть ему больше на губной гармошке. Ишь как зубом-то цыкает! — Разговорчики! — крикнул сержант. — А ну разойдись! Приступайте к работе! Люди начали неохотно расходиться. Но тут Панделе вцепился в руку сержанта и заверещал: — Господин унтер-офицер, вы только поглядите, что они со мной сделали! Господин директор приказал мне содрать с баржи эту прокламацию, из-за нее никто не работает. А он набросился на меня, как бешеный, чуть не убил, прокламацию отобрал… — Прокламацию? Что еще за прокламация такая? А ну давай-ка ее сюда! — решительно подошел сержант к Глигору. — Господин сержант, он стащил меня на землю и избил до полусмерти. Как я жив остался, ума не приложу. До сих пор ухо гудит, — верещал Панделе, ощупывая свои ссадины. — Дай сюда прокламацию, кому говорю? — орал сержант на Глигора. — В кутузку захотел, мерзавец? Мигом отправлю! — Руки коротки! — огрызнулся Глигор. — Думаешь, испугаюсь я твоей винтовки? — Поговори еще у меня! — И поговорю. Хватит, откомандовался! Армия теперь с нами. Вам что приказано делать? Действовать заодно с боевыми отрядами патриотов, понял? А ты, дубина, предателей вздумал покрывать! — Знать ничего не знаю. У меня приказ — навести здесь порядок, остальное не мое дело. Давай прокламацию, живо! Как раз в эту минуту Райку с сыном подошли к барже. Коротко расспросив о происшедшем, Райку пробился сквозь толпу, взял у Глигора прокламацию, пробежал ее глазами, снова свернул и обратился к сержанту: — Чего шумишь, сержант? По толпе словно ток прошел: Ион Райку вернулся! Три месяца пропадал, говорили, то ли в тюрьме он, то ли в полиции. И вот вернулся! Тот же, что и прежде, только взгляд посуровел да виски поседели. «Райку… Райку пришел!» — пронеслось по толпе. «Это который, коммунист, что ли?» — «Он, он самый!» Люди становились на цыпочки, задние вытягивали шеи. — Привет, Райку! С возвращением тебя! — Здорово, Ион! Хорошо, что вернулся. Теперь твое время. Приветствия, радостные восклицания раздавались отовсюду. Райку едва успевал пожимать протянутые со всех сторон руки и счастливо улыбался. Но вдруг, спохватившись, вспомнил про сержанта. — Так что тут происходит? Чего молчишь, сержант? Или голос потерял? — С чего бы это? — окрысился тот и злобно хлестнул себя плеткой по голенищу. — Ты что, Иисус Христос, чтобы тебе кланяться? Проваливай! — Зачем же злиться-то? Никакой я не Иисус Христос, а просто работаю здесь, на судоверфи. И думаю, что имею право спросить тебя, что тебе здесь надо. Сержант презрительно скривился, не стал ничего объяснять, а только прохрипел: — Поговори у меня еще! Ишь что вздумал — властям грубить! — Ты власть у себя в казарме показывай, а нам жандармы со вчерашнего дня не указ. — Это я-то жандарм? — возмутился сержант. — А то кто же? Жандарм и есть. Мы, коммунисты, договорились с младшим лейтенантом Ганей, что он пришлет сюда преданных народу солдат. Нам жандармские прихвостни Антонеску не нужны! — Но-но, потише! Меня сюда не Ганя послал, а командир полка. Есть приказ: установить охрану на всех крупных предприятиях. Два-три человека, понял? Времена нынче беспокойные. — Это для вас они беспокойные. Для тебя и твоих начальников! — Райку сверкнул глазами. — А для нас, рабочих, самые подходящие времена! Тучи рассеялись, теперь далеко видно! Так что иди-ка ты, приятель, отсюда подобру-поздорову и занимайся своими делами, а в наши не суйся, ясно? — Ты мне здесь зубы не заговаривай! Наши дела, ваши дела… Умник какой нашелся! Я тут-при исполнении обязанностей. Мне властью поручено… — Нашивки — это еще не власть. Сержант побагровел, заорал, дико вращая глазами и брызгая слюной: — Молчать! Молчать, сволочи! Пораспустили языки, черт бы вас побрал! Ничего, я вам их живо укорочу! — и скомандовал солдатам: — Взять его! Солдаты переглянулись, нерешительно потоптались, но с места не тронулись. — Вы что, оглохли, болваны? — взревел сержант и угрожающе взмахнул плеткой. — Рядовой Ницэ Догару! Рядовой Тотэликэ! Выполнять приказ! Солдаты не двигались. — Это что же, бунт? Неповиновение командиру? — бесновался сержант. — Да вы знаете, что я с вами сделаю?! Вы у меня под трибунал пойдете! — Пока что ты сам сейчас пойдешь… — выругался молодой рабочий и решительно взял сержанта за плечо. — А насчет языков потише, смотри, как бы самому не укоротили! Сержант рывком сбросил с плеча его руку и, повернувшись, поспешно зашагал прочь. За ним, втянув голову в плечи и припадая на ушибленную ногу, заковылял Панделе. — Не забудь приказать своим солдатам, чтоб стреляли в немцев, болван! — крикнул Райку вдогонку сержанту. — В немцев, а не в рабочих!.. Ишь, руки-то холеные. Небось и не знает, что такое мозоли. — Это уж точно, — согласился Ницэ Догару. — У него вся родня кулаки. Они над батраками измываются, а он над нами, грешными. — Тише ты! — толкнул его в бок Тотэликэ. — Услышит, несдобровать тебе. — Ничего, парень, не дрейфь! Кончилась их власть. Теперь мы покомандуем, которые с молотком да с мотыгой. Райку вскарабкался на стапель, поднял руку, призывая к тишине: — Братья рабочие! Минутку внимания! — Тише, тише! — пронеслось по толпе. — Человек говорить хочет! Стало так тихо, что слышно было, как плещутся внизу волны Дуная. — Братья рабочие! — повторил Райку и обвел взглядом толпу. — У меня в руках прокламация, которую этот подонок, этот доносчик хотел порвать. Молодцы, что дали ему по шее, поделом ему! — И еще дадим, если не уймется, — пообещал Глигор. — Сколько штрафов с меня из-за этой скотины содрали… — О чем эта листовка, товарищи? Это воззвание коммунистической партии к народу. Всю жизнь мы с вами мучились, жили в нищете и невежестве, над нами издевались, нас обирали и обманывали. Кто это делал? Господа эксплуататоры и их подголоски, такие вот, как Панделе. Наши правители продали Румынию иностранным капиталистам. Явились немцы, завладели, нашей страной, послали народ на бойню. Взгляните на наш город, посмотрите, что от него осталось! Вместо домов — развалины, вместо парка — перепаханный бомбами пустырь! А наши доки?.. А сами мы?.. Ни города не узнать, ни людей! — Смерть фашизму! — крикнул кто-то, и сотни голосов, подхватив призыв, скандировали его дружно и долго. — Немцы, убирайтесь вон! Долой фашистских прихвостней! Наконец шум затих. Райку заговорил снова: — Вы хотите, чтобы немцы убрались домой? Правильно, товарищи! Гнать их надо в три шеи! Слышали утреннюю передачу? Они бомбили Бухарест. Мало нам горя от налетов англо-американской авиации!.. Так нет же, еще и немцы грозят наказать нас за то, что мы разорвали с ними союз. А по-моему, справедливость требует, чтобы мы наказали немецких фашистов и их подручных за все страдания, которые они нам причинили. Коммунистическая партия Румынии мобилизовала на борьбу трудящиеся массы и свергла диктатуру Антонеску. Она обращается к вам, братья рабочие, о призывом взять винтовки в руки и гнать гитлеровцев с нашей земли! — Вон их из страны! — Разоружить их надо, вот что! — Комендатуру занять! Комендатуру! — Городские власти, — напрягая голос, продолжал Райку, — то есть начальник городской управы и его люди, а главное, начальник гарнизона, скрыли от солдат заявление нового правительства Румынии, в котором оно объявило войну фашистской Германии. Но раз война, стало быть, надо срочно разоружить немецкие войска, которые еще находятся на территории нашей страны. Да только, как видите, никто и не думает беспокоить господина Клаузинга. Он себе спокойно разъезжает по городу! Я только что его видел. Это позор, товарищи! — Пусть выдадут нам винтовки, мы живо с ним разделаемся! — Даешь оружие! — Братья рабочие! — Райку уже почти кричал. — Вчера над румынской землей засияло новое солнце — солнце свободы, справедливости и счастья для всех тех, кто трудится в поте лица. А наши городские власти делают вид, будто ничего не случилось. Я призываю вас, братья, откликнуться на призыв коммунистической партии и защитить справедливость! Очистим город от реакционных и преступных элементов, и в первую очередь от гитлеровцев! Вступайте в боевые патриотические отряды, братья! Беритесь за оружие! Вперед выступил пожилой солдат: — Эти гады делали что хотели! Моего сына на фронт погнали, там и гниют теперь его косточки… А немец этот, Класинг, вроде так его зовут, застрелил отца одного нашего солдата, Кирикэ. Чего ж мы ждем, братцы? Пора кончать с немчурой! У меня и штык имеется, и винтовка, я хоть сейчас готов… — Повернувшись к Райку, он добавил: — Молодец, дядя, хорошо сказал. Ты вроде мои мысли читаешь. Голод и нищета там, в деревне, да и тут, в городе, не лучше. Скот у нас угнали, пахать некому, на уборке — старики да бабы, поля заросли, детишки без присмотру. Я уже пятый год шинель не снимаю: то одно, то другое, туда пошлют, сюда пошлют… Хватит, довольно на нас воду возили! — Он стянул с головы пилотку, вытер ею пот с лица, снова надел и вернулся на место. Райку прикрепил прокламацию к обшивке баржи, обернулся и, глазами отыскав в толпе старого солдата, дружески ему улыбнулся. — Слыхали, друзья, что солдат сказал?.. Как тебя зовут, старина? — Догару меня зовут, Ницэ Догару… — Таких в нашем гарнизоне много. И они всегда будут на нашей стороне. Так поддержим же обращение нового правительства к стране и воззвание коммунистической партии к народу! Мощное ликующее «ура» прокатилось по верфи. Конец фашистской диктатуре, преступному режиму Антонеску! В это ясное августовское утро зарождалась новая жизнь… Первое свободное собрание рабочих, шутка ли сказать! Не надо больше скрываться и прятаться, не страшны уже солдатские штыки и пистолеты тайных агентов полиции. Под радостные крики Райку спустился со стапеля и смешался с толпой. Его обнимали, теребили вопросами, со всех сторон тянули к нему руки. — Да я вернусь, друзья, скоро вернусь, — счастливо улыбаясь, твердил он. — Вот схожу в железнодорожные мастерские — и сразу обратно. — Ладно, ступай. Только не задерживайся, слышишь? — Мы ждем тебя, Райку! Райку оглянулся, ища глазами сына. — Санду! — крикнул он. — Я здесь, отец! — отозвался тот. — Видишь, сколько у тебя теперь дел? Я пошел, вечером увидимся. О еде позабочусь сам. — Договорились. Но все-таки ты поосторожней, отец! — Не беспокойся, все будет в порядке. И, провожаемый взглядами, Райку, широко ступая, зашагал к воротам.
35
Утром 24 августа, часов около десяти, когда Клаузинг появился в комендатуре, капитан Отто Вильке доложил ему, что приказ выполнен. Правда, не целиком, пока не представилась такая возможность, но они уверены: сегодня ночью все будет доведено до конца. На рассвете они сумели проникнуть в больницу, префектуру, театр, на вокзал, сортировочную станцию, заминировали кое-где железнодорожные пути, водонапорную башню, электростанцию. Однако на судоверфь, в железнодорожные мастерские, в здание почты в телеграфа попасть не удалось. Помешали румынский военный патруль и вооруженные рабочие. А часа два назад на судоверфи произошло столкновение между, рабочими и сержантом, тоже румыном, который пытался отобрать коммунистическую прокламацию. Было бы неплохо, если бы господин подполковник обратился к румынскому коменданту и заручился его письменным разрешением — отдельным для каждого нашего патруля. Мол, официально разрешено де монтировать линию телефонной связи, с этой целью необходимо получить доступ на судоверфь, в здание почты, телеграфа… Клаузинг угрюмо слушал его, глядя в окно. Из сообщений немецкого радио он уже знал, что утром в Бухаресте произошли уличные столкновения. Гитлеровская авиация бомбила румынскую столицу. Яростная перестрелка слышалась у военной академии, немецкой комендатуры, в аэропорту. Румыны сбили несколько немецких самолетов и заявляют о своей решимости отбить любой массированный налет. Немецкие войска в беспорядке отступают под мощными ударами Советской Армии, на территории страны их атакуют румынские части: фактор внезапности сильно подорвал боевой дух фашистов. Ситуация не только напряженная, но, можно сказать, критическая, а связи с немецким командованием нет, и все здесь зависит от того, какое решение примет он, Клаузинг. Пожалуй, Вильке прав, такое разрешение надо добыть. Отъезд он мысленно назначил на тринадцать ноль-ноль. Значит, так: предупредить Лиззи, чтобы она не более чем за час собрала вещи и ждала его, он заедет за ней на машине, как только освободится; потом зайти к полковнику Предойю и заручиться его обещанием, что немецкому гарнизону будет позволено беспрепятственно покинуть город после демонтажа телефонной сети комендатуры; потом он поблагодарит полковника Предойю за доброе сотрудничество, посетует на судьбу, выразит надежду, что в Бухаресте, может, еще передумают и отменят свое слишком поспешное решение, а пока — тут он скорбно вздохнет — ничего не поделаешь: они, немцы, привыкли уважать приказы и он подчиняется воле румынского правительства. Потом он попрощается с Жирэску и другими симпатичными ему людьми и покинет этот гостеприимный город. Разумеется, захватит с собой Лиззи и ее старого отца. Днем эшелон с личным составом гарнизона отбудет в Тимишоару. На этот счет он договорится с начальником станции. Гипсовая маска исчезла, и лицо Клаузинга вновь обрело привычное самодовольное выражение. Нет решительно никаких оснований для беспокойства. Можно даже и о будущем помечтать… Он поймал удивленные взгляды подчиненных и, поспешно изобразив на лице строгость, более соответствующую ситуации в данный момент, отдал последние распоряжения: — Я согласен с предложением капитана и сейчас же иду к полковнику Жирэску. Подготовьте взрывчатку и ждите меня. Обеспечьте все необходимое для организованной эвакуации комендатуры. Узнав, что полковник Предойю находится у Жирэску, Клаузинг покатил на своем «мерседесе» прямо туда. В это время начальник городской управы полковник Жирэску И начальник гарнизона полковник Предойю обсуждали распоряжение, поступившее из Бухареста: немедленно разоружить немецкие части, находящиеся на территории страны. Предойю полагал, что приказ следует понимать так: все военнослужащие немецкой комендатуры сдают оружие и подвергаются аресту. Однако Жирэску решительно возражал: — Нельзя кончать товарищество по оружию предательством, это низко. Коммунистическая зараза не получила распространения в нашей стране исключительно благодаря союзу с Германией. Неужели же мы теперь столь бесчеловечно обойдемся с ее доблестными воинами?! — От волнения он даже уронил монокль и теперь суетливо шарил руками по столу. — Вот уж нет, — возражал ему Предойю, — факты свидетельствуют об обратном! Развязав войну с Советским Союзом, Германия как раз ускорила распространение коммунистических идей. Партизанское движение, саботаж на производстве, кража оружия — все это результат активности коммунистов. Именно с приходом немцев это и началось… Спорили, спорили и наконец решили: потребовать от Клаузинга, чтобы весь состав немецкого гарнизона сдал оружие, после этого немцам будет предоставлена возможность спокойно покинуть город и уехать в Германию. Таким образом и приказ будет выполнен, и кровопролития удастся избежать. Ведь в приказе сказано: «разоружить» и «очистить территорию». Вот они и очистят. Кто сказал, что это надо обязательно понимать как военные действия? Зачем обрушивать на несчастный город новые бедствия? Секретарша доложила о приходе Клаузинга. Известие было встречено с недоумением и даже с некоторой долей раздражения, но потом Предойю, подумав, сказал: — Прекрасно, он явился очень кстати. Вот мы и доведем до его сведения приказ нашего командования, если он ему еще неизвестен. — А заодно скажем, как мы намерены его осуществлять здесь, в городе. В том духе, как мы только что с вами договорились! — Жирэску нервно закурил сигарету. — Предупредим его, что самое позднее через восемь часов, сдав оружие, они должны покинуть город. Тогда к вечеру мы уже сможем доложить своему командованию, что приказ нами выполнен. — От нас требуют, чтобы мы доложили о немедленном выполнении приказа. — Так ведь они ждут, что мы сообщим о том, какая у нас обстановка, а вовсе не о том, что мы уже разделались с немцами. — Но мы же не можем молчать до вечера… В кабинет вошел фон Клаузинг, аристократичным жестом обозначил уставное приветствие, снял фуражку, перчатки и поздоровался за руку с каждым, потом кликнул из приемной сопровождавшего его переводчика. — Я как раз собирался вас пригласить. По очень деликатному вопросу. — Жирэску пододвинул немцу свободное кресло. — Видите ли, создавшаяся ситуация… обстоятельства… Вы, конечно, уже осведомлены… Сами подумайте, ну зачем нам… Крайне неприятно… Короче говоря… Переводчик тут же перевел. Клаузинга ничуть не удивило услышанное. — Знаю, — спокойно кивнул он. — Это стало известно мне еще вчера вечером. — Печально, что наша дружба доживает последние часы. Но наша признательность… — Жирэску прижал руки к груди и от волнения стал заикаться. Полковник Предойю твердым голосом заметил, что независимо от того, боятся немцы кого-либо или нет, им видимо, придется оставить город в течение ближайших восьми часов. Иначе он, полковник Предойю, ни за что поручиться не может. Клаузинг невозмутимо выслушал и его. Ну что ж, он сознает безвыходность ситуации и готов подчиниться. Румынская сторона может быть спокойна, все будет в полном порядке. Сегодня же личный состав комендатуры погрузится в специальный железнодорожный состав и отбудет в Тимишоару. Он прекрасно понимает, что значит для военного приказ, он не подведет своих румынских друзей, чьим уважением так дорожит. У него только одна просьба: разрешить ему демонтировать и увезти с собой немецкие телефонные провода, проложенные на судоверфи, в железнодорожных мастерских, в здании почты и телеграфа… Это имущество немецкой армии, к тому же дефицитное… — Никаких возражений! — сразу согласился Жирэску. Тут дверь кабинета отворилась, и смущенная секретарша сообщила, что какие-то люди просят полковника Предойю срочно выйти в приемную. Последовав в недоумении за секретаршей, полковник обнаружил за дверью кабинета Жирэску двенадцать рабочих, вооруженных винтовками и гранатами. На рукаве у каждого была трехцветная повязка. При виде полковника один из них выступил вперед: — Меня зовут Ион Райку, господин полковник, я секретарь местной организации коммунистической партии. А вот это, — показал он на Глигора, — командир боевых отрядов. — Каких отрядов? — удивился Предойю. — Отрядов вооруженных патриотов, народных дружин! — В голосе Райку зазвенел металл. — Вы удивлены? — Нет, почему же… Я просто думал, что такие отряды существуют только в Бухаресте, а у нас их нет… — Они созданы по всей стране, господин полковник. И руководит ими коммунистическая партия. Разве вы не получали от своего командования приказ о том, чтобы действовать совместно с нами? — Письменного приказа не было, — смущенно ответил полковник, — но какие-то указания на этот счет поступили. — Ну и на том спасибо, — заметил Райку. — Так о чем вы хотели со мной поговорить? — Предойю обвел встревоженным взглядом Райку, Глигора и молчаливую группу рабочих. — Мы хотели выяснить, почему немцам позволено беспрепятственно передвигаться по городу, почему их не арестовали и не разоружили? — Видите ли, господин Райку, мы только что довели этот приказ до сведения фон Клаузинга и установили ему срок — восемь часов. Немецкий комендант еще в кабинете полковника Жирэску. Через восемь часов весь немецкий гарнизон покинет город. — То есть как? Вы хотите сказать, что немцы спокойно уйдут из нашего города?! — вмешался в разговор Глигор. — Несмотря на решение правительства о начале военных действий против немецкой армии?! — Это общее решение. На местах все зависит от ситуации. Кому нужны военные действия там, где немцы не оказывают никакого сопротивления и готовы разоружиться? — растерянно проговорил Предойю. — Они обязаны не только разоружиться, но и сдаться в плен румынскому гарнизону. Разве вы не договорились об этом с Клаузингом? — спросил Райку. — О сдаче в плен разговора не было, — ответил полковник. — Как же так, господин полковник? — возмутился Райку. — Гитлеровцы — наши враги. Они должны дорого заплатить за все те страдания, которые причинили Румынии. Со вчерашнего вечера мы находимся с ними в состоянии войны. В разных районах Румынии немцы атакуют наши войска, обстреливают и бомбят наши города, взрывают железнодорожное полотно. Почему же мы здесь действуем наперекор законам войны? — Но здесь немцы держатся очень корректно. В городе не было ни одного инцидента, они не проявляют никакой враждебности… — У них еще есть время проявить себя, господин полковник. Просто так они не уйдут, еще хлопнут дверью, помяните мое слово… Их необходимо заранее обезвредить: разоружить и взять в плен. Учтите, боевые отряды переходят к активным действиям. Совместным или самостоятельным — это зависит от вас, — твердо заявил Райку. — Вот что, господин Райку, — подумав, решительно сказал Предойю, — я сейчас осторожно дам понять начальнику городской управы полковнику Жирэску, как обстоят дела на самом деле, и, может быть, вы арестуете Клаузинга прямо на месте, если, конечно, полковник не будет возражать. Предойю вернулся в кабинет Жирэску, а Райку, Глигор и их товарищи остались ждать в приемной. В здании городской управы было пусто, служащие разъехались кто куда. Через высокие пыльные окна, крест-накрест заклеенные бумагой, проникал свет ласкового августовского утра; изредка доносилось позвякивание сбруи или короткое ржание — неподалеку была стоянка городских извозчиков. Прошло минут пятнадцать, но двери кабинета оставались закрытыми… Нетерпение рабочих усиливалось. Райку нервно мерил шагами приемную и с растущей тревогой поглядывал на дверь. Было отчего тревожиться. Мало ли румынских офицеров за три с половиной года союза с Германией спелись с немцами? Может, и эти тоже? Не все ведь такие, как младший лейтенант Ганя… И секретарши на месте нет, исчезла куда-то. Как быть? Дождаться секретаршу и попросить напомнить начальству, что в приемной люди ждут? А может, взять да и войти без доклада? — Чего мы ждем, Райку? — не выдержал наконец Глигор. — Что они там, черт побери, столько времени делают? — Они нас облапошили, братцы! — высказал предположение Вишан, рабочий из железнодорожных мастерских. — Я предлагаю всем вместе ворваться в кабинет. Остальные его поддержали. Райку и Глигор подошли вплотную к массивной, изъеденной жучком двери и напряженно прислушались. Из кабинета не доносилось ни звука. Может, там есть запасный выход? Райку повернулся к товарищам и тихо сказал: — Ну вот что, братцы, я сейчас туда войду, а чуть погодя входите и вы. Если Клаузинг там, мы его арестуем. Пора заняться комендатурой, мы здесь попусту теряем время!.. Он постучал, ему никто не ответил. Тогда он решительно нажал на ручку и вошел. Оба румынских полковника испуганно уставились на Райку. — А, это вы! — покраснев до ушей, выдавил из себя Предойю. — Я совсем забыл, что вы ждете ответа… Дело в том… — Где немец? — загремел Райку, оглядывая кабинет, и взвел курок пистолета. — Это что еще такое?! Вы где находитесь?! — Жирэску грохнул кулаком по столу с такой силой, что его монокль выскочил из глаза и, закачавшись, повис на черном шнурке, прикрепленном к желтому аксельбанту (полковник был офицером генерального штаба). Продолжая кричать на Райку, Жирэску нащупал монокль и снова вставил его в глаз. — Вы что себе позволяете?.. Вон отсюда!.. — Где немец?! — повторил Райку и, повернувшись к двери, крикнул: — Глигор, скорее! Бери людей, оцепляйте здание! А с вами, господин начальник управы, мы еще поговорим… Только не сейчас, позже… Райку кинулся в полуоткрытую дверь, расположенную в противоположной от главного входа стене, позади письменного стола Жирэску. Дверь вела в узкий коридор, который кончался цементной винтовой лестницей, уходившей, судя по всему, в подвал. Предойю кинулся за ним, схватил за руку и, задыхаясь, торопливо забормотал: — Господин коммунист, это не я, это Жирэску выпустил Клаузинга! Я передал ему свой и ваш приказ, но Жирэску не захотел, чтобы вы вошли в кабинет. И Клаузингу ничего о вас не сказал, не хотел, наверное, его пугать. Так что, господин коммунист… Райку вырвался и, недослушав, помчался дальше. Клаузинг и его переводчик только что вышли во двор городской управы, не переставая удивляться тому, что Жирэску направил их через черный ход по темной, тесной лестнице со стертыми ступенями, где ничего не стоит сломать себе ногу. Странный, необъяснимый поступок! Во дворе Клаузинг натянул кожаные перчатки и осмотрелся в поисках выхода на улицу. Вдруг как из-под земли перед ним вырос смуглый человек с пронзительным взглядом. Это был Глигор. За ним стояли шесть вооруженных рабочих. — Руки вверх, бандит! Клаузинг застыл на месте, кровь отлила от щек, а блекло-голубые, выцветшие глаза медленно полезли из орбит. Он почувствовал, что у него отнимаются ноги. Вебер не растерялся и кинулся было назад, к двери черного хода, но выскочивший оттуда Райку ухватил его за руку и сильным рывком повалил на землю. Глигор скрутил Клаузинга. Все произошло в какое-то мгновение. Клаузинг бился и извивался, пытаясь вырваться, и рабочим пришлось связать ему руки за спиной его же собственным ремнем. Для порядка Глигор еще засунул ему в рот свою полотняную кепку и платком завязал глаза. Вокруг собралась толпа. Еще бы, такое событие! Прибежал и Бобочел. Постоял немного, разобрался, в чем дело, и, решительно подойдя к связанному Клаузингу, сорвал с него повязку, плюнул ему в глаза и возбужденно замычал. Будь он проклят, ваш Гитлер и эта война! Потом нагнулся и отстегнул у Клаузинга с руки золотые часы. — Что ты делаешь, дубина? — отпихнул его Глигор. — Рехнулся, что ли? Сейчас же отдай!.. Но Бобочел нимало не смутился. Призывая в свидетели извозчиков, он натужно захрипел, издавая нечленораздельные звуки, замахал руками, закрутил головой, всеми способами пытаясь объяснить, что часы эти он честно выиграл у немца на пари, ведь теперь ясно, что Германии канут! — Кончай балаган! — оттащил его от Клаузинга Глигор. — Мало того, что немой, так теперь еще и спятил! Тем временем рабочие арестовали и шофера. Его схватили в тот момент, когда он, ни о чем не подозревая, безмятежно шел к своей машине от табачного ларька. Шофера тоже связали и погрузили в «мерседес», где уже лежали Клаузинг и его переводчик. Райку сел за руль. Он научился водить машину еще когда служил в армии в танковых частях. Через полчаса арестованных по земляным ступеням спустили в деревенский погреб. Наверху расположилась вооруженная охрана из бойцов боевого отряда патриотов.36
События развивались стремительно. В середине того же дня к полковнику Димитрие Жирэску пожаловали два неожиданных гостя. Первым, о ком доложила секретарша, был адвокат Титус Панаитеску, руководитель местной организации либеральной партии[29], высокий, статный мужчина, лет шестидесяти, в строгом белом костюме и галстуке бабочке. Сияя улыбкой, он дружески пожал полковнику руку и сразу приступил к делу: — Дорогой Мити, у меня к тебе важный разговор… — Счастлив быть полезным, Титус! — Жирэску вышел из-за стола и обнял приятеля. — Как поживаешь, дорогой? Где пропадал? — Отсиживался в поместье, мой друг. Где же еще? — Панаитеску небрежно пожал плечами и провел рукой по волосам, лишь кое-где тронутым сединой. — Так и сидел, пока весь этот кошмар не кончился. Политикой заниматься, сам понимаешь, я не мог, коллегия адвокатов работала бог знает как, вот я и решил, что маленькая передышка в моем возрасте не повредит… — Ты совершенно прав, Титус. Но что же ты стоишь? Садись, пожалуйста. — Не хочу отвлекать тебя от дел, дорогой. Вот только помоги нам разрешить один вопрос, можно сказать, жизненно важный для нашего уезда. Не думай, что я преувеличиваю! — Слушаю тебя внимательно… — Речь идет о возобновлении деятельности либеральной партии, в частности ее местной организации. Демократические свободы вновь разрешены, страна, надо думать, возвращается к политической системе былых времен, я полагаю, пора и нам приниматься за дело. — Чем же я могу помочь, дорогой? — О, ничего особенного не требуется! Простая бумажка. Разрешение на то, чтобы мы заняли наше прежнее помещение, знаешь, на улице Дечебала, рядом с кинотеатром… — И только-то? Сейчас секретарша тебе отпечатает на машинке… — Спасибо, Мити, сердечное спасибо! Ты просто чудо! Не могу ли и я быть тебе чем-нибудь полезен? Время смутное, всякое может случиться… Да, кстати, что это сегодня утром произошло здесь, у здания? Я слышал, какие-то хулиганы связали и увезли немецкого коменданта? — Да, Титус, к сожалению, это правда. — Какая неслыханная наглость! Кто эти люди? — Так называемые боевые отряды патриотов. — Жирэску развел руками. — Во всяком случае, так они сами себя величают. Действуют под руководством коммунистической партии. Положение сложилось безвыходное, и я вынужден был отступить. Что поделаешь!.. — Но на каком основании они его арестовали? — Понимаешь, мы допустили промах с разоружением немецкого гарнизона, так сказать, нарушили предписание генерального штаба. Вот эти разбойники и перехватили инициативу. А вообще-то, ты же знаешь, как у нас говорят: не человек управляет временем, а время человеком… — Истинная правда… — И представляешь, я как раз договорился с Клаузингом, что они добровольно сдадут оружие и покинут город! Но что поделаешь, так уж получилось. Мне же еще и пригрозили… — Да что ты? — удивился Титус Панаитеску. — Представляешь, в каком я оказался положении? — Ничего, все обойдется, — успокоил его адвокат, двумя пальцами поправляя галстук. — Но осторожность надо соблюдать, это верно. Осторожность — мать благополучия. До скорого свидания, мой друг. И еще раз спасибо! Когда мы теперь увидимся? Давай посидим в тесной компании!.. Я теперь снова на своей вилле. И знаешь, моя соседка, госпожа полковница Дона, питает к тебе весьма нежные чувства… Да-да, это не секрет… Или ты боишься свою Артемизу? — Я? Я боюсь только бога, дорогой Титус!.. — Вот и прекрасно! — хитро улыбнулся адвокат. — Госпожа Дона, чтобы ты знал, женщина восхитительная… Но не будем сейчас об этом… Итак, до встречи. Всех тебе благ!.. Еще через полчаса порог кабинета полковника Жирэску переступил учитель мужской гимназии Константин Станчу. Долгие годы он возглавлял городскую организацию национал-царанистской партии. Этот толстый, седой, смуглолицый человек с тяжелыми, вечно полуопущенными веками, казалось, спит на ходу. Как и первый посетитель, он пришел попросить разрешения занять помещение для своей организации и, естественно, получил его. И вот в послеобеденное время, в один и тот же час, две красиво оформленные таблички, выполненные одним и тем же художником, были прикреплены на двух городских зданиях, стекла в которых не раз разлетались вдребезги в те времена, когда еще проводились предвыборные кампании. Но по-настоящему значительное происшествие, которое привлекло всеобщее внимание, произошло в шесть часов вечера, и носило оно сугубо драматический характер. Рота пехотного полка под командованием младшего лейтенанта Гани и около тридцати вооруженных рабочих окружили массивное, прочное здание, где размещалась немецкая комендатура, и потребовали от гитлеровцев немедленной сдачи в плен. В ответ на это требование немцы забаррикадировались. Но вернемся к событиям, имевшим место несколько ранее. Часов в одиннадцать — начале двенадцатого явившиеся к полковнику Предойю вооруженные рабочие потребовали, чтобы он, пока не поздно, начал решительные действия против немцев. — Господин полковник, — горячо убеждал его Глигор, — наш народ был так долго унижен, жил в такой нищете! Нет ничего удивительного, что он взял в руки оружие… И раз уж он теперь вооружен… — Господин Григоре, — прервал его полковник. — Меня зовут Глигор. — Извините, пожалуйста, господин Глигор, что не запомнил вашего имени. То, о чем вы меня просите, для меня не новость. Я уже говорил об этом с младшим лейтенантом Ганей. В принципе я согласен, что надо начинать военные действия против подразделений немецкого гарнизона, но именно военные действия, а не что-нибудь другое. По всем правилам военного искусства и законам ведения войны. А то, что предлагаете вы, не наше дело. Пусть этим занимается полиция или жандармерия. Пусть они и арестовывают этих немцев. — Господин полковник, вопросы теории меня сейчас не интересуют, страна в опасности! Решайте: вы присоединяетесь к антифашистской борьбе, которую уже ведут боевые отряды патриотов, или нет? К такой постановке вопроса Предойю не был готов. Для себя он, правда, уже все решил, но как убедить в этом и Жирэску, который твердит, что надо любой ценой избежать кровопролития? Его не сдвинешь… А те люди, кого Предойю считал анархистами, далекими от интересов страны, сейчас всерьез озабочены судьбой родины и вооружились, оказывается, для ее защиты, а не для решения своих местных задач, продиктованных им коммунистической партией… Как все это непросто!.. — Чего вы добиваетесь конкретно? — вопросом на вопрос ответил он Глигору. — Чтобы вы выделили нам в помощь роту младшего лейтенанта Гани. — Хорошо, — помолчав, решил Предойю, — я отдам соответствующий приказ. Таким образом план, разработанный Ионом Райку, Глигором и Виктором Ганей, был приведен в исполнение: еще до захода солнца солдаты и рабочие начали осаду здания немецкой комендатуры. Трижды они предлагали немцам сложить оружие и трижды получали категорический отказ. Капитан Вильке, старший по званию после Клаузинга, принял решение драться до последнего. Об этом он и уведомил осаждавших запиской, которую бросил из окна. Капитан написал им по-немецки, но никто из рабочих или солдат немецкого языка не знал, и по совету капрала Динку Ганя послал за Михаем Георгиу, который находился вместе со своим отрядом в районе гимназии. Пробежав записку глазами, Михай сказал: — Он пишет, что страшный конец лучше, чем страх без конца. — Что ж, все ясно, — заключил Ганя, — будем начинать… я уже распорядился, чтобы сюда доставили два противотанковых орудия. — А мы и не рассчитывали, что немцы выйдут к нам с поклоном!.. — отозвался Райку. — Откроем огонь, шарахнем из пушек, то-то будет им время записочки писать… Ну, лейтенант, что молчишь? — Я любуюсь вами. Ну и хватка у вас! А ведь если подумать, простой, в общем-то, человек, самый что ни на есть обыкновенный, но хватка!.. — Он восхищенно потряс головой. Райку сердито на него покосился: — Расхваливаешь меня, будто сваты невесту! Нашел время! Сухо треснул винтовочный выстрел, его подхватило эхо, за ним — другой и сразу — автоматная очередь. — Никак, немцы зашевелились? — Динку побежал к углу дома, бросился на землю и, укрывшись за высокой клумбой, направил бинокль на окна комендатуры. Вернувшись, он доложил: — Один из наших солдат переходил улицу, и немцы открыли пальбу. — Убили? — Нет. — Начинаем атаку! — решил Ганя. — Нечего больше ждать! Согласны? — Согласен, — ответил Райку. Ганя вынул из планшета листок бумаги, что-то быстро на нем набросал и крикнул: — Капрал Динку! Срочно передай командирам взводов мой приказ: первому взводу держать под методическим пулеметным огнем окна чердака и второго этажа; второму взводу — вести огонь очередями по балкону, входной двери и окнам первого этажа. Глигору — он командует на правом фланге — передашь: из стрелкового оружия вести только прицельный огонь. Понятно? Через несколько минут шквальный огонь обрушился на здание комендатуры. Посыпались стекла, черепица, ветки деревьев. В считанные секунды будка часового превратилась в решето, пули прошили кузов и шины грузовика, стоявшего во дворе в тени абрикосовых деревьев, и под ним растеклась лужа масла и бензина. Машина запылала, загорелись деревья… Еще немного — и страшный грохот потряс все вокруг: взорвался бензобак, двор заволокло удушливым черным дымом. Пулеметная очередь скосила древко нацистского знамени, укрепленного на балконе второго этажа, и большое полотнище с белым кругом и черной свастикой посередине повисло как тряпка. Пули отскакивали от стен и разлетались рикошетом во все стороны, сыпалась штукатурка, покрывая белой пылью вьющийся по стенам плющ. Немцы отвечали автоматными очередями. Ганя, стоя рядом с Райку, наблюдал за ходом поединка в бинокль. Оба были обеспокоены: уже десять минут как идет стрельба, а толку пока никакого. Надо поторапливаться. Вот и с Дуная ветерком потянуло, ночь наступает.38
Под вечер следующего дня румынский патруль остановил при въезде в город, у моста через реку Тополницу, головную часть немецкой колонны: пятьдесят шесть офицеров, двести восемьдесят унтер-офицеров, примерно тысяча двести солдат. В колонне были и женщины, человек сто сорок из нестроевых служб. Колонна двигалась на автомашинах — восьмидесяти грузовиках — и имела при себе десять зенитных орудий. — Was ist?[30] — Насквозь пропыленный немецкий офицер вылез из машины и подошел к румынскому сержанту, старшему по званию в патруле. — Нельзя? — Нельзя! — отрубил сержант, низенький плотный паренек, и строго поглядел на немца. — Почему нельзя? — недоуменно поднял белесые брови немец. — Немецкая армия, мы… было… союзник… друг… — Было… союзник… — передразнил его сержант. — Все, конец! Было да сплыло, понял? — Он покрепче сжал в руке автомат и пошире расставил ноги. — Приказ у меня, ясно? Никого в город не пропускать. Немец озабоченно пожевал губами. Взглянул на часы и медленно побрел назад к колонне. Подойдя к машине, где сидели старшие офицеры, он вытянулся по стойке «смирно» и доложил обстановку. Офицеры посовещались, и один из них, грузный, с красным апоплексическим затылком и моноклем в глазу, вылез из машины, потянулся, разминая затекшие от долгого сидения ноги, отряхнул перчаткой пыль с груди и рукавов и в сопровождении первого немца зашагал к голове колонны. — Наш командир, — как можно более отчетливо выговаривая каждое слово, обратился к румынскому сержанту первый немец, — хочет пойдем к фаш командир… Сержант внимательно выслушал офицера, но ничего не ответил. Должно быть, просто не знал, как поступить. — Машины стоять на месте, — коверкая язык, продолжал первый немец. — Мы идем фаша комендатура. — Ну ладно, — решился наконец сержант и, повернувшись в сторону зарослей у дороги, крикнул: — Эй, ребята, ко мне! Двое вооруженных солдат выскочили из кустов и, подбежав к сержанту, вытянулись в ожидании приказаний. — Отведете их в казарму к господину полковнику. Только не спускайте с них глаз! Через полчаса немцы уже были в кабинете полковника Предойю. Несмотря на вежливые и настойчивые предложения полковника, сесть отказались и остались стоять с насупленными, высокомерными лицами, величественные и неподвижные, как изваяния. Всем своим видом они выражали брезгливое недоумение. Подумать только! Презренные румынские вояки не пускают их в город! Их, воинов непобедимого рейха! — Вы говорите по-румынски, господа? — осведомился Предойю. — Немного, — ледяным тоном ответил самый важный из немцев, и лицо его приобрело прямо-таки кирпичный оттенок. — Я есть подполковник Обст, — подчеркнуто небрежно кивнул он. — Мы хотим иметь… как это… проход. Да, да, проход… — Пропуск, — усмехнулся Предойю. — Ja, ja… пропуск, ходить на Тимишоара. Кое-как немец объяснил, что они получили приказ из центральной военной комендатуры, то есть из Бухареста, двигаться на запад. Они знают, что отношения между двумя странами изменились, и искренне сожалеют об этом. Они заверяют, что будут вести себя как друзья и не дадут повода ни к каким инцидентам. И еще: в городе, как известно, находится подполковник Клаузинг, они желают вступить с ним в личный контакт. — Подполковника нет в городе, — спокойно уточнил Предойю. — А где он? — удивился Обст. — Отбыл сегодня в Тимишоару, — дипломатично ответил Предойю. — Вместе со всем своим подразделением. — Ja, ja, Тимишоара, — закивал головой Обст. — Ошень карашо, уехаль, ошень карашо… мы тоже ехать ф Тимишоара… Предойю объяснил, что в связи с изменившимися отношениями обе страны находятся теперь в состоянии войны, поэтому верховным командованием румынской армии приказано останавливать, разоружать и интернировать проходящие немецкие части. — Как это… интернирофать? — Глаза Обста сверкнули. — Интернирофать немецкий зольдат?! Плен?! — Почему вы так удивляетесь, господин подполковник? Разве для вас плен такая уж новость? Разве вы не попадали в плен на других фронтах, и даже к нам в 1917 году, во время первой мировой войны? Думаю, вы согласитесь с тем, что мы относились к немецким военнопленным вполне корректно, не так ли? От имени своего командования я предлагаю вам добровольно сложить оружие и сдаться в плен… Да, в плен. Если же вы этого не сделаете, — Предойю широко развел руками, — пеняйте на себя. Гарнизону не останется ничего другого, как принудить вас сдаться в плен… — Ein Moment! — спохватился вдруг немец и знаками объяснил, что хочет поговорить со своим коллегой.В комнате стоял полумрак. За окнами густой синевой стремительно опускался августовский вечер. Вошедший на цыпочках солдат зажег керосиновую лампу на столе у полковника, поправил фитиль, пододвинул ее, чтобы лучше освещала весь кабинет, и так же на цыпочках вышел. Немцы, уединившись у окна, о чем-то спорили шепотом. Оба ожесточенно жестикулировали, видно, никак не могли договориться. Предойю воспользовался паузой в переговорах и позвонил полковнику Жирэску. — А, это ты, Предойю! Здравствуй, дружище. Ну как дела? Что новою? — Жирэску был в отличном расположении духа. Стараясь, чтобы его не услышали немцы, Предойю объяснил по-французски, что произошло, и попросил совета. В конце концов Жирэску — опытный офицер. Как быть, ведь у немцев и люди, и немалая огневая мощь. Справимся ли? Хватит ли у гарнизона сил? Может, привлечь еще батальоны новобранцев? Приказ-то ведь надо выполнять. — Какой приказ, Предойю? Когда ты его получил? — Сегодня утром. Шифровка из корпуса за номером 41619. Они, вероятно, уже знали о движении колонны… Полку предписывается задержать, разоружить и интернировать любую группу немецких военнослужащих, которая появится в районе города. — И что же, ты собираешься слепо его выполнять? — ехидно поинтересовался Жирэску. — А если, к примеру, у ворот города появится немецкая дивизия, тогда как? Тоже будешь ее брать в плен? Да у тебя людей — кот наплакал… — Не совсем так, господин полковник, есть еще два батальона молодых. — Это несерьезно, голубчик, они же еще не обучены, твои новобранцы. Да и на стариков из нашего гарнизона надежда невелика… Тут может спасти только дипломатия. — Не понимаю… — Надо встретиться лично. Сейчас я к тебе приеду. Через четверть часа полковник Димитрие Жирэску уже входил в кабинет Предойю. Свежевыбритый, с моноклем в глазу, звеня шпорами и гордо неся напомаженную голову, он приветствовал немецких офицеров легким кивком. Немцы встретили его настороженным молчанием. Но Предойю объяснил, кто перед ними, и они, несколько оттаяв, тоже кивком ответили на приветствие. Кто знает, может быть, с этим будет легче договориться? Они подошли к столу. Жирэску, как до него Предойю, предложил немцам сесть, но они и на этот раз отказались. — Я вас слушаю, господа! — Жирэску величественно поправил свой монокль. — Мы идти ф Тимишоара… — начал Обст, задрав подбородок и свысока глядя на Жирэску. — Мы не может сдавать оружие, не может. У нас такой приказ нет. — С трудом подыскивая румынские слова, он изложил следующий план: сейчас они вернутся назад, туда, где стоит их колонна, он, подполковник Обст, свяжется по радио со своим командованием, а завтра утром, получив ответ, они снова придут сюда вдвоем и сообщат свое решение. Сложат ли они оружие, сдадутся ли в плен — все станет известно только завтра. Возможно, они сдадут оружие и будут продолжать свой путь уже не как воинская часть, а просто как группа гражданских лиц… — М-да… — неопределенно протянул Жирэску. Он замолчал и, заложив руки за спину, некоторое время легонько покачивался с каблука на носок. — Ну что ж, может быть, это и есть решение проблемы… Разумеется, временное. Будем надеяться, что все кончится к общему благополучию… Немцы в сопровождении того же конвоя ушли. — Такт, прежде всего такт, мой друг. Вот что важно! Теперь у тебя достаточно времени, чтобы принять меры предосторожности. Стяни свои силы в город. А вообще, все будет хорошо, вот увидишь. На рассвете они сложат оружие, и мы избегнем кровопролития… — Но нам все равно предстоит брать их в плен. Приказ на этот счет совершенно недвусмыслен. — Опять ты торопишься! — Жирэску отеческим жестом положил руку ему на плечо. — Честное слово, торопишься. Зачем нам эти военнопленные? Сажать их некуда, кормить нечем… И потом… это было бы недостойно нашей воинской чести. Взять противника в плен без единого выстрела? И кого? Наших вчерашних союзников… Что от нас требуется? Чуточку терпения. Капельку снисходительности… Какого черта ты уперся? Я ведь тебя знаю как человека разумного, серьезного! — При чем тут снисходительность?! У меня приказ, и я его выполню. Мы — военные! Таков закон воинской жизни. — Но ведь не было приказа об аресте Клаузинга! Почему же ты это допустил? — Это было в духе основного приказа, в котором такие детали просто не предусматривались. — А сверхнормальный расход боеприпасов при осаде немецкой комендатуры? — И это соответствовало духу приказа. — Если ты ни в чем со мной не согласен, если слушаешь одного Ганю, этого бунтаря, про которого известно, что он снюхался с коммунистами, если он для тебя главный авторитет, спрашивается, зачем же ты обращаешься за советом ко мне? — Я обязан информировать вас о происходящем. И я уважаю ваш богатый военный опыт. — Не худо бы тебе уважать и мое мнение. — Я его уважаю, когда оно не идет вразрез с приказом. — Ну, поступай как знаешь. Тебя не переубедить, ты упрям как осел! Извини, что я так говорю, но это сущая правда! — И Жирэску вышел, сильно хлопнув дверью. Когда чуть позже в кабинет вошел младший лейтенант Ганя, полковник уже разговаривал по телефону с командирами батальонов, укомплектованных новобранцами. — Привести батальоны в состояние боевой готовности! Уточнить все необходимые детали! Но только без лишней нервозности!.. — кричал он в трубку. — Не паникуйте, понятно? Мы просто принимаем меры предосторожности… Повторяю: предос-то-рож-но-сти! Об исполнении доложите. — Он положил трубку, повернулся к младшему лейтенанту: — Поздравляю, ты у нас герой дня! — и протянул ему руку. — Молодец, благодаря тебе удалось отвести от города большую угрозу! — Вы имеете в виду немецкие мины, которые мы обезвредили? — Да, именно это. — Надеюсь, мы обнаружили все, не дай бог, хоть одну пропустили!!. Правда, мы нашли в кабинете Вильке план… Вроде бы все соответствует. Но соблюдали ли они его точно? — Кстати, о плане… Необходимо срочно составить опись документов, оружия, мебели — всего, что осталось в немецкой комендатуре. Ты слышал новости? — Про немецкую колонну у ворот города? Слышал, господин полковник. Не успели одних скрутить, а другие уж тут как тут… — Ко мне приходил начальник колонны, подполковник, и с ним капитан. Просили разрешения пропустить их через город, они вооружены, в колонне есть и боевая техника… — И что вы им ответили? — Разумеется, отказал. Но тут подъехал полковник Жирэску и дал им маленькую отсрочку. Решили подождать до утра. А они за это время обещали связаться со своим командованием. — Зачем? — А как же? Чтобы сложить оружие и сдаться добровольно в плен, им необходим приказ. — У нас есть свой приказ. Что бы им ни сказало их начальство, мы обязаны их разоружить и взять в плен. И делать это надо было сразу. Подполковника с капитаном тоже надо было арестовать, а не отпускать на все четыре стороны. Зачем вы с ними миндальничаете? Ваши вчерашние союзники собирались взорвать важнейшие объекты города, а говорили о лояльности и корректности… — Что поделаешь, дорогой Ганя, — удрученно покачал головой полковник. — А я-то вчера старался, боялся обидеть этого мерзавца Клаузинга!.. Позволил начальнику городской управы выпустить его через черный ход… Но теперь, можешь быть уверен, я не подведу. Если немцы не сдадутся, мы применим самые крутые меры. Подготовь свою роту! — Понял, господин полковник! — Как ведут себя пленные? — Спокойно, господин полковник. Едой их на сегодня обеспечили. Сидят под усиленной охраной в помещении склада военной хлебопекарни. — Сколько человек в охране? — Шесть солдат и четыре бойца из рабочего отряда. — Зачем ты впутываешь в эти дела гражданских? — Что же в этом плохого, господин полковник? — Охрана пленных — задача военных, а не гражданских лиц. — Но ведь они же участвовали вечером 23 августа вместе с нами в осаде комендатуры? Там ведь был настоящий бой!.. В условиях войны, господин полковник, мы начинаем писать новую историю Румынии. Без них победа невозможна! — Это все громкие слова, Ганя. — Res, non verba[31], господин полковник. Вот посмотрите, время подтвердит мою правоту. Предойю промолчал. Он сел за письменный стол, оперся головой на руки и легонько потер виски. Он страшно устал. Кроме ситуации с немецкой колонной его еще очень удручал разговор с Жирэску. На улице сгустилась тьма. Огонек в керосиновой лампе на письменном столе трепетал и метался, заставляя тени причудливо плясать на стене. С улицы не доносилось ни звука, и в комнате слышалось лишь потрескивание фитиля да нескончаемая песня сверчка. — Ну что же, пусть дежурят, — нехотя согласился полковник. — В конце концов солдат не хватает, а эти гражданские проявили вчера настоящую воинскую доблесть. На этот раз пусть все останется как есть. — Разрешите идти? — спросил Ганя. — Иди, — ответил Предойю. Ганя повернулся и носом к носу столкнулся с входившим в кабинет старшим сержантом Гэлушкэ, как всегда выбритым, выутюженным, начищенным. — Где ты был, Гэлушкэ? Я не видел тебя со вчерашнего обеда! — Вчера сидел до позднего вечера с отчетностью, сегодня утром ездил в Крайову, отвозил срочные бумаги. Главное — рапорт господина полковника о вчерашней перестрелке. — Ты все время находишь себе какие-то странные занятия! В штурме комендатуры не участвовал. Городские объекты разминировать — опять тебя доискаться не могли. — Но, господин младший лейтенант, я просто выполняю приказы своих командиров… — Гэлушкэ прикинулся обиженным. — Все время дела: то одно, то другое. Господин полковник потребовал отчетность о состоянии противогазов, а Грэдинару не было. Кому выполнять?! А сегодня утром… — Как ты посмел не явиться, когда я вызвал на штурм казармы орудия?! Ты же артиллерист! Вместо тебя пришлось идти больному человеку… Тэнэсикэ только что из госпиталя! Ты просто прячешься от пуль, Гэлушкэ! Как последний трус! — Все люди прячутся от пуль, господин младший лейтенант. Но не все они трусы… — Когда решается судьба родины, честные люди так не рассуждают. — Защита родины, господин младший лейтенант, дорого мне обошлась. — И Гэлушкэ показал на свою висевшую плетью руку. — Ты не родину защищал, а интересы Антонеску и фашистского рейха! Нынешнее правительство страны ставит перед нами другие цели. — Да, знаю, господин младший лейтенант. Демократия… и все такое… Я уже понял, как разворачиваются события. Вчера как раз мы говорили об этом за рюмочкой с господином Грэдинару. И про демократию говорили. Он считает… — Хватит. Меня не интересует, что он считает. Меня интересует, как ты выполняешь свой воинский долг. — Разумеется, господин младший лейтенант. Но… — Никаких «но»! Сейчас же пойдешь в роту и обеспечишь людей боеприпасами. Каждому по два комплекта. Ясно? Солдаты пусть отдыхают… В двадцать один ноль-ноль — отбой. В двадцать три часа проверишь пост у выезда из города на Шимиан. — Слушаюсь, господин младший лейтенант! — Ты знаешь, что там стоит немецкая колонна? — Знаю, господин младший лейтенант. — Проинструктируй часовых, чтобы были начеку. Заметят какое-нибудь движение, сразу же пусть бьют тревогу! — Понял, господин младший лейтенант. — Кто там сейчас в карауле? Был, кажется, капрал Трандафир. Ты его сменил? — Сменил, господин младший лейтенант, еще в пять часов дня. Там теперь сержант Комэнич. — Ну давай действуй! И учти, если будешь сачковать, отдам под трибунал за дезертирство! Старший сержант козырнул и пулей вылетел в коридор. — Я тебе жирок-то порастрясу, черт толстозадый! — проворчал Ганя, но Гэлушкэ уже и след простыл.
39
В доме у Влада Георгиу царило ликование: под вечер почтальон на велосипеде привез срочную телеграмму от некоего Мэгинича из Фокшан. В ней сообщалось, что Александр, муж Эмилии, жив, здоров и дивизия имени Тудора Владимиреску, в составе которой он воюет, вступила в Румынию. — Эмилия! Ты слышишь, Эмилия! — тряс сестру за плечи сияющий Влад. — Александр, твой муж, жив! Через несколько дней он будет здесь. Но Эмилия оставалась безучастной, неподвижно сидела в своем кресле, седые волосы беспорядочно свисали на лоб, увядшие щеки казались пергаментными. — Эмилия, ты понимаешь, что я говорю? — Оставь ее, Влад!.. — вмешалась Ана. — Бедняга себя не помнит, разве ты не видишь? Костел прыгал, хлопал от радости в ладоши и кричал: — Папа вернулся! Папа идет вместе с армией! Хотя еще не совсем стемнело, в комнатах поспешно зажгли керосиновые лампы, открутили до предела фитиль, и дом принял торжественный вид. Окна открыли настежь, включили на полную силу радио, и комнаты, которые еще недавно были мрачными и безмолвными, заполнила музыка. Влад читал и перечитывал телеграмму, силясь понять, что это за дивизия имени Тудора Владимиреску и как в нее попал Александр. Не дай бог, ошибка и речь идет о совсем другом человеке! Неужели их радость окажется случайной и мимолетной? Пришли Дана, Михай и Максим, все с трехцветными повязками, с автоматами в руках. Ввалились в дом оживленные, шумные… — И ты с повязкой, Михай?! Когда тебе ее дали? — Когда я разъяснил им свои взгляды, отец. — Как, ты тоже участвовал в бою у комендатуры?! — Да. — А Максим и Дана? — Они несли караул у городской управы. — Ну и дела! — Учитель только руками развел. — А у нас новость, Александр жив! Телеграмма на этажерке в столовой. Возьми и прочти. Представляешь? Жив! Даже не верится. Михай кинулся в столовую. — Ну что скажешь? По-твоему, это не может быть ошибкой? — спросил Влад. — Да нет же, отец, я уверен, ошибки нет. В городе уже идут разговоры об этой добровольческой дивизии. — Что говорят? Из кого она состоит? На чьей стороне воюет? — Дивизию набрали из военнопленных. Люди обратились с просьбой к Советскому правительству, чтобы их послали на фронт. Они хотят воевать со своим настоящим врагом — немецкими фашистами. — Боже мой, а мы тут ничего и не знаем!.. Город окутала мгла, но кое-где уже светились огоньки: люди посмелей снимали с окон светомаскировку. С поймы Дуная доносился глухой рокот моторов: немцы не то проверяли, не то перегоняли свою технику. Шум то затихал, то нарастал снова. В казарме прозвучал горн — сигнал к отбою. Эмилия по-прежнему неподвижно сидела в шезлонге. В доме Георгиу стали готовиться ко сну, тушили лампы, обменивались последними репликами о невероятном и радостном событии. Максим смастерил Костелу деревянную тележку, но мальчик не унимался: пускай Максим сделает ему еще кораблик из картона. — Утром сделаю, — пытался отговориться Максим. — Сейчас уже поздно, пора спать. В комнате, выходившей окнами на улицу, Дана приготовилась гладить простыни. Она уже вынула их из ящика и разложила на кровати, собираясь сбрызнуть водой, когда услышала стук калитки и подбежала к окну. — Санду, это ты? — шепотом спросила она, вглядываясь в темноту. — Да! — Санду подошел к окну. — Ты идешь? — Куда? — Как куда? На собрание в Народный дом… — Я об этом ничего не знаю, — виновато сказала девушка. — Хотела немножко погладить и лечь спать. А что за собрание? — Местная организация компартии созывает собрание жителей города. Мы, комсомольцы, должны участвовать тоже. Город в опасности… — В опасности?! — Немцы у ворот Северина. — Немцы? — ахнула Дана. — Но разве их не взяли вчера в плен? — Это не те немцы, другие. Большая колонна. Подошли со стороны Крайовы. Их там тысячи полторы, и все вооружены. Стоят у моста через Тополницу. Слышишь, как работают моторы?.. — Санду поднял палец, приглашая ее прислушаться. В самом деле, издалека доносился ровный гул моторов. — Санду, ты не шутишь? Ты уверен, что это немцы? — Какие там шутки! Это немцы, самые настоящие. Так что давай поторапливайся и прихвати с собой Максима. Через несколько минут Дана вернулась в сопровождении матери, отца, брата и даже маленького Костела, который, забравшись на подоконник, вертел головой и никак не мог понять, что же так встревожило домашних. — Кто тебе сказал? — спросил учитель, взволнованный не на шутку. — Это точно? — Совершенно точно, господин Георгиу. Мне сказал отец. — Чего же они хотят? — спросил Михай и положил руку на плечо отцу. — Дина говорит, они идут со стороны Крайовы… — Чего хотят? Наверное, прибегнуть к карательным мерам. Ну вы знаете, арест Клаузинга, разоружение немецкого гарнизона… Словом, хотят отомстить, — высказал свое мнение Влад Георгиу. — Местные немцы позвонили им из города… — Да, но когда они успели? — возразил Михай. — Еще вчера утром мы перерезали провода… А что это за собрание, Санду? — Собрание гражданского населения. Там, на Главной улице, в Народном доме. — По поводу немецкой колонны? — Да. — Подожди минутку, мы тоже пойдем… Ты как, отец? — Ну что ж, надо поглядеть, что там происходит. Через двадцать минут семейство Георгиу в полном составе и Санду с Максимом были уже в зале Народного дома. Когда-то местные профсоюзы устраивали здесь праздничные вечера для рабочих. При немцах помещение несколько лет стояло закрытым, и теперь здесь пахло пылью и плесенью, хотя двери были раскрыты настежь. Несмотря на поздний час, народу собралось много. На деревянных скамейках, рядами поставленных в вале, не было ни одного свободного места, и люди стояли вдоль стен. Под потолком качались тусклые керосиновые лампы. Влад Георгиу с женой прошли вперед, остальные смешались с группой молодежи, которая расположилась недалеко от входа. Там были и Ромикэ, в белой футболке, бронзовый от загара, и застенчивая Танца, которая старалась держаться поближе к Павлу, Аурелу и другим членам молодежной ячейки. Она бы, конечно, охотнее села рядом с Даной, но та стояла сейчас о кем-то незнакомым. А Михаилы Лилианы в городе не было: три недели назад ей сделали операцию аппендицита, и теперь она в деревне, у тетки. — Как тебе там было… на курорте? — Ромикэ подмигнул Максиму и обнял его за плечи. — Какие «развлечения» доставил тебе Ангелеску? Максим грустно улыбнулся и пожал плечами, мол, чего тут много говорить? Ну были «развлечения»… Были и кончились… — Мы здорово боялись, что ты не выдержишь, — сказал Ромикэ, на этот раз серьезно. — Мне передали, они тебя били. Говорят, изобьют человека до полусмерти, а потом в Дунай бросают… — Ничего, я, как видишь, выплыл! — не принял его серьезного тона Максим. В зале появился Валериу. Ребята удивленно переглянулись. Валериу — в форме капрала? Что за странный маскарад? — Тебя что, призвали? — спросила Дана, протягивая ему руку. — А я давно в армии, — ответил он улыбаясь. — Михай может это тебе подтвердить… Мы были с ним в одной казарме. И вчера вместе сражались у комендатуры. — Значит, ты и есть тот самый капрал Динку, который его приютил? Потрясающе! Он нам все рассказал. — Тот самый, Дана… Ну, Максим, как дела? — Динку ласково потрепал ему вихры. — Ты хоть немножко оправился? — Да, конечно… — тихо ответил смущенный Максим. — Я живу у Лилы… то есть у Даны, — спохватился он и улыбнулся. — Мне там очень хорошо, как дома… Вот только с работой неясно… Не могу же я без конца даром есть чужой хлеб! — Глупости, Максим! — Михай легонько шлепнул его по лбу. — Не бойся, ты нас не разоришь… Да и ест он, по правде говоря, как воробышек! Поклюет и вон из-за стола: «Тетя Ана, спасибо!..» Вот возьму и привяжу его к стулу! Динку весело рассмеялся. — Осенью, — продолжал Михай, — когда я поступлю в институт, Максим пойдет в гимназию. Так мы решили на семейном совете. Максим растерянно вскинул глаза. В гимназию?! Он любил читать, с завистью смотрел на учеников гимназии, когда по утрам приходил к ним со своим лотком. Но представить себя одним из них, ходить в эти светлые, высокие классы, носить гимназическую форму? Даже подумать страшно… Из-за синего, выцветшего, ветхого занавеса на сцену вышел высокий человек, лет пятидесяти, худой, с сединой на висках. Чисто выбритое лицо, суровый рот, густые, вразлет, брови. Неторопливо надев очки, он внимательно оглядел зал, словно ища кого-то глазами, и поднял руку, призывая к тишине. Люди задвигались, усаживаясь поплотнее, кто-то зашикал… — Это товарищ Хараламб, — сказал на ухо Дане Валериу, — представитель партии. Дана поднялась на цыпочки, чтобы лучше разглядеть человека на сцене. — Жители Северина! — обратился Хараламб к присутствующим. — Прежде всего от имени городской организации коммунистической партии разрешите поблагодарить вас за то, что вы откликнулись на наш призыв и, несмотря на поздний час, собрались в этом зале. Мы встречаемся с вами впервые после стольких лет фашистского террора. Это первое собрание, которое наша партия проводит в условиях свободы… Зал встретил эти слова громом аплодисментов. — Я предоставляю слово рабочему Иону Райку, секретарю местной партийной организации. На сцену вышел Райку, в белой рубашке без галстука, синих брюках, коричневых сандалиях. Приветственно поднял руку и в ожидании, пока стихнет шум, стал разглядывать лица в зале. Много знакомых с судоверфи. Это были его товарищи по работе, друзья, единомышленники, у которых одна с ним мечта, одна надежда на лучшую жизнь. — Дорогие граждане! — начал он ровным, спокойным голосом, и шум в зале сразу же стих. — Мой товарищ только что поблагодарил вас за то, что вы откликнулись на наш призыв и пришли на это собрание. Действительно, время уже позднее… Но, дорогие сограждане, речь идет о нашей свободе, о нашей жизни, которой угрожает серьезная опасность. В этих условиях для нас никакой час не может быть слишком поздним! — Кашлянув в кулак, он продолжал: — Зачем мы, коммунисты города Северина, созвали вас сюда? Сейчас объясню. С первого дня своего существования наша коммунистическая партия борется за свободу румынского народа, его гражданские права, восьмичасовой рабочий день, ликвидацию эксплуатации человека человеком. Она боролась и борется за независимость страны, за мир, разоблачает происки капиталистов, которые вскормили гидру фашизма, опустошившего Европу, погубившего миллионы жизней. Наша партия била тревогу еще тогда, когда подготовка к войне только начиналась. И хотя деятельность партии была запрещена, коммунисты продолжали руководить массами из подполья, клеймя фашистский режим Антонеску, разъясняя народу подлинные причины войны, организуя акты саботажа. Многие из нас были брошены в тюрьму, многие заплатили жизнью за верность делу рабочего класса. И сегодня, дорогие сограждане, получив право работать на свободе, коммунистическая партия полна решимости продолжать борьбу за победу над фашизмом, за восстановление страны, разрушенной войной и разграбленной гитлеровцами, за демократический строй. Все вы прекрасно знаете, позавчера произошло событие, ставшее переломным моментом в истории нашей родины. Режим Антонеску свергнут, Румыния повернула оружие против своих истинных врагов — немецких фашистов. Плечом к плечу с Советской Армией мы будем теперь бороться за окончательную победу над Германией. Райку остановился, передохнул и продолжал: — На долю нашего города, как вы знаете, выпали тяжелые испытания. Девять налетов англо-американской авиации разрушили или повредили около полутора тысяч зданий из четырех с половиной тысяч. Третья часть жилищного фонда вышла из строя полностью. Сильно повреждены или полностью разрушены железнодорожные мастерские, вокзал, строения на судоверфи, гостиницы, многие учреждения и магазины. Во имя чего мы должны были пережить все это? Ради чего, я вас спрашиваю? Кому понадобилось, чтобы мы годами страдали от голода, холода и терпели лишения? За что отдали свою жизнь тысячи румын, павших под огнем автоматов и пулеметов или погибших от снарядов и бомб? Я вам отвечу: ради интересов богачей, развязавших войну, которой не хотели простые люди — рабочие, служащие, крестьяне. Таковы плоды правления Антонеску и его прихвостней, услужливой своры кровавого Гитлера. — Правильно! — хрипло крикнул кто-то из зала. — Верно говоришь! — Всю жизнь нас в темноте держали! — откликнулся другой. Райку поднял руку. — Да, в темноте, — продолжал он, — но теперь у вас открылись глаза и никто вас больше не одурачит. Но чтобы у нас в стране наступил мир и порядок, чтобы к нашим очагам вернулись покой и счастье, нам придется повоевать с врагами, которые все еще ходят по нашей земле. Вчера боевые отряды, руководимые коммунистами города, арестовали немецкого коменданта Клаузинга. У этого фашиста был уже составлен изуверский план: заминировать и взорвать важнейшие учреждения и предприятия города! Рев возмущения прокатился по залу. — К стенке его! Расстрелять! — вскочил рабочий, сидевший в одном из последних рядов. — Повесить его на площади, пусть каждый в него плюнет! — раздалось откуда-то из середины зала. — Были заложены мины замедленного действия, — стараясь перекричать шум, продолжал Райку, — но наши солдаты вовремя их обезвредили. Вчера же бойцы нашего гарнизона совместно с боевыми отрядами патриотов выбили немцев из здания их комендатуры и вынудили сдаться в плен. Они содержатся под охраной, в надежном месте. — Так им и надо! — проворчала пожилая женщина из первого ряда, потуже затягивая косынку на голове. — Сидели бы у себя дома, не зарились бы на чужое, не убивали бы наших сыновей… — А с начальником полиции что сделали? Вот уж зверь так зверь!.. — Пожилой рабочий, стоявший у стены справа, влез на высокий ящик, чтобы его лучше слышали. — Этого Ангелеску нужно кончать в первую очередь! Как меня там прошлой осенью избили!.. — А начальник городской управы? Тоже не лучше… — Тсс! Не шумите, дайте договорить человеку! — Дорогие сограждане! — На этот раз Райку пришлось поднять обе руки, прежде чем он получил возможность продолжать. — Мне понятно ваше негодование, жажда мести, но наша борьба не должна быть стихийной. Только организованная борьба под руководством коммунистической партии может принести желанную победу. Он замолчал, собираясь с мыслями. На лбу у него поблескивали капельки пота: в помещении становилось невыносимо душно. — Мы созвали вас сегодня, дорогие товарищи, чтобы сказать: смертельная опасность нависла над нами. — Голос Райку напрягся, выдавая его волнение. — Два часа назад у ворот Северина со стороны Крайовы наш патруль остановил колонну немецких войск — тысячи полторы вооруженных фашистов. Она движется на запад. Если мы ее пропустим, она уничтожит на своем пути не одну деревню, не один населенный пункт… Сложить оружие немцы отказались. По решению коменданта румынского гарнизона им дана отсрочка до утра. Мы, коммунисты, убеждены, что немцы не преминут использовать это время, чтобы подготовиться и с боем пробить себе дорогу через город. Подумайте о том, чем это грозит нам. Ведь мы находимся теперь в состоянии войны сГерманией! Вспомните, что немцы уже бомбили Бухарест… Вспомните кровавые бои на его улицах. Видно, немцы не собираются уйти спокойно. — Не выйдет! — крикнули из зала, — Пусть только попробуют, мы им покажем. — Дорогие товарищи! Друзья! — Голос Райку зазвенел. — Во имя того, чтобы город наш встал из руин, во имя счастья и покоя наших очагов, во имя права жить свободными на свободной земле сорвем замыслы фашистов! Не дадим им пройти через наш город! К оружию, друзья! Все, кто способен держать в руках винтовку, записывайтесь в боевые отряды! — Даешь оружие! — Мы им покажем, что такое Северин! — По Главной улице их, да под конвоем! — Поможем нашим солдатам! — уже кричал Райку. — Ради нашей свободы, ради светлого будущего встанем на защиту родного города! Напомним немцам, как били их под Мэрэшэштями! Чтобы и думать забыли о новой войне! Все, кто готовы откликнуться на призыв коммунистической партии, пусть приходят завтра к восточной заставе, мы дадим им оружие! В едином порыве все вскочили и стоя долго аплодировали оратору — рабочему, коммунисту. Волнение еще не улеглось, когда на сцену выскочил Михай Георгиу и, пригладив растрепавшиеся волосы, стал рядом с Райку. Учитель, который видел, как сын пробирался через толпу к сцене, и с тревогой следил за ним, теперь совсем растерялся: — Смотри, Ана, это ведь наш Михай! — И правда Михай. Зачем он туда залез? Ана не на шутку испугалась. С некоторых пор сын стал слишком своевольным. Она понимала, что его подхватил тот же вихрь, что и Дану… Стремительный водоворот событий увлек его настолько, что он совсем перестал быть откровенным с родителями, особенно с матерью… И Ана перестала понимать своего мальчика, потеряла способность предвидеть его поступки. — Граждане! — начал Михай, глазами пробежав по рядам. Гул затих. — Вы, конечно, меня не знаете… Я обыкновенный молодой человек, здесь родился, учился и вырос. Мне дорог каждый камень, каждый дом, каждый житель Северина… Так случилось, что я побывал в немецко-фашистском концлагере, на себе испытал, как мстительны и жестоки гитлеровцы… Я призываю молодежь Северина взять в руки оружие и вместе с солдатами защитить наш город, обезвредить немцев, которые стоят у его порога! Пусть нас ведут коммунисты! Наш путь освещает солнце свободы и грядущих в стране перемен! Он спрыгнул со сцены под бурные аплодисменты и, гордый собой, прошел в глубину зала. Щеки его раскраснелись, глаза сияли. Увидел замкнутое, отчужденное лицо отца, приветливо помахал ему, улыбнулся, но не подошел, а протиснулся дальше, поближе к группе молодежи. Первым обнял его и крепко пожал руку Валериу — капрал Динку, за ним и все остальные. Дана, сияя от гордости за брата, шепнула: — Молодец, Михай! Не подкачал! А на сцене тем временем один оратор сменял другого. Рабочий из железнодорожных мастерских, немолодая, в черной косынке, женщина с заплаканными глазами — муж погиб на фронте, потом говорил маляр, с головы до ног перепачканный известью, потом еще кто-то и еще… Все сходились на одном: надо поддержать армию и боевые отряды, заставить немцев сложить оружие. Разошлись далеко за полночь. Райку нагнал учителя Георгиу, взволнованно пожал ему руку: — Поздравляю вас, господин учитель! Вы воспитали замечательных детей. — Благодарю, — неохотно выдавил из себя Влад, застигнутый комплиментом врасплох. — Вообще-то, надо вам сказать, мои дети не во всем и не всегда меня слушались… — Но поступали как надо, — решительно закончил Ион Райку. — Они шли к правильной цели и могут служить примером для многих. — Возможно, возможно… Райку пожал учителю руку, поклонился его жене и заспешил, обогнав их, к центру. — Что ты об этом думаешь, Ана? — Влад взял жену под руку. — Ах, лучше бы их хвалили за успехи в учебе, а не за… — Она поперхнулась, закашлялась, утерла выступившие на глазах слезы: — …участие в политике, или как там это называется… У них самих еще незрелый ум, а они уже других учат. Зачем Михай вылез на сцену? И вообще, Влад, мальчик стал просто неузнаваем! Это все его военные злоключения… Хотя бы он попал в институт! Я так за него тревожусь, так тревожусь! — И я, — вздохнул Георгиу. — Со взрослым сыном больше забот… Он хотел что-то еще сказать, но не стал: их догнали Дана, Михай и Максим. Ночью в доме на Главной улице, где временно разместился городской комитет партии, состоялось заседание руководящего состава. Райку сделал короткое сообщение о последних событиях и наметил ближайшие задачи. — Немцы, стоящие у ворот Северина, — сказал он, — хорошо вооружены и полны отчаянной решимости. У них одна возможность — пробиться через город. Железную дорогу мы перекроем: выведем из строя стрелку у Валя Албэ, пустим немецкий состав на запасный путь и загоним в тупик. С этим ясно. Идти по шоссе — значит пробиваться через город. Тут и должен быть основной заслон. На участке от берега реки до судоверфи и даже немного выше установим три противотанковых орудия. Где именно, решим по совету Гани, важно, чтобы к рассвету они там были! И теперь самое главное — вооружить население. Необходимо решить, до деталей продумать, как мы это сделаем. Осталось несколько часов. Немцы могут начать атаку на рассвете… Заседали недолго. По-деловому уточнили план, предложенный Райку, распределили обязанности. Оставалось одно — действовать…40
На рассвете в казарму явились вчерашние немецкие офицеры — подполковник и капитан. Полковника Предойю еще не было, и Ганя распорядился, чтобы за ним послали пролетку. Через полчаса небритый, невыспавшийся полковник Предойю торопливо поднимался по ступенькам административного корпуса. — Guten Morgen![32] — процедил Обст, надменно вздернув подбородок. — Мы пришли для наш разгофор… — Вам удалось связаться с вашим командованием? — тоже довольно сухо спросил Предойю, вешая фуражку на гвоздь. — Приказ идти ф Тимишоара! — ответил Обст. — Оружие не сдафать… — Приказ действует в ваших войсках, в нашей армии он силы не имеет. Я подчиняюсь своим командирам. — Выпольнять быстро! — продолжал, будто не слыша его, Обст, подыскивая нужное слово. — Мольния! — Обст для наглядности резанул ладонью воздух. Предойю и Ганя переглянулись. Немцы вели себя откровенно вызывающе. Наступило тягостное молчание. Подполковник Обст раздраженно поглядел на свои золотые часы, водрузил на голову фуражку и важно изрек: — Мы ушель. Следуем ф Тимишоара… — Да что мы с ними церемонимся?! — взорвался Ганя. — Все готово, люди ждут. И долго еще ждать, черт побери? Немецкий капитан насторожился, тревожно поглядел на Ганю, потом на Предойю и потянулся к кобуре, но Ганя опередил его, одним броском подскочил к немцу и вывернул ему руку. Немец вскрикнул и присел от боли. Предойю, выхватив пистолет, направил его на подполковника. Ганя тем временем деловито связал капитану руки за спиной. Прибежавшие на шум солдаты отвели немцев в помещение лазарета, превращенного в арестантскую.А в это время в долине у шоссе, которое вело через рощу к Шимиану, остальные немецкие офицеры дожидались возвращения своего командира и, вяло переговариваясь, нетерпеливо поглядывали на часы. Солдаты возились около машин, курили, слушали радио. Все готово: оружие прочищено, смазано, расчехленные орудия — на боевых позициях вдоль берега Дуная. Позиции выбраны с таким расчетом, чтобы с них простреливалась окраина города. А за городской чертой, там, где начинались бахчи и огороды, и дальше, в сторону спиртового завода, занял оборону взвод сержанта Комэнича. Двое его солдат, сопровождавших немцев в румынскую комендатуру, вернувшись, рассказали про арест командира немецкой колонны. Сержант Комэнич задумался: положение становилось серьезным. Немцы, без сомнения, постараются вызволить командира, так что столкновение неизбежно. Да и не будут же они вечно торчать на шоссе! Пойдут на прорыв, это ясно. Не дожидаясь ничьих указаний, Комэнич обошел посты, расставил часовых, разъяснил обстановку и приказал держать ухо востро. Немцы смекнули, что с командиром неладно. Старший среди них по званию, майор Страссер, с черно-красной ленточкой Железного креста в петлице, нервно дымя сигаретой, думал, что командование колонной ему, видимо, придется взять на себя. Что же предпринять, что? Он не отвечал на вопросы, отказался от горячего кофе и напряженно думал. Потом решительно встал и приказал через десять минут собрать офицерский состав у опушки рощи.
Полковник Предойю, руководивший подготовкой к вероятному вооруженному столкновению с немцами, отдавал командирам подразделений по телефону последние распоряжения. Вдруг со стороны рощи гулко ухнуло. Потом еще и еще. Откуда-то из-за огородов затрещал пулемет. Предойю поспешно вышел в коридор, отправил дневального за дежурным офицером и спустился во двор, где на него налетел, запыхавшись от бега, солдат Кирикэ. — Господин полковник! Немцы открыли огонь. Господин сержант Комэнич просит подкрепления, не то они нас одолеют… Они уже строятся на опушке в цепи для атаки. Машины откатили, а орудия и пулеметы выдвинули вперед… Со стороны реки Тополницы громом пророкотал новый орудийный выстрел. Дрогнули стены, задребезжали в окнах стекла. Предойю кинулся было за угол здания поглядеть, что там, но, спохватившись, поспешно вернулся к себе и крикнул дневальному: — Младшего лейтенанта Ганю ко мне! Срочно! Тревога! Заливисто протрубил полковой горн. Солдаты, стуча башмаками, ругаясь и толкаясь, скатывались по лестнице и строились на плацу. — Живей, живей! — подгонял их старший сержант Галушка, щелкая хлыстом. Поспешно выкатывали из сарая орудия, из конюшен вели лошадей. Солнце поднялось уже высоко, день обещал быть жарким. Младший лейтенант Ганя прошел по рядам, внимательно оглядел солдат и остался доволен. — Есть у каждого по два комплекта боеприпасов? — строго спросил он. — Есть! — рявкнул строй. Ганя отдал рапорт полковнику, и оба подошли к застывшему по стойке «смирно» строю. В нескольких словах Предойю обрисовал положение, определил задачи каждому взводу, призвал быть мужественными и стойкими, а если придется, не пожалеть и жизни за свободу родины. Боеприпасы зря не расходовать.
41
Весть о нападении немцев на Северин мгновенно облетела город. Захлопали ставни — хозяева уцелевших магазинов в панике опускали на витринах жалюзи. Обыватели высыпали на улицу и тревожно обсуждали, куда деваться, где искать спасения от новой напасти. Выли сирены, гудели паровозы, пароходы, звонили колокола. Рабочие судоверфи, железнодорожных мастерских, побросав работу, широким потоком устремились к центру города, на площадь к городской управе. На стенах, заборах, на стеклах витрин, водосточных трубах и афишных тумбах белели листовки коммунистической организации города. Коммунисты призывали граждан к оружию. Люди толпились у листовок, читали их вслух, громко комментировали, подбадривали друг друга. Возле городской управы остановилась пролетка, из нее выскочил Глигор с автоматом в руке. — Граждане! — закричал он. — Оружие можете получить в казарме 95-го пехотного полка! Товарищи Войня, Панаит, Кристеску! Вам поручается формировать группы… — Там, на месте, и сформируем! — Эй, — крикнул кто-то, — остановите грузовик! На колесах скорей, чем пешком-то топать… — А вот телега! Даешь телегу! Не пугайся, браток, нам только до казармы. Домчишь — и ступай себе с богом… Ну живо! Давай! Вереница грузовиков, повозок с людьми потянулась по Главной улице в сторону казармы. Из окна своего кабинета за ними наблюдал главный комиссар полиции Албойю — невыспавшийся, помятый, с заплывшими со сна глазами. Черт знает что такое! Суета, повозки, машины… И эта толпа, какие-то горлопаны. Непорядок! За спиной у него суетился перепуганный Ангелеску. — Ей-богу, господин комиссар, какой нам смысл не пускать немцев?! Зачем портить с ними отношения? Они же столько лет были нашими союзниками! Эти слухи из Бухареста… Кто знает, достоверны ли они… Кто-то бросил неосторожное слово, и, пожалуйста, наши северинцы мокрого места не оставили от немецкой комендатуры… Да еще и Клаузинга посадили за решетку, как последнего жулика… На каком основании? И скажите на милость, что же нам, органам полиции, теперь делать? На кого полагаться, когда больше нет маршала Антонеску?.. Одна надежда, что немцы вернутся в город и наведут прежний порядок. Что, если послать им на помощь отряд общественной охраны? Честное слово, для нашего же благополучия!.. Но Албойю не слушал его, машинально жевал свой окурок и пристально смотрел в окно, пытаясь унять нервную дрожь, «Спокойствие! — говорил он себе. — Главное, не терять голову! Все образуется, люди просто сошли с ума, время — лучший лекарь…» — Господин комиссар! — Да пропади ты пропадом, Ангелеску! — взорвался вдруг комиссар. — Что ты мелешь, болван! Паникуешь, как базарная баба! Слушай приказ: чтобы через пять минут вооруженный отряд общественной охраны выступил в направлении окраины… — Подкрепление немцам! — Кретин безмозглый, обсуждать приказы?! — Боже меня упаси, господин комиссар! Да разве я…Бой продолжался уже больше часа. Сержант Комэнич со своим взводом отбил уже несколько немецких атак. Боеприпасов осталось в обрез, ожесточившиеся солдаты рвались в штыковую контратаку. Чего ждать? Подмоги не прислали, патроны на исходе. Стало быть, выход один — рукопашная! Но тут подоспел со своим отрядом младший лейтенант Ганя. Пробравшись огородами, его бойцы с ходу заняли боевую позицию и открыли беглый огонь по врагу. Немцы залегли. Воспользовавшись передышкой, Ганя приказал своим солдатам окопаться. Машины и повозки с ополченцами одна за другой подъезжали к казармам. Люди спрыгивали на землю и растерянно оглядывались. Куда теперь, где склад с оружием? Все заперто, вокруг ни души. Растерянность усиливалась… Наконец появился Райку. Слава богу, уж он-то знает, что делать! Глигор бросился ему навстречу: — Где тебя носит? Что это, черт возьми, за казарма? Ни одного солдата нет на месте! — Чего шумишь? Людей мало, все, наверное, ушли к Тополнице, туда, где бой. Сейчас разберемся, не суетись! Вон, пожалуйста, какой-то унтер идет, а ты говоришь — никого! И в самом деле, из-за угла не спеша, вразвалку вышел невозмутимый Гэлушкэ. Увидев толпу, удивленно поднял брови: кто такие? Суетятся, кричат… Почуяв недоброе, старший сержант повернул было назад, но поздно, его заметили. — Где винтовки, старший сержант? — схватил его за руку Райку. — Винтовки? Какие винтовки? — Где у вас тут склад оружия? — А на что он тебе? Эдак всякий будет оружие требовать, а мне потом отвечать?! — Ах ты! — Глигор схватил его за грудки. — Ты что дураком прикидываешься? Не знаешь, что немцы рвутся в город? Давай винтовки, гад! У нас есть приказ — получить винтовки на складе. Вот и давай! — Мобилизованные? Так бы и говорил сразу! — Старший сержант попытался вырваться из цепких рук Глигора: — Да пусти ты меня, малый, чего пристал, я ведь при исполнении… Но не тут-то было. Глигор держал его мертвой хваткой. — Ты мне зубы не заговаривай, понял?! Гони винтовки! — Да не могу я вам дать, не положено! — взвыл Гэлушкэ. — Винтовка солдату положена, а вы гражданские, понимаешь? С меня потом спросят, что я скажу? Это ж трибунал! Тюрьма! Расстрел! Я вон до сих пор за гильзы никак не отчитаюсь. Как брать комендатуру — все тут как тут, а как гильзы стреляные собирать — так никого не докличешься. — Ну вот что: гони ключи или я сам их возьму… силой! — Глигор неожиданно вывернул ему руку. На землю упала связка ключей. — Тут винтовки, тут! — торжествующе закричал какой-то человек, забравшийся на окно казармы. — Здесь они, я их вижу! Полно винтовок, в пирамидах стоят! А вон и ящики — там, поди, патроны! В окна полетели камни, зазвенели разбитые стекла. Двое рабочих, схватив ломы, кинулись отдирать от наличников железную решетку, трое других высаживали дверь. Но обитая жестью дверь не поддавалась. — Навались, ребята, еще, ну еще, поднажали… Раз-два! — Трибунал! — орал с пеной у рта Гэлушкэ, тщетно пытаясь вырваться из рук Глигора. — Охрана! Ко мне! Ох-ра-на!.. Всех перестреляю! Райку хладнокровно возился со связкой ключей, подбирая, какой подойдет к большому амбарному замку на дверях склада. Прибежал разгоряченный и озабоченный Динку, с ним около двадцати рабочих — капрал перехватил их по пути к Тополнице, и привел сюда за оружием. Райку, справившись наконец с замком, открыл дверь склада. Динку по-хозяйски зашел внутрь и скомандовал: — Каждый берет по винтовке! Подходи, ребята, по очереди, не создавайте толчеи. Эй, кто-нибудь, тащите сюда эти ящики, будем раздавать патроны… — Да это же казенное имущество! Как ты смеешь, гад? Капрал ты или дерьмо собачье?! — надрывался Гэлушкэ, которого Глигор оттащил в угол. — Ну? Кто поможет? — не слушая его, повторил Динку. — И быстро! Быстро! Боевые отряды и группы, поспешно сформированные здесь же, получив оружие, уходили к Тополнице. Глигор, отпустивший наконец старшего сержанта Гэлушкэ, наставлял тех, кто шел в бой. Около него крутилась местная ребятня. Глигор и им нашел дело: подносить патроны. Ребята таскали их кто в ранцах, кто в ведрах, корзинках, а некоторые даже в мешочках для школьного завтрака. Несколько подростков постарше по указанию Динку набивали пулеметные ленты.
42
Шел второй час боя. Противник напирал. Окутанная пороховым дымом тополницкая долина гремела от орудийных залпов. Ползком перебираясь от укрытия к укрытию, Ганя наставлял солдат, показывал, по каким целям бить. Наблюдая за противником в бинокль, он выискивал огневые точки и помечал их крестиками на клочке бумаги. — Эх, закурить бы! — мечтательно вздохнул Ницэ Догару. Ганя протянул старику пачку сигарет. Рядом старательно целился Тотэликэ. — Тотэликэ, как погляжу я, ты совсем стрелять разучился. А ведь на фронте был! Как же ты там-то стрелял? — А в воздух, господин младший лейтенант! — Тотэликэ виновато потупился. — В воздух стрелял, не в людей. Как на свадьбе. Что они мне, думаю, сделали, люди эти, чтоб в них стрелять? Вот и палил в воздух… — Но здесь-то сейчас другое дело! — Так точно, господин младший лейтенант, совсем другое! — Вот и целься как надо! Одна пуля — один немец! Понял? — Понял, господин младший лейтенант, чего уж тут не понять?.. — В голову надо целиться, ясно? — Есть, целиться в голову, господин младший лейтенант! Подошли первые рабочие дружины. Ганя ликовал. Оживились и солдаты. — Много народу вступило в дружины? На что можно рассчитывать? — спросил он у Райку. — Да много, сотни, а то и тысячи! Разве всех сосчитаешь? Ты, кстати, вот что сделай: пока тихо, обойдите с Глигором основные отряды и подразделения, разберитесь на месте, что там и как, и возвращайтесь сюда. Нужно решать, что будем делать, если немцы все-таки прорвутся. Надо быть готовыми ко всему, — сказал Райку. …Возле большого куста сирени с пожухлыми от жары листьями в наспех вырытом окопчике сидели Михай, Дана и Максим. Михай учил Дану обращаться с винтовкой. — Да не жми ты так! — сердился он. — Посмотри, даже пальцы побелели! И потом, когда целишься, старайся не дышать… Ганя подошел к ним. Дана, неловко дергая затвор, с трудом дослала наконец патрон в патронник, зажмурилась и нажала курок. Выстрел, удар прикладом в плечо — и винтовка полетела на землю. Смущенная и раздосадованная, Дана сердито подняла ее, снова — на этот раз с большей ловкостью — зарядила и принялась старательно целиться. — Способная ученица! — подмигнул Ганя Михаю. — Я вижу, тут у тебя ветераны! — Он обвел взглядом всех троих и вдруг заметил, что Дана с Михаем очень похожи. — Э, да вы, часом, не родственники ли? — И даже близкие, — улыбнулась Дана. — Михай — мой брат. — Вот это да! Я, грешным делом, подумал, что Михай нашел себе зазнобу! А вы, оказывается, брат и сестра. Ну и ну! Это хорошо! — Еще бы! — откликнулась Дана. Сзади прогремел выстрел, и они обернулись. Из дула винтовки Максима шел легкий дымок. — Попал! Ей-богу, попал! Вот здесь только что немец стоял. Я ка-ак пальну! Он так и покатился… Провалиться мне на этом месте, если вру! «Ура-а!» — вдруг разнеслось по долине. От подножия Балотской горы поднималась в атаку длинная цепь немцев. За ней другая, третья… Лавина катилась в их сторону. Затрещал пулемет, защелкали винтовочные выстрелы, но немцы, пригибаясь к земле, продвигались вперед. — Нашу батарею атакуют! — закричал Ганя и опустил бинокль. — Надо ударить по ним с флангов! Михай, беги в отряд, что по левую сторону шоссе. По-моему, там нет командира. Бери командование на себя! У них там, кажется, есть пулемет. Быстрее! Михай выскочил из окопчика и, прячась за изгороди, побежал к шоссе. — Слушай мою команду! — сложив ладони рупором, кричал Ганя. — По противнику — огонь! Защелкали затворы, прогремели выстрелы. Залп, другой, третий. Цепь залегла, но окрик офицера снова поднял немцев в атаку. «А где же наши орудия? — недоумевал Ганя. — Почему молчат? Кто у них там, на батарее?» А на батарее в это время метался ополоумевший от страха старший сержант Гэлушкэ — багровый, осипший от крика, с неизменным хлыстом в руке. Снаряды кончились, а немцы — вот они, рукой подать. Что делать? Э, была не была! Гэлушкэ вскочил на бруствер и, отчаянно крутя над головой белым платком, кинулся навстречу приближавшейся немецкой цепи. Но не успел он сделать и нескольких шагов, как сзади его накрыла пулеметная очередь. Предатель рухнул на землю. Оставшиеся на батарее бойцы схватили гранаты: «Живыми не дадимся!» Положение было отчаянным… И вдруг — пулеметная очередь! С высокого пригорка Михай бил по немецкому флангу, в ярости нажимая на гашетку. С громким криком «ура» румыны поднялись в атаку. Немецкая цепь дрогнула и обратилась в бегство. — Михай, накрывай их! Не давай уйти! — кричал Ганя. — Переноси огонь! Сжав челюсти так, что заходили желваки, Михай налег на гашетку. Немцы в панике метались по берегу реки, бросая винтовки, плюхались в воду. — Молодец, Михай, классно стреляешь! — одобрительно кивнул Михаю Ганя и снова поднес бинокль к глазам. — Все, кажется, откатились… Михай поднялся от пулемета и, пошатываясь, побрел обратно к окопчику, где оставил Дану с Максимом. Тяжело опустился в тени куста, стащил через голову мокрую от пота рубашку, устало поглядел на сестру и вдруг сказал: — А лейтенант-то, по-моему, в тебя того… втюрился! — Вот еще! — фыркнула, досадливо поведя плечом, Дана. — Тоже ухажер нашелся! — Скажите, какие мы разборчивые! — ухмыльнулся Михай. — Ну прямо принцесса! А чем тебе плох Ганя? Парень хоть куда — и добрый, и образованный, жених что надо! — Да что ты ко мне привязался со своим Ганей? — рассердилась Дана. — Решил меня за него посватать? Ну так ничего у тебя не выйдет. Михай рассмеялся: — Ох ты, как разошлась! Подумаешь! Не хочешь — не надо, я ведь просто так сказал. Подметил и сказал. А ты, моя дорогая, хитришь! Да только напрасно — все равно глаза выдают… Он встал, отшвырнул рубашку и, голый по пояс, пошел, пригибаясь к земле, к своему пулемету, возле которого сидел молоденький новобранец.43
После неудачной попытки овладеть батареей немцы залегли по обеим сторонам шоссе, на берегу и у железнодорожного моста. Изредка за пригорком мелькали их спины, пилотки, фуражки… Догару, задрав голову, поглядел на небо. — Ну и жарища! — вздохнул он. — В деревне, поди, все погорело. И молотить нечего. Да и кому молотить? Ох, горюшко горькое! Одни помещики дома сидят. Крестьян всех на войну угнали, когда-то еще вернутся… Да и вернутся ли вообще? Сына у меня убило, господин Райку. Жена который год больна. А земли у меня все равно почитай что и нету… — Вот прогоним немцев, поделим землю между крестьянами, будет и у тебя надел. Кто на земле работает, тот ей и хозяин. — Да кто же это нам землю отдаст?! Что вы, господин Райку! — Вы сами, крестьяне, и возьмете. Возьмете и по-братски между собой поделите… А мы, коммунисты, вам поможем. Из окопчика высунул голову Тотэликэ. — А в вашей партии — одни рабочие? — спросил он. — Почему одни рабочие? Есть и крестьяне… Там все, кто хочет бороться вместе с рабочим классом. Тотэликэ переглянулся с Догару: — Надо нам переходить в эту партию, дядюшка Ницэ… — Верно говоришь, Тотэликэ, надо переходить, надо. Они люди простые, авось не погонят… …Увлеченный боем Михай не сразу услышал, что кто-то его окликнул. Поднял голову — младший лейтенант Ганя. — Слушай, Михай! Предойю прислал подкрепление новобранцев. Сейчас начнем атаку, сам полковник будет руководить. Начало — по сигналу зеленой ракетой. Будь поаккуратней, смотри по своим не бей! Как наши подойдут вон к тому пригорку, переходи со своим пулеметом чуть правей насыпи, вон туда, к дереву, видишь? — Вижу. Ладно, я все понял, можешь идти. Ганя побежал дальше и натолкнулся на Максима. — Эх, черт возьми! — легонько ударил он Максима по затылку. — Вали отсюда, малый, нечего тебе тут делать! Сейчас здесь такое начнется — своих не узнаешь! Зачем зря рисковать? Давай уноси ноги, да поживее! — Не уйду! — сверкнул глазами Максим. — Я комсомолец, меня партия сюда прислала… «А ведь и в самом деле не уйдет, чертенок! — восхищенно подумал Ганя. — Ну и дела! Откуда в мальчишке такая твердость? «Не уйду», «меня партия сюда прислала»… Да, брат Ганя, — сказал он себе, — видно, многое ты проморгал». Он стащил с головы каску и надел ее на Максима. — Ладно, чертенок, оставайся. Только поосторожней, зря не рискуй! Пуля — она ведь не выбирает… — Он сделал несколько шагов и в небольшом окопчике увидел Дану. Так, и эта здесь… — Ой, это вы? Как вы меня напугали! — сказала Дана. — Немцев не боишься, а меня испугалась? — пошутил Ганя. — А я вообще трусиха. Уж сколько раз за сегодня думала: ну все, конец! — Зато сосед у тебя — герой! Ничего не боится. Даже меня. — Ну так это ж Максим! Он у нас в ячейке самый смелый. — У вас в ячейке? Это что же получается, значит, ты тоже комсомолка? — Конечно. А что тут особенного? «Действительно, ничего особенного», — с упреком себе подумал Ганя и от растерянности стал шарить по карманам в поисках платка. — Что вы ищете? Платок? Возьмите мою косынку! — И Дана протянула ему свой шелковый шейный платок. — Спасибо, возьму на счастье! — Бережно сложив платок, он сунул его за пазуху. Оба смущенно помолчали. Внезапно лейтенант вспомнил, зачем он сюда пришел, крякнул и уже другим тоном сказал: — Сигнал к общей, атаке — зеленая ракета. Предупреди Максима, я, кажется, забыл ему сказать. Последи, чтобы он не лез на рожон. Да и сама будь поосторожней, поняла? И он, двигаясь где ползком, а где короткими перебежками, устремился туда, где засели в своих укрытиях Райку и Ницэ Догару. Отчаявшиеся немцы, уже не таясь, подтягивали силы к шоссе. Суетились, что-то докладывали старшему офицеру и, выслушав приказания, опрометью кидались их выполнять. «Сейчас вы у меня не так забегаете!» — процедил сквозь зубы Михай и дал очередь из пулемета. Офицер дернулся, странно подпрыгнул и покатился по земле. …Из рощи высоко взмыла зеленая ракета и рассыпалась в небе ослепительными звездочками. Румыны поднялись в атаку. Впереди бежал Ганя, за ним Райку, Глигор, Хараламб, Санду, капрал Динку с ручным пулеметом. Чуть правее и позади — Ромикэ, еще дальше Догару… Немцы, застигнутые врасплох, кинулись врассыпную к реке. — За мной, вперед! — кричал Ганя. — Гони их, ребята! — И вдруг, будто споткнувшись обо что-то, резко остановился, закачался и, беспомощно хватая воздух руками, упал ничком в заросли чертополоха. — Лейтенанта убили! — вскрикнул Догару. — Вот он, в канаве, у тополя!.. — И он бросился к тому месту, где упал Ганя. — Господин младший лейтенант, вы живы? Вы меня слышите? — приговаривал он, пытаясь поднять Ганю за плечи. Тело лейтенанта безжизненно обвисло у солдата на руках, изо рта вытекла струйка крови. Догару упал на колени: — Господин младший лейтенант! Господин младший лейтенант, не помирайте! Слышь, что говорю, не помирайте!.. — Пить… — чуть слышно прошептал Ганя. — Пить… — Сейчас, господин Ганя, сейчас… — Догару дрожащими руками отвернул крышку и приложил флягу к губам лейтенанта. — Господи, твоя воля, не погуби его! Он же мне как сын родной! Пуля — в такое доброе сердце! Ганя вздрогнул и приоткрыл глаза: — Пить… пить… Догару в отчаянии потряс фляжку. Пустая! Он растерянно оглянулся. Никого. Бой катился уже далеко, по ту сторону шоссе. — Люди! Братцы! Есть тут кто-нибудь?! — метался вокруг раненого Догару. Откуда-то из-за тополей вынырнул невысокий подросток в каске, с винтовкой в руках. — Эй! Сюда! — замахал ему Догару пилоткой. Максим бросился к нему. Увидев лежащего на земле Ганю, оторопел, с тревогой заглянул ему в лицо и вдруг в го-лоб заплакал. — Слышь, ты посиди тут с ним, — попросил Догару, — а я мигом. Только позову кого да воды принесу. Не уйдешь? — с сомнением поглядел он на Максима. Тот молча покачал головой. Старик нырнул в пыльный бурьян и скоро исчез из виду. Оставшись один, Максим испугался. Что, если лейтенант умрет? Куда кидаться, у кого просить помощи? Даже подумать страшно! Максим осторожно положил голову лейтенанта к себе на колени. «Только бы он не умер!.. Только бы не умер… — заклинал он судьбу. — Скорей бы пришел санитар!.. Он знает, как надо спасать раненых!» — Пить, пить… — снова простонал Ганя. Он тяжело дышал, нос у него заострился, лицо было изжелта-белое, в груди хрипело… — Сейчас, господин офицер, потерпите немного! Сейчас принесут воду. — Максим наклонился над раненым: — Это я, я, Максим. Вы мне еще свою каску отдали! Но Ганя его не слышал. Сознание его помутилось, сердце билось слабо, с перебоями. — Не умирайте… не надо умирать! Не на-до-о! — обливался слезами Максим. Через четверть часа вернулся Ницэ и привел санитаров.44
К вечеру наступила тишина. Слышен был только плеск воды в реке и шепот ветра в листве деревьев. Пленных немцев построили и под конвоем препроводили в расположение 95-го пехотного полка. Они стояли теперь на плацу под охраной румынских солдат, грязные, в разодранной одежде, усталые и мрачные. Некоторые курили, перешептывались друг с другом, даже шутили. Но таких было мало. Большинство держалось замкнуто и безучастно. Перед складом было свалено все их оружие: пулеметы, винтовки, автоматы. Там хлопотал плутоньер Грэдинару. С помощью нескольких солдат он производил инвентаризацию трофейного оружия. Машины и орудия еще не перегнали. Их должны были тащить сюда упряжки волов, реквизированных с этой целью в соседних селах. Во дворе казармы было много бойцов из гражданских дружин. Они пришли, чтобы сдать винтовки плутоньеру, расположившемуся за своим столом у открытого сарая. Они не спешили уходить и стояли, переговариваясь и дымя сигаретами, обсуждая горячую схватку, в которой принимали участие. Некоторые из них подошли к пленным и рассматривали их с презрением и гневом, как преступников, чьи деяния они никогда не забудут. Напротив административного корпуса, под каштаном, сидели на скамейке Райку, Санду, Глигор и Михай и пересказывали друг другу отдельные эпизоды боя. — Знаешь, Райку, на Михая, когда он стрелял из пулемета, сзади навалился немец. А я был неподалеку! Патроны у меня уже кончились, ну я и саданул его прикладом в челюсть так, что свернул ему шею… — Да, я как раз собирался переменить позицию и возился с пулеметом, потому и не заметил фашиста. Счастье, что Глигор был рядом!.. А то не знаю, Как бы я выкрутился… Спасибо вам огромное, господин Глигор! — А помните, дядя Глигор, моряка, который схватил за ремень немца, поднял над головой и швырнул в волны реки? Вот это да! Здоровенный и сильный, как буйвол! — Видел я этот его номер, — засмеялся Глигор, — прямо как в цирке… Он еще троих так кинул. Только не в реку, а на землю. Как штангу. — А я слышал разговор двух пленных, когда их вели сюда, в казарму. «Думали, — говорит один, — что в городе целая румынская дивизия, а их тут совсем мало, ничтожная горстка. Вот в чем была наша ошибка!» Я не вытерпел и сказал, по-немецки, конечно: «Нас мало, зато мы умеем драться!» Они вздрогнули от удивления, им и в голову не приходило, что я знаю немецкий. «И мы никогда не разучимся драться за правое дело!» — сказал я. Райку молча слушал рассказы своих товарищей, курил и думал о том, что пора домой, он очень устал. Но нельзя было уйти, не повидавшись с Предойю. Он с ним уже договорился, что часть трофейного оружия поступит в распоряжение городских дружин, необходимо было уточнить, когда и каким образом. И еще он хотел дождаться известий о Гане. Дана и капрал Динку должны были вот-вот вернуться из госпиталя…Ницэ Догару нес караульную службу — охранял пленных. Он важно ходил взад-вперед по плацу, с винтовкой под мышкой, зорко следя за тем, чтобы на его участке никто не вздумал улизнуть. Растерзанный внешний вид нисколько не умалял чувства достоинства, с каким он выполнял обязанности часового. Он потерял в сегодняшней суматохе обмотку, и портянка, как грязная тряпка, свисала ему на башмак. Брюки продраны на коленях, военная форма насквозь пропотела и пропылилась. Ремень он то ли потерял, то ли отдал санитарам, когда они привязывали к носилкам раненого младшего лейтенанта. Немцы постепенно приходили в себя и жужжали теперь как осиное гнездо. Молоденький немец, с изрытым оспой лицом, беззаботно играл на губной гармошке и дерзко поглядывал на Догару, даже подмигнул ему раза два… Сначала старик делал вид, что не замечает его панибратства. Мысли его были далеко. Он думал о Гане. Как он? Жив ли? Сделали ему операцию? Вытащили пулю из груди? И вдруг старик пришел в ярость. Гнев его обрушился на тех, кого он охранял. Ведь кто-то из них всадил в Ганю эту проклятую пулю! Может быть, даже тот рыжий парень с гармошкой… А теперь резвится как ни в чем не бывало. Фашист проклятый! Догару со свирепым видом шагнул к музыканту и угрожающе потряс винтовкой. — А ну брось сейчас же! Чего вылупился-то, черт конопатый?! Свистишь вот на своей свистульке, никто тебе башку не продырявил… У-у, боров проклятый!.. Брось, тебе говорят, слышь, хуже будет! Но немец, не понимая, чего от него хочет старый солдат, с улыбкой протянул ему свою гармошку, дескать, на, поиграй. И жестами попросил взамен сигарету. — Не нужна мне твоя бренчалка, — отмахнулся от него Догару, — держи ее при себе, еще Гитлеру отходную сыграешь!.. Здесь не смей играть. У людей столько горя из-за вас, окаянных, а ты тут посвистываешь! Немец перепугался, когда увидел, что Догару щелкнул затвором, забился поглубже в толпу пленных и дрожащими пальцами засунул гармошку себе в карман. Солнце быстро клонилось к закату, все длиннее становились тени от корпусов казармы, от Дуная веяло вечерней прохладой. Ветерок доносил сюда, к казарме, запах пороха, стреляных гильз, дым горелого леса. — Так что же все-таки с Ганей? — спросил Райку, поднимаясь со скамейки. — Его спасли? — Предойю звонил в госпиталь, — ответил ему Глигор, глянув на карманные часы. — Минут десять назад. Операция еще продолжалась. — Он был в тяжелом состоянии… Ранение небось серьезное… — Да, он почти все время без сознания. Потерял много крови. Врачи говорят, у него не одна пуля в легком, а две… — Наверное, его прошила пулеметная очередь, — вмешался Михай. — Или автоматная… У ворот глухо заурчал автомобиль. Разговор оборвался. Все напряженно прислушались. — Это они… Едут!.. Осторожно объезжая трофейные орудия и машины, на аллее появился старый черный рыдван с откидным верхом. Чихая, кашляя и чадя, машина остановилась у крыльца административного корпуса. Из нее вышла совершенно измученная Дана, за ней сумрачный капрал Динку и маленький Максим. — Максим, как ты туда попал? — удивился Райку. — Он вскочил на подножку, и нам пришлось взять его с собой, — ответил Динку. Приехавших окружила плотная толпа. Вышел из своего кабинета и полковник Предойю. — Господин Райку, — подошел он к секретарю партийной организации, — заберите у Грэдинару сто винтовок, четыре ящика гранат и двадцать ящиков патронов. Достаточно? — Хватит, господин полковник. Спасибо вам большое, — поблагодарил его Райку. — Какие вести из госпиталя, домнишоара? — повернулся полковник к Дане. Он очень постарел, измучился за эти дни, и его трудно было узнать. — Я пробовал только что опять туда звонить, но никто не ответил… — Как вы его довезли? Что с ним сейчас?! — схватил Михай за руку сестру. — Он был очень плох, еле довезли, — устало ответила Дана, не поднимая головы. — Динку и санитары всю дорогу держали носилки на весу. А то очень трясло… — Ну а сейчас-то он как? — нетерпеливо прервал ее Райку. — Операцию сделали, кажется, удачно. Через два часа, когда он пришел в сознание, нас к нему на минутку пустили. Он приоткрыл глаза, увидел Максима, узнал его и, по-моему, обрадовался, — добросовестно отчитывалась Дана. Райку улыбнулся, взъерошил пятерней волосы Максима, притянул его к себе и крепко прижал. Он не хотел, чтобы мальчик видел слезы у него на глазах. — Только бы не было осложнений! — продолжала Дана. — Врачи сделали все, что могли. Но не все от них зависит… Ах, какой это прекрасный человек, умный, благородный! На улице было уже совсем темно, когда они пошли домой. Перед их глазами все еще проносились картины недавнего боя, в ушах стоял свист, шорох, грохот, вой… и стоны. Самое ужасное — стоны!.. — Кровью мы начали писать новую историю страны, — нарушил молчание Михай, обхватив за плечи Максима. — Кровью наших братьев. — Мы никогда их не забудем, — тихо добавил Райку. — И мы построим жизнь, достойную их памяти. На темном небосводе зажглась первая звезда. Это была утренняя звезда надежды…

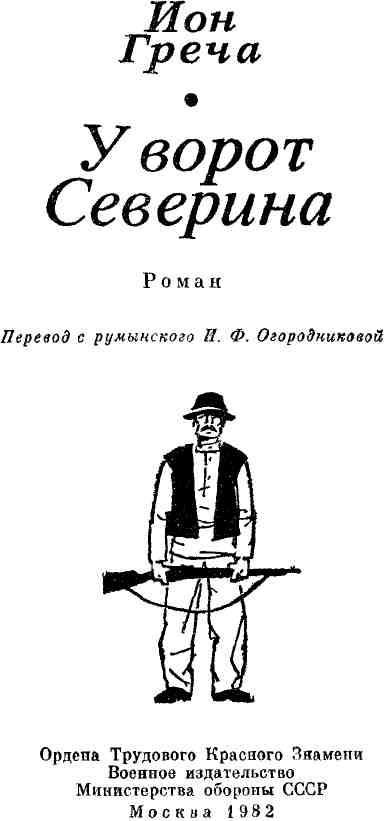

Последние комментарии
5 часов 50 минут назад
21 часов 54 минут назад
1 день 6 часов назад
1 день 6 часов назад
3 дней 13 часов назад
3 дней 17 часов назад