Всеволод Большое Гнездо [Алексей Юрьевич Карпов] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Всеволод Большое Гнездо



Часть первая БРЕМЯ СКИТАНИЙ 1154–1174
Полюдье на Яхроме
За прошедшие столетия подмосковная река Яхрома изменилась до неузнаваемости. Собственно говоря, от той Яхромы, что во времена Всеволода Большое Гнездо несла свои воды в реку Сестру и дальше в Дубну и Волгу, почти ничего не осталось. Канал имени Москвы спрямил её, поделил на части и оставил течь узким ручейком до одного из своих водохранилищ, превратив остальное главным образом в резервуар для сброса воды из шлюза. А ведь некогда река эта была судоходной! И в жизни героя нашей книги она сыграла, можно сказать, первостепенную роль. Поздней осенью 1154 года отец Всеволода, суздальский князь Юрий Владимирович, прозванный Долгоруким, выехал в полюдье — ежегодный объезд подвластных ему земель для сбора дани — «кормов», то есть пропитания, и «портов», то есть мехов и одежды. Это был давний обычай, восходящий ещё к незапамятным временам, и Юрий старался следовать ему — во всяком случае, в те годы, когда осень и зиму он проводил дома, а не в дальних военных походах. Как обычно, князя сопровождала жена. Ибо путешествие предстояло им хотя и не быстрое, но совсем не обременительное. Княжеское полюдье не походило ни на хищнический набег за данью, ни на ограбление сильным слабого. Не только князь, но и те люди, к которым он ехал, воспринимали его прежде всего как исполнение старинного, освящённого веками обычая, больше того — как знак некоего единения князя с подвластной ему землёй. Личное присутствие правителя сглаживало ту социальную пропасть, которая существовала между ним и его подданными. Ибо при князе, как это всегда бывает, его тиуны — управляющие — остерегались творить откровенное беззаконие, памятуя, что княжеская власть в равной степени защищает всех и голос обиженного сразу же будет услышан. Выехавшая с Юрием княгиня была «непраздна». В те времена это было обычное состояние женщины, находящейся в детородном возрасте: дети рождались у неё каждый год или даже чаще, хотя выживали далеко не все. По этой причине княжеский поезд и задержался на берегу Яхромы, в том месте, где река круто поворачивала на запад. Здесь 19 октября 1154 года, во вторник, княгиня разрешилась от бремени мальчиком. Неделю спустя, 26 октября, праздновали день святого Димитрия Солунского, а потому в крещении княжич получил имя Дмитрий — весьма популярное в княжеской среде. При рождении же его назвали Всеволодом. Это княжеское имя было также почитаемо в роду Рюриковичей. Младший сын Юрия Долгорукого получил его в память о прадеде — великом киевском князе Всеволоде Ярославиче (в крещении Андрее), общем предке князей Мономашичей, правивших тогда большей частью русских земель. А ещё князь повелел заложить город на месте рождения сына. Этот город также был наречён его крестильным именем — Дмитров. Место, выбранное князем для строительства, на первый взгляд казалось не слишком подходящим. Крепость предстояло ставить несколько в стороне от реки, в низине, окружённой болотистыми лугами и небольшой протокой, известной как Старая Яхрома. Надо полагать, что произошедшее здесь счастливое событие — рождение ещё одного, одиннадцатого сына — настолько впечатлило Юрия, что он не стал задумываться об удобстве или неудобстве расположения будущей крепости. Может быть, появлению Всеволода на свет предшествовали какие-то необычные обстоятельства; может быть, княгиня или новорождённый избежали серьёзной опасности или болезни и лишь молитва святому Димитрию помогла им — впрочем, об этом мы можем только гадать. Но Юрий, несомненно, должен был оценить и преимущества расположения нового города. Возникший на одном из старых торговых путей, в земле, давно обжитой славянами, а ещё до них — мерянами, одним из финно-угорских племён, (которые и дали название реке: Яхрома по-мерянски значит «озёрная река»), город должен был стать центром княжеского присутствия в этом земледельческом регионе, а заодно прикрывать Суздальское Залесье с запада, со стороны вечно враждебного суздальским князьям Черниговского княжества1. И надо сказать, что сын Юрия Всеволод, когда станет суздальским князем, сумеет оценить стратегическое значение Дмитрова, который сыграет немаловажную роль в ходе его войн с черниговскими князьями. Конечно, сам город начали строить позднее, уже в следующем, 1155 году. Но княжеское распоряжение прозвучало именно в те радостные дни, когда князь праздновал рождение и крестины младшего сына. Так и получилось, что существующий и ныне город Дмитров на реке Яхроме и князь Всеволод Большое Гнездо — ровесники и даже тёзки. Всеволод — единственный из одиннадцати сыновей Юрия Долгорукого, о чьём рождении сообщают летописи. «Того же лета родися Юрью сын Дмитрии, бе бо тогда на реце на Яхроме и со княгинею, — читаем под 1154 годом в так называемом Московском летописном своде конца XV века (а другие летописи прибавляют к этому: «…бе тогда в полюдии»). И далее: — И заложи град во имя его, и нарече и (его. — А. К.) Дмитров, а сына нарече Всеволодом»2. Точную же дату рождения младшего сына Юрия Долгорукого называет единственный источник — Тверской летописный сборник XVI века: «…и месяца октября 19 день родися ему сын Дмитрий, и нарече ему имя Всеволод… Сей есть Всеволод, — разъяснял далее тверской книжник, — всем рускым нынешним княземь отец, зовомый Великое Гнездо»3. Отцу Всеволода Юрию было тогда под шестьдесят — возраст весьма почтенный, если не сказать преклонный. Он уже давно похоронил свою первую супругу, половецкую княжну, на которой его женили совсем ещё мальчиком в 1108 году, в ознаменование русско-половецкого мира, заключённого его отцом Владимиром Мономахом. «Аепина дщерь» (как по имени её отца, половецкого князя Аепы Осенева, называли княгиню) родила ему пятерых или семерых сыновей — Ростислава, Ивана, Андрея (будущего Боголюбского), Бориса, Глеба и, вероятно, Ярослава и Святослава (о рождении двух последних в первом браке Юрия Долгорукого можно говорить лишь предположительно). Не позднее 1136/37 года Юрий женился во второй раз; во втором браке у него родилось по меньшей мере четверо сыновей: Мстислав, Василий (или Василько, как называет его летопись), Михаил (Михалко) и Всеволод. Упоминают летописи и двух или трёх дочерей Юрия Долгорукого: Ольгу (в монашестве Евфросинию) и ещё одну или двух, по имени неизвестных. Но появлению дочерей в княжеских семьях в те времена не придавали большого значения, так что в действительности сестёр у Всеволода наверняка было больше4. Кем была вторая жена Юрия Долгорукого, в точности неизвестно. А жаль, ибо речь идёт о матери князя Всеволода Юрьевича — женщине, оказавшей громадное влияние на всех своих сыновей и сильнее всего, наверное, на самого младшего из них. Неизвестно даже, как её звали[1]. Историки, как правило считают её гречанкой, притом близкой к правящему в Византии роду Комнинов. Это всего лишь предположение, хотя оно имеет достаточно веские основания. Мы ещё будем говорить о том, что в 1161/62 году, уже после смерти Юрия, его вдова будет изгнана вместе со своими родными детьми из Суздальской земли пасынком Андреем Боголюбским и отправится в Константинополь, где встретит радушный приём, а её сыновьям император Мануил I Комнин предоставит во владения обширные волости. Книжники прошлого видели в этом свидетельство того, что Мануил отнёсся к русской княгине как к своей близкой родственнице, чуть ли не дочери6. Это, конечно, совсем не обязательно: василевс мог оказывать почести сыновьям Юрия в знак уважения к их покойному отцу. И всё же греческое происхождение матери Всеволода остаётся наиболее вероятным. Старший из сыновей Юрия, Ростислав, умер за несколько лет до рождения Всеволода, в апреле 1151 года. Ещё раньше, в феврале 1147-го, умер другой их брат, Иван. Так что у Всеволода, когда он появился на свет, было восемь старших братьев, включая больного с детства и полностью недееспособного Святослава. Но особой дружбы между старшими и младшими братьями не было: во-первых, в силу слишком большой разницы в возрасте, а во-вторых, — и это, наверное, главное, — в силу того, что происходили они от разных матерей. Если верно, что второй женой Юрия была гречанка, то её сыновья — наполовину греки — должны были с некоторым высокомерием относиться к своим старшим братьям, в чьих жилах текла половецкая кровь. Старшие же, наверное, видели в них прежде всего соперников в борьбе за будущее отцовское наследство. По мере взросления младших сыновей отец и их, наравне со старшими, привлекал к участию в своих многочисленных войнах на юге. Война в то время считалась подлинным призванием князя, ремеслом, которому княжича обучали с детства. А войны Юрий вёл почти беспрерывно. Целью жизни он поставил овладение «златым» киевским престолом, который, как он считал, принадлежал ему по праву рождения — ведь киевскими князьями были его отец Владимир Мономах и дед Всеволод Ярославич. В ходе войн с племянниками, сыновьями своего старшего брата Мстислава, Юрий дважды занимал Киев — в 1149/50 и 1150/51 годах, но оба раза ненадолго. Летом 1151 года он потерпел жестокое поражение от племянника, киевского князя Изяслава Мстиславича, и вынужден был покинуть Южную Русь и вернуться в свой Суздаль. По условиям мира, заключённого в Городце на реке Остёр (в нынешней Черниговской области Украины), Юрий лишился почти всех своих владений на юге; за ним остался лишь Городец Остёрский, однако находиться в нём Юрий не имел права. Здесь позволено было княжить лишь его сыну Глебу (старший из оставшихся в живых Юрьевичей, Андрей, ещё прежде отца покинул Южную Русь, считая бессмысленным продолжение войны за неё). А спустя несколько месяцев, в начале весны 1152 года, последовал новый удар: воспользовавшись отсутствием Глеба Юрьевича, Изяслав Мстиславич и союзные ему черниговские князья полностью сожгли Городец. Огонь не пощадил даже церковь Архангела Михаила, выстроенную Владимиром Мономахом. Крепость сравняли с землёй, а жителей «развели», то есть переселили в качестве пленников на земли победителей. Юрий, конечно же, не смирился. За годы своего вынужденного пребывания в Суздальской земле (1152–1154) он дважды предпринимал попытки «вырваться» за пределы Залесского края, возобновить борьбу за преобладание на юге. Свои удары Юрий направлял против черниговских князей — союзников Изяслава Мстиславича. Но оба его похода на Чернигов закончились неудачей. Замыкаться в пределах Суздальского княжества казалось Юрию смерти подобным. В противном случае — и он хорошо понимал это — его потомков могла ждать участь рязанских или полоцких князей, вынужденных бесконечно дробить доставшиеся им уделы и жить в вечной вражде друг с другом, навсегда отказавшись от какой-либо самостоятельной роли в масштабах всего Древнерусского государства. На земли соседних рязанских князей сам Юрий смотрел едва ли не как на бесхозные, считая их чем-то вроде дармового придатка к своему собственному княжеству. В том же 1154 году Юрий изгнал из Рязани тамошнего князя Ростислава Ярославича и посадил на его место своего старшего сына Андрея. Другого своего сына, Глеба, Юрий отправил к половцам — за новыми отрядами, с помощью которых тот должен был добывать себе княжеский стол на юге. Глеб, несомненно, питал склонность к подобного рода авантюрным затеям. А вот Андрея едва ли могло устроить княжение в Рязани: он был слишком привязан к родной Суздальской земле, чтобы искать себе княжеский стол где-нибудь за её пределами. Да и история его недолгого княжения в Рязани закончилась жестоким конфузом. С помощью всё тех же половцев рязанский Ростислав вернул себе город. Андрей едва спасся, бежав из Рязани «об одном сапоге», а его дружина была почти полностью истреблена: по словам летописца, Ростислав «одних перебил, а других засунул в яму, а иные утопли в реке». История взаимоотношений суздальских и рязанских князей знала немало войн. На этот раз война, в которой было пролито столько крови, завершилась миром: Юрий даже породнился с Ростиславом Рязанским, выдав за его сына Глеба одну из своих внучек, дочь рано умершего старшего сына Ростислава; в свою очередь, рязанский князь признал «старейшинство» Юрия. Но вражда между Суздалем и Рязанью не могла исчезнуть. С её проявлениями князю Всеволоду Большое Гнездо придётся сталкиваться постоянно. Ситуация изменилась для Юрия в ноябре 1154 года, то есть всего через несколько недель после рождения Всеволода. 13 ноября умер главный враг Юрия — его племянник Изяслав Мстиславич. А примерно полтора месяца спустя, в самом конце декабря 1154-го — начале января 1155-го, вслед за Изяславом ушёл из жизни и его дядя и соправитель, старший брат Юрия престарелый и безвольный Вячеслав Владимирович, от имени которого Изяслав и правил Киевом. Киевский престол занял было младший брат Изяслава Мстиславича Ростислав Смоленский, но это отказались признать и старший из черниговских князей Изяслав Давыдович, и заключивший с ним союз сын Юрия Глеб, вернувшийся на Русь с ордами «диких» половцев. На реке Белоус, близ Чернигова, объединённая черниговско-половецкая рать разгромила войско Ростислава Мстиславича; сам князь бежал в Смоленск, Изяслав Давыдович занял Киев, а Глеб Юрьевич — уже из его рук — получил ю «отчий» Переяславль на реке Трубеж. Побоище на Белоусе имело тяжелейшие последствия для южнорусских земель. Особенно пострадали Переяславль и округа: половцы сожгли и разграбили все сёла близ города «и много зла сотворили». В те месяцы они бесчинствовали по всей Южной Руси, сея разрушение и смерть и уводя за собой толпы пленных и громадные обозы с награбленным добром. Половецкое нашествие затронуло и Киев, и другие города Южной Руси, которые ещё долго не могли оправиться от этого страшного разорения. Князь Юрий Владимирович в своём Суздальском Залесье узнавал о случившемся с большим опозданием. Но к новому повороту событий он оказался готов. Получив известие о смерти племянника, Юрий немедленно начал собирать войска для похода на Киев. Когда в конце декабря 1154 года он выступил из Суздаля, то ещё не знал ни о смерти брата Вячеслава, ни о поражении Ростислава Мстиславича, ни о том, что ставший теперь его союзником Изяслав Черниговский «мимо него» занял стольный город Руси. Но все эти известия не застигли его врасплох. На этот раз князь действовал безошибочно, точно выверяя каждый свой шаг. Как всегда, Юрия сопровождали в походе сыновья: и старшие — Андрей и Борис, и младшие — Мстислав и Василько — каждый со своей дружиной. Князья двигались к Киеву не прямым путём через Вятичские леса, а кружным — по Волге и далее по Днепру, мимо Смоленска. Не доходя Смоленска, Юрий встретился с новгородским посольством. Оставшиеся без князя после недавнего изгнания из города тринадцатилетнего сына Ростислава Мстиславича Давыда, новгородцы предложили княжеский стол одному из Юрьевых сыновей — по выбору князя. Юрий назвал имя Мстислава, и тот отправился на княжение в Новгород. Так старейший и знаменитейший город на Волхове — пускай и на время — перешёл под власть суздальского князя. Здесь же, недалеко от Смоленска, Юрий наконец-то узнал о тех драматических событиях, что произошли на юге. «Брат твой Вячеслав умер, — сообщили ему осведомлённые люди, — а Ростислав побеждён, а Изяслав Давыдович сидит в Киеве, а Глеб, сын твой, — в Переяславле». На этот раз в решающую минуту Юрий оказался именно там, где нужно. Судьба киевского престола по существу решалась под Смоленском. С Ростиславом Мстиславичем, приведшим сюда остатки своей рати, Юрию удалось договориться. Своим миролюбием Ростислав сильно отличался от брага Изяслава. Он признал права дяди на Киев и бил ему челом, обязуясь повиноваться во всём как отцу. Поспешили признать права Юрия и черниговские князья — двоюродный брат Изяслава Давыдовича Святослав Ольгович и племянник последнего Святослав Всеволодович. Заручившись их поддержкой, Юрий обратился к Изяславу Давыдовичу с грозным требованием убираться из Киева подобру-поздорову: «Мне отчина Киев, а не тебе!» Этого окрика оказалось довольно. «Отчиной» для Изяслава Киев действительно не был: отец его, Давыд Святославич, княжил только в Чернигове. Убедившись в твёрдом намерении Юрия отстаивать принадлежащее ему по праву, Изяслав пошёл на попятную и даже стал оправдываться (конечно же, не искренне, но лишь на словах), что, дескать, против воли занял Киев: «Посадили меня киевляне. А не створи мне пакости, а се твой Киев». До «пакости», то есть до войны, действительно не дошло. Изяслав Давыдович добровольно покинул Киев и вернулся в Чернигов. 20 марта 1155 года, в Вербное воскресенье — последнее перед Пасхой, Юрий Долгорукий в третий и последний раз победителем вступил в Киев. Своих сыновей он наделил ближними к Киеву городами: старший, Андрей, был посажен в Вышгороде, Глеб остался в Переяславле-Южном, Борис получил Туров, Василько — Поросье (земли по реке Рось, притоку Днепра, с центром в Юрьеве или Каневе — главном городе на границе со Степью). Что же касается самых младших его сыновей — Михалка и только что родившегося Всеволода, то отец оставил их вместе с матерью в Суздальской земле. Именно их Юрий видел в будущем преемниками здесь своей власти. Судя по позднейшему припоминанию летописца, перед самым уходом на юг князь привёл жителей Суздаля, Ростова, Переяславля-Залесского и других городов к крестному целованию в том, что после его смерти именно его младших сыновей примут они на княжение, и все эти города «и вся дружина» действительно целовали крест Юрию «на менших детех, на Михалце и на брате его»7. Точно так же Юрий поступил и раньше, в 1149 году, когда в первый раз стал киевским князем. Тогда он тоже наделил старших сыновей волостями в Южной Руси, а на княжении в Суздале оставил одного из младших, родившихся во втором браке, а именно Василька. И тогда, и теперь Юрий рассматривал Суздальское княжество лишь как базу для борьбы за юг, и прежде всего за Киев. Именно там, на юге, видел он будущее своих старших сыновей; Суздальская же земля представлялась ему чем-то второстепенным, не вполне достойным их. В этом была главная ошибка Юрия, его главная беда. Но вместе с тем забота о Суздальской земле — пускай всего лишь как о военной и экономической базе, как об источнике людских и финансовых ресурсов — стала его главной заслугой, в конечном счёте обессмертившей его имя.* * *
Михалко, десятый сын Юрия Долгорукого, был несколькими годами старше Всеволода8. Юрьева княгиня с двумя малолетними детьми на руках недолго оставалась в Суздальской земле. Вскоре после того, как муж её утвердился на киевском престоле, она отправилась на юг. Княгиня выбрала для себя и своих детей тот же маршрут, что и Юрий, — через Смоленск. Надо полагать, что возвращаться через владения черниговских князей — пускай теперь и союзников её мужа — княгиня посчитала для себя опасным. Летопись, как обычно, называет княгиню не её личным именем, а по имени мужа — Гюргевая (то есть Юрьева). «В то же время приде Гюргевая ис Суждаля Смоленьску и с детми своими к Ростиславу», — сообщает киевский летописец9. Смоленский князь Ростислав Мстиславич встретил «стрыиню», то есть тётку, с подобающими почестями и лично сопроводил её и её маленьких сыновей в Киев к мужу: «пойма стрыиню свою с собою и поиде к строеви (дяде. — А. К.) своему со всим полком своим. И приде к строеви своему Дюргеви (Юрию. — А. К.) в Киев, и тако обуястася с великою любовью и с великою честью, и тако пребыша у весельи». Так семья после короткой разлуки воссоединилась. Но «веселие» их не обещало быть долгим. Положение Юрия в Киеве только на первый взгляд казалось прочным. Удержать стольный город Руси он мог, лишь опираясь на союз с противостоящими друг другу княжескими группировками — прежде всего черниговскими князьями, с одной стороны, и князьями «Мстиславова племени», наследниками умершего Изяслава Мстиславича, — с другой. Однако князья, входившие в эти группировки, преследовали свои цели, отнюдь не совпадавшие с тем, что мог предложить им Юрий. Так, черниговский князь Изяслав Давыдович, однажды уже побывавший на «златом» киевском престоле, мечтал вернуться на него, считая себя ничуть не «младше» Юрия и не менее его достойным «старейшинства» среди русских князей; сыновья же Изяслава Мстиславича, Мстислав и Ярослав, не могли удовольствоваться на двоих доставшимся им Луцком, стремясь к большему, и главное — к возвращению себе Волыни, которую после смерти их отца занял их дядя, младший сын Мстислава Великого Владимир («Матешич», как его называли, — то есть сын второй жены Мстислава Великого, мачехи остальных Мстиславичей). Умиротворить их Юрий пытался за счёт князей Черниговского дома, а для того, чтобы заручиться поддержкой последних, ему приходилось ущемлять интересы племянников. Получался замкнутый круг, вырваться из которого Юрий так и не сможет. Действуя не слишком продуманно, он добьётся лишь того, что его противники — и черниговские князья, и братья Изяславичи, и даже миролюбивый Ростислав Смоленский — объединятся против него самого. Лучше других понимал расклад сил и бесперспективность и ненужность удержания Киева старший сын Юрия Долгорукого Андрей. Княжение в Вышгороде совершенно не устраивало его. Андрей добивался передачи ему удела в Северо-Восточной Руси, в исконных отцовских владениях, где он мог чувствовать себя полновластным хозяином, не отвлекаясь на постоянную изнурительную борьбу с другими князьями. Отец считал по-другому, и осенью 1155 года князь Андрей Юрьевич самовольно, «без отча повеления», покинул Вышгород и отправился на родной север. Там он обосновался недалеко от Владимира на Клязьме, в собственной резиденции — Боголюбове. Именно по названию этой княжеской резиденции он получил то имя, под которым вошёл в историю, — Андрей Боголюбский.
Андрей во многом оказался проницательнее отца и глубже, чем тот, понял суть происходивших на Руси изменений. Владение Киевом сулило внешний блеск и великолепие, но было сопряжено с огромными трудностями, экономическими и политическими потерями, далеко не всегда оправданными. Для того, чтобы удерживать этот город, требовались колоссальные средства, постоянная готовность к компромиссу, к отражению внезапного нападения того или иного князя, к удовлетворению чужих притязаний на тот или иной город. Ещё важнее было другое. За прошедшие десятилетия произошло значительное усиление новых княжеских центров — таких как Смоленск, Галич, Волынь, Рязань или Суздаль. В отличие от Киева, они развивались последовательно и динамично, не испытывая (или испытывая в меньшей степени) столь резкую смену князей и проводимого ими политического курса, не становясь ареной борьбы противоборствующих княжеских династий. И князь, поставивший на карту всё ради княжения в Киеве, оказывался заложником этой ситуации, проигрывал соперникам в возможности совершения манёвра, в возможности свободно распоряжаться ресурсами собственного княжества. Андрей, очевидно, хорошо понимал это — и тогда, когда звал отца уйти в Суздаль после поражения от Изяслава Мстиславича летом 1151 года, и теперь, когда отец его стал-таки киевским князем. По свидетельству одного новгородского источника XV века, инициаторами его ухода стали его шурья Кучковичи10 — братья его первой супруги (на которой его женил Юрий, убив, по преданию, за какую-то провинность отца невесты, некоего Кучку, или Кучка, первого владельца Москвы). Очевидно, Андрей сумел найти общий язык и с собственно суздальскими и ростовскими боярами, которые готовы были поддержать его. Местной знати едва ли могло прийтись по душе недавнее распоряжение Юрия о передаче княжения младшим сыновьям, ещё «пелёночникам», от лица которых править землёй должны были княжеские наместники и тиуны. Получалось, что Суздальская земля фактически оказывалась без князя (тем более после отъезда княгини с детьми в Киев), а это заметно ущемляло права местного боярства, ибо наличие собственного князя всегда повышало статус той или иной волости; отсутствие же оного, напротив, превращало её в неизбежный объект притязаний со стороны других князей. Утверждение Юрия Долгорукого в Киеве грозило восстановлением экономической и политической зависимости Северо-Восточной Руси от Киева, которую в своё время уничтожил сам Юрий. Если бы осуществился его замысел и в Суздале сели на княжение его младшие сыновья (или, тем более, его посадники), а в Киеве — кто-то из старших, поток «залесской» дани неизбежно вновь устремился бы на юг — как это и было во времена молодости Юрия Долгорукого. Это важное обстоятельство нам надо непременно учитывать, когда мы будем говорить о последующей судьбе младших братьев Андрея, и прежде всего героя нашей книги — Всеволода.
Без отца
Первые два года жизни — с весны 1155-го по май 1157-го — маленький Всеволод провёл с отцом и матерью в Киеве. Точнее, наверное, не в самом городе, а в пригородной резиденции отца на противоположном, левом берегу Днепра — Рае (или «само-Рае»), как с любовью и не без тщеславия называл свой загородный дворец Юрий. О заботах, которые обуревали отца и братьев, княжич-младенец, разумеется, ничего не ведал. Да и вообще то счастливое время он помнить не мог: обыкновенно дети начинают сознавать себя в более позднем возрасте — приблизительно лет с трёх. А вот внезапная смерть отца в мае 1157 года, вероятно, стала для него потрясением. Во всяком случае, жизнь его с этого момента круто переменилась. К весне 1157 года положение Юрия в Киеве сделалось угрожающим. Его недруги сумели объединиться — и именно на почве неприятия той политики, которую проводил Юрий, сделавшись киевским князем. Годом ранее Юрий предпринял неудачный поход на Волынь, против внучатого племянника Мстислава Изяславича, сумевшего-таки отвоевать свою «отчину». Осада Владимира-Волынского ничего не дала; более того, Мстислав отказался заключить мир с киевским князем. Юрий вынужден был ни с чем отступить к Киеву, и Мстислав со своей дружиной преследовал его до самой границы Киевской земли. Эта неудача киевского князя воодушевила его противников. Явно сочувствовал Изяславичам их дядя, смоленский князь Ростислав, признанный глава князей «Мстиславова племени». Сумел Юрий вскоре поссориться и со своим главным соперником в борьбе за киевский престол — черниговским князем Изяславом Давыдовичем. «Начал рать замышлять Изяслав Давыдович на Юрия и примирил к себе Ростислава Мстиславича и Мстислава Изяславича», — сообщает киевский летописец. К маю противники Юрия были готовы начать военные действия. Всё было согласовано, роли распределены, сроки обозначены. «И сложил Изяслав путь с Ростиславом и со Мстиславом на Юрия», — продолжает тот же летописец. Ростислав Мстиславич лично участвовать в военных действиях не пожелал, но отпустил к Киеву старшего сына Романа «с полком своим», а Мстислав Изяславич сам выступил из Владимира-Волынского. Однако до военных действий так и не дошло. Удивительно, но Юрий как будто и не готовился к войне. В те самые дни, когда враги его уже объединили усилия и выступили или готовились выступить в поход, он предавался пирам и развлечениям. Один из таких пиров — у «осмянника» (то есть сборщика княжеской подати, «осмничего») Петрилы — стал для него последним. Киевский летописец так пишет об этом: «Пил Юрий у осмянника у Петрила: в тот день на ночь разболелся, и бысть болезни его 5 дней…» Что случилось на этом пиру, неизвестно. Впоследствии историки не раз выказывали уверенность в том, что Юрий был отравлен. Однако для столь категоричного суждения у нас нет достаточных оснований. Киевский князь был далеко не молод; чрезмерные же возлияния и обильная пища на ночь вполне могли спровоцировать болезнь — например, острый сердечный приступ или инсульт. Тем более что Юрий был не первым из киевских князей, кто умер после пиршества, — так же, после «веселия» с дружиной, ушёл из жизни и его брат Вячеслав. В летописи мы не найдём ни малейших намёков на то, что Юрия отравили. Когда спустя четырнадцать лет, в январе 1171 года, в Киеве скончается сын Юрия Глеб, слухи о его насильственной смерти попадут на страницы летописи: князь Андрей Юрьевич потребует выдать ему на расправу тех киевлян, которые «суть уморили брата моего Глеба». Если бы Юрий действительно был отравлен, Андрей, наверное, не преминул бы вспомнить и об этом. Так или иначе, но болезнь князя оказалась смертельной. Вечером 15 мая 1157 года, «в среду на ночь», князь Юрий Владимирович скончался, а на утро следующего дня, 16 мая, его похоронили в Спасо-Преображенской церкви пригородного монастыря Святого Спаса на Берестовом. Сделано это было с явной поспешностью: тело князя торопились предать земле, дабы пресечь начавшиеся в Киеве беспорядки. «И много зла створилось в тот день, — пишет киевский летописец о событиях, разыгравшихся в самый день похорон князя, — разграбили двор его Красный, и другой двор его за Днепром разграбили, который звал он сам Раем, и Васильков двор, сына его, разграбили в городе, и избивали суздальцев по городам и по сёлам, а товар их грабили». Ну а ещё три дня спустя, 19 мая, в Киев вступил князь Изяслав Давыдович, который и стал новым киевским князем. Так часто случалось в истории. Суздальцы, пришедшие в Киев вместе с Юрием, воспринимались как чужаки, больше того — как насильники и грабители, а потому должны были принять на себя весь выплеснувшийся гнев киевлян, всю их слепую ярость. Князя уже не было в живых, и защитить его людей оказалось некому. Княгиня с двумя маленькими детьми на руках вынуждена была спешно бежать из города. Трудно даже представить себе, что должна была испытать она, видя, как рушится всё то, чем жила она предшествующие два года. Наверное, она даже не заезжала на княжеский двор и в самый день похорон выехала из Спасо-Берестовского монастыря в траурных одеяниях, налегке, оставив весь свой скарб на разграбление толпе. Да и те люди, которые были с ней в тот скорбный день, спасали не столько её жизнь и жизнь её сыновей, сколько свои собственные жизни. Конечно, смерть Юрия в какой-то степени защищала его вдову от прямых посягательств других князей. Теперь она становилась не женой врага, которую можно было захватить в плен, дабы продиктовать её мужу какие-то политические условия или выторговать какие-то волости, но жертвой обстоятельств, нуждавшейся в сочувствии и защите. И всё же как горек был для неё, чужестранки, этот путь в Суздаль по враждебным и неприветливым землям! Можно, наверное, предположить, что и для её сына, младенца Всеволода, эти трагические события — бегство с матерью и братом — стали первыми впечатавшимися в память. Такие смутные и неотчётливые детские воспоминания, как правило, оставляют неизгладимый след в душе и психике ребёнка. Тем более что этот путь по чужим и враждебным землям окажется для него далеко не последним. В Суздальскую землю пришлось бежать и одному из старших сыновей Юрия — Борису. Другой Юрьевич, единоутробный брат Всеволода Василько, чей двор был разграблен киевлянами, также должен был спешно покинуть Киев. На время он сумел удержаться на юге, а именно в Торческе — главном городе в области «чёрных клобуков», находившихся на службе у южнорусских князей. Но положение его оставалось крайне неустойчивым: он полностью зависел от других, более сильных князей, и в начале 1160-х годов ему тоже придётся вернуться в Суздаль. В довершение всех бед, постигших «Юрьево племя», в начале того же 1157 года, ещё до смерти отца, из Новгорода бежал князь Мстислав, изгнанный новгородцами. Ему не помогла даже женитьба на дочери видного новгородского боярина Петра Михалковича: «своим» в Новгороде князь так и не стал. Сохранить свои позиции за пределами Суздальской земли удалось лишь Глебу Юрьевичу, княжившиму в Переяславле. С новым киевским князем Изяславом Давыдовичем его связывали родственные отношения: ещё зимой 1155/56 года, вскоре после вокняжения отца в Киеве, Глеб вступил в брак с дочерью Изяслава. Переяславль на Трубеже (Переяславль-Южный, или Русский, как, в отличие от северного Переяславля-Залесского, называли этот город) на долгие годы стал главным оплотом Юрьевичей в Южной Руси.* * *
Вернувшись в Суздаль, вдова Юрия сразу же должна была почувствовать изменившиеся настроения горожан и дружины. О прежнем крестном целовании её сыновьям никто не вспоминал. В Суздальской земле полновластно распоряжался старший сын Юрия Долгорукого Андрей. Любые попытки мачехи напомнить о последней воле отца (если таковые вообще имели место) он пресекал решительно и жёстко. Андрей уже давно свыкся с родным краем. Здесь его тоже хорошо знали, и его вступление на отцовский княжеский стол казалось делом естественным, не вызывающим сомнений. Это и случилось по истечении сорокадневного траура по отцу, 4 июля 1157 года — в день святого Андрея Критского, небесного покровителя князя. Показательно, что вступление Андрея на «отний» стол произошло с одобрения жителей главных городов княжества — прежде всего, Ростова и Суздаля, в результате их волеизъявления на вече; показательно и то, что вспоминали при этом не только о «старейшинстве» Андрея и его несомненных правах на престол, но и о его христианских добродетелях и несравненных душевных качествах. Во всяком случае, так излагает ход событий летописец. «Того же лета, — читаем в Суздальской (Лаврентьевской) летописи, — ростовци и суждалци, здумавше вси, пояша Андрея, сына его старейшаго, и посадиша и в Ростове на отни столе и Суждали, занеже бе любим всеми за премногую его добродетель, юже имяше преже к Богу и ко всем сущим под ним»11. …Много позже, вспоминая о вокняжении Андрея Боголюбского в связи с трагическими событиями, последовавшими за его гибелью, летописец скажет и о другом: оказывается, ростовцы и суздальцы «посадиша» Андрея на княжеский стол, «преступивше хрестное целованье», которое ранее дали его отцу Юрию12. Но для того, чтобы осознать этот факт как действительно значимый в истории Владимиро-Суздальской Руси, понадобятся долгих семнадцать лет…В изгнании
В историю России князь Андрей Юрьевич вошёл как подлинный создатель независимого Владимиро-Суздальского княжества — политического ядра будущей Великороссии. В отличие от отца, он не рвался в Киев, не мечтал о «златом» киевском престоле (тем более что не обладал пока династическим старейшинством среди русских князей) и — по крайней мере до времени — старался не вмешиваться в ход южнорусских дел или вмешивался в них лишь по необходимости и с большой осторожностью. Всё своё внимание Андрей сосредоточил на обустройстве собственного княжества, которое при нём превратилось в одно из самых сильных и динамично развивающихся среди всех русских княжеств. Своей столицей Андрей сделал Владимир на реке Клязьме — город, заложенный его дедом Владимиром Мономахом. В представлении людей того времени Владимир-Залесский был заведомо «младше» Ростова и Суздаля, главных городов княжества. Но это как раз и устраивало Андрея. Традиции веча, старинного народоправства были здесь гораздо слабее, нежели в старых городах княжества. Здесь Андрей мог чувствовать себя полновластным хозяином, мог поступать не «по старине», но так, как считал нужным. Вече, например, при Андрее совсем не собиралось — и не только во Владимире, но и в Ростове и Суздале, равно как и в других городах княжества. Уже на следующий год по вокняжении, в 1158 году, Андрей начал строительство во Владимире белокаменного собора во имя Успения Пресвятой Богородицы (закончен строительством и освящён в 1160 году). Своими размерами собор превосходил Киевскую Софию — главный храм Южной, Киевской, Руси; для его возведения и украшения князь привлёк мастеров «из всех земль» — не только русских, но и западноевропейских (историки архитектуры не сомневаются в том, что руководил русскими мастерами западноевропейский зодчий — возможно, из Северной Италии или Германии). Сюда же, в Успенский собор, Андрей поставил и привезённую им из Вышгорода чудотворную икону Божьей Матери, получившую с того времени название Владимирской и ставшую главной святыней, «палладиумом», Владимиро-Суздальской, а затем и Московской Руси. Правда, простоял построенный им собор очень недолго — менее четверти века: он был разрушен во время «великого» пожара во Владимире в апреле 1184 года; перестраивать собор, а по существу строить его почти заново придётся зодчим князя Всеволода Юрьевича, и об этом мы ещё будем говорить подробно. В том же 1158 году Андрей заложил новые крепостные сооружения Владимира, значительно превосходившие своими размерами и мощью прежние, поставленные за полвека до него Владимиром Мономахом. Золотые и Серебряные ворота «Нового города», надвратная церковь во имя Положения ризы Пресвятой Богородицы над главными, въездными воротами, прочие храмы и монастыри — всё это должно было сделать стольный город Андрея Боголюбского своего рода «новым Киевом». Но по замыслу князя Владимир должен был не просто повторять старую столицу Руси, но затмить её своим великолепием, а в итоге заменить в роли главного, стольного города всей Русской земли. Андрей задумывался и об учреждении во Владимире собственной отдельной епархии — причём сразу же в статусе митрополии. Правда, добиться этого ему не удалось. Нельзя сказать, что то бурное строительство, которое князь затеял в «младшем» городе княжества, а особенно его намерение перенести сюда княжеский стол пришлись по душе жителям старых княжеских городов. А ведь именно они приглашали Андрея на княжение к себе. «Ростов есть старой и болшей град и Суждаль; град же Владимерь пригород наш есть» — такие слова ростовцев и суздальцев приводит книжник XVI века13. Жители Ростова и Суздаля даже и после смерти Андрея будут смотреть на Владимир как на свой «пригород», а на обласканных князьями владимирцев — как на своих «холопов»: «каменосечцев, и древоделов, и оратаев» — со всеми вытекающими отсюда последствиями. Андрею поначалу приходилось считаться с подобными настроениями. Но пройдёт всего несколько лет — и он подавит всяческие проявления какой-либо оппозиции своей власти. Спорить с ним не решится никто — ни во Владимире, ни где-либо ещё в пределах досягаемости его власти. Диктовать свою волю — причём властно, не допускающим возражений тоном, в форме приказа — Андрей будет даже князьям, таким же Рюриковичам, как он сам. Что уж говорить о его подданных или младшей братии! О том, к каким жестоким методам расправы над неугодными могли прибегать в те времена в Суздальской земле, свидетельствует летописный рассказ о преступлениях «лжеепископа» Феодора (или Федорца), ставленника Андрея, который иным «дорезывал» головы и бороды, иным «урезал» языки, а иных распинал на стенах и вообще мучил «немилостивне». И хотя его чудовищные преступления были исключением из правил, какое-то время князь закрывал на них глаза — видимо, считая жестокость своего епископа оправданной. Да и вообще, та идиллическая картина княжения Андрея Боголюбского, которую можно увидеть в рассказах Суздальской летописи, в Сказании о чудесах Владимирской иконы Божьей Матери и других памятниках, вышедших из-под пера владимирских книжников той поры, несомненно, отражает лишь одну сторону взаимоотношений князя с его подданными. Как любой правитель авторитарного типа, Андрей не терпел прекословия и инакомыслия — и более всего в своём ближайшем окружении. Члены княжеского семейства, влиятельные бояре отца, церковные иерархи — всё это как раз и были те люди, которые могли иметь собственные взгляды на происходящее, отличные от взглядов самого Андрея, и к их слову могли прислушиваться другие. Подобное никак не устраивало владимирского «самовластца». Так, Андрей сильно не ладил с церковными иерархами, формально находившимися вне его власти. Он трижды (!) изгонял из княжества ростовского епископа грека Леона, поставленного на кафедру в 1158 году вместо изгнанного же из Суздальской земли епископа (и тоже грека) Нестора. Когда по настоянию церковных властей Киева и Константинополя Леон был возвращён в Суздальскую землю (уже во второй раз!), Андрей принял его, но велел пребывать в Ростове, «а в Суздале не дал ему сидеть» — и уж тем более не позволил находиться рядом с собой во Владимире, новой столице княжества. А всего четыре месяца спустя вновь прогнал его из своей земли, разойдясь с ним в толковании некоторых важных для себя церковных правил. Ставленник Андрея «лжеепископ» Феодор (тот самый, о зверствах которого поведал летописец) тоже не оправдал ожиданий князя. К тому же он не получил признания ни в Киеве, ни в Константинополе — а потому был отставлен Андреем и отправлен на церковный суд в Киев, где подвергнут мучительной казни («…тамо его осекоша, и языка урезаша, яко злодею еретику, и руку правую отсекоша, и очи ему выняша» — как видим, нравы в Киеве были ничуть не гуманнее, чем в Суздале или Владимире). Тем более могло достаться от князя тем из бояр, которые не одобряли новшества в его политике. А к их числу в первую очередь принадлежали «передние мужи» его отца — старые бояре князя Юрия Долгорукого, претендовавшие поначалу на главные роли и в окружении Юрьева сына. Особое беспокойство у Андрея должна была вызывать ситуация в его собственном, сильно разросшемся семействе. Конечно, Андрей обладал непререкаемым авторитетом и его слово было законом для любого из родичей. Но у Андрея подрастали сыновья, и об их будущей судьбе он должен был позаботиться заранее. Князь хорошо понимал: случись что с ним — и с его сыновьями считаться будут ещё меньше, чем ныне он считался с любым из братьев. Всего у Андрея было четверо сыновей. Старших, Изяслава и Мстислава, он рассматривал как прямых продолжателей своего дела, своих ближайших наследников. (Двое других были значительно младше. Третий сын, Юрий, появился на свет в годы владимирского княжения отца; когда Андрей умер, он оставался ещё ребёнком. Четвёртый же сын Андрея, Глеб, в летописях вообще не упоминается. Мы знаем о нём лишь то, что умер он раньше отца, но в каком возрасте, неизвестно. Впоследствии его мощи прославились чудотворением; было составлено его Житие, и ныне князь Глеб Владимирский почитается как святой.) Андрей очень рано стал привлекать своего первенца Изяслава к участию ввоенных предприятиях, стремясь, чтобы тот не только набрался военного опыта, но и, что называется, показал себя. Так, зимой 1159/60 года Андрей отправил его «со всим полком своим» к городу Вщижу на реке Десне, на помощь своему зятю Святославу Владимировичу (из рода черниговских князей Давыдовичей). До кровопролития тогда не дошло: известие о том, что сын Андрея «с силою многою ростовскою» движется к городу, заставило враждующих князей пойти на мировую. Вероятно, юный Изяслав лишь номинально возглавлял суздальское войско; у Андрея имелись опытные, проверенные воеводы, которым он вполне доверял и которые на деле могли руководить и войском, и юным княжичем. Но главное было не в этом: сын Андрея Боголюбского сумел заявить о себе как о полноправном князе, наделённом всеми атрибутами княжеской власти. Участвовал он и в самом масштабном военном предприятии отца за первый период его княжения — победоносном походе на волжских болгар в 1164 году. Однако спустя немного времени, 28 октября того же 1164 года (или, по-другому, следующего, 1165-го), княжич умер, и старшим стал второй сын Боголюбского Мстислав. Теперь отец должен был заботиться о его интересах и всемерно поддерживать его авторитет, особенно среди его дядьёв, то есть своих братьев. Как и Юрий Долгорукий, Андрей не собирался дробить княжество на уделы. Но тем труднее ему было удовлетворить амбиции братьев. Наиболее амбициозный и деятельный из них, Глеб, княжил в Южном Переяславле, и это вполне устраивало Андрея. Другой Юрьевич, Борис, также бывший соратником Андрея по многочисленным военным походам отца, как мы помним, бежал из Киева в Суздальскую землю. По всей вероятности, Андрей предоставил ему для жительства Кидекшу — город-замок, основанный Юрием Долгоруким на реке Нерли, близ впадения в неё речки Каменки, недалеко от Суздаля, — но предоставил не в качестве особого удела, а в качестве княжеской резиденции. Здесь Борис и умер 12 мая 1159 года и был похоронен с почестями в присутствии Андрея и других братьев; здесь же будут со временем погребены и его супруга и дочь. Ещё один — и, по-видимому, единоутробный — брат Андрея, Ярослав, по каким-то причинам в войнах отца участия не принимал и княжений на юге не удостаивался. Андрей, в отличие от отца, Ярослава приветил и по крайней мере однажды взял с собой на войну — в поход на Волжскую Болгарию в 1164 году. На самостоятельные роли Ярослав не претендовал и довольствовался тем, что жил возле брата. Он умер 12 апреля 1166 (или, по-другому, 1167-го) года и был похоронен во Владимирском соборе; «и плакася по нём брат Андрей», — свидетельствует летописец. Другой же Юрьевич, Святослав, занимал особое положение в княжеской семье. «Се же князь избраник Божий бе, — писал о нём суздальский летописец, — от рожества и до свершенья мужьства бысть ему болесть зла… не да бо ему Бог княжити на земли». Тем не менее несчастный прожил долгую жизнь; он умер в начале 1174 года, за полгода до самого Андрея, и был похоронен как князь, со всеми полагающимися почестями, в церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Суздале. Наибольшие же опасения Андрею должны были внушать его единокровные братья, родившиеся во втором браке отца. Правда, самые младшие из них, Михалко и Всеволод, были ещё совсем детьми. Однако Андрей никогда не забывал о том, что именно им отец передал Суздальскую землю незадолго до своей смерти. Андрей должен был с опаской размышлять о том времени, когда княжичи войдут в возраст: кто знает — не захотят ли они силой отнять принадлежащее им по отцовскому завещанию у него самого или у его сыновей? Ещё раньше, в период своего первого княжения в Киеве, Юрий Долгорукий передал Суздальскую землю сыну Васильку, и об этом, конечно, тоже не забыли — ни сам Василько, ни его мать, ни те люди в их окружении, которые распоряжались тогда княжеством. Имелись княжеские амбиции и у другого Андреева брата, Мстислава, бывшего ещё недавно новгородским князем, и у подраставших племянников Андрея, сыновей его рано умершего старшего брата Ростислава, — Мстислава и Ярополка. Нельзя сказать, что Андрей ничего не делал для того, чтобы обеспечить братьев княжениями за пределами Суздальской земли. Ещё весной 1160 года он вёл переговоры с новгородцами относительно возвращения в город брата Мстислава, однажды уже занимавшего новгородский стол. Соглашаясь принять князя «из руки» Андрея, новгородцы, однако, решительно отказались от Андреева брата — и именно потому, что успели узнать его («переже бо бяше княжил у них»). Тогда сошлись на племяннике Андрея, тоже Мстиславе, но Ростиславиче. Но и племянник Андрея лишь год без недели продержался в беспокойном и свободолюбивом Новгороде: 21 июня 1160 года он вступил в город, а в июне 1161-го был вынужден покинуть его — что на этот раз стало следствием мирного договора, заключённого Андреем Боголюбским с новым киевским князем — своим старшим двоюродным братом Ростиславом Мстиславичем. В том же 1161 году произошло событие ещё более неприятное для Андрея: в Суздальскую землю из Южной Руси вынужден был вернуться его брат Василько, человек, несомненно, также амбициозный, проявивший себя в недавней войне на юге, причём в качестве союзника великого князя Ростислава Мстиславича. После того как у Василька отобрали Торческ, он тоже остался без удела. Количество князей, оказавшихся на тот момент в Суздальской земле, достигло критической массы. Шестилетний Всеволод, конечно, не понимал сути происходящего. Но общее напряжение, царившее в княжеской семье, то чувство постоянной тревоги, которое испытывали его близкие, не могли не передаваться ему. Все ждали чего-то страшного, неизбежного — и это неизбежное произошло. Под 6670 (1161 /62) годом летописец сообщает о беспрецедентном шаге Андрея в качестве суздальского князя — изгнании им из Суздальской земли единокровных братьев, племянников, а также «передних», то есть первых, бояр отца. Андрей нашёл способ одним махом избавиться от тех, в ком видел опасность для себя и, в будущем, для своих сыновей. «…И братью свою погна, Мьстислава и Василка, — читаем в Ипатьевской (Киевской) летописи, — и два Ростиславича сыновца своя (то есть двух своих племянников Мстислава и Ярополка Ростиславичей. — А. К), [и] мужи отца своего передний. Се же створи, хотя самовластець быти всей Суждальской земли». А чуть ниже в числе изгнанных упоминается и юный Всеволод: братья отправились в изгнание и «…Всеволода молодого пояша со собою третьего брата»14. В летописях XV–XVI веков к рассказу об изгнании Андреевых братьев добавлены некоторые дополнительные подробности. В частности, сообщается об изгнании князем и четвёртого из его единокровных братьев, Михалка, а также о том, что Мстислав и Василий отправились в изгнание «с чады», то есть с детьми15. Если о детях Василька нам ничего не известно, то у Мстислава Юрьевича точно имелся сын; надо полагать, что его сопровождали и супруга-новгородка, и некоторые другие члены семейства. Наиболее же подробный рассказ читается в поздней Никоновской летописи XVI века. Произошедшее, как всегда в этой летописи, объяснено интригами «злых» людей в окружении князя, но событиям придан гораздо больший масштаб: «…Таже прельщён бысть от домашних своих злых, ненавидяху бо князя Андрея свои его суще домашний, и лстивно и лукавно глаголаше к нему, и тако совраждоваша и съсориша его з братьею: со князем Мьстиславом Юрьевичем, и со князем Василком Юрьевичем, и со князем Михалком Юрьевичем, и с предними мужи отца его». А далее говорится о разгроме всяческой оппозиции и едва ли не тотальном терроре, устроенном Андреем в княжестве: «И тако изгна братию свою, хотя един быти властель во всей Ростовъской и Суждальской земле; сице же и прежних мужей отца своего овех изгна, овех же ем (схватив. — А. К.), в темницах затвори, и бысть брань люта в Ростовьской и в Суждальской земли»16. Нарисованная здесь картина «лютой брани» остаётся, конечно же, на совести составителей летописи, книжников XVI века. Но и отрицать возможность развития событий по такому сценарию у нас нет оснований. Андрей действительно был крут с людьми, и мы только что говорили об этом. Более чем красноречивым надо признать тот факт, что в соответствующей части Лаврентьевской (Суздальской) летописи, освещающей события с точки зрения князя Андрея и его преемников на владимиро-суздальском престоле, об изгнании князем своей братии вообще не говорится ни слова. Мало того: сразу два года, а именно 1162-й и 1163-й, оставлены здесь пустыми (случай исключительный во владимиро-суздальском летописании!), а предыдущий, 1161-й, занят лишь кратким известием о росписи владимирского Успенского собора. Да и последующие летописные статьи, после 1164 года, в большинстве своём ограничиваются лишь констатацией, так сказать, сугубо «официальной» информации. Это молчание летописи о важнейших, драматичнейших событиях тех лет свидетельствует о том, что события эти — какими бы они ни были — казались составителям летописи настолько опасными, а быть может, и настолько компрометирующими княжескую власть, что они предпочли вовсе умолчать о них. Или иначе: возможно, при обработке летописного текста из летописи была вымарана уже имевшаяся в них неприглядная для князя информация. А ведь о том, что младшие братья Андрея были изгнаны из княжества, составители летописи знали. Позднее в рассказе о событиях, последовавших за гибелью Боголюбского, они вспомнят и об этом. Причём вина за изгнание князей будет возложена не на Андрея, но на жителей княжества: оказывается, это они «…посадиша Андрея (на княжеский стол. — А. К.), а меншая (младших сыновей Юрия, братьев Андрея. — А. К.) выгнаша»17. Что ж, подобное уже случалось в русской истории, хотя и не часто и не в таких масштабах. Так, прадед Андрея киевский князь Всеволод Ярославич добился того, что в Византию был выслан его племянник, князь Олег Святославич, проживший затем два года на греческом острове Родос в Эгейском море. Дядя Андрея Мстислав Великий, завоевав Полоцк, «поточил» всех полоцких князей и также выслал их в Византию вместе с жёнами и детьми. Правда, полоцкие князья давно уже обособились от остальных Рюриковичей и воспринимались ими как чужаки. Здесь же речь шла о родных братьях Андрея, таких же сыновьях Юрия Долгорукого, как и он сам. И всё же Андреевы братья хотя и были высланы за пределы княжества, но не заточены в темницу, как поступил, например, некогда Ярослав Мудрый со своим младшим братом Судиславом Псковским. Ярослав стал «самодержцем» (по-гречески «автократором», то есть правителем, ни с кем не делящим свою власть) во всей Русской земле. Он держал брата в заточении до самой своей смерти в 1054 году, и только его сыновья пять лет спустя освободили дядю — да и то лишь с условием немедленного пострижения в монахи. Андрей, выслав братьев, тоже стал «самодержцем» во Владимиро-Суздальской Руси — но добился этого более гуманными средствами, чем его далёкий предок. Более того, высылка братьев не означала полного разрыва с ними. Родственные, братские отношения в те далёкие времена (как, впрочем, и в любые другие) значили куда больше, чем политические разногласия, и впоследствии те из Юрьевичей, кому удастся пережить изгнание, будут действовать по большей части как подручные своего старшего брата.* * *
Так для юного Всеволода началась новая полоса испытаний. На этот раз путь его лежал за пределы Руси — в Греческую землю, на предполагаемую родину матери. Где-то в Приднепровье — возможно, в Переяславле на Трубеже, через который пролегал их путь, — братья разделились. По свидетельству киевского летописца, «в Греки» вместе с княгиней отправились лишь трое её сыновей: «…Том же лете (возможно, уже в начале 1162-го. — А. К.) идоста Гюргевича (двойственное число. — А. К.) Царюгороду: Мьстислав и Василко с матерью, и Всеволода молодого пояша со собою третьего брата». О судьбе Михалка летопись умалчивает. Скорее всего, он нашёл приют у брата Глеба Переяславского. Это должно было устраивать Андрея. Разделение братьев — и именно тех, кому ещё недавно целовали крест граждане его княжества, — давало ему некоторую свободу манёвра в будущем. В Империи ромеев (или Византии, как по-учёному стали называть это государство уже в Новое время) правил тогда император Мануил I Комнин (1143–1180), находившийся на вершине своего могущества. С суздальским князем Андреем Юрьевичем его связывали добрые отношения, подкреплявшиеся ещё и тем, что Андрей был сыном Юрия Долгорукого, верного союзника Мануила на протяжении многих предшествующих лет. «Мануилу цесарю мирно в любви и братолюбии живущю с благочестивым князем нашим Ондреем», — напишет чуть позже владимирский книжник18, и это будет безусловная правда. (Нелишне отметить, что позднее, через много лет после смерти Андрея Боголюбского, в Константинополе найдёт временное пристанище и его сын Юрий.) Но точно такими же сыновьями Юрия Долгорукого были новоприбывшие княжичи, братья Андрея. А потому не стоит удивляться, что в столице Империи им был оказан наилучший приём. Как сыновья давнего союзника императора Мануила (а может быть, и как родственники самого василевса!), они были вправе рассчитывать на достойное вспомоществование и даже на какие-то земли в своё управление — то есть как раз на то, чего были лишены на родине. И император Мануил действительно наделил их «волостями». «…И дал царь Васильку на Дунае (в оригинале: «в Дунай») 4 города, — продолжает киевский летописец, — а Мстиславу дал волость Отскалана»19. Свидетельство русской летописи находит подтверждение в авторитетном греческом источнике — правда, речь там идёт лишь об одном из братьев. Причём подтверждается не только сам факт отъезда, но и получение тех самых владений, которые названы в летописи. Об этом сообщает византийский автор XII века Иоанн Киннам, официальный историограф императора Мануила Комнина. Рассказывая о событиях чуть более позднего времени (около 1165 года), когда к императору Мануилу добровольно явился «с детьми, женой и всеми своими людьми» ещё один русский князь — некий Владислав (из русских источников неизвестный), Киннам прибавляет, что «ему была отдана земля у Истра (Дуная. — А. К.), которую некогда василевс дал пришедшему Василику, сыну Георгия, который (Георгий, то есть Юрий Долгорукий. — А. К.) среди филархов Тавроскифской страны (то есть среди русских князей. — А. К.) обладал старшинством»20. Земли на нижнем Дунае издавна были наиболее активной «контактной зоной» между Византией, Русью и кочевыми народами — сначала печенегами, а затем сменившими их половцами. Не случайно именно здесь видел «сердцевину» своей земли воинственный русский князь Святослав в середине X века. Да и позднее дед Боголюбского Владимир Мономах воевал с греками, добиваясь создания на Дунае зависимого от Киева государственного образования во главе со своим зятем, неким византийским авантюристом, выдававшим себя за сына свергнутого императора Романа Диогена. В середине XI века три «фурии» (крепости) получил здесь печенежский хан Кеген, перешедший под покровительство Византии. Уже в эпоху Боголюбского обосновался на Дунае и галицкий князь-изгой Иван Ростиславич Берладник, немало поскитавшийся как по русским землям, так и за их пределами и причинявший немалое беспокойство грекам со своими «берладниками» — вольными, беглыми людьми, предшественниками будущих казаков. Так что император Мануил вполне сознательно сажал в придунайские города одного за другим сразу двух лояльных ему русских князей. Создаваемая им на границах Империи «буферная зона» должна была смягчить возможные удары по собственно византийским землям со стороны тех же «берладников», половцев и прочего никому не подчинявшегося кочевого сброда. Полагают, что Василько получил от императора те же крепости, что за столетие до него печенежский хан Кеген, — на территории Северной Добруджи (ныне в Румынии). Только этих крепостей было уже не три, как у Кегена, а четыре21. Что же касается «волости» старшего из братьев — Мстислава, то под названием «Отскалана», или «Оскалана», как давно установили историки, надо понимать город Аскалон на юге Палестины (ныне Ашкелон в Израиле, у самой границы сектора Газа), который в августе 1153 года был завоёван иерусалимским королём-крестоносцем Балдуином III. Город этот, «большой и красивый», имел важное значение; как отмечал побывавший здесь как раз в 60-е — начале 70-х годов XII века еврейский путешественник из Кастилии раби Вениамин, «сюда стекаются для торговли со всех сторон, так как он (город. — А. К.) лежит на границе земли Египетской»22. В начале 1160-х годов, когда Юрьевичи прибыли в Византию, император Мануил успешно воевал в Палестине; результатом его наступления против сарацин стал «известного рода сюзеренитет», установленный им над Иерусалимским королевством23. Вероятно, русский князь мог быть отправлен императором в недавно отвоёванные у мусульман области Палестины — но, конечно же, не в роли владельца Аскалона (таковым в указанное время был родной брат короля Балдуина Амальрик), а скорее в роли представителя императора, наделённого какими-то не вполне ясными для нас, но вполне определёнными для него самого полномочиями24. Всеволод по малолетству никаких городов или «волостей», разумеется, не получил. Вероятно, он находился при брате Василии, на Дунае, поближе к русским границам (прямо об этом сообщают только отдельные поздние летописи, в частности два кратких летописца первой трети XVI века)25. Никакими иными сведениями о его пребывании в пределах Византийской империи мы не располагаем. Да и сколько оно продлилось, тоже неизвестно. Судя по тому, что владения князя Василька Юрьевича на Дунае около 1165 года были переданы какому-то Владиславу, сам Василько к тому времени скончался: во всяком случае, на Русь он не вернулся. По-видимому, не вернулся на Русь и другой их брат, Мстислав. (Иногда полагают, что именно его византийский историк Иоанн Киннам назвал Владиславом26; однако каких-либо серьёзных оснований для этого нет: мы знаем далеко не всех русских князей того времени, да и сходство между именами не слишком велико.) По всей вероятности, умерла в Византии и мать Всеволода, «княгиня Гюргевая». Так Всеволод оказался единственным из князей-изгнанников, кому удалось вернуться на родину. Но вернуться, потеряв самых близких ему людей, да ещё в таком юном, едва-едва отроческом возрасте! Конечно, он находился на попечении кого-то из своих «дядек», наставников — вероятно, из числа тех «передних мужей» своего отца, которые так же, как и он, были изгнаны из Суздальской земли Андреем Боголюбским. Но чувство сирости и одиночества, равно как и чувство беззащитности будут сопровождать княжича неотступно. Путь Всеволода из Подунавья на Русь, по всей вероятности, оказался непростым. Если принимать на веру указание новгородской статьи «А се князи русьстии» (читающейся в той же рукописи XV века, что и Новгородская Первая летопись младшего извода), то получается, что княжич побывал в Солуни (греческих Салониках, или Фессалониках) — довольно далеко от Дуная («…приде из замория из Селуня», — читаем в источнике)27. В этом городе был погребён святой Димитрий, небесный покровитель Всеволода Юрьевича, а потому княжич не мог не стремиться сюда. Правда, новгородский книжник путается в датах, и его упоминание Солуни может быть простой ошибкой. Опять же гипотетически истолковывая свидетельство другого источника — на этот раз западного, историки предположили, что княжичу пришлось пробираться домой через охваченную войной Венгрию, прибегнув к помощи сначала чешского короля Владислава II (между прочим, союзника прежнего киевского князя Изяслава Мстиславича), а затем германского императора Фридриха I Барбароссы. Дело в том, что летом 1165 года, «примерно на праздник святого Петра», то есть около 29 июня, где-то на Дунае король Владислав «представил пред очи» императора Фридриха «кого-то из мелких русских королей», который тогда же был приведён в подчинение императору28. Более об этом «русском короле» в источниках ничего не сообщается, имя его не названо. Может быть, речь идёт о десятилетнем Всеволоде? И не по причине ли своего юного возраста и зависимого от братьев положения он был тогда назван «мелким»? Находясь ещё при старшем брате, предполагают историки, Всеволод мог принимать участие в византийско-венгерской войне, а после заключения в 1164 году мира между двумя государствами — искать помощи для возвращения на родину у западных монархов29. Позднее, когда Всеволод Юрьевич станет великим князем Владимирским, император Фридрих будет поддерживать с ним самые добрые отношения — об этом мы ещё будем говорить в книге. Так может быть, их сотрудничество имело своим источником встречу на Дунае в далёком 1165 году? Впрочем, и это тоже не более чем догадка, с трудом претендующая на то, чтобы признать её фактом. Достоверно же нам известно лишь одно: зимой 1168/69 года четырнадцатилетний княжич определённо находился на Руси. Скорее всего, он пребывал в Южном Переяславле, у брата Глеба. Путь в Суздаль по-прежнему был для него закрыт. Однако Андрей приветил, наконец, младшего брата и включил его в свои политические расчёты.Дмитрок
К тому времени, когда Всеволод вернулся на Русь, ситуация здесь изменилась кардинально. 14 марта 1167 года умер князь Ростислав Мстиславич — едва ли не последний из киевских князей, чей авторитет признавался всеми и чьё старейшинство ни у кого не вызывало сомнений. Киевский стол занял его старший племянник, князь Мстислав Изяславич, сын прежнего киевского князя Изяслава Мстиславича. При жизни Ростислава Киевского Андрей неукоснительно соблюдал заключённый между ними договор. Теперь же он оказался свободен от прежних обязательств. А значит, мог смело вмешиваться в борьбу других князей, в том числе и на юге. Самому Андрею Киев по-прежнему был не нужен, и сам он не претендовал на него. Но он почувствовал, что может претендовать на роль верховного арбитра в княжеских спорах, больше того — на роль вершителя судеб прочих князей. Ибо теперь он оказывался старше большинства из них — и по возрасту, и по своей принадлежности к поколению внуков Владимира Мономаха, и по авторитету, который у него был. Споры же между князьями начались очень скоро. Это не удивительно. Смерть киевского князя всегда приводила к борьбе за киевский стол, к перераспределению волостей между князьями, и недовольных таким переделом всегда было больше, чем тех, кого устраивало новое положение дел. «Яблоком раздора» для князей в очередной раз послужил Новгород, в котором, по договорённости с Андреем, княжил сын Ростислава Мстиславича Святослав. Летом 1167 года в Новгороде начались беспорядки, Ростиславич бежал из города, и новгородцы решили просить себе в князья сына нового киевского князя, юного Романа Мстиславича (он вступит в город после долгих мытарств лишь в апреле следующего, 1168 года). Святослав Ростиславич обратился за помощью к Андрею Боголюбскому. Андрей считал себя гарантом договора, по которому Ростиславов сын сидел в Новгороде, а потому поспешил предоставить ему военную помощь. Так обозначился союз Андрея со смоленскими Ростиславичами — многочисленным и очень влиятельным княжеским кланом. Очевидно, Ростиславичи тогда же согласились признать Андрея «в место отца», и это стало одним из условий договора. Сделать это им было тем проще, что Андрей приходился им двоюродным дядей. Когда-то Ростислав Мстиславич точно так же согласился признать «в отца место» своего дядю, Юрия Долгорукого. Его сыновья должны были последовать этому примеру. Андрей умело использовал и внутренние противоречия между южнорусскими князьями. Весной 1168 года Мстислав Изяславич одержал самую громкую из своих побед — над половцами. В организованном им походе участвовали многие князья, в том числе брат Андрея Глеб Переяславский и сын Ростислава Мстиславича Рюрик. Однако при дележе добычи между князьями начались споры и обиды. К тому же Мстислав был крут — напоминая этим Андрея Боголюбского: он тоже изгнал из Киева старых бояр своего отца, а те сумели оклеветать его перед двоюродными братьями, наговорив, будто Мстислав хочет схватить Ростиславичей (хотя Мстислав «ни мысли таковой не имеяше в сердци своём» — свидетельствует киевский летописец). Всё это было на руку Андрею. Он внимательно следил за тем, что происходило на юге, и каждую размолвку Мстислава с князьями или боярами тут же использовал в своих целях, вступая в переговоры с недовольными. «В то же время бысть Андрей Гюргевичь в Суждали княжа, — читаем в летописи, — и тъ бе не имея любьви к Мьстиславу». Так против киевского князя — в который уже раз в истории Киевской Руси! — сложилась сильная коалиция: «…и начата ся снашивати речьми (ссылаться, вести переговоры. — А. К.) братья вси на Мьстислава, и тако утвердившеся крестом братья». Андрей сумел привлечь к союзу самых разных князей. Помимо Ростиславичей, ему целовал крест двоюродный брат Владимир Андреевич Дорогобужский, князь слабый, но весьма амбициозный, претендовавший на большее, чем имел и чем способен был владеть, а потому обиженный на нового киевского князя; примкнули к союзу против Мстислава и черниговские князья, всегда готовые использовать в своих интересах распри между князьями «Мономахова племени». Князья выступили в поход «той же зиме» — в феврале уже следующего, 1169 года (на исходе 6676 года от Сотворения мира по принятому в древней Руси мартовскому стилю). Всего коалиция, созданная Андреем, насчитывала одиннадцать князей. И в число этих одиннадцати вошёл и младший брат Андрея юный Всеволод. Это его первое упоминание в летописях после возвращения на Русь. Более того, в Суздальской (Лаврентьевской) летописи — которая в этой своей части представляет собой нечто вроде официальной летописи Андрея Боголюбского — это вообще его первое упоминание. Причём упомянут он оказался здесь не под своим княжеским, а под крестильным именем — Дмитр30. Или, как приведено это имя в других редакциях Суздальской летописи, — Дмитрок (так в Радзивиловской) или Дмитрько (в Московско-Академической)31. И только в Ипатьевской (Киевской) летописи имя князя читается в привычной для нас форме: Всеволод Юрьевич (Гюргевич)32. Летописцы явно путались с именем князя. А означает это, что князь был не слишком хорошо знаком им и не слишком заметен среди прочих участников похода. Особенно плохо знали его как раз в Суздальской Руси. Что и неудивительно: он и позднее, до самой смерти брата Андрея, не будет здесь появляться. Имя Дмитрок (Дмитрко) — из того же ряда, что и имя Всеволодова брата Михалка. Крестильные имена в древней Руси XI–XII веков порой использовались и как единственные для князя, как в полном смысле слова княжеские имена. Правда, выступали в этом качестве лишь некоторые, принадлежавшие к ограниченному кругу крестильных имён тех русских князей, которые особо почитались в роду Рюриковичей: прежде всего это христианские имена первых русских святых Бориса и Глеба — Роман и Давид (Давыд), а также имена великих князей Киевских: Владимира Святого и Владимира Мономаха — Василий; Ярослава Мудрого — Георгий; Всеволода Ярославича — Андрей; Изяслава Ярославича — Дмитрий; Святополка Изяславича — Михаил. И — видимо, дабы как-то выделить эти имена как княжеские, принадлежащие живым, действующим князьям — чаще всего их использовали в иной форме, нежели имена святых покровителей этих князей: не Василий, а Василько, не Георгий, а Юрий (Гюрги), не Михаил, а Михалко. И, соответственно, не Дмитрий, а Дмитрок, или Дмитрко. (Эта практика сохранилась и до настоящего времени. Мы и теперь отчётливо различаем светскую форму имени от церковной: Иван, а не Иоанн, Сергей, а не Сергий, и т. д.) Наверное, если бы князь Всеволод Юрьевич лишь случайно промелькнул в истории русского XII века, он мог бы так и остаться в летописи с этим именем. Но у Всеволода княжеское имя имелось. А его участие в походе на Киев, напротив, оказалось лишь кратким эпизодом в его долгой летописной биографии. Сам Андрей в поход не выступил, поставив во главе войска — в нарушение всех правил и обычаев — своего юного сына Мстислава. Надо полагать, что по недостатку опыта тот едва ли мог по-настоящему руководить полками. Но эту роль владимирский «самовластен» доверил другому — своему испытанному воеводе Борису Жидиславичу (или, как по-другому произносилось его отчество, Жирославичу) — потомственному полководцу, сыну и внуку воевод отца и деда Андрея Боголюбского. Остальным князьям пришлось смириться с таким выбором. А ведь среди участников похода были весьма сильные, энергичные князья; некоторые из них успели к тому времени прославиться военными подвигами. Летописи особо выделяют среди них младшего брата Андрея Глеба Переяславского, а также старшего из князей Ростиславичей Романа, пришедшего со смоленскими и полоцкими полками, его братьев Рюрика и Давыда, княживших, соответственно, во Вручем (Овруче, в Древлянской земле) и Вышгороде (близ Киева), того же Владимира Андреевича Дорогобужского и представителей младшей ветви черниговских Ольговичей — новгород-северского князя Олега и его брата Игоря Святославичей. Юный Всеволод упомянут среди тех князей, которые своих столов не имели, а значит, находились «под рукой» старших родичей; для Всеволода таким родичем был старший брат Глеб Переяславский. Вместе со Всеволодом в поход выступил и его старший племянник Мстислав Ростиславич, сын давно уже умершего князя Ростислава Юрьевича. Как мы помним, старшие внуки Юрия Долгорукого были изгнаны из Суздальской земли вместе с младшими Юрьевичами. Путь в Суздальскую землю для них тоже был закрыт, и надо полагать, что Мстислав, как и его дядя Всеволод (и, вероятно, как его родной брат Ярополк, в походе на Киев участия не принимавший), нашёл пристанище в Переяславле, у князя Глеба Юрьевича. А вот родной брат Всеволода Михалко оказался в этой войне на стороне противников Андрея Боголюбского. Михалко тоже пребывал в изгнании в Переяславле у брата Глеба. Они вместе участвовали в половецком походе Мстислава Киевского. Вероятно, Михалко чем-то отличился в походе, почему и обратил на себя внимание киевского князя. После похода Мстислав Изяславич приблизил его к себе, так что зимой 1168/69 года Михалко находился в Киеве. Когда войска союзных князей выступили на Киев, Мстислав отослал его к своему сыну Роману в Новгород с ковуями — «Бастеевой чадью», из числа «чёрных клобуков», — может быть, за помощью, а может быть, и просто подальше от места действия — дабы исключить его переход на сторону брата. Однако добраться до Новгорода Михалку не удалось. Где-то за Межимостьем, на пути к Мозырю (городу на реке Припяти, в нынешней Гомельской области Белоруссии), его схватили люди Рюрика и Давыда Ростиславичей; ковуи же Бастея немедленно перешли на их сторону, изменив и Михалку, и своему князю Мстиславу Изяславичу. В последующих событиях Киевской войны имя Михалка упоминаться не будет, а затем он, как и полагается, вновь окажется в распоряжении своего брата Глеба, который будет давать ему самые ответственные поручения. Едва ли можно думать, что Михалко по-доброму относился к Андрею, который изгнал его из Суздальской земли и не дал там волости. Его участие в военных действиях на стороне врагов Боголюбского свидетельствует именно об этом — и, как мы увидим, это будет не единственный случай такого рода. А вот с младшим братом Всеволодом у них никаких размолвок или противоречий не должно было возникнуть: в дальнейшем Всеволод будет действовать заодно с Михалком, во всём подчиняясь ему.12 марта 1169 года, после трёхдневной осады, Киев был взят и подвергнут неслыханному, жесточайшему разграблению. «И грабиша… весь град… и не бысть помилования никому же ни откуду же: церквам горящим, крестьяном убиваемом, другым вяжемым; жены ведоми быша в плен, разлучаеми нужею от мужий своих; младенци рыдаху, зряще материй своих, — не скрывает собственных рыданий киевский летописец. — И взяша именья множьство, и церкви обнажиша иконами, и книгами, и ризами, и колоколы изнесоша… и вся святыни взята бысть…»33 Имя Всеволода в этом скорбном рассказе не упомянуто: единственного из князей в связи с киевскими грабежами и погромами летопись называет по имени Олега Святославича: наверное, его люди бесчинствовали здесь больше других. Но и суздальцы, и смоляне, и прочие если и отставали от них, то ненамного. Спустя несколько месяцев после киевского разгрома, когда умер князь Владимир Андреевич Дорогобужский, его люди отказались везти тело в Киев, ожидая от жителей неминуемой расправы: «Сам ведаешь, — обратились они к князю Давыду Ростиславичу, также участнику тех страшных событий, — что есмы издеяли кияном. А не можем ехати, избьют ны (нас. — А. К.)». Но и люди Давыда ехать в Киев тоже не посмели… Вволю покуражились в Киеве и «чёрные клобуки» — торки, берендеи и прочие «поганые», приведённые сюда князьями: им достались окрестности города. Едва не был сожжён Печерский монастырь — колыбель русской святости, самая прославленная из всех русских обителей: «…Зажжён бысть и манастырь Печерьскый Святыя Богородица от поганых, но Бог молитвами Святыя Богородица съблюде и о[т] таковыя нужа», — продолжает летописец. И далее: «И бысть в Киеве на всих человецех стенание, и туга, и скорбь неутешимая, и слёзы непрестаньныя». Киевский разгром 1169 года знаменовал собой начало нового этапа русской истории. Киев терял роль общепризнанной столицы Руси. Наиболее зримо это выразилось в том, что, исполняя волю отца, юный сын Андрея Боголюбского посадил на киевский стол своего дядю, младшего брата Андрея Глеба Юрьевича. Так киевский стол занял князь, бывший заведомо младше владимирского. В глазах людей того времени это означало, что и Киев становился «младше» «нового» города Андрея Боголюбского, а сам Андрей — даже не покидая Владимира (или, точнее, Боголюбова, где он по-прежнему проводил большую часть времени), — становился новым великим князем — уже не киевским, а владимирским. Очень точно выразили суть произошедшего половецкие послы, явившиеся вскоре к Глебу Юрьевичу заключать мирный договор. «Бог посадил тя и князь Андрей на отчине своей и на дедине в Киеве» — так передаёт их слова летописец. На княжении в Южном Переяславле Глеб оставил своего сына, двенадцатилетнего Владимира. Другой же Юрьевич, Михалко, примирившийся наконец с братом, получил Торкский город, или Торческ, — главный город в земле «чёрных клобуков» (тот самый, которым некогда владел его родной брат Василько). Ещё один участник похода, племянник Михалка Мстислав Ростиславич, тогда же получил Треполь — небольшую крепость на Днепре, южнее Киева, никогда прежде центром отдельного княжества не бывшую. Всеволод же Юрьевич никакого княжеского стола не получил34. Вероятно, он вместе с братом отправился в Торческ. Правда, в летописном рассказе о бурных событиях первых месяцев киевского княжения Глеба Юрьевича имя Всеволода — в отличие от имени его брата Михаила — не упоминается. Но спустя полтора года, в конце 1170-го, мы определённо застаём Всеволода в Торческе, рядом с братом. Надо сказать, что этот город на реке Торчи, правом притоке реки Рось (являющейся, в свою очередь, правым притоком Днепра), в центре так называемого Поросья — области расселения «чёрных клобуков», — представлял собой необычное явление в древней Руси. Обитатели Поросья — торки, берендеи, печенеги, ковуи и прочие «свои поганые» — издавна были союзниками переяславских и киевских князей. Последние предоставили им значительную автономию и по возможности старались не вмешиваться в их внутренние дела, используя их как своих союзников во время войн. Незадолго до описываемых событий, в 1150 году, в землях «чёрных клобуков» побывал арабский путешественник и дипломат из Испании Абу Хамид ал-Гарнати, направлявшийся из Волжской Болгарии через Русь в Венгрию. На Руси его интересовали исключительно единоверцы, и он их действительно нашёл. «…Прибыл я в город страны славян… — рассказывал он. — А в нём тысячи “магрибинцев”, по виду тюрков, говорящих на тюркском языке и стрелы мечущих, как тюрки. И известны они в этой стране под именем беджн[ак] (печенегов. — А. К.)»35. Название «города страны славян» приведено в сочинении арабского автора в искажённой форме — как «Гур-куман». Но едва ли это может быть Киев, как чаще всего полагают36. Скорее речь должна идти о городе гузов, то есть тех же торков (возможно, следует читать: «Гуз-куман»?), ибо только здесь и могло находиться такое множество людей, «говорящих на тюркском языке и стрелы мечущих, как тюрки» (последних ал-Гарнати и называет в своём сочинении не вполне точным термином: «магрибинцы»). И, очевидно, — о главном их городе — Торческе37. Наверное, учёный араб сильно преувеличивал. Как известно, в большинстве своём «чёрные клобуки» оставались язычниками (отсюда их наименование — «свои поганые»). Но, как выясняется, были и те, кто исповедовал ислам — правда, в несколько испорченном виде («Они не знали пятничной молитвы», — сокрушался ал-Гарнати). Однако и язычники-торки, и «магрибинцы» («бесермене», как называют их русские источники) равно далеки были по вере от христиан. Да, эта область была совсем непохожа на остальные русские земли. Но зато «чёрные клобуки» представляли собой весьма внушительную и грозную в военном отношении силу, и тот из русских князей, кто правил ими и чью власть они признавали, мог пользоваться этой властью с большой выгодой для себя, а значит, мог пользоваться большим влиянием среди других русских князей. Правда, с «погаными» нужно было ещё найти общий язык. Совладать с ними оказывалось непросто, и у князя Михалка Юрьевича, как мы уже видели (и как увидим ещё), это не всегда получалось. Так Всеволод вновь оказался в чужой для себя среде. Чужой и в этническом, и в ментальном, и в религиозном отношении. И если бы не брат Михаил, распоряжавшийся если не во всём городе торков, то по крайней мере в той его части, где располагались храм и княжеский дворец и где селились представители княжеской администрации и их русское окружение, то жить здесь Всеволоду было бы совсем неуютно.
Между тем Мстислав Изяславич не собирался мириться с потерей Киева. В феврале 1170 года он начал новую войну, в которой его поддержали брат Ярослав Луцкий, Галицкий князь Ярослав Осмомысл, приславший своего воеводу Константина Серославича с галицкими полками, и другие князья. Андрей Боголюбский был занят тогда войной с Новгородом и помочь брату не мог. Глеб не решился принимать бой и ушёл из Киева в свой Переяславль. На сторону Мстислава перешли торки и берендеи, в очередной раз вышедшие из повиновения и князю Глебу Юрьевичу, и его брату Михаилу. В последних числах февраля или самом начале марта Мстислав Изяславич занял оставшийся без князя Киев. Но судьба киевского престола решалась тогда не в самом городе, обескровленном недавней войной, а в ближнем к нему Вышгороде, где укрепился князь Давыд Ростиславич, союзник Боголюбского. Осада города ничего не дала Мстиславу. «И бишася крепко из града», — свидетельствует летописец. У Давыда было много дружины и имелись запасы продовольствия; оказали ему помощь и родные братья, и Глеб Юрьевич, приславший из Переяславля тысяцкого Григория. На призыв Глеба в очередной раз откликнулись и «дикие» половцы во главе с ханом Кончаком (в будущем одним из антигероев «Слова о полку Игореве»), и «свои» ковуи — та самая «Бастеева чадь», которая ещё недавно находилась на службе у Мстислава Изяславича и которую тот поручал Михалку. Силы же Мстислава Изяславича, напротив, с каждым днём таяли. Вскоре выяснилось, что торки и берендеи не готовы за него биться; ушли от князя и галицкие полки. Когда же Мстиславу сообщили, что Глеб Юрьевич с «дикими» половцами переправляется через Днепр, а с другой стороны к Давыду Ростиславичу подходит большая «подмога» от братьев, он решил отступить. «А поедем в свою волость: немного передохнув, опять возвратимся» — передаёт слова союзных Мстиславу князей летописец. 13 апреля Мстислав покинул Киев, намереваясь вскоре возобновить войну. Однако сделать это ему было не суждено: летом Мстислав Изяславич неожиданно заболел и 19 августа скончался и был похоронен в родном для него Владимире-Волынском. А на исходе того же 1170 года, зимой, в Киеве заболел и князь Глеб Юрьевич. Он даже не смог выступить в поход против половцев, которые уже не в первый раз за эти месяцы вторглись в русские пределы. (Разные орды половцев действовали независимо друг от друга, и союз с одной ордой не означал мира со всей Половецкой землёй.) Эта война с половцами представляет для нас особый интерес, поскольку самое деятельное участие принял в ней князь Всеволод Юрьевич, пребывавший «под рукой» своего брата Михаила. «Той же зимой пришли половцы на Киевскую сторону и взяли множество сёл за Киевом с людми, и скот, и коней», — рассказывает летописец38. «Киевская сторона» — это правобережье Днепра. Очевидно, речь идёт о тех «корсунских» половцах хана Тоглия, с которыми князь Михалко Юрьевич (в тот раз, кажется, без Всеволода) воевал примерно за полтора года до этого, вскоре после первого вокняжения Глеба Юрьевича в Киеве. Тогда на Русь для заключения мира с Глебом явились сразу две половецкие орды: одна вступила в пределы Переяславского княжества, а другая двигалась по противоположной, правой стороне Днепра к Корсуню (городку на реке Рось), и послы от обеих орд прибыли к Глебу, требуя его, по обычаю, к себе на «снем» (съезд). Глеб двинулся сперва к Переяславлю, «блюдя Переяславля», объясняет летописец, ибо сын его, княживший там, был мал, двенадцати лет; к «корсунским» же половцам он отправил посла, обещая приехать позже. Но не тут-то было. Пока Глеб мирился с левобережными половцами, другие бросились грабить сёла Правобережья. Половцы захватили тогда целый город — Полоный, «град Святей Богородицы Десятинной» (очевидно, переданный клиру киевской Десятинной церкви ещё Владимиром Святым вскоре после Крещения Руси), а также множество сёл и погнали пленников к себе в степи. Глеб послал против них брата Михалка, а также своего воеводу Володислава («Янева брата», как называет его летописец, желая отличить от другого Володислава — Ляха) вместе с переяславцами, «храбрыми воями», и берендеями. Одержанная тогда Михалком Юрьевичем победа была воспринята как новое чудо «Пресвятой Богородицы Десятинной» — главного, храмового образа Десятинной церкви. Сеча была «зла»; князя Михалка ранили двумя копьями в бедро, а третьим — в руку, «но Бог отца его молитвоюизбавил его от смерти». Половцы бежали, а «наши» гнались за ними, одних секуще, а других беря в плен39. Теперь, полтора года спустя, половцы вознамерились отомстить русским — может быть, узнав про болезнь киевского князя. «Глеб, князь Киевский, в то время болен был», — продолжает свой рассказ летописец. Князь призвал из Торческа братьев Михалка и Всеволода и отправил их вместо себя в погоню за половцами. Вместе с ними был послан также воевода Володислав, «Янев брат», с берендеями и торками. «Михалко же, послушлив сый, иде борзо по них», — читаем в летописи[2]; вместе со Всеволодом они нагнали половцев за Южным Бугом, то есть уже за пределами собственно Русской земли. След половцев удалось взять берендеям, прекрасно знавшим повадки «диких» степняков. «И наехаша дорогу их, и поехаша по них, и усретоша я (встретили их. — А. К.) с полоном». Завязалась битва, в которой «наши» (по большей части, напомню, торки и берендеи) «Божьего помощью» одолели половцев: «инех избиша, а другыя извязаша» (то есть взяли в плен). Но то был лишь один из половецких отрядов, далеко не самый многочисленный, приставленный к «русскому» полону для его сопровождения в половецкие вежи. Из расспросов захваченных в плен половцев выяснилась настоящая сила противника. На вопрос: «Много ли ваших назади?» — пленные отвечали, что да, много. Стали решать, что делать с захваченными в плен половцами. Воевода Володислав, бывший, как можно думать, настоящим предводителем рати, и озвучил то, что, собственно, было ясно и другим участникам похода, в том числе и братьям Юрьевичам. «Держим колодников сих себе на смерть. Повели, княже, иссечь их», — приводит его слова, обращённые к князю Михалку, летописец. И князю оставалось согласиться с этим жестоким приговором. Ведь точно так же Михалко и его воевода поступили в недавней войне с половцами, о которой мы только что говорили: тогда тоже, захватив полон и опасаясь возможного удара в спину, они перебили всех половецких пленников до единого человека. Русско-половецкие войны того времени отличались крайней ожесточённостью, причём с обеих сторон. Когда-то дед Михалка и Всеволода, знаменитый русский князь Владимир Всеволодович Мономах, так же жестоко расправился с пришедшими к нему в Переяславль за миром половецкими князьями Итларем и Кытаном и всей их дружиной; а потом, спустя несколько лет, после одной из битв (в которой полегло 20 половецких князей) не пощадил попавшего в плен к русским половецкого хана Белдюзя, сулившего за себя «золото, и серебро, и коней, и скот», и повелел предать его мучительной казни: разрубить на части. Особую свирепость этим войнам придавало участие в них «чёрных клобуков». Такие же степняки, как и половцы, но некогда побеждённые половцами и изгнанные ими из родных степей, принявшие подданство русских князей, они ненавидели половцев как своих кровных врагов. И горе было тому русскому князю, который попытался бы защитить «диких» кочевников от расправы: гнев торков и берендеев вполне мог обрушиться и на него самого; во всяком случае, слушаться такого князя «чёрные клобуки» вряд ли бы стали. Так что князьям, водившим за собой полки «своих поганых», приходилось приноравливаться и к жестоким правилам степной войны. Расправа над пленниками произошла в среду (число и месяц в летописи не указаны)40, а спустя четыре дня, в «неделю», то есть в воскресенье (для христиан праздник!), полк Юрьевичей встретился с основными силами половцев. Удача вновь оказалась на их стороне: «…и сступишася с ними бить, и поможе Бог Михалку со Всеволодом на поганый и дедня и отня молитва»; одни из половцев были убиты, а других «изъимаша». (Об их последующей участи летопись не сообщает, но никакого резона расправляться с ними у князей не было, и этих пленников, надо полагать, привели на Русь.) Главное же, князья освободили «свой» полон, то есть тех, кого захватили половцы в русских пределах, — таковых насчитали 400 человек: частью, может быть, и русских, но в основном, наверное, тех же торков и берендеев; «и отпустили их восвояси, а сами возвратились в Киев, славя Бога и Святую Богородицу и креста честного (силу. — А. К.)». (А в Ипатьевской летописи добавлено ещё: «…и святая мученика (двойственное число, то есть святых Бориса и Глеба. — А. К.) (славя), помогающа на бранех на поганыя»). Что ж, победа действительно была одержана большая. Участие Всеволода в походе стало важным, в какой-то степени даже поворотным моментом в его биографии. Постепенно он превращался в полноценного, деятельного князя, заметного на фоне других князей древней Руси. Правда, роль его в прошедшей войне по-прежнему оставалась второстепенной. Всеволод и дальше будет выступать главным образом как подручный своего брата Михаила. И продолжаться так будет долго — до самой смерти князя Михалка Юрьевича в 1176 году.
Князь поневоле
Вскоре после возвращения братьев из похода, 20 января 1171 года, в Киеве умер князь Глеб Юрьевич. Похоронили его рядом с отцом, в монастыре Святого Спаса на Берестовом. Впоследствии говорили, будто Глеб был отравлен, называли даже имена отравителей — киевских бояр, но насколько эти слухи оправданны, судить трудно. Киевский престол занял князь Владимир «Матешич», последний из сыновей Мстислава Великого, родной дядя князей Ростиславичей, которые и пригласили его в Киев. С Андреем на этот счёт сослаться не успели — и это вызвало крайнее недовольство владимирского «самовластна». Андрею же «не любо бяше седенье Володимере [в] Киеве», — свидетельствует киевский летописец. Князь отправил грозное послание «Матешичу», «веля ему ити ис Киева». На киевском престоле Андрей хотел видеть смоленского князя Романа, старшего из князей Ростиславичей. Ему Андрей направил другое послание, «веляше ити [к] Киеву». Как видим, киевским престолом Андрей распоряжался как своей собственностью, не считаясь с желаниями или нежеланиями других князей. Трудно сказать, насколько скоро готов был «Матешич» исполнить требование Боголюбского и как развивались бы события, прояви он строптивость. Но через три месяца после вступления в Киев князь заболел и 10 мая тоже скончался41. «Златой» киевский стол становился поистине прбклятым для тех, кто его занимал. Теперь уже ничто не мешало Андрею решить судьбу Киева по своей воле. «Том же лете, — рассказывает летописец, — приела Андрей к Ростиславичем, реко тако: “Нарекли мя есте собе отцемь, а хочю вы добра. А даю Романови, брату вашему, Киев”». По сведениям русского историка XVIII века Василия Никитича Татищева, пользовавшегося, возможно, и не дошедшими до нашего времени летописями, после смерти Владимира Мстиславича киевский стол самовольно занял брат Андрея Михалко Юрьевич, «но к брату Андрею, как надлежало старейшему своему, честь приложить не послал». Андрей якобы направил киевлянам послов, объявляя, «дабы никого, кроме Романа Ростиславича, на престол не принимали». Посему, «опасался Андрея», киевляне отказали Михалку, «но упросили его быть во управлении до прибытия Романова»42. Так ли было на самом деле или нет, мы, к сожалению, не знаем: не исключено, что здесь, как и во многих других местах татищевской «Истории Российской», мы имеем дело с домысливанием и распространением летописных известий самим Татищевым. Но мы знаем, что Михалко не раз выказывал нежелание следовать воле старшего брата. Хотя в конце концов каждый раз ему приходилось подчиняться. Тем временем, выполняя волю Андрея, Роман Ростиславич выехал из Смоленска, оставив на смоленском княжении сына Ярополка. Его брат Мстислав тогда же получил Белгород — важнейшую крепость, прикрывавшую Киев с запада. В первых числах июля 1171 года (В. Н. Татищев называет точную дату: 1 июля) Роман воссел на киевский стол, «и бысть радость всим человеком о Романове княженьи». Если Михалко действительно «стерёг» для Романа Киев, то теперь он мог вернуться к себе в Торческ, где его дожидался брат Всеволод. Казалось бы, заняв «отчий» киевский стол, Ростиславичи должны быть довольны. Но опека Андрея явно тяготила их. Между князьями назревал новый конфликт, в который не могли не быть втянуты и младшие братья Андрея. Началось всё опять с Новгорода, в котором по воле Андрея Боголюбского с октября 1170 года княжил второй по старшинству Ростиславич Рюрик (его брат Святослав, ранее княживший в Новгороде, к тому времени умер). Надо сказать, что вокняжению Рюрика в Новгороде предшествовали весьма драматичные события, сильно подорвавшие авторитет Боголюбского: громадное войско, собранное и посланное им против новгородского князя Романа Мстиславича (напомню, сына его главного тогдашнего врага, Мстислава Изяславича), 25 февраля 1170 года потерпело под стенами Новгорода сокрушительное поражение, впоследствии приписанное чуду от новгородской иконы Знамения Божией Матери. Однако начавшаяся экономическая блокада города со стороны Суздальской земли заставила новгородцев искать примирения с Андреем. Роману Мстиславичу пришлось уйти из города, и новгородцы вынуждены были «из руки» Андрея принять на княжение Рюрика. Но и Рюрику Ростиславичу ужиться с новгородцами не удалось. Весной 1172 года он покинул Новгород. Около этого времени, 28 марта 1172 года, во Владимире умер сын Андрея Боголюбского Мстислав. Новгородские послы, приехавшие к Андрею просить себе нового князя, оказались во Владимире как раз в те траурные дни. Андрей тяжело переживал смерть сына. Однако, поразмыслив, решился всё же послать на княжение в Новгород своего третьего сына, совсем ещё юного Юрия. В. Н. Татищев полагал, что неприязнь между Андреем и князьями Ростиславичами началась именно с того, что Андрей передал Новгород сыну Юрию — в обход прав своих двоюродных племянников43. Но конфликт между князьями вызревал постепенно, и касался он не столько Новгорода, сколько княжения на юге. Настоящая же вражда вспыхнула после некоего недоразумения, возможно даже клеветы, которой Андрей, однако, поверил. Речь идёт о слухах вокруг смерти его брата Глеба, о которых мы уже говорили. «Того же лета нача Андрей вины покладывати на Ростиславичи», — сообщает киевский летописец, имея в виду события второй половины 1172 года44. Андрей прислал к Ростиславичам своего посла, мечника Михну, и потребовал выдать ему тех киевских бояр, которых молва — а скорее тайные нашёптыватели князя — называли отравителями его брата. «А то суть вороги всем нам!» — объявлял Андрей братьям и называл отравителей по именам. Ростиславичи выдавать обвиняемых отказались. Больше того, среди бояр, названных Андреем, был тысяцкий Григорий Хотович — вероятно, тот самый, что прежде служил князю Глебу и участвовал вместе с Давыдом Ростиславичем в обороне Вышгорода. Опасаясь, что он может быть захвачен людьми Андрея, Ростиславичи «пустиша» его «от себе», то есть позволили ему покинуть Киев. Это привело Андрея в ярость. Получив известие об ослушании братьев, он отправил к ним новую грамоту — с грозным требованием покинуть Киев. Больше того, Андрей объявил о том, что отбирает у Ростиславичей не только Киев, но и те города, которые были заняты ими без какого-либо его участия, ещё до его вмешательства в ход событий. Летописец передаёт требования владимирского «самовластца» дословно: «И рече Андрей Романови: “Не ходиши в моей воли с братьею своею, а поиди с Киева, а Давыд — ис Вышегорода, а Мьстислав — из Белагорода. А то вы Смоленеск, а тем ся поделите!”». (То есть: «Вот вам Смоленск, его между собой и делите».) Что же касается Киева, то он, по задумке Андрея, должен был отойти его следующему по старшинству брату Михалку. Ему в Торческ Андрей тоже направил соответствующее послание, веля идти в Киев. Старший из Ростиславичей Роман подчинился воле Андрея и ушёл в Смоленск. Но вот младшие его братья — и Давыд, и Рюрик с Мстиславом — покидать свои города не собирались. Не встретил Андрей послушания и в собственном семействе. Михалко не решился занять освободившийся киевский стол и, вопреки воле старшего брата, остался в Торческе. Вместо себя он отправил в Киев младшего брата Всеволода, который и должен был стать новым киевским князем. Всеволода сопровождал племянник Ярополк Ростиславич, бывший несколькими годами старше и наверняка опытнее его. Судя по достаточно точным хронологическим ориентирам Ипатьевской летописи, случилось это в первую неделю Великого поста уже следующего, 1173 года, — между 19 и 25 февраля45. О том, что Всеволод Юрьевич «седе… в Киеве», то есть его княжение здесь было признано киевлянами, сообщает та же Ипатьевская летопись46. Однако правил Всеволод, вероятно, от имени своего брата Михалка, или, может быть, так полагал Андрей Боголюбский. Во всяком случае, некая путаница на этот счёт имела место, и в Новгородскую летопись (а в Новгороде, напомню, княжил в то время сын Боголюбского) успели внести известие о том, что после Романа киевский стол занял именно князь Михалко Юрьевич47. Так восемнадцатилетний Всеволод — не по своей воле! — стал киевским князем. Формально он занял самую высокую из всех возможных ступеней княжеской иерархии. Для большинства русских князей ещё недавно это был предел мечтаний, недосягаемый, но от того не менее манящий. Но как изменилось время! Теперь «златой» киевский стол превратился в своего рода западню, и князья гнушались им, передавая друг другу за ненадобностью. Наверное, Всеволод тоже понимал всю опасность своего положения в этом чужом для него и враждебном городе. Но ослушаться брата он не посмел. Увы, его киевское княжение продлилось лишь пять недель — очень недолго. Ростиславичи пока что предпочитали действовать в открытую. Но позиция их оказалась твёрдой: подчиняться Андрею они решительно отказались, о чём и уведомили суздальского князя, отправив к нему собственного посла. Речь посла также дословно приведена в Киевской летописи: — Тако, брате, в правду тя нарекли есмы отцемь собе, — напоминали князья Андрею, — и крест есмы целовали к тобе, и стоим в крестьном целованьи, хотяче добра тобе. А се ныне брата нашего Романа вывел еси ис Кыева, а нам путь кажеши из Руськой земли без нашее вины. Да за всими Бог и сила крестьная! Последние слова князей содержали в себе неприкрытую угрозу. Они, Ростиславичи, стояли в крестном целовании Андрею. Но предупреждали, что действия владимирского «самовластца» сами по себе нарушают это крестное целование — ведь никакой вины они за собой не знали. А значит, Бог и крестная сила — на их стороне и они могут перейти от слов к делу. То есть начать войну против своего бывшего союзника и покровителя. Андрей никакого ответа им не дал. По существу, он бросал младшего брата на произвол судьбы — или, лучше сказать, на произвол князей Ростиславичей. Теперь именно Всеволод должен был расплачиваться за чрезмерные амбиции старшего брата. Сидя в Киеве и не имея помощи ниоткуда, Всеволод был обречён. «Угадавше», то есть обсудив всё между собой и обо всём договорившись, «и узревше на Бог и на силу честнаго креста и на молитву Святей Богородице» (слова киевского летописца), князья Рюрик, Давыд и Мстислав со своими отрядами внезапно ночью ворвались в Киев и схватили и князя Всеволода, и его племянника Ярополка, и бывшего при Всеволоде воеводу Володислава Ляха, и Андреева посла Михну (вскоре, правда, отпущенного к Андрею), и «всех бояр», оказавшихся в городе. Случилось это «на Похвалу Святой Богородицы» — в субботу пятой недели Великого поста, то есть в ночь на 24 марта. Позднее суздальский летописец называл главным зачинщиком зла князя Давыда Ростиславича, который будто бы верховодил братьями: это он, «здумав с братьею своею, приехав ночи противу свету г. Кыеву, ять брата князя Андрея Всеволода, и Ростиславича Ярополка, и дружину их»48. Сам же Андрей счёл виновником случившегося младшего из Ростиславичей — Мстислава. Но, по общему решению братьев, Киев был отдан не тому и не другому, а Рюрику, недавнему новгородскому князю, оставшемуся без своего княжеского стола на юге. Видимо, в тот же день князь Рюрик Ростиславич «вниде в Киев [со| славою великою и честью, и седе на столе отець своих и дед своих» — так описал его восшествие на киевский стол благоволивший ему летописец. В глазах киевлян суздальцы оставались чужаками и завоевателями ещё со времён Юрия Долгорукого. Враждебное отношение к ним усилилось после киевского разгрома 1169 года, в котором, напомню, участвовал и Всеволод. Ненависть или по крайней мере неприязнь к себе киевлян он ощутил в полной мере — защищать его никто не пожелал. И хотя братья Ростиславичи тоже были участниками взятия и разграбления Киева ратью одиннадцати князей, симпатии киевлян оказались на их стороне.Той же весной 1173 года все трое Ростиславичей выступили к Торческу — городу, где сидел на княжении Всеволодов брат Михалко. Надо сказать, что к тому времени его положение в Торческе осложнилось вмешательством ещё одной силы. Неожиданно для себя Михалко вошёл в конфликт со своим зятем (мужем сестры), могущественным галицким князем Ярославом Владимировичем. Это очень заметная фигура в русской истории XII века. Прозвище галицкого князя «Осмомысл», приведённое в «Слове о полку Игореве», по наиболее правдоподобному, хотя и не общепринятому толкованию, означает «многогрешный», «имеющий восемь смертных грехов»49. Князь действительно был одержим грехами. В своём родном Галиче он жил не с законной супругой Ольгой Юрьевной (на которой когда-то его женил отец, князь Владимирко Володаревич, скрепляя союз с Юрием Долгоруким), но с любовницей Настаськой, от которой прижил сына Олега — «Настасьича», как презрительно именовали его в Галиче. Этого «Настасьича» князь любил куда больше, чем законного сына Владимира, и именно ему, а не Владимиру, хотел оставить после себя княжеский стол. За несколько лет до описываемых событий Ольга Юрьевна с сыном Владимиром и некоторыми видными Галицкими боярами покинула пределы княжества и ушла в Польшу. Тогда дело дошло до открытого мятежа в Галиче: сам князь был схвачен горожанами, несколько его «приятелей» из числа бояр перебиты, Олега отправили в «поруб», а его мать Настаську, словно ведьму, сожгли на костре. Ярослав целовал крест, «яко ему имети княгиню в правду», и на том мир был восстановлен; княгиня вернулась к мужу. Но «имети княгиню в правду» князю явно не хотелось. Спустя ещё немного времени Ольга с сыном вновь бежала из Галича. Сначала — в Луцк, к князю Ярославу Изяславичу, который обещал подыскать её обиженному сыну какую-нибудь волость. Осмомысл этого терпеть не стал. Наняв ляхов (поляков), он направил их против луцкого тёзки, угрожая ему разорением всей его волости в случае, если тот не вернёт княжича обратно в Галич. Луцкий князь «убоявся» и переслал княгиню с сыном в Торческ — к князю Михалку, её брату (и, соответственно, дяде Владимира). Тут в события вмешался черниговский князь Святослав Всеволодович, тесть Владимира Ярославича. Он пригласил зятя в Чернигов, обещая затем отпустить его в Суздаль, к Андрею. Но обещания своего не сдержал. Сын Ярослава Осмомысла оказался разменной монетой в большой игре. Судя по не вполне ясному тексту летописи, он так и не покинул Торческ и оставался вместе с матерью у дяди, когда город был осаждён войсками Ростиславичей. Осада продолжалась шесть дней. На седьмой Михалко запросил мира. Мир был ему дан, причём Ростиславичи пошли даже на существенную уступку: за отказ от поддержки брата Андрея Михалко получил к Торческу ещё и Переяславль (где, напомню, княжил его родной племянник, пятнадцатилетний Владимир Глебович). Предметом заключённого между князьями соглашения стала и судьба Всеволода. В обмен на захваченного в плен брата и прочих пленников Михалко согласился отдать Ростиславичам «сестричича» — Владимира Ярославича. Тот нужен был Ростиславичам для того, чтобы заключить мир с его отцом и привлечь галицкого князя к числу своих союзников. Однако условия заключённого князьями договора были выполнены не полностью: Всеволода Ростиславичи действительно отпустили, и тот вернулся к брату, а вот Ярополка пока что оставили у себя50. Надо думать, что перед тем, как отпустить Всеволода, Ростиславичи потребовали от него целовать им крест в том, что в грядущей войне он будет поддерживать их, а не Андрея Боголюбского. Но даже если такую клятву Всеволод и дал, сила её была не велика (ибо целовал крест Всеволод по принуждению, а не по своей воле), и очень скоро и он сам, и его брат Михалко окажутся в лагере старшего брата. Что же касается их сестры Ольги, то она возвращаться в Галич к постылому мужу не захотела и, расставшись с сыном, уехала к брату Андрею во Владимир. Судьба ещё одного Всеволодова племянника, старшего Ярополкова брата Мстислава, сидевшего на княжении в Треполе, также была предрешена. Для того чтобы выгнать его из города, не понадобилось даже отдельного похода: Рюрик Ростиславич с братьями сделали это как бы мимоходом, заодно, — «тем же путём идуче», по выражению летописца. Мстислав отправился было к дяде в Торческ, но Михалко отказался принимать его (возможно, выполняя условия соглашения с Ростиславичами). Путь в Суздальскую землю был для Андреева племянника также закрыт. Пришлось ему ехать в Чернигов, где его приютил князь Святослав Всеволодович.
А что же Андрей Боголюбский? Его реакция на случившееся на первый взгляд кажется удивительной. То, что произошло в Киеве, а затем в Торческе и других городах Южной Руси, было воспринято им не как начало войны, а как своеволие подвластных ему князей. Он всё ещё считал Ростиславичей своими подручными, а потому и обратился к ним не как к равным себе, но как к младшим, которые по-прежнему обязаны выполнять все его распоряжения. Андрей вновь отправил к ним своего посла Михну, велев передать князьям новые, гораздо более жёсткие требования. Двух из трёх братьев Ростиславичей Андрей изгонял из Русской земли — подобно тому, как десятилетием раньше он изгнал из Суздальской земли собственных родных братьев и племянников. Причём обставлено всё было предельно унизительно для братьев: «И посла Михна мечника: едь к Ростиславичем, рци же им: “Не ходите в моей воли! Ты же, Рюриче, поиди в Смоленск, к брату, во свою отчину”. А Давыдови рци: “А ты поиди в Берладь (то есть за пределы собственно Русской земли, в Подунавье, пристанище беглецов из Руси, «берладников». — А. К.). А в Руськой земли не велю тебе быти!” А Мстиславу молви: “В тобе стоит всё [зло]. А не велю ти в Руской земли быти!”». Слова Андрея оскорбили братьев. Они увидели в них умаление или даже отрицание их собственного княжеского достоинства. Инициативу проявил младший из них, князь Мстислав Ростиславич — тот самый, в котором, по выражению Андрея Боголюбского, и «стояло всё зло». Тот Мстислав с юности привык не бояться никого, «но токмо Бога единого блюстися», объясняет киевский летописец; именно Мстислав и повелел схватить Андреева посла и, поставив его перед собой, остричь ему голову и бороду и в таком непотребном виде отпустить назад к князю. Это было неслыханное, ни с чем не сравнимое оскорбление! А ведь в представлении людей того времени (равно как и любого другого) оскорбление, нанесённое послу, в полной мере предназначалось пославшему его правителю, то есть в данном случае князю Андрею Юрьевичу! Через того же посла князь Мстислав Ростиславич — от себя лично и от имени братьев — передал Андрею слова, по сути своей означавшие объявление войны: — Мы тя до сих мест, акы отца, имели по любви. Аже еси с сякыми речьми (с такими речами. — А. К.) прислал, не акы к князю, но акы к подручнику и просту человеку, а что умыслил еси, а тое деи (то и делай. — А. К.). А Бог за всем! Трудно даже представить себе, что должен был испытать Андрей, когда поруганный и обесчещенный посол с голой, едва поросшей новой растительностью головой и «босым» лицом предстал перед ним. Киевский летописец едва сумел найти особые слова, чтобы передать состояние князя: «Андрей же то слышав от Михна, и бысть образ лица его попуснел (помрачился. — А. К.), и възострися на рать, и бысть готов…» Но гнев и помрачение — не лучшие помощники при начале большой войны, в которой требуются в первую очередь трезвость мысли и холодный рассудок. Андрей же «възострися на рать», не думая ни о чём, кроме мести и удовлетворения своего гнева. Посылая своих воевод в новый поход на Киев, он в качестве главной цели объявлял наказание Ростиславичей за совершённое ими преступление. А именно: Рюрика и Давыда повелевал изгнать «из отчины своей», как теперь Андрей именовал Киевскую волость или даже всю Южную Русь; относительно же третьего брата, ставшего его главным врагом, выразился так: — А Мстислава емше (схватив. — А. К.), не створите ему ничтоже, приведёте и (его. — А. К.) ко мне. Именно в связи с этими его словами летописец, горячий сторонник Ростиславичей, и вводит в свой текст известную обличительную тираду против Андрея Боголюбского: «…Андрей же князь толик умник сы[й], во всих делех добль сы[й] (доблестен. — А. К.), и погуби смысл свой невоздержанием, располевся гневом, такова убо слова похвална испусти, яже Богови студна и мерьска хвала и гордость…» По представлениям христианина, гордость — главный из смертных грехов. И именно в гордости в первую очередь обвиняется здесь князь Андрей Юрьевич, возлагающий на себя Божескую функцию: распоряжаться судьбой человека. («…Си бо вся быша от дьявола на ны, иже всевает в сердце наше хвалу и гордость…» — объясняет летописец.) Его гнев, невоздержанность представлены здесь как следствия гордыни и самовосхваления, то есть тех качеств, которые полностью затмевают, превращая в ничто, такие его достоинства, как ум (скорее даже «высокоумье»), смысленность и доблесть… Понятно, что книга эта — не об Андрее Боголюбском, а о его младшем брате. Но в том-то и дело, что Всеволоду, равно как и его брату Михаилу и прочим князьям Суздальского дома, в полной мере пришлось расхлёбывать ту кашу, которую заварил распалённый гневом и потерявший чувство реальности князь Андрей.
Разгром
Между тем, несмотря на охватившую его ярость, Андрей, как и прежде, не собирался лично участвовать в войне. Во главе собранного им громадного войска вновь был поставлен его сын — на этот раз малолетний Юрий, князь Новгородский. Командовать же соединённой ратью должен был всё тот же воевода Борис Жидиславич — других достойных полководцев среди своих подданных Андрей, надо полагать, не видел. А войско, собранное им, и в самом деле оказалось огромным. Летописи называют его численность — 50 тысяч человек. Для древней Руси это очень много! Основу войска составили дружины из Северо-Восточной Руси — ростовцы, суздальцы, владимирцы, переяславцы, белозёрцы и привычно присоединившиеся к ним полки из Рязани и Мурома. Приняла участие в войне и новгородская рать — благо новгородский князь был номинальным вождём всего войска. Полки выступили в поход в августе 1173 года51. Двигались кружным, волжским путём — очевидно, для того, чтобы соединиться с новгородцами. Далее путь их шёл по Днепру, мимо Смоленска. И хотя смоленский князь Роман Ростиславич приходился родным братом врагам Андрея, суздальский князь по-прежнему числил его среди своих союзников. А потому потребовал «пустити сын свой [со] смоляны». И Роман вынужден был подчиниться: «нужею» отпустил сына (вероятно, старшего, Ярополка) «на братью». В подчинении у Романа находились полоцкие князья, и Роман потребовал от них присоединиться со своими полками к войску. Туровские, пинские и городенские князья также пополнили ряды союзного войска — правда, едва ли они готовы были в действительности проливать кровь за чуждые им интересы владимирского «самовластца». Далее суздальская и смоленская рать вступила во владения князей «Ольгова племени». Старшего из черниговских князей, Святослава Всеволодовича, летописец ещё прежде называл главным советчиком князя Андрея Суздальского; это он подзуживал Андрея на войну с Ростиславичами: «Кто тобе ворог, тот и нам. А се мы с тобою, готовы». Теперь Всеволодович тем более был «готов», надеясь, что внутренние распри князей «Мономахова племени», как всегда, принесут ему ощутимые выгоды. Святослав и его младшие родные и двоюродные братья, в том числе воинственный Игорь Святославич, будущий заглавный герой «Слова о полку Игореве», присоединились к союзному войску. Тогда же под знамёна Андрея Боголюбского встали и его младшие братья Михалко и Всеволод Юрьевичи, переступившие недавнее крестное целование Ростиславичам, а также племянники Мстислав и Ярополк Ростиславичи (последний, как видим, был всё-таки выпущен из плена) и Владимир Глебович, который, по договорённости с дядей, вернул себе Переяславль или княжил там от его имени: он выступил в поход со «всеми переяславцами». Общее число князей, включая не названных по имени, оказалось очень большим — всего двадцать, то есть почти в два раза больше, чем при взятии Киева ратью одиннадцати князей, когда город был полностью разорён и разграблен. Правда, на этот раз войско оказалось слитком разнородным, и большинство князей совершенно не понимали целей начавшейся войны. Это и стало главной причиной будущей катастрофы. На исходе августа или в самом начале сентября 1173 года громадное войско переправилось через Днепр и подступило к Киеву. Защищать город Ростиславичи не стали. Как и прежде, во время войны с двоюродным братом Мстиславом Изяславичем, они со своими полками заняли соседние с Киевом, хорошо укреплённые и заранее снабжённые всем необходимым крепости. Рюрик затворился в Белгороде, к западу от Киева, а Мстислав — в Вышгороде, к северу. С ним был и полк его брата Давыда. Сам же Давыд Ростиславич отправился в Галич — просить о помощи князя Ярослава Владимировича Осмомысла. Вероятно, Давыд рассчитывал на признательность галицкого князя за недавнюю помощь в возвращении в Галич его беглого сына, а может быть, на этот счёт между ними существовали какие-то договорённости. Но поездка результатов не принесла: «и не даша ему помочи». Тем не менее дипломатическая активность Давыда Ростиславича, получившего необходимую свободу передвижений, оказалась для братьев поистине бесценной. Киевляне безропотно открыли князьям ворота — повторения трагедии трёхлетней давности никто не хотел и воевать с ратью Боголюбского не собирался. Более того, киевляне объявили о готовности выставить свой полк и участвовать в войне с Ростилавичами на стороне союзных князей. О том же заявили и «чёрные клобуки». Но и те и другие примкнули к войску скорее для вида, чем на самом деле. 8 сентября, в праздник Рождества Богородицы, в субботу, полки выступили к Вышгороду — против Мстислава, главного обидчика князя Андрея Боголюбского. Примечательно, что киевский летописец отчётливо различает две группировки князей в составе объединённой рати, даже не упоминая о номинальном предводителе суздальского войска — младшем сыне Боголюбского: в походе, по его словам, участвовали Святослав Всеволодович «с братьею» и Михалко с братом Всеволодом «и со сыновци».
В этой войне князь Всеволод Юрьевич, пожалуй, впервые получил возможность действовать более или менее самостоятельно, во главе собственного полка, хотя по-прежнему подчиняясь старшим князьям — и не только брату Михалку, но и черниговскому князю Святославу Всеволодовичу, который держал себя как подлинный предводитель объединённой рати. В обычаях древней Руси было начинать сражение или штурм какой-либо крепости полками «младших» князей. Так поступил Святослав Всеволодович и на этот раз: «…И отряди Всеволода Юрьевича [и] Игоря (Святославича. — А. К.) с моложьшими князьми к Вышегороду». Как видим, среди «моложьших» («младших») князей Всеволод числился первым. «Младшие» и начали военные действия с нападения на город. В описании сражения за Вышгород мы в первый раз получаем возможность увидеть Всеволода на поле боя, хоть как-то оценить его действия как полководца — и надо признать, что этот первый опыт оказался не самым удачным. Князья двигались тремя полками, причём полк Всеволода, как и полагается, находился посередине; на левом же и правом крыльях располагались «новгородцы» (очевидно, имеется в виду новгород-северский полк Игоря Святославича) и «ростовцы». Защищавший город князь Мстислав Ростиславич недаром вошёл в историю с прозвищем «Храбрый». Он тоже не сидел сложа руки и, «изрядив» свой полк, выехал с ним из ворот крепости на «болонье» — открытую, низменную местность перед городом. Здесь и завязалось сражение, начатое «стрельцами» — пехотинцами. «…И свадишася стрельцы их, и почаша ся стреляти межи собою…» Видя, что его стрельцы уже смешались с вражескими и те начинают теснить их, Мстислав со своим конным полком сам бросился на врага. Основной его удар пришёлся по центру противной рати, то есть по полку князя Всеволода Юрьевича. Стойкости воинам Всеволода не хватило, и этого лобового удара они не выдержали: конница Мстислава «сшибеся с полкы их, и потопташа середний полк». «Потопташа» — это значит, смяла, обратила в бегство. Впрочем, само по себе это было не так страшно: численное превосходство оставалось за союзниками. Более того, полки левой и правой руки начали окружать Мстислава, «бе бо Мьстислав в мале въехал в не», — объясняет летописец. Началась лихая кавалерийская схватка, в которой слышались лишь воинственные клики сражающихся и «стонания» раненых да ещё какие-то «гласы незнаемые» и «лом копийный»[3], то есть звон бряцающего оружия, а от поднявшейся пыли («множьства праха») нельзя было различить ни конного, ни пешего («не знати ни конника, ни пешца»)[4]. «И тако бившеся крепко, и разидошася, — подводит летописец итоги первого дня осады, — много же бе раненых, мёртвых же бе немного. И се бысть один бой первого дни на болоньи Мстиславу со Всеволодом, [и] со Игорем, и со инеми моложьшими людми». Получается, что умелые действия новгород-северского князя Игоря и ростовцев сгладили неудачу Всеволода. На другой день к Вышгороду подступили основные силы коалиции, «и тако оступиша весь град». Осада города продолжалась, по одним сведениям, девять недель (эта цифра приведена в Ипатьевской и Лаврентьевской летописях), по другим — семь (так в Новгородской Первой). Приступы следовали чуть ли не каждый день, и каждый день воины Мстислава выступали из крепости и давали бой осаждавшим. «Да бьяхуться крепко», — вновь пишет о Мстиславовой дружине летописец. По его словам, в городе росло число раненых и убитых. Казалось, что шансов выдержать осаду при таком подавляющем численном превосходстве противника у Мстислава Ростиславича немного. Но развязка этой драмы оказалась до крайности неожиданной. На девятой неделе осады, то есть в первых числах ноября 1173 года (или, по счёту Новгородской летописи, в 20-х числах октября), к Киеву подступил князь Ярослав Изяславич Луцкий «со всею Волынскою землёю». Он ещё раньше заключил договор с главой Черниговского дома князем Святославом Всеволодовичем и теперь намеревался «по старшинству» занять киевский стол. Первоначально Ярослав Луцкий числил себя среди врагов Ростиславичей, против которых воевал ещё вместе со старшим братом Мстиславом. Однако черниговские князья не готовы были гарантировать ему княжение в Киеве — и потому, что этот вопрос следовало согласовать с Андреем Боголюбским, а Андрей вряд ли готов был отдать «златой» киевский стол брату ненавистного ему Мстислава Изяславича, и потому, что князь Святослав Всеволодович и сам подумывал о княжении в Киеве. Между тем проявил расторопность Давыд Ростиславич. Очевидно, именно он вступил в переговоры с луцким князем, своим двоюродным братом, и пообещал признать его «старейшинство» от имени всего своего клана. Ярослав принял новое предложение — и круто поменял союзников в войне, полностью изменив расстановку сил. «Он же сослався с Ростиславичи и урядися с ними о Киев, — читаем в летописи. — И отступи от Олговичь, и, вьстав, поиде от них, изрядив полкы, к Рюрикови [к] Белугороду». От Белгорода же, соединившись с полком князя Рюрика Ростиславича, Ярослав Луцкий мог в любой момент подступить к Вышгороду — на выручку осаждённому там Мстиславу. Так, собственно, и произошло. Весть о приближающейся рати вызвала панику в войсках союзников. Силы Ярослава были преувеличены слухами многократно. Казалось, что с ним к Вышгороду движется не только «вся Волынская земля», но и «вся Галицкая земля», и «чёрные клобуки». «Уже ся им всяко совокупите на ны!» (то есть: «Теперь все против нас соединятся») — эта мысль в миг овладела войском. Паника началась ночью. «Убоявшесь», полки даже не стали дожидаться рассвета «и в смятеньи велици, не могуще ся удержати, побегоша черес Днепр», так что многие из бегущих утонули при ночной переправе. Мстислав же Ростиславич, видя их беспорядочное отступление, устремился за ними из города со своей дружиной; «и гнавше дружина его, и ударишася на товаре (обозы. — А. К.) их, и много колодник изъимаша» — так описал случившееся киевский летописец. Разгром оказался полным. Вновь, как и несколькими годами раньше под Новгородом, при подавляющем численном превосходстве войско, собранное Андреем Боголюбским, постыдно бежало. Да и ради чего было сражаться большинству из собравшихся у Вышгорода князей? Часть из них была вовлечена в коалицию насильно, как, например, сын Романа Смоленского или полоцкие и туровские князья. Рязанские и муромские полки и до этого явно показывали отсутствие у них рвения при участии в военных походах, организованных владимирским князем. Даже братья и родные племянники Андрея Боголюбского совсем ещё недавно целовали крест Ростиславичам, выйдя из повиновения старшему брату и дяде. В общем, отстаивать интересы оскорблённого Андрея оказалось попросту некому. Не считать же мстителем за его обиду князя-ребёнка Юрия! Больше всего пострадали, кажется, именно суздальские полки («…И тако възвратишася вся сила Андрея, князя Суждальскаго: совокупил бо бяшеть все земле, и множеству вой не бяше числа; пришли бо бяху высокомысляще, а смирении отидоша в домы своя», — не скрывает злорадства киевский летописец). Святослав Всеволодович свою военную силу сохранил; новгородцы же вообще пришли домой «здоровы все», то есть без потерь, что особо было отмечено в Новгородской Первой летописи. Наиболее же незавидной в очередной раз оказалась участь киевлян. В город вступил князь Ярослав Изяславич, однако спустя совсем немного времени «изъездом», то есть внезапным набегом, на него напал князь Святослав Всеволодович Черниговский; затворяться в городе, не чувствуя поддержки жителей, Ярослав не решился и вынужден был спасаться бегством, причём его жена и младший сын, а также «имение бещисла» попали в руки к черниговскому князю. 12 марта 1174 года Святослав воссел на «златом» киевском столе, но княжение его продлилось всего 12 дней — рекордно короткий срок, после чего князь поспешил в Чернигов, который ему надо было защищать от двоюродного брата и извечного соперника князя Олега Святославича. Тем временем Ярослав Луцкий, «слышав, яко стоить Кыев без князя», вернулся в Киев «на гневех» (то есть во гневе). Гнев этот обрушился на киевлян, которых князь посчитал главными виновниками своих неудач. «Замысли тяготу кыяном», — продолжает летописец, а далее приводит слова, с которыми Ярослав обратился к жителям: «Подъвели есте вы на мя Святослава! Промышляйте, чим выкупити княгиню и детя!» Киевлянам «не умеющим, что отвещати ему». После очередного разграбления города — теперь черниговским Святославом — золота и серебра на выкуп княгини и княжича у них не было. И тогда луцкий князь «попрода» весь Киев, то есть возложил особую, чрезмерную дань на всех живших в городе, включая и тех, кто по обычаю был освобождён от податей: «[и] игумены, и попы, и черньце, и чернице, [и] латину (то есть живущих в городе латинян. — А. К.), и гости (приезжих купцов. — А. К.), — и затвори все кыяны». Иными словами, все поголовно оказались в положении заложников у князя и должны были выкупать сами себя, в буквальном смысле расставаясь с последним, в том числе с жёнами и детьми, в противном случае рискуя быть уведёнными в полон и проданными там в неволю. Так, «много зла створив Киеву», Ярослав с войском двинулся к Чернигову — против Святослава. Но тут подоспели послы от Святослава Всеволодовича. Оказалось, что князь готов к заключению немедленного мира, на который Ярослав Изяславич, желая выручить жену и сына, согласился. «Распродав» весь город, Ярослав ушёл к себе в Луцк. Больше выжать из киевлян было нечего: лишь стоны да проклятия провожали его войско, да многие из киевлян были, наверное, уведены в полон на Волынь. Вот так и получилось почти зеркальное повторение прежней киевской трагедии 1169 года. Теперь уже совсем другой князь из другой, западной части Русской земли тоже отказывался от княжения в Киеве, предварительно подвергнув город неслыханному разграблению. И для Ярослава Изяславича, как прежде для Андрея Боголюбского, родной город — совсем вроде бы незначительный Луцк — оказался дороже недавней столицы всей Руси. Для братьев и племянников Андрея случившееся под Киевом стало настоящей катастрофой — может быть, даже ещё большей, чем для самого суздальского князя. И Торческ, и Треполь — города, которыми они прежде владели, — оказались потеряны для них. Сохранить владения на юге удалось лишь юному Владимиру Глебовичу, удержавшему за собой Переяславль. Всеволод же с братом Михаилом и их племянники Мстислав и Ярополк вынуждены были покинуть Южную Русь. Приют им предоставил князь Святослав Всеволодович. Так Чернигов оказался последней точкой на карте Руси, откуда ближайшие родичи Андрея могли пока что не ожидать скорого изгнания. Решать же судьбу Киева предстояло князьям Ростиславичам. Но несмотря на триумфальное (хотя, надо признать, и не вполне логичное) завершение недавней войны, сами сделать это они тоже оказались не в состоянии. И тогда князья не нашли ничего лучшего, как снова обратиться… к Андрею Боголюбскому — как к верховному арбитру в межкняжеских спорах. Вновь вспомнив о том, что Андрей приходится им «в отца место», они решились именно у него «испрашивать» Киев старшему среди них и единственному не причастному к недавнему разгрому Андреевой рати под Вышгородом — князю Роману Смоленскому. Андрей обещал дать им ответ — но какой именно, так и осталось тайной. Ибо в то время, когда переговоры с Ростиславичами ещё продолжались, в ночь на 29 июня 1174года, в своём замке в Боголюбове Андрей был убит заговорщиками из числа собственных приближённых.
«Княгиня Всеволожая»: «чехиня» или «ясыня»?
К этому времени князь Всеволод Юрьевич успел обзавестись супругой. Когда именно случилась его женитьба — несомненно, важнейшее событие в жизни любого князя, делающее его полноценным членом княжеского сообщества, — мы опять-таки точно не знаем. Во всяком случае, женился он ещё во время своего пребывания в Южной Руси, до того, как вернулся в Суздальскую землю. Летопись впервые упоминает о его жене, «княгине Всеволожей», под 1175 годом: начиная войну с племянниками Мстиславом и Ярополком Ростиславичами (об этой войне речь пойдёт в следующей части книги), Михалко и Всеволод оставили жён на попечение князя Святослава Всеволодовича; из Чернигова те были доставлены к ним уже после вокняжения Михалка Юрьевича во Владимире53. Избранницу Всеволода звали Марией. Летопись и внелетописные источники называют её по имени — в отличие от подавляющего большинства жён других русских князей. И это неудивительно: Мария Всеволожая оставила заметный след в русской истории. Но, помимо этого, она оставила после себя ещё и несколько загадок, над которыми до сих пор бьются историки. И главная из этих загадок — это загадка её происхождения. Статья «А се князи русьстии» (читающаяся, напомню, в той же рукописи середины XV века, что и Новгородская Первая летопись младшего извода), а также ряд других летописных и внелетописных источников приводят отчество супруги князя Всеволода Юрьевича — тоже редчайший случай для княгинь, не принадлежавших к роду Рюриковичей. И отчество это звучит не слишком привычно для нашего уха — Шварновна. Кроме того, указана в них и этническая принадлежность отца Марии, Всеволодова тестя: «…А княгини его, Мариа Всеволожа Щварновна (здесь так! — А. К.), дщи князя чешьского…»54 Известно также, что у Марии имелись по меньшей мере две сестры, свояченицы Всеволода, уже после неё вышедшие замуж — и тоже за русских князей. Так вот одна из них, ставшая в 1183 году женой князя Мстислава Святославича (сына Святослава Всеволодовича), именуется в летописи «ясыней»55. (Ясы, или асы, аланы, — предки нынешних осетин, жившие в те времена на Северном Кавказе и в Подонье.) Получается, что «ясыней» была и её старшая сестра, жена Всеволода? Или всё-таки «чехиней», как об этом говорит внелетописный источник? Историки, как правило, отдают предпочтение одной из этих версий, отказывая другой в достоверности56. А ведь этот вопрос чрезвычайно важен — особенно в свете того, что жена Всеволода сыграла огромную роль в жизни своего мужа. Ибо они прожили в браке более тридцати лет, и княгиня Мария стала матерью всех детей Всеволода, так что прозвище Большое Гнездо по справедливости должно принадлежать ей не меньше, чем её супругу. Но мало этого — как основательница одной из прославленных владимирских обителей — Успенского женского Княгинина монастыря, существующего и по сей день, — княгиня Мария почитается Церковью: её имя значится в Соборе владимирских святых. Так откуда же взялась жена Всеволода Юрьевича и к какому роду-племени принадлежала? Прежде всего стоит сказать о том, что обе версии — и «чешская», и «ясская» — представляются вполне обоснованными, ибо опираются на весьма авторитетные источники. Что касается статьи «А се князи русьстии», то, несмотря на то, что она датируется XV веком и сохранилась в новгородской рукописи, источник её — по-видимому, ростовский57; сведения же о княгине в конечном счёте восходят, вероятно, к тем известиям, которые на протяжении веков сохранялись во владимирском Княгинине монастыре. Здесь княгиня была похоронена, здесь почиталась её память, и здесь имя основательницы обители должны были помнить. В точно такой же форме — «Мария Шварновна, дочь чешского князя», — имя княгини приведено в монастырских летописцах и синодиках58; несколько по-другому, но похоже, с тем же отчеством, — «Марфой Шварновной» — именовалась она в позднейшей надписи над её погребением, читавшейся ещё в XVIII или начале XIX века59. Мы, правда, не знаем никакого «чешского князя» Шварна, но само имя имеет вполне прозрачную этимологию, восходя к чешскому «svarny» — в значении: «ладный, опрятный, красивый»60. И хотя в средневековой Чехии это имя не известно — но, может быть, возникнув в качестве прозвища, оно превратилось в имя уже на Руси? Во всяком случае, некий Шварн, воевода нескольких южнорусских князей и участник многих войн 1140—1160-х годов, хорошо известен летописям: они застают его сначала на службе у киевского князя Изяслава Мстиславича, затем у ставшего киевским князем Изяслава Давыдовича Черниговского, а последнее летописное упоминание, под 1167 годом, связывает его с Переяславлем-Южным, где княжил в то время брат Всеволода Глеб Юрьевич и где несколько позже (а возможно, уже и тогда) нашёл временное пристанище сам Всеволод. Этот Шварн вполне подходит на роль тестя Всеволода Юрьевича. Правда, он был не князем, а боярином. Но он был близок к князьям, не раз предводительствовал полками наравне с князьями или даже вместо них — словом, входил в тот тесный круг военных вождей, в который в конце 60-х — начале 70-х годов XII века стремился попасть юный Всеволод. Позднейшее же его именование князем — очевидно, «задним числом», через много времени после смерти — не выглядит чем-то удивительным или из ряда вон выходящим; напротив, с «превращениями» такого рода историки сталкиваются постоянно. Ко времени женитьбы Всеволод ещё не успел проявить себя; он не имел собственного удела, не имел и реальных перспектив на более или менее значимый княжеский стол в ближайшем будущем — и потому вполне мог довольствоваться в качестве жены не дочерью кого-либо из князей, а дочерью воеводы. Но став спустя несколько лет владимирским князем, Всеволод совершил головокружительный взлёт. Супруга его умерла будучи великой княгиней, женой владимирского самодержца; записи же о её происхождении составлялись ещё позже — когда Всеволод почитался как прямой предок великих князей владимирских, тверских, московских и т. д. А потому и тесть его неизбежно должен был превратиться в фигуру более значимую, нежели был на самом деле. Ничего не известно нам из летописей и о чешском происхождении Шварна61. Однако учитывая имя воеводы, а также «западные» связи князя Изяслава Мстиславича (одним из союзников которого был, между прочим, чешский князь Владислав II), это представляется отнюдь не невероятным. Более того, младший брат Изяслава, новгородский князь Святополк Мстиславич (судя по летописи, наиболее близкий к нему из братьев), зимой 1143/44 года женился на некой чешке «из Моравы» — возможно, родственнице того же Владислава II. Этот Святополк умер в 1154 году — и умер в пути, спеша на помощь Изяславу. Наверное, не будет выглядеть слишком фантастическим предположение, что Шварн мог попасть на Русь вместе с чешской женой князя Святополка, а после смерти последнего перешёл на службу к его старшему брату — как впоследствии перешёл сначала к Изяславу Давыдовичу, а потом и к его зятю Глебу Переяславскому[5]. (Не говорю уже о гипотетической встрече с Владиславом II самого Всеволода в 1165 году; если она имела место в действительности, то договор о женитьбе «мелкого русского короля» на дочери чешского воеводы мог быть заключён ещё на Дунае). А что же относительно «ясского» происхождения «княгини Всеволожей»? Прежде всего подчеркну ещё раз, что «ясыней» саму Марию в летописи или иных древних памятниках никто и никогда не называл — так была поименована лишь её младшая сестра. Относительно этого прозвища никаких разночтений или толкований быть не может: слово это означает представительницу ясского, аланского племени — и никак иначе. Русские издавна общались с ясами, хорошо знали их; заключались и династические браки: так, в 1116 году сын Мономаха Ярополк привёз из похода на Дон «жену красну велми, ясскаго князя дщерь»; ниже в летописи она названа «благоверной княгиней Олёной Яской». Но имя Шварн аланским быть не может, и увидеть в воеводе Шварне «ясского князя» у нас никак не получится! Но, может быть, этого и не требуется? Известно, что прозвища на Руси давались не только по отцу, но и по матери (самый известный пример — это, конечно, родовое имя деда Всеволода, знаменитого Владимира Всеволодовича Мономаха, полученное им от матери-гречанки). Так, может быть, и прозвище одной из сестёр княгини Марии объясняется ясским происхождением её матери, но не отца? Исследователи княжеской антропонимики древней Руси А. Ф. Литвина и Ф. Б. Успенский обратили внимание на то, что брак Марии Всеволожей отделён от брака её младшей сестры «ясыни» «по крайней мере шестилетним (а возможно, и существенно более длительным) интервалом»; разница в возрасте между сёстрами, по их мнению, может объясняться рождением младшей в новом браке отца, а прозвище этой младшей сестры (перешедшее к ней от матери?) могло быть дано ей «в противопоставление сёстрам от другого брака»63. В развитие этого предположения — в общем-то совершенно умозрительного — можно было бы обратить внимание ещё на одно обстоятельство. Впервые упомянутый под 1146 годом, предполагаемый тесть Всеволода в последний раз появляется в летописи зимой 1166/67 года — на этот раз в связи с тем, что оказался в половецком плену: половцы «яша» Шварна «за Переяславлем», «и взяша на нём искупа множьтво»64. Очевидно, проведший в Степи некоторое время, воевода был выкуплен переяславским князем Глебом Юрьевичем. Так не из половецкого ли плена он мог привезти себе новую жену-«ясыню»? Рождённая после 1167 года, его младшая дочь вполне могла в 1183 году быть выдана замуж — возраст позволял. Тем более что о её сватовстве и бракосочетании в Ипатьевской летописи сообщается в двух годовых статьях: сначала, под 1181 годом, — о том, что Всеволод «сватася» со Святославом Всеволодовичем и отдал за его младшего сына (то есть согласился отдать?) «свесть свою», а затем, двумя летописными статьями ниже, под 1183-м, — о том, что Святослав взял за своего сына Мстислава «Ясыню… Всеволожю свесть» и «бысть же брак велик»65. Не малолетством ли свояченицы Всеволода Большое Гнездо объяснялась задержка с фактическим замужеством? Впрочем, всё это, конечно, — не более чем догадки, предположения, домыслы. «Ясыней» могла быть и мать всех трёх сестёр, включая Марию, «княгиню Всеволожую», и прозвище «Ясыня» — зафиксированное летописью лишь для одной её сестры — могла носить и она: просто в летопись это прозвище не попало. Важно то, что «ясское» происхождение Марии Всеволожей — если оно действительно имело место — не обязательно противоречит версии более поздних источников о её чешском отце[6]. Но вне зависимости от того, кем были родитель или родители «княгини Всеволожей» и какая кровь — ясская, чешская или та и другая — текла в её жилах, она всецело принадлежит русской истории и русской культуре; об этом мы можем говорить определённо. Дочь Шварна родилась и была воспитана на Руси — сама хронология её жизни подтверждает это; она стала женой русского князя и матерью русских князей и княжон, которых воспитывала в христианском, православном духе — у нас ещё будет возможность убедиться в этом. Из летописи мы узнаём о том, что княгиня «из-детска», то есть с самого раннего возраста, жила в страхе Божии, любя правду и почитая епископов и священников и весь духовный чин, что была ко всем «преизлиха добра», подавая милостыню всем нуждающимся в ней: «печалным, и нужным, и больным», что была «нищелюбицей» и «страннолюбицей»67. Эти слова из летописной статьи 1205 года, рассказывающей о предсмертном, после восьми- или семилетнего лежания «в немощи», пострижении княгини в монахини, можно было бы счесть трафаретными, традиционными для некролога, прославляющего благоверную княгиню, — но в том-то и дело, что они отнюдь не трафаретны: других подобных некрологов русских княгинь в летописях того времени мы не встретим. Княгиня Мария действительно отличалась необыкновенным благочестием — и основание ею женской обители, о которой она заботилась до последнего своего дня, тоже свидетельствует об этом. И ещё одно замечание — относительно внешнего облика Всеволодовой супруги. Наверное, все девочки в семействе Шварна были хороши собой — не случайно все три стали княгинями. Но Мария, кажется, отличалась статью и высоким ростом. Правда, источник наших суждений об этом весьма специфический. Впоследствии в одной гробнице с ней была положена вторая жена князя Всеволода Юрьевича, и когда в XVII веке составлялась опись гробниц Успенской церкви владимирского Девичьего (Княгинина) монастыря68, то было замечено, что княгиня эта «ростом великой княгине Марье по плечи»[7].Надо сказать, что женитьба многое изменила в жизни князя Всеволода Юрьевича. И дело не только в его возросшем социальном статусе. Наверное, Мария смогла дать своему супругу именно то, чего ему так недоставало в предшествующие годы, — ощущение семьи, родного очага. Очень рано потерявший отца, а потом и мать, он бесконечно скитался по свету и нигде не мог чувствовать себя дома — везде он был чужаком: в лучшем случае гостем, в худшем — беглецом и приживалой. Окрестности Киева, Суздаля, затем Царьград и чужое для русских Подунавье, Южный Переяславль, Торкский город и область «чёрных клобуков», снова Киев и плен, потом Чернигов — это только те точки на карте, в которых младшего сына Юрия Долгорукого застают летописи. Не исключено, что география его странствий была ещё шире. И скитался и странствовал он не по своей воле. На протяжении двадцати первых лет жизни Всеволод послушно исполнял то, что ему приказывали другие — сначала старший брат Андрей, потом старший брат Глеб, ещё потом старший брат Михаил. Он и жену-то избирал, может быть, не по своей воле, но, как всегда, исполняя волю или желание старших: мы, конечно, ничего не знаем об этом, но это было бы вполне в духе его взаимоотношений со старшими князьями! Но и Андрей, и Глеб были тоже чужими для Всеволода; наверное, он испытывал к ним братские чувства, но и отчуждение между ними определённо существовало. Из окружавших его людей по-настоящему родным был для него лишь единоутробный брат Михалко, точно так же, как и он, не нашедший себе родного угла. И вот, женившись, он обрёл ещё одного родного и близкого человека — и «прилепился» к Марии на всю жизнь, до самой её кончины. Даже из того немногого, что мы знаем о жене Всеволода, можно сделать ещё один вывод: княгиня обладала качествами, присущими по-настоящему заботливым, «домовитым» жёнам. Эта её заботливость прежде всего проявилась в отношении к сёстрам. Обе жили вместе с ней и её мужем во Владимире (разумеется, после того, как Всеволод стал владимирским князем). К тому времени их отец умер — и получилось так, что заботиться о младших сёстрах пришлось самой Марии. А в ещё большей степени — Всеволоду; именно он впоследствии и будет подыскивать для них женихов и выдавать их замуж — и не за кого-нибудь, а за князей Рюриковичей. Надо думать, что семья Марии стала для него по-настоящему родной — а потому о свояченицах он будет печься с той же заботой, что и о своих собственных детях. Впрочем, прежде чем проявлять заботу о ком-либо ещё, Всеволоду предстояло позаботиться о самом себе. Пока что он оставался князем-изгоем, не имеющим пристанища и полностью зависящим от других, более сильных князей. Трагическая гибель Андрея Боголюбского, конечно же, открывала перед ним некие более ясные и близкие перспективы. Но, во-первых, в большей степени всё же не перед ним, а перед его старшим братом Михаилом, а во-вторых, и ему, и его старшему брату ещё только предстояло воспользоваться этими перспективами — а сделать это, как мы увидим, окажется очень и очень непросто.
Часть вторая ВОЙНА ЗА ВЛАДИМИР 1174–1178
Смерть Андрея Боголюбского
Убийство князя Андрея Юрьевича в собственном дворце собственными приближёнными — преступление неслыханное, беспрецедентное в истории древней Руси. Но беспрецедентным было и само правление Андрея. Давно уже замечено: дворцовый заговор, кровавый переворот сами по себе являются свидетельствами усиления княжеской власти, «приобретающей первые деспотические черты», ибо «при “нормальных” отношениях между князьями и вассалами (характерных для традиционного древнерусского общества. — А. К.) недовольство князем приводит к его изгнанию. Невозможность изгнания провоцирует убийство»1. Так и получилось в Боголюбове в ту роковую ночь на 29 июня 1174 года. Непосредственным поводом, толкнувшим заговорщиков к убийству, стала казнь по приказу Андрея одного из приближённых — его шурина Кучковича, брата его первой жены, — вполне возможно, как раз и замешанного в заговор. «Днесь того казнил, а нас заутра!» — такие слова брата казнённого (а значит, тоже шурина князя!) Якима Кучковича приводит летописец. Этого Якима летопись называет «возлюбленным слугой» князя Андрея; надо думать, Андрей всецело доверял ему — как, впрочем, и другим заговорщикам, принадлежавшим к его ближайшему окружению, вроде «начальника убийцам» Петра — зятя Кучковичей (то есть тоже свояка Боголюбского, женатого на родной сестре его первой супруги), или княжеского ключника Анбала Ясина (то есть осетина родом). «А всех неверных убийц числом 20, которые собрались на окаянный совет в тот день у Петра, у Кучкова зятя», — свидетельствует летописец2. С этого-то «окаянного совета», вооружившись и предварительно упившись для храбрости, под покровом ночи убийцы и направились во дворец князя, благо все ходы и выходы там, расположение комнат и постов охраны, все привычки князя и его сильные и слабые стороны были им отлично известны. И, перебив охрану и вломившись в княжескую опочивальню, они набросились на безоружного князя и убили его — «иссекли его мечами и саблями и копийные язвы даша ему…». Антропологи, изучавшие костные останки князя с использованием самых современных методик, подтверждают многие детали летописного рассказа: князь действительно был застигнут врасплох, у него действительно не оказалось в руках оружия (ибо ясин Анбал, имевший доступ в «ложницу» князя, выкрал накануне его меч — и не просто меч, а великую реликвию, ибо меч этот некогда принадлежал святому князю Борису, также принявшему мученическую смерть от убийц), и он действительно подвергся нападению сразу нескольких человек, среди которых были и профессиональные воины, в совершенстве владевшие приёмами ближнего боя3. На скелете князя исследователи обнаружили следы многочисленных ранений, полученных им перед смертью, — таких ранений насчитывают не менее полутора десятков, причём нанесены они были разными людьми и разным оружием: как рубящим — мечами и саблями, так и колющим — копьями и «рогатинами» (как называет орудия убийства новгородский книжник). Даже безоружным князь долго сопротивлялся, ранил одного из нападавших — но силы, конечно же, были неравны. Думая, что князь мёртв, убийцы покинули «ложницу», но израненный и истекающий кровью князь нашёл в себе силы последовать за ними — то ли ища помощи, то ли «в оторопе» преследуя убийц. Он сполз по каменной лестнице в подклеть боголюбского замка; здесь-то, за «восходным столпом», вернувшиеся назад убийцы нашли его по кровавому следу — нашли и прикончили. Удивительно, но место мученической смерти князя — каменная ниша у подножия винтовой лестницы — сохранилось до сих пор, привлекая к себе как любопытствующих туристов, так и многочисленных паломников. Летописи называют по именам четырёх из двадцати убийц князя (кроме тех троих, что были упомянуты выше, это ещё и некий Ефрем Моизович, или Моизич, чьё имя приведено в Радзивиловской и некоторых других летописях). Ныне, однако, список может быть расширен. В 2015 году при реставрации Спасо-Преображенского собора города Переславля-Залесского было сделано удивительное открытие: на южной абсиде храма обнаружена надпись-граффити, сообщающая о смерти князя Андрея Юрьевича. Благодаря искусству реставраторов учёные смогли частично прочитать её. Надпись сделана в два столбца, обведённых общей рамкой, с крестом сверху. В правом столбце говорится: «Месяца июня 29 убиен бысть князь Андрей своими паробкы (слугами. — А. К.); овому вечная память, а сим вечная мука…» Левый же столбец содержит имена убийц — нанесённые на стену храма, очевидно, уже после их казни для вечного проклятия. К сожалению, прочитать (пока!) можно лишь некоторые. И наряду с теми четырьмя, которые известны нам по летописному рассказу об убийстве, — а это Пётр (сверху, вне рамки, приписано отчество: Фралъвичь, то есть Фролович), Амбал (именно в такой форме!), Яки[м] Куцкович (так!) и Офрем Моизич, — можно различить ещё несколько: Добрына (?) Микитич, Микита, Пётр Иванкович, Фролец, Мирошка, Петрко, Стырята. «Си суть убийцы великого князя Андрея, да будут прокляты…» — такими словами завершается надпись (между прочим, древнейший на сегодняшний день относительно точно датированный памятник письменности Северо-Восточной Руси)4. Впрочем, до казни злодеев и их посмертного публичного проклятия пока ещё было далеко… Сразу же после убийства и в самом Боголюбове, и в стольном Владимире начались события страшные, чудовищные, способные вызвать ужас и оторопь у тех, кто хоть что-нибудь слышал о них. В том числе, наверное, и у Всеволода и других ближайших родичей Андрея, которые, напомню, находились в Чернигове у князя Святослава Всеволодовича и узнавали обо всём от черниговских «мужей», присылавших вести своему князю, а также от беженцев, прибывавших в Черниговскую землю. Рассказывали же они примерно одно и то же. Обезображенное и нагое тело Андрея было выволочено из боголюбского дворца в «огород» — некое огороженное место на задворках княжеского замка — и брошено там на потраву псам и добычу воронам. Одежды с князя были сорваны — так, словно это был не свой князь, а чужак, пришлец, никакими правами на княжеский стол не обладавший. (Похожим образом в 1146 году в Киеве расправились с князем-иноком Игорем Ольговичем Черниговским, которого обвинили в умыслах против киевского князя Изяслава Мстиславича: его растерзала обезумевшая толпа, а нагое тело тоже было брошено на поругание в одном из концов города.) Хоронить Андрея никто не собирался. Больше того, когда на следующий день один из преданных князю людей, некий Кузьмище Киянин (заметим, киевлянин родом — не свой, а пришлый!), стал искать тело своего господина, ему пригрозили: — Не смей трогать его! Так решили люди: хотим кинуть его псам на съедение! Если же кто прикоснётся к нему — тот нам враг. Убьём того! Кузьма всё же сумел прикрыть нагое тело и, завернув его в ковёр, понёс в церковь. Но и церковь была заперта: священники то ли были заодно с заговорщиками, то ли попрятались в страхе, то ли попросту перепились, ибо княжеская медуша была в те дни открыта для всех. Кузьма оставил тело в церковном притворе, и здесь пролежало оно несколько дней, пока наконец игумен Арсений не совершил погребальную службу и не вложил тело в каменную гробницу. В городе же творилось невообразимое. Все словно обезумели. Казалось, что смерть князя освободила людей не только от его власти, но и от любых человеческих законов. Всеми овладела единственная страсть — к насилию и грабежу. Грабили всё и у всех. Ещё в самую ночь убийства разгромлены были княжеские палаты. На следующее утро и в течение ближайших двух или трёх дней толпа громила всё, что попадало ей под руку. Из княжеского дворца выносили то, что не успели вытащить или чем побрезговали убийцы. Грабили дома княжеских «делателей» — мастеров, приглашённых князем для украшения храмов и палат во Владимире, Боголюбове и других городах княжества из разных земель и стран, — ювелиров, резчиков по камню и прочих. Громили дома посадников и тиунов, княжеских слуг и «мечников». И было так не в одном Боголюбове, но по всей округе и даже в стольном Владимире. Лишь на пятый или шестой день владимирские священники, выйдя с крестами и хоругвями на улицы города, сумели остановить всеобщее безумие. Убийцы князя и не пытались скрыться и, кажется, даже кичились содеянным. Обвинять их никто не спешил. Из летописного рассказа следует, что сразу же после убийства заговорщики начали «совокупите», то есть собирать, «дружину» — вероятно, желая навести хоть какой-то порядок в городе и обезопасить себя на будущее, а заодно предотвратить возможное нападение из соседнего Владимира. И местные «мужи» поддержали их («скупиша полк»); владимирцам же было предложено действовать заодно. «Что помышляете на нас? — передавали из Боголюбова во Владимир. — А хочем ся с вами коньчати (то есть заключить договор, «докончание». — А. К.), не нас бо одинех дума, но и о вас суть же в той же думе!» Иными словами, заговорщики хотели представить всё так, будто они действовали в интересах всего «общества», включавшего в себя граждан не одного только Боголюбова, но и Владимира, претворяли в жизнь некий совместный с ними замысел. Владимирцы присоединяться к ним отказались. Но и выступить против или хотя бы осудить их не захотели, предоставив каждому действовать так, как он посчитает нужным. «И разиидошася, и вьлегоша грабить, страшно зрети», — констатирует автор летописной повести об убийстве князя. «И велик мятеж бысть в земли той и велика беда, и множьство паде голов, яко и числа нету», — вторит ему новгородский летописец. Не станем рассуждать сейчас о том, как такое вообще могло случиться и почему в первые дни после убийства никто, кроме киянина Кузьмы, не заступился за убитого князя и не выступил хоть с какими-нибудь словами осуждения в адрес убийц, — на эту тему уже много было написано, в том числе и автором этих строк в книге, посвящённой князю Андрею Боголюбскому. Скажем лучше о том, что погромы продолжались во Владимире и округе в течение нескольких дней, пока, наконец, владимирскому духовенству не удалось успокоить народ. И зримым выражением наступившего социального примирения — пускай и хрупкого и временного — стало перенесение тела убитого князя из Боголюбова во Владимир. Причём те самые люди, которые зверствовали в княжеском дворце и на улицах города, восторженно встречали теперь процессию с телом князя. О прежней неприязни к нему как будто забыли, и столь нелюбимый князь вновь воспринимался всеми как достойный восхваления правитель, более того — как истинный мученик и едва ли не святой. Со смертью правителя ход времён словно бы останавливался — после же его погребения начинался новый отсчёт, и всё возвращалось «на круги своя», по слову Екклесиаста. Спустя всего пять или шесть дней после убийства, 4-го или 5 июля, тело князя «со честью и с плачем великим» было привезено во Владимир и положено в основанном и украшенном им же Успенском соборе. «И тако плакася по нём весь град», — пишет летописец, словно забывая о том, что он писал ранее и что предшествовало этому горестному плачу. Это не внутреннее противоречие источника и не попытка летописца выдать желаемое за действительное, написать заведомую неправду. Это противоречие самого средневекового общества, в котором правитель, князь, выступает одновременно в двух ипостасях — как сакральный носитель власти, олицетворяющий собой порядок и «нормальное», освящённое обычаем течение жизни, с одной стороны, и как реальный властитель, своими действиями способный вызывать у подданных отторжение и ненависть, — с другой. Князь умер — и вакуум власти тут же заполнился безвластием и вседозволенностью. «…Всякая государственность мгновенно распадается при смерти одного-единственного человека, и общество оказывается ввергнутым (по крайней мере дня на три) назад в гоббсовское “естественное состояние” (то есть в состояние хаоса. — А. К.)», — пишет современный исследователь, имея в виду отнюдь не только события в Боголюбове (но и их тоже!) и приводя многочисленные примеры из истории разных традиционных обществ. При этом «сама погребальная служба предстаёт как своего рода завершение анархического периода… и начало восстановления порядка. Так было и в случае с Андреем Боголюбским…»5. Впрочем, настоящее восстановление порядка пока что оставалось делом отдалённого будущего. Когда Всеволод вместе с братом Михаилом появится в Суздальской земле, тело Андрея Боголюбского уже будет покоиться под сводами Владимирского собора. Но спокойствия и порядка ещё очень долго не будет ни во Владимире, ни в других городах княжества. Ибо трагическая смерть князя Андрея и погромы в Боголюбове и Владимире стали лишь началом того глубочайшего кризиса, в пучину которого на несколько лет погрузилась Владимиро-Суздальская Русь.Дядья и племянники
Итак, все четыре князя, участники будущей войны за Владимир — Михалко и Всеволод Юрьевичи и Мстислав и Ярополк Ростиславичи, — к моменту гибели Андрея Боголюбского находились в Чернигове. Племянники были заметно старше своих дядьёв, однако по общепринятому династическому счёту уступали им первенство. Старший из Юрьевичей, Михалко, и старший из Ростиславичей, Мстислав, ещё недавно владели самостоятельными уделами, то есть считались полноценными князьями; трое из чё тырёх князей были женаты, а у Михалка и Мстислава имелись и сыновья. Младшие князья, Всеволод и Ярополк, прежде находились на положении «подручников» у старших, но оба тоже успели проявить себя на княжеском поприще, в войне. Все четверо привыкли действовать заодно друг с другом, хотя полного доверия между ними не существовало. Вспомним, что в недавней войне на юге все четверо выступали на одной стороне, да и исход войны оказался для всех одинаков. Однако по ходу войны судьбы князей складывались по-разному. Так, Всеволод и Ярополк вместе оказались в плену — но Михалко, заключив мир со смоленскими Ростиславичами, сумел вызволить из плена лишь брата; племянник же остался в заточении и получил свободу позднее, при неясных для нас обстоятельствах. И Михалко, и Мстислав равно потерпели поражение от Ростиславичей — но за первым остался его город и волость его даже была увеличена; когда же Мстислав, потерявший всё, пришёл к нему просить убежище, Михалко отказал ему. Такие вещи, конечно же, не забываются. Ещё важнее другое. Противоречия между дядьями и племянниками — вообще одна из «вечных» и «больных» тем в истории древней Руси. Ещё знаменитое завещание киевского князя Ярослава Мудрого не принимало в расчёт его старших внуков — сыновей умершего при его жизни старшего сына Владимира, — и тем, равно как и их сыновьям, правнукам Ярослава, пришлось с оружием в руках, в ходе долгих войн добиваться от дядьёв признания своих прав и выделения им городов для княжения. Нечто подобное повторялось потом из поколения в поколение. Вот и сыновья первенца Юрия Долгорукого, рано умершего князя Ростислава Юрьевича, должны были сами позаботиться о том, чтобы их интересы были соблюдены и чтобы они не остались князьями-изгоями, лишёнными «причастия», то есть своей доли власти в Северо-Восточной Руси. Противоречия между Юрьевичами и Ростиславичами пока что носили скрытый характер — но неизбежно и очень скоро должны были вырваться наружу. Между тем судьба осиротевшего княжества решалась во Владимире, где собрались представители всех главных городов Суздальской земли. «Уведали же смерть княжию ростовцы, и суздальцы, и переяславцы, и вся дружина от мала и до велика съехалась во Владимир», — свидетельствует летописец6. Так практически сразу после смерти князя вече вновь обрело силу и значение, утерянные им в годы княжения Андрея Боголюбского. Именно вече — в соответствии со старым, уходящим в прошлое, но пока ещё действующим обычаем — и должно было избрать нового князя на освободившийся княжеский стол. Примечательно, что хотя вече и собралось во Владимире, первыми среди его участников летописец называет ростовцев — очевидно, они и заправляли на вече. Не забудем, что именно ростовцы более других были недовольны умалением роли и значения своего города при Андрее. После смерти князя они должны были напомнить всем, что именно их город — «старейший» и первенствующий в княжестве. Ситуация складывалась следующим образом. Единственный оставшийся в живых сын Боголюбского Юрий находился в Новгороде. Его кандидатуру на освободившийся княжеский стол, может быть, и рассматривали, но сразу отвергли — прежде всего потому, что княжич был слишком юн, а ещё потому, что он не мог пользоваться любовью и доверием дружины и горожан как сын только что убитого князя, способный в скором времени жестоко отомстить за смерть отца. Неизвестно, приводил ли Андрей Боголюбский жителей княжества — по примеру отца — к крестному целованию своему сыну. Скорее всего, нет — ибо подобное крестное целование могло быть дано лишь на вече, а вече при Андрее, кажется, не собиралось. Но даже если бы клятва на кресте и была дана, действительной силой она не обладала — недавняя история Владимиро-Суздальской Руси доказала это. Андрей, несомненно, видел в сыне своего прямого наследника — не случайно он поставил его во главе огромного войска, посланного на Киев. Но войско это потерпело сокрушительное поражение, да и участвовавшие в походе князья совершенно не считались с формальным первенством юного Андреевича. Оставалось выбирать из сыновей и старших внуков Юрия Долгорукого. Заметим, что все четверо были людьми чужими для Северо-Восточной Руси. Их здесь не знали, ибо все четверо покинули Суздальскую землю ещё в детстве или ранней юности. Покинули, оборвав связи как с местным боярством, так и с дружиной. Андрей сознательно шёл на это, не допуская какой-либо конкуренции в борьбе за власть для своих сыновей. Но теперь, когда его единственный сын оказался исключён из борьбы за власть, это обстоятельство самым негативным образом должно было сказаться на судьбах княжества. Получалось, что почти двадцать лет самовластного княжения Андрея Боголюбского выпадали из естественного хода событий, нарушали преемственность власти. О крестном целовании, данном двадцать лет назад младшим сыновьям Юрия, здесь, конечно же, помнили — и не только Михалко со Всеволодом. Но помнили и о том, что крестное целование это было сразу же нарушено, а потому и Михалко, и Всеволод — когда-то младенцы, а теперь полные сил князья — вполне могли отомстить боярам и дружине не только за смерть брата, но и за попрание собственных княжеских прав. А потому передавать им — или, точнее, старшему из них, Михаилу, — княжеский стол также опасались. Тем более что некие особые права на княжение, по-видимому, имелись и у их племянников. Судя по тому, что говорилось в те дни, Юрий Долгорукий некогда оставлял княжество или какую-то его часть (Ростов и Ростовскую область?) на попечение своего старшего сына Ростислава, отца Мстислава и Ярополка. Из летописей мы ничего не знаем об этом, но если сказанное ростовцами и суздальцами правда, то такое могло случиться ранее 1138 года, то есть совсем уж в давние времена, — возможно, в 1134 году, когда Юрий ненадолго уходил на княжение в Переяславль-Южный. (С 1138 года Ростислав с перерывами княжил в Новгороде, лишь периодически возвращаясь в Суздаль, а в 1148 году перешёл на сторону врага Юрия, киевского князя Изяслава Мстиславича, ссылаясь как раз на то, что «ему отец волости не дал в Суждальской земли»7; в следующем году Ростислав возвратился к отцу, вместе с ним участвовал в походе на Киев и получил от отца Переяславль-Южный, где и умер в апреле 1151 года). В те годы Ростислав был ещё совсем юн; отсутствие же жёсткой руки Юрия его подданные, надо полагать, почувствовали — и, как это нередко бывает, вспоминали потом о «добром» князе Ростиславе Юрьевиче. Известно: чем дальше от нынешних дней отстоит время правления того или иного исторического персонажа, тем более благодатным и счастливым оно представляется — таков непреложный закон человеческой памяти. Вот и о давнишнем времени правления Ростислава здесь едва ли кто-нибудь мог помнить — и тем не менее слова о том, что князь Ростислав Юрьевич «добр был, коли княжил у нас» (или, в другом варианте: «коли жил у нас»), обращённые к его сыновьям Мстиславу и Ярополку, прозвучали едва ли не решающим аргументом при выборе нового князя. Ещё более важным стало другое обстоятельство. Напомню, что убийство Андрея Боголюбского случилось в те самые дни, когда Андрей вёл переговоры с другими князьями относительно замещения пустующего киевского престола. В ответ на просьбу смоленских Ростиславичей (чьи послы, очевидно, оставались во Владимире) Андрей обещал посоветоваться с союзными ему князьями и послал с этой целью и к своим черниговским союзникам, прежде всего к Святославу Всеволодовичу, и в Рязань, к своему зятю Глебу Ростиславичу, и в Муром, к тамошним князьям Владимиру и Давыду Юрьевичам. Послы всех этих князей тоже должны были прибыть во Владимир. Произошедшая здесь трагедия стала потрясением для всех; она резко меняла расклад сил, путала все карты в большой игре вокруг киевского престола и гегемонии в Южной Руси. Для смоленских Ростиславичей это означало, что теперь они сами, без всяких согласований с суздальским князем — но и без всякой опоры на его авторитет и военную силу, — должны позаботиться о возвращении себе Киева (который как раз в это время вновь занял их двоюродный брат Ярослав Луцкий), владимирские же князья надолго, если не навсегда вычёркиваются из числа возможных претендентов на киевский стол. Надо полагать, что послы Ростиславичей покинули Владимир при первой возможности — либо сразу после панихиды по Андрею, либо даже не дожидаясь её. Для черниговского князя Святослава Всеволодовича случившееся вроде бы открывало неплохие перспективы, тем более что все четыре претендента на владимирский стол находились рядом с ним и пользовались его покровительством. Но более всего Святослава заботили в те дни не владимирские и даже не киевские дела, а судьба родного Чернигова, вновь ставшего объектом притязаний со стороны его двоюродного брата, новгород-северского князя Олега Святославича. Наибольшую же активность в ходе подготовки и проведения владимирского веча проявили послы другого князя — умудрённого годами Глеба Ростиславича Рязанского[8]. В своё время Андрей Боголюбский сделал очень многое для того, чтобы подчинить себе Рязанское княжество, и, надо сказать, преуспел в этом. Рязанские и муромские полки принимали участие в его походах наравне с суздальскими и ростовскими; князь Глеб Рязанский превратился в его «подручного» — так же, как и его муромские родичи. Но после смерти Андрея ситуация грозила перевернуться с ног на голову. Из младшего по отношению к владимирскому «самодержцу» Глеб становился старшим по отношению к его братьям и племянникам. И ничего хорошего ожидать от него жителям княжества не приходилось. Излишнее сближение двух княжеств грозило тем, что после гибели Андрея рязанские князья могли предъявить счёт его преемникам на княжеском столе или даже претендовать на то, чтобы занять их место. Как оказалось, участники владимирского веча более всего боялись нападения Глеба Рязанского и муромских князей. Да и рязанские послы подливали масло в огонь, пугая владимирских «мужей» возможной местью своего князя. Летописец называет этих послов по именам — некие Дедилец и Борис. И получилось так, что именно в результате их усилий был сделан решающий выбор — в пользу племянников Андрея Мстислава и Ярополка Ростиславичей. Последние находились в свойстве с Глебом Рязанским, женатым на их родной сестре, а потому им легче было найти общий язык с рязанским князем. К Глебу Рязанскому и было решено обратиться за посредничеством в столь важном и деликатном деле. Летописец воспроизводит рассуждения собравшихся во Владимире «мужей»: — Се уже так случилось: князь наш убит, а детей у него нету, сынок его мал, в Новгороде, а братья его в Руси (то есть на юге, в данном случае — в Чернигове. — А. К.). За кем хотим послать из своих князей? У нас князья муромские и рязанские близко, в соседях; боимся мести их (в Лаврентьевской летописи: «лести их». — А. К.): когда пойдут внезапно ратью на нас, а князя у нас нет. Пошлём к Глебу с такими словами: «Князя нашего Бог поял, а хотим Ростиславичей, Мстислава и Ярополка, твоих шурьёв»8. Этот общий выбор был скреплён клятвой, данной на образе Пресвятой Богородицы — то есть на чудотворной иконе Владимирской Божией Матери. При этом симпатии самого летописца были на стороне других претендентов на княжеский стол, младших братьев Андрея — Михаила и Всеволода Юрьевичей. Это неудивительно, ибо трудился он уже после их окончательной победы и утверждения старшего из них на владимирском княжеском столе. А потому летописец и сопроводил свой рассказ укорами в адрес собравшихся во Владимире «мужей», которые забыли своё прежнее обещание, данное Юрию Долгорукому (вот когда наконец-то о нём вспомнили и вот когда оно обрело актуальность и юридическую силу!): «…А крестного целованья забыли: целовали к Юрию князю на меньших детях — на Михалке и на брате его, и преступили крестное целование, посадили Андрея, а меньших выгнали; ни здесь, по Андрее, [не] вспомнили, но послушали Дедильца и Бориса, рязанских послов. И утвердившись Святою Богородицею, послали ко Глебу: “Тебе свои шурья (использовано двойственное число. — А. К), а наши князья; и вот, утвердившись между собой, послали к тебе послов своих; приставишь к ним своих послов — пусть идут за князьями нашими в Русь”». Глеб, понятное дело, «рад был, что на него честь возлагают, а шурьёв его хотят». Рязанские послы присоединились к владимирским, суздальским и ростовским, и все вместе отправились в Чернигов: просить на княжение Мстислава и Ярополка Ростиславичей9.А что же сами князья? Вести из Владимира, несомненно, доходили до них, и о том, что творилось на владимирском вече, они — может быть, и с опозданием — узнавали. И Мстислав, и Ярополк, конечно же, согласны были занять владимирский стол, бывший для них пускай и не «отчиной», но «дединой» — наследием их деда Юрия Долгорукого. Обосновать этот выбор для самих себя, признать его справедливым и единственно верным — а обратный, то есть переход княжества в руки их дядьёв Михалка и Всеволода Юрьевичей, напротив, неверным и несправедливым, — было делом не хитрым: у каждого, как известно, своя правда. Так видимое единство дядьёв и племянников при первом же внешнем воздействии нанего дало трещину и грозило взорваться с оглушительной силой. Но до тех пор, пока Ростиславичи оставались в Чернигове, им приходилось считаться и со своими дядьями Юрьевичами, и — что ещё важнее — со своим покровителем, черниговским князем Святославом Всеволодовичем. Когда послы из Владимира явились в Чернигов, рассказывает летописец, они напрямую обратились к Ростиславичам: — Отец ваш добр был, коли княжил у нас (так в Лаврентьевской летописи; в Ипатьевской: «коли у нас был». — А. К.), а поедите (двойственное число. — А. К.) к нам княжить, а иных не хотим! Приведён в летописи и ответ Мстислава и Ярополка: — Помоги Бог дружине, что не забывают любви отца нашего!10 Однако, несмотря на прямую угрозу, содержавшуюся в словах послов («…А иных не хотим!»), Ростиславичи не решились открыто принимать их предложение. Ибо «был тут Михалко Юрьевич с ними, у Святослава князя, [в| Чернигове…», объясняет летописец. (В Ипатьевской летописи, отразившей текст, подвергшийся более поздней обработке, к имени Михалка Юрьевича прибавлено и имя Всеволода: «…были тут Михалко и Всеволод Юрьевичи с ними…»). Святослава Всеволодовича нередко считают дедом по матери князей Ростиславичей, хотя сведения об этом содержатся только в «Истории Российской» В. Н. Татищева, а Татищев явно путался в родственных связях членов семьи Юрия Долгорукого (называя Мстислава и Ярополка сыновьями то Мстислава, то Ростислава Юрьевича). Но так или иначе, а именно черниговский князь выступил гарантом заключённого между князьями договора. Для Святослава Всеволодовича крайне невыгодно было вступать в конфликт с Михалком Юрьевичем, сильнейшим среди всех четырёх князей, — а такой конфликт был неизбежен, поддержи он Ростиславичей. Напротив, состояние неустойчивости в Суздальской земле, чреватое внутренней войной и фактическим раздроблением княжества между четырьмя князьями, вполне отвечало его интересам. Зато крайне нежелательно для Святослава было чрезмерное усиление Рязанского княжества (несмотря на то, что его дочь была замужем за сыном Глеба Романом) или, тем более, объединение двух княжеств в одних руках. В результате при посредничестве Святослава Всеволодовича и не названного по имени черниговского епископа (вероятно, Порфирия) Юрьевичи и Ростиславичи заключили договор, по которому «старейшинство» признавалось за Михалком Юрьевичем — действительно старшим из всех четырёх князей, но лишь по династическому счёту, а отнюдь не по возрасту. Однако «старейшинство» это было весьма условным: «…И, здумавше сами (обдумав всё, договорившись между собой. — А. К.), сказали: “Либо лихо, либо добро всем нам; пойдём все четверо: Юрьевича два и Ростиславича два”… И утвердившись между собой, дали старейшинство Михалку, и целовали честный крест у епископа Черниговского из руки…»11 Договор этот с самого начала выглядел шатким и неустойчивым. Доверия друг к другу князья не испытывали. А потому и в путь они выступили с крайней осторожностью, разбившись на пары, — очевидно, с тем, чтобы каждый следил за каждым, оставаясь гарантом и своего рода заложником заключённого между ними соглашения. «И пошли впереди два: Михалко Юрьевич и Ярополк Ростиславич», — свидетельствует летописец; соответственно, двое других, Всеволод Юрьевич и Мстислав Ростиславич, должны были выступить в путь позже и следовать за ними на значительном расстоянии. Первым на их пути городом Суздальской земли была Москва. Здесь князей ждали представители городов и дружины, специально прибывшие для встречи. Присутствие рядом с Ярополком князя Михалка Юрьевича вызвало недовольство ростовских посланцев. А потому они опять-таки обратились к одному Ярополку, веля ему: — Ты поеди семо (сюда. — А. К.). Михалку же велели дожидаться его: — Пожди мало на Москве. И Ярополк предпочёл нарушить крестное целование, которое несколькими днями раньше дал в присутствии черниговского епископа. Утаившись от дяди, он уехал «к дружине» — в Переяславль. Ростовские и прочие «мужи» и дружина встретили здесь Ростиславича с ликованием: «и, увидя князя Ярополка, целовали его, и утвердились крестным целованием»12. Новое крестное целование — которое, очевидно, Ярополк дал от себя и от брата — должно было полностью дезавуировать прежнее, данное в Чернигове. Когда Михалко узнал о предательстве племянника, он немедленно отправился во Владимир. На поддержку жителей стольного города Андрея Боголюбского Михалко мог рассчитывать прежде всего. Что же касается Всеволода, то он, по всей вероятности, остался в Чернигове. Во всяком случае, при описании последующих событий летописец называет лишь старшего Юрьевича, не упоминая о его младшем брате13.
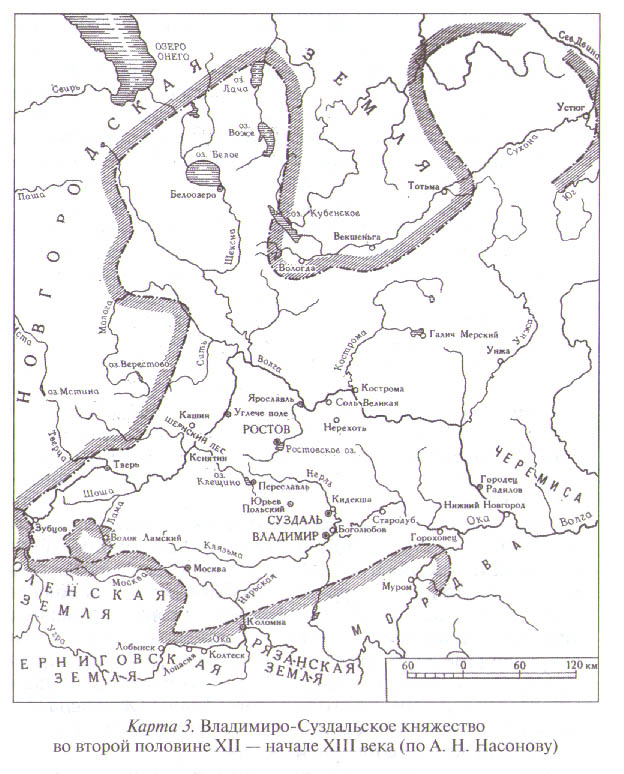 Но Михалку не повезло. Получилось так, что почти никого из собственно дружины и княжеских «мужей» во Владимире не было. Около полутора тысяч человек ещё раньше выехали из города для встречи князей — Мстислава и Ярополка Ростиславичей. Сделали они это «по повелению» ростовцев, особо оговорил летописец. Таким образом, Михалко оказался почти без войска — только со своей собственной немногочисленной дружиной. Оставшиеся жители Владимира, однако, с готовностью поддержали его в противостоянии племянникам. Как потом объясняли они сами, дело было не в какой-то особой их неприязни к князьям Ростиславичам. Владимирцы опасались именно ростовских и суздальских «мужей», ибо изначально враждовали с ними. В первой части книги мы уже говорили об этом: возвышение «младшего» Владимира в ущерб Ростову и Суздалю вызвало раздражение и ненависть жителей «старших» городов княжества; владимирцы ссылались и на прямые угрозы в свой адрес: их город обещали сжечь, лишить права иметь собственного князя, а их самих «развести», то есть увести в полон, превратить в холопов.
Тем временем Ярополк Ростиславич, утвердившись крестным целованием с собравшимися в Переяславле «мужами», двинулся на Владимир. Михалко Юрьевич затворился в городе, изготовившись к осаде. Война между дядьями и племянниками перешла в открытую фазу, превратившись по существу в гражданскую войну во Владимиро-Суздальской Руси.
Тогда же или, может быть, чуть позже к Ярополку присоединился его старший брат Мстислав. Однако оба Ростиславича оставались на вторых ролях, будучи захвачены стихией «ростовцев» и прочих безымянных участников событий. «Приехала же со всею силою Ростовская земля на Михалка ко Владимиру, и много зла створили, муромцев и рязанцев привели, и пожгли около города», — читаем в летописи. Оказался на стороне племянников и бывший первый воевода Андрея Боголюбского Борис Жидиславич: вероятно, это должно было свидетельствовать о преемственности их власти с прежней, Андреевой.
Владимирцы и немногочисленные воины Михалка стойко оборонялись: «бьяхутся с города», по выражению летописца14. Осада продолжалась семь недель. Наконец, в городе начался голод, который и решил судьбу князя. Любопытно, что летописец — писавший уже после окончательного поражения Ростиславичей и вокняжения Михалка Юрьевича во Владимире — объясняет случившееся как новое чудо Владимирской иконы:
«И Святая Богородица избавила град свой. Владимирцы же, не терпя глада, сказали Михалку: “Мирись! Или, княже, промышляй о себе!”».
И Михалку пришлось подчиниться этому требованию. Но в итоге он даже выиграл, добровольно уйдя из Владимира: прекратив бессмысленное разорение города и его окрестностей, князь сумел снискать уважение владимирских «мужей» — и не только тех, кто вместе с ним защищал город, но и тех, кто против своей воли участвовал в его осаде.
Летописец с сочувствием пишет об этом, приводя слова, с которыми князь обратился к владимирцам:
— Ваша правда, что не хотите ради меня погибнуть!
«И поехал в Русь», — продолжает летописец, как и прежде понимая под Русью Черниговскую землю; «и проводили его владимирцы с плачем». А в некоторых летописях к этому прибавлено: «…поехал в Русь ограблен»15. Наверное, осаждавшие город сторонники Ростиславичей не преминули воспользоваться слабостью князя, ограбив и его самого, и его людей. Но Михалко потерял не только какие-то ценности, бывшие у него, — уйдя из Владимира, он потерял княжение, «отчину», на которую имел никак не меньше прав, нежели его племянники. Надо думать, что в Чернигове или каком-то ином городе Святослава Всеволодовича его встретил Всеволод. С разрешения черниговского князя братья обосновались где-то в пределах его владений — наверное, поближе к границам Владимиро-Суздальской земли, — ожидая, как будут там развиваться события. Это новое изгнание должно было уязвить их даже сильнее, чем первое, при Боголюбском. Ибо теперь они были взрослыми, полными сил князьями — но князьями, потерявшими всё, не принятыми собственными подданными, потерпевшими жестокое поражение от тех, кого считали родными себе людьми. На что они могли надеяться? На время, которое рано или поздно расставляет всё по своим местам, на поддержку кого-то из сильных князей (в первую очередь, конечно, черниговского Святослава), да ещё на неопытность своих племянников, которые вполне могли — и должны были! — совершить какую-нибудь оплошность…
Пока же Ростиславичи могли торжествовать. Они не стали мстить жителям Владимира, но, напротив, целовали крест, что не причинят им никакого зла (это, очевидно, стало одним из условий изгнания Михалка из города). Владимирцы с крестами вышли навстречу Мстиславу и Ярополку, и те «утешили» их: ибо не против Ростиславичей бились владимирцы, объясняет летописец, но не желая покоряться ростовцам, и суздальцам, и муромцам, угрожавшим: пожжём Владимир и посадника в нём посадим: то суть холопы наши, каменщики (любопытное указание на преобладание во Владимире ремесленного населения, очевидно, приведённого сюда Андреем Боголюбским).
Братья разделили между собой Ростовскую землю[9]. Ростовцы посадили у себя на княжение старшего, Мстислава, — «на столе дедни и отни, с радостью великою», как пишет летописец. Так сбылась давняя мечта ростовских бояр — вернуть своему городу статус главного, стольного города княжества. Ярополк же занял стол своего дяди — и владимирцы, по летописи, тоже приняли его «с радостью» и посадили «в городе Володимери на столе, в Святей Богородице», то есть во владимирском Успенском соборе. Правда, в той версии летописного рассказа, которая подверглась обработке уже в княжение Всеволода Юрьевича (отразившись, например, в Радзивиловской летописи XV века), слов о «радости» жителей города нет; надо думать, что переписчик вычеркнул их, не желая признаваться в симпатиях к «нелегитимному» Ростиславичу. В действительности же исход войны был для владимирцев вполне приемлемым: выдержав семинедельную осаду, они отстояли свою независимость, получили собственного князя, не превратились в «пригород» других, «старших» городов княжества. Более того, Ярополк сел на владимирский стол, «весь поряд положивше», то есть заключив «ряд», договор с городскими «мужами» и дружиной, — и это должно было отличать его княжение от предшествующего, Андрея Боголюбского, опиравшегося прежде всего на свои наследственные, княжеские права. Так что владимирцы и в самом деле должны были испытать удовлетворение от столь удачного разрешения острого династического кризиса. Другое дело, что последующая политика князя Ярополка не оправдала их ожиданий.
…Рассказывая об этой первой войне между дядьями и племянниками, летописец не приводит никаких дат. Однако о первом же следующем летописном событии — женитьбе князя Ярополка Ростиславича в январе или феврале 1175 года — сказано, что оно случилось «тое же зимы»16. Отсюда следует, что и поражение Михалка, и вокняжение Мстислава и Ярополка Ростиславичей имели место «на зиму», то есть, по нашему счёту, в конце осени 1174-го или в начале зимы 1174/75 года.
Но Михалку не повезло. Получилось так, что почти никого из собственно дружины и княжеских «мужей» во Владимире не было. Около полутора тысяч человек ещё раньше выехали из города для встречи князей — Мстислава и Ярополка Ростиславичей. Сделали они это «по повелению» ростовцев, особо оговорил летописец. Таким образом, Михалко оказался почти без войска — только со своей собственной немногочисленной дружиной. Оставшиеся жители Владимира, однако, с готовностью поддержали его в противостоянии племянникам. Как потом объясняли они сами, дело было не в какой-то особой их неприязни к князьям Ростиславичам. Владимирцы опасались именно ростовских и суздальских «мужей», ибо изначально враждовали с ними. В первой части книги мы уже говорили об этом: возвышение «младшего» Владимира в ущерб Ростову и Суздалю вызвало раздражение и ненависть жителей «старших» городов княжества; владимирцы ссылались и на прямые угрозы в свой адрес: их город обещали сжечь, лишить права иметь собственного князя, а их самих «развести», то есть увести в полон, превратить в холопов.
Тем временем Ярополк Ростиславич, утвердившись крестным целованием с собравшимися в Переяславле «мужами», двинулся на Владимир. Михалко Юрьевич затворился в городе, изготовившись к осаде. Война между дядьями и племянниками перешла в открытую фазу, превратившись по существу в гражданскую войну во Владимиро-Суздальской Руси.
Тогда же или, может быть, чуть позже к Ярополку присоединился его старший брат Мстислав. Однако оба Ростиславича оставались на вторых ролях, будучи захвачены стихией «ростовцев» и прочих безымянных участников событий. «Приехала же со всею силою Ростовская земля на Михалка ко Владимиру, и много зла створили, муромцев и рязанцев привели, и пожгли около города», — читаем в летописи. Оказался на стороне племянников и бывший первый воевода Андрея Боголюбского Борис Жидиславич: вероятно, это должно было свидетельствовать о преемственности их власти с прежней, Андреевой.
Владимирцы и немногочисленные воины Михалка стойко оборонялись: «бьяхутся с города», по выражению летописца14. Осада продолжалась семь недель. Наконец, в городе начался голод, который и решил судьбу князя. Любопытно, что летописец — писавший уже после окончательного поражения Ростиславичей и вокняжения Михалка Юрьевича во Владимире — объясняет случившееся как новое чудо Владимирской иконы:
«И Святая Богородица избавила град свой. Владимирцы же, не терпя глада, сказали Михалку: “Мирись! Или, княже, промышляй о себе!”».
И Михалку пришлось подчиниться этому требованию. Но в итоге он даже выиграл, добровольно уйдя из Владимира: прекратив бессмысленное разорение города и его окрестностей, князь сумел снискать уважение владимирских «мужей» — и не только тех, кто вместе с ним защищал город, но и тех, кто против своей воли участвовал в его осаде.
Летописец с сочувствием пишет об этом, приводя слова, с которыми князь обратился к владимирцам:
— Ваша правда, что не хотите ради меня погибнуть!
«И поехал в Русь», — продолжает летописец, как и прежде понимая под Русью Черниговскую землю; «и проводили его владимирцы с плачем». А в некоторых летописях к этому прибавлено: «…поехал в Русь ограблен»15. Наверное, осаждавшие город сторонники Ростиславичей не преминули воспользоваться слабостью князя, ограбив и его самого, и его людей. Но Михалко потерял не только какие-то ценности, бывшие у него, — уйдя из Владимира, он потерял княжение, «отчину», на которую имел никак не меньше прав, нежели его племянники. Надо думать, что в Чернигове или каком-то ином городе Святослава Всеволодовича его встретил Всеволод. С разрешения черниговского князя братья обосновались где-то в пределах его владений — наверное, поближе к границам Владимиро-Суздальской земли, — ожидая, как будут там развиваться события. Это новое изгнание должно было уязвить их даже сильнее, чем первое, при Боголюбском. Ибо теперь они были взрослыми, полными сил князьями — но князьями, потерявшими всё, не принятыми собственными подданными, потерпевшими жестокое поражение от тех, кого считали родными себе людьми. На что они могли надеяться? На время, которое рано или поздно расставляет всё по своим местам, на поддержку кого-то из сильных князей (в первую очередь, конечно, черниговского Святослава), да ещё на неопытность своих племянников, которые вполне могли — и должны были! — совершить какую-нибудь оплошность…
Пока же Ростиславичи могли торжествовать. Они не стали мстить жителям Владимира, но, напротив, целовали крест, что не причинят им никакого зла (это, очевидно, стало одним из условий изгнания Михалка из города). Владимирцы с крестами вышли навстречу Мстиславу и Ярополку, и те «утешили» их: ибо не против Ростиславичей бились владимирцы, объясняет летописец, но не желая покоряться ростовцам, и суздальцам, и муромцам, угрожавшим: пожжём Владимир и посадника в нём посадим: то суть холопы наши, каменщики (любопытное указание на преобладание во Владимире ремесленного населения, очевидно, приведённого сюда Андреем Боголюбским).
Братья разделили между собой Ростовскую землю[9]. Ростовцы посадили у себя на княжение старшего, Мстислава, — «на столе дедни и отни, с радостью великою», как пишет летописец. Так сбылась давняя мечта ростовских бояр — вернуть своему городу статус главного, стольного города княжества. Ярополк же занял стол своего дяди — и владимирцы, по летописи, тоже приняли его «с радостью» и посадили «в городе Володимери на столе, в Святей Богородице», то есть во владимирском Успенском соборе. Правда, в той версии летописного рассказа, которая подверглась обработке уже в княжение Всеволода Юрьевича (отразившись, например, в Радзивиловской летописи XV века), слов о «радости» жителей города нет; надо думать, что переписчик вычеркнул их, не желая признаваться в симпатиях к «нелегитимному» Ростиславичу. В действительности же исход войны был для владимирцев вполне приемлемым: выдержав семинедельную осаду, они отстояли свою независимость, получили собственного князя, не превратились в «пригород» других, «старших» городов княжества. Более того, Ярополк сел на владимирский стол, «весь поряд положивше», то есть заключив «ряд», договор с городскими «мужами» и дружиной, — и это должно было отличать его княжение от предшествующего, Андрея Боголюбского, опиравшегося прежде всего на свои наследственные, княжеские права. Так что владимирцы и в самом деле должны были испытать удовлетворение от столь удачного разрешения острого династического кризиса. Другое дело, что последующая политика князя Ярополка не оправдала их ожиданий.
…Рассказывая об этой первой войне между дядьями и племянниками, летописец не приводит никаких дат. Однако о первом же следующем летописном событии — женитьбе князя Ярополка Ростиславича в январе или феврале 1175 года — сказано, что оно случилось «тое же зимы»16. Отсюда следует, что и поражение Михалка, и вокняжение Мстислава и Ярополка Ростиславичей имели место «на зиму», то есть, по нашему счёту, в конце осени 1174-го или в начале зимы 1174/75 года.
Под началом брата
Одержав победу, племянники первым делом поспешили добиться признания её другими князьями. И прежде всего — смоленскими Ростиславичами, сильнейшим княжеским кланом того времени. Для этого был выбран самый надёжный способ — через заключение династического брака. «Тое же зимы женился Ярополк Ростиславич, князь Владимирский», — свидетельствует летописец. Женой Ярополка стала дочь витебского князя Всеслава Васильковича; венчание состоялось во Владимире, в Успенском соборе. Но примечательно, что посылал Ярополк за невестой не в Витебск, а в Смоленск. Что объяснимо: тесть Ярополка всецело зависел от смоленских Ростиславичей, которым был обязан княжением и в Витебске, и (по меньшей мере дважды) в Полоцке. Ещё важнее то, что Всеслав был женат на родной сестре смоленских Ростиславичей17: вступая в брак с внучкой князя Ростислава Мстиславича, Ярополк и сам вступал в клан Ростиславичей и мог теперь рассчитывать на их поддержку. Правда, как раз в это время единство смоленского клана стало давать трещину. Зимой 1174/75 года, когда Ярополк сватался к Всеславне, в Смоленске распоряжался старший из Ростиславичей Роман, чей сын, тоже Ярополк, формально занимал смоленский стол, но в действительности во всём слушался отца и его бояр. Это не могло понравиться смолянам. Тем более что самого Романа больше заботили киевские, нежели смоленские дела. Вскоре он действительно займёт Киев, однако удержать за собой оба княжеских стола — и в Киеве, и в Смоленске — у него не получится. «Того же лета, — продолжает летописец в той же годовой статье (а значит, речь идёт о событиях, происходивших до марта 1175 года), — смоляне выгнали от себя Романовича Ярополка, а Ростиславича Мстислава ввели в Смоленск княжить». Ставший смоленским князем Мстислав Храбрый недолюбливал витебского зятя (несколькими годами позже он начнёт против него войну), а значит, смоленские связи Ярополка Владимирского должны были ослабнуть. Тогда же старший брат Ярополка Мстислав сумел заключить союз с Великим Новгородом. Собственно, сын Боголюбского нужен был новгородцам только для того, чтобы обезопасить себя от нападения со стороны Суздаля, и нужен был лишь до тех пор, пока отец его правил в Суздале. После смерти отца судьба Юрия Андреевича была решена. В 1175 году его «вывели» из города; взамен новый правитель Северо-Восточной Руси посадил на княжение в Новгород своего сына, совсем ещё маленького Святослава18. Судя по тону Новгородской летописи, всё проходило мирно, без эксцессов — а значит, было согласовано со смоленскими Ростиславичами. Юрий вернулся в Суздальскую землю. Выгонять его отсюда двоюродные братья не собирались. Очевидно, они не видели в сыне Боголюбского никакой угрозы для себя. В отличие от Всеволода Юрьевича, который окажется по отношению к племяннику куда менее гуманным. Союз младших Ростиславичей — новых владимиро-суздальских князей — со старшими — смоленскими — не мог не беспокоить черниговского князя Святослава Всеволодовича. Тем более что зимой того же 1175 года в Черниговском княжестве началась новая война, развязанная его двоюродным братом, новгород-северским князем Олегом Святославичем. И в эту войну оказались втянуты смоленские Ростиславичи, с которыми Олег находился в свойстве (его жена Агафья была дочерью Ростислава Мстиславича Смоленского, а сестра — женой старшего из Ростиславичей Романа), а также тогдашний киевский князь Ярослав Изяславич Луцкий. Союзная рать пожгла Лутаву и Моровийск — города Святослава Всеволодовича, однако вскоре Ростиславичи и Ярослав Изяславич заключили со Святославом мир и ушли восвояси; Олег же войну продолжил. Вместе с младшим братом Игорем он разорил окрестности Стародуба — ещё одного города, на который претендовал. Но без союзников Олег выстоять против Святослава Всеволодовича не мог. Святослав вместе со своим родным братом Ярославом подступил к городу Олега. Битва у стен Новгорода-Северского закончилась, едва начавшись: войско Олега бежало, «только по стреле стреливше»; сам князь укрылся в городе, «а дружину его изъимаша, а другую посекоша, а острог пожгоша». Добивать двоюродного брата Святослав не стал, но заключил с ним мир и возвратился в Чернигов. Прямым следствием Черниговской войны стала перемена на киевском столе. Вернувшийся из черниговского похода князь Ярослав Изяславич то ли убоялся силы Ростиславичей, то ли счёл себя чем-то обиженным, но оставаться в Киеве не захотел. Расценив появление на юге старшего из Ростиславичей Романа как намерение отнять у него киевский стол, он решил уйти к себе в Луцк, добровольно (уже во второй раз!) отказываясь от Киева. «Привели брата своего Романа, а даёте ему Киев!» — с такими укоризненными словами он послал к Ростиславичам, покидая некогда стольный город Руси. Братья звали его вернуться, но Ярослав остался непреклонен. Ничего другого Ростиславичам не оставалось, и Роман — получается, с неохотой, чуть ли не через силу! — «сел на столе деда своего и отца своего». Неразбериха с киевскими делами была на руку князю Святославу Черниговскому, по-прежнему мечтавшему о киевском престоле. Но прежде чем возобновлять борьбу за Киев, ему надлежало разобраться с тем, что происходило у него дома, а также по соседству — в Суздальском княжестве. Урок, который он преподал Олегу Святославичу, позволял надеяться на то, что его двоюродный брат откажется в ближайшем будущем предпринимать какие-либо враждебные шаги по отношению к нему. Но в Суздальской земле княжили союзники смоленских Ростиславичей. «Суздальский вопрос» надо было разрешить не медля, тем более что «под рукой» Святослава были братья Юрьевичи, имевшие законные права на суздальский стол.Летопись объясняет случившееся там исключительно недальновидными и преступными действиями их племянников Ростиславичей. Но нет сомнений, что роль князя Святослава Всеволодовича в происходящем была определяющей. «Ростиславичи сидели на княжении земли Ростовской, — рассказывает летописец под 1175 годом, — и раздавали по городам посадничество русским “детским”; те же многую тяготу людям творили продажами и вирами, а сами князья молоды были, слушая бояр, а бояре учили их на многое стяжание…»19 Текст этот составлен был летописцем уже после поражения Ростиславичей и вокняжения Михалка Юрьевича во Владимире, а потому он, несомненно, тенденциозен. Но столь же несомненно и то, что в целом он верно передаёт основные причины недовольства Ростиславичами — особенно во Владимире, где княжил младший из братьев Ярополк (и где, напомню, составлялась летопись). Мы уже говорили о том, что Ростиславичи прибыли в Суздальскую землю с юга — то есть из «Руси» (как по-прежнему, даже ещё и на исходе XII столетия, именовали здесь Южную Русь, очевидно, считая суздальское «Залесье» не вполне «Русью»). Для местного населения они оставались чужаками. Точно такими же и даже ещё большими чужаками было их окружение, приведённое ими из «Руси». Этим-то людям — по большей части «детским», то есть, по терминологии того времени, младшим дружинникам (а кто, кроме «детских», мог входить в окружение князей, лишённых или никогда не имевших своих уделов?), — они и вручали административные — управленческие и судебные — функции в городах доставшегося им княжества; эти люди и собирали здесь «творимые» виры и продажи — штрафы за совершённые преступления или за те деяния, которые ими же трактовались как нарушающие княжеские установления по «Русской Правде» — своду законов, которыми руководствовались князья. Известно: «закон — что дышло», и повернуть его можно в любую сторону в зависимости от желания и степени алчности того, в чьих руках находится реальная власть. Очевидно, «детские» и бояре князей Ростиславичей слишком долго оставались без какой-либо власти вообще, без какой-либо возможности взять своё, чтобы при первом же удобном случае не наброситься на эту власть и не постараться выкачать из неё как можно больше для себя лично и для своего князя. Алчность бояр и «детских» дорого будет стоить братьям. Но князьям приходится отвечать за своих слуг — это входит в непременный перечень княжеских обязанностей. Да и не так уж молоды были Мстислав с Ярополком (вопреки тому, что писал о них летописец), чтобы во всём слушаться бояр и только от них научаться «многому иманию» и «стяжанию». Своей победой над дядьями братья были обязаны слишком многим: и местному (прежде всего ростовскому) боярству, и своим «детским», и князю Глебу Рязанскому. Теперь, получив власть, им приходилось платить по счетам. А заодно удовлетворять собственные амбиции, компенсируя своё многолетнее пребывание в тени и безвластии, на вторых и третьих ролях в княжеской иерархии. О том, что творилось тогда в Ростове и Суздале, мы ничего не знаем. О владимирских же делах рассказывает летописец. По его словам, в первый же день своего пребывания на владимирском столе князь. Ярополк отобрал ключи от ризницы «златоверхой» церкви Святой Богородицы, построенной Андреем Боголюбским, и повелел вывезти из неё ценности — золото, серебро и прочую церковную «кузнь», священные книги в драгоценных окладах и даже наиболее богатые иконы. Ещё важнее было то, что князь отнял «городы ея и дани, которые дал церкви той блаженный князь Андрей». В числе прочего, из владимирского Успенского собора была вынесена чудотворная икона Божией Матери — та самая, что была привезена Андреем из Вышгорода. Жители Владимира и всей Владимирской земли давно уже привыкли связывать с ней свои успехи, начиная с победоносного похода на болгар в 1164 году. Теперь же драгоценная святыня была передана рязанскому князю Глебу Ростиславичу — надо полагать, в качестве компенсации за нарушение владимирцами крестного целования, данного на этой иконе несколькими месяцами ранее20. Со стороны Ярополка это был в высшей степени опрометчивый шаг, более того — шаг, граничащий с кощунством. Во всяком случае, именно так он был истолкован политическими противниками Ростиславичей. Ограбление главного, соборного храма завоёванного города было в обычае того времени. Получалось, что князь Ярополк Ростислава — в нарушение только что заключённого «ряда» с владимирскими «мужами» — отнёсся к городу, в котором ему предстояло княжить, как к чужому, завоёванному им. Ответом стало возмущение владимирских «мужей». «Мы добровольно князя прияли к себе и крест целовали на всём, — передаёт их слова летописец. — А сии яко не свою волость творят (то есть словно не своей волостью управляют. — А. К.). Словно и не собираются сидеть у нас, грабят: и не только волость всю, но и церкви! А промышляйте, братья!» Последние слова содержали в себе отнюдь не вопль отчаяния, но вполне ясный призыв, обращённый к другим городам княжества. Владимирцы отправили посольства в Суздаль и Ростов, «являя им свою обиду» и призывая «промышлять», то есть действовать с ними заодно. На словах, свидетельствует летописец, ростовские и суздальские бояре выразили им своё сочувствие, но на деле крепко держались своих князей, то есть Ростиславичей. Это не остановило владимирских «мужей». На их стороне оказался и сын Боголюбского Юрий (возможно, оставленный своим двоюродным братом Ярополком «блюсти» город). Воспользовавшись отсутствием самого Ярополка, владимирцы отправили посольство в Чернигов — звать на княжение Михалка Юрьевича. — Ты старее в братьи своей, — передаёт их слова летописец. — Пойди во Владимир! Если что замыслят на нас ростовцы и суздальцы про тя (из-за тебя. — А. К.), то как нам с ними Бог даст и Святая Богородица! Михалко — несомненно, после совета с братом Всеволодом — ответил согласием. Можно не сомневаться и в том, что их с братом решимость подкреплялась предварительной договорённостью на этот счёт с черниговским Святославом. Не исключено даже, что князь Святослав Всеволодович или его люди как-то повлияли на решение владимирского веча, разжигая недовольство Ярополком. Теперь «добрым» князем оказывался уже не Ростиславич, а Михалко, просидевший во Владимире в осаде семь недель и добровольно покинувший город ради самих владимирцев. Князь Святослав Всеволодович не только поддержал Юрьевичей и оказал им военную помощь, но и отправил вместе с ними сына Владимира «с полком». Эта помощь была необходима ещё и потому, что Михалко в то время болел. Он, видимо, был вообще слаб здоровьем, а к весне 1175 года болезнь его обострилась. А это, помимо прочего, значило, что на Всеволода и приставленного к нему Владимира Святославича ложится особая, дополнительная нагрузка. Теперь Всеволоду приходилось действовать за двоих — и за себя, и за брата. Всё шло к тому, что именно ему придётся фактически встать во главе войска. Князья выступили в поход 21 мая, на праздник святых Константина и Елены21. Однако Михалко действительно разболелся. «Болезнь велика», по словам летописца, случилась с ним в самом начале пути, когда войско только-только покинуло Чернигов и находилось примерно в 11 верстах от города, на реке Свинь (или Свиной, как она по-другому называется в летописи)22. Князь не мог даже самостоятельно передвигаться, так что его пришлось нести на носилках «токмо еле жива». Но и с таким предводителем поход продолжился. Войско следовало в Суздальскую землю привычным путём: через Глухов и землю вятичей. Путь этот вёл к Москве, куда встречать Михалка Юрьевича выехали его сторонники из Владимира. (Примечательно, что, рассказывая об этом, летописец вспомнил и старое название Москвы — Кучков: как видно, в южной Руси оно было в ходу в те времена, когда писалась летопись, и даже употреблялось как главное название города: князья «…идоша… до Кучкова, рекше до Москвы».) Среди встречавших оказался и юный Юрий Андреевич. Это выглядело символично: Ростиславичей обвиняли в первую очередь в нарушении установлений Андрея Боголюбского, в разграблении построенной им Владимирской церкви; присутствие же в войске Юрьевичей Андреева сына призвано было продемонстрировать преемственность теперь уже их будущего курса с Андреевым — по крайней мере в церковных делах. Правда, в Лаврентьевской летописи имени Юрия Андреевича мы не встретим — но это и неудивительно, учитывая дальнейшую судьбу княжича. К этому времени опомнились, наконец, и Ростиславичи. Узнав о выступлении владимирских «мужей», они стали держать совет с дружиной. Было решено, что Ярополк со своим полком двинется навстречу дядьям, дабы не пропустить Михалка во Владимир. И тут произошло то, что летописец уже привычно назвал новым чудом Владимирской иконы Божией Матери — пускай и покинувшей на время Владимир, но по-прежнему покровительствующей законным владимирским князьям. События и в самом деле приняли весьма неожиданный оборот. Ярополк со своим полком выступил по направлению к Москве, навстречу Юрьевичам, и… разминулся с ними. Правда, летописи — Лаврентьевская (содержащая созданный во Владимире летописный свод) и Ипатьевская (Киевская) — по-разному излагают суть дела и приводят разные подробности произошедшего23. Когда князья сели в Москве обедать, к ним пришла весть о том, что Ярополк движется им навстречу. Князья поспешили к Владимиру. «И, Божьим промыслом, разминулись в лесах, — читаем в Лаврентьевской: — Михалко с Москвы поехал [с братом со Всеволодом] ко Владимиру, а Ярополк иным путём ехал на Москву» (упоминание о брате Всеволоде, как обычно, появляется лишь в той версии рассказа, которая подверглась более поздней обработке). Места здесь действительно глухие, можно нечаянно и заблудиться. Но в Ипатьевской летописи сказано иначе: никаких чудес не происходило, а Ярополк намеренно пропустил дядьёв — вероятно, желая заманить их в ловушку и подвергнуть одновременному удару с двух сторон: с тыла — своим собственным полком, и «в чело» — полком старшего брата; услышав о том, что Михалко идёт к Владимиру, свидетельствует летописец, Ярополк «уступи им на сторону». Но двигался-то он по направлению к Москве. Во всяком случае, так показалось «московлянам», входившим в состав войска Юрьевичей: решив, что Ярополк готовится напасть на их город, они повернули назад, «блюдуче домов своих». Это, конечно, должно было ослабить войско Юрьевичей. Но ещё опаснее было для них то, что они и в самом деле оказывались между двух огней: в тылу у них остался Ярополк, а войско его старшего брата в любой момент могло напасть на них со стороны Владимира. А если ещё вспомнить о тяжёлом недуге главного претендента на владимирский стол, то положение Юрьевичей вообще можно назвать отчаянным. «Пришла же весть ко Мстиславу от Ярополка, — продолжает владимирский летописец: — “Михалко немощен, несут его на носилех, а с ним дружины мало…”». Ярополк, преследовавший Михалка, что называется, по пятам, и предложил брату план дальнейших действий: «…Яз по нём иду, емля зад дружины его. А поиди, брате, вборзе противу ему, ать не внидеть в Володимерь». Эту весть Мстислав Ростиславич получил в Суздале в субботу 14 июня. Расстояние между Суздалем и Владимиром (порядка 30 вёрст) его полк преодолел за день. Шли «борзо» — «яко на заяц», по выражению летописца. Рано утром в воскресенье 15 июня Мстислав достиг Владимира (во всяком случае, так получается по летописи) и, оставив в городе женскую часть семьи — мать, жену и невестку (жену брата), продолжил движение навстречу противнику. Войско Михалка Юрьевича, в свою очередь, двигалось от Москвы к Владимиру по тогдашнему кратчайшему пути, в основном совпадающему со старой Владимирской дорогой. Поскольку самого князя по-прежнему несли «на носилех», фактически во главе войска встал Всеволод. Вот когда ему пригодился прошлый опыт — пускай и не всегда удачный. Но ещё больше пригодилось то, что рядом находился другой князь — сын Святослава Всеволодовича Владимир с черниговскими воями — теми, что «под трубами повиты, под шеломами взлелеяны, конец копья вскормлены» (как выразился о воинах другого черниговского князя автор «Слова о полку Игореве»). И в решающий момент их отвага оказалась как нельзя кстати для Юрьевичей. До владимирских укреплений они не дошли совсем немного — всего пять вёрст, когда встретились с ратью Мстислава Ростиславича. Автор Ипатьевской летописи называет точное место сражения: Юрьевичи переправились через реку Колокшу, левый приток Клязьмы (в Ипатьевском списке: Лакшу, в Хлебниковском: Кулашку), и были «на поле Белехове»24. Местная традиция отождествляет это поле с нынешним селом Волосовым Собинского района Владимирской области на реке Колонке (притоке Колокши); сейчас там расположен Николо-Волосовский женский монастырь, известный с XV века. По-видимому, здесь и произошло сражение, решившее судьбу владимирского престола. Сражение это началось внезапно для Юрьевичей. Полк князя Мстислава Ростиславича выступил «из загорья»[10]: все «во бронях, яко во всяком леду», то есть в панцирях, сверкающих на солнце, будто лёд, по образному выражению летописца. Воины развернули стяг Мстислава, начиная сражение, а заодно подавая знак Ярополку, преследующему Юрьевичей. И Михалку — а вернее, его брату — пришлось спешно «доспевать» собственные полки, выстраивая их к битве. Впереди шёл полк князя Владимира Святославича — он и должен был принять на себя первый удар. А получилось так, что он сам оказался готов нанести первый удар — и этой его готовности хватило для общей победы. «Мстислав же с суздальцами, а Всеволод с владимирцами и с Владимиром, снарядив полки свои», устремились друг на друга, рассказывает летописец: Мстиславовы воины шли, издавая воинственные кличи, «яко пожрети хотяще» своего врага; стрельцы же обеих ратей перестреливались друг с другом. А далее случилось то, что случалось иногда в междоусобных войнах того времени: одна из ратей, несмотря на свой грозный вид и кажущуюся воинственность, не выдержала даже не удара, а одного лишь сближения с противником — и бежала с поля боя. Так было, к примеру, в недавней Черниговской войне, когда полк Олега Святославича бежал, «только по стреле стреливше», перед войском Святослава Всеволодовича; так вышло и на этот раз. Перестрелкой лучников всё и ограничилось; вооружённые в тяжёлые и блестящие доспехи воины Мстислава даже не вступили в сражение, но повергли стяги и побежали, «гонимые гневом Божиим и Святой Богородицы». О воинах Ярополка речь в летописи вообще не идёт25 — как видно, и они предпочли ретироваться, не вступая в битву. Московский книжник XVI века объяснял случившееся тем, что войско Мстислава Ростиславича оказалось не готовым к битве, не успело развернуться, растянувшись в походе: многие ещё даже не вышли из Владимира, поскольку Мстислав очень спешил26. Может быть, и так. Но для современников главное было в другом: бегство Ростиславичей ясно показывало, что правда не на их стороне. «Онех бо бяшеть сила множьство, [а] правда бяшеть и Святый Спас с Михалком», — читаем в летописи. Рассказывая о том, что предшествовало битве, летописец даже нарочно преувеличивал видимое превосходство Ростиславичей и немощь Михалка — но против Божьей воли кто устоит? Племянники законного владимирского князя нарушили крестное целование — и приняли за то возмездие свыше. Летописец не забыл снабдить своё повествование и назиданием, обращённым ко всем князьям: случившееся должно было стать для них уроком, напоминанием о том, чтобы им «креста честного не преступать и старейшего брата чтить, а злых человек не слушать, иже не хотят межи братьею добра». Разгром оказался полным. Правда, многие из воинства Ростиславичей сумели спастись, поскольку, как объясняет летописец, воины не несли на себе каких-то особых «знамений» — знаков различия, так что отличить своих от чужих не представлялось возможным. Но многие всё-таки были захвачены в плен и с колодами на шеях приведены во Владимир, куда победители вступили «с честью и с славою великою» в тот же день, 15 июня. Священники, игумены и «все люди» вышли им навстречу с крестами, и так князь Михалко Юрьевич воссел «на столе деда своего и отца своего… и бысть радость великая в граде Владимире». Самим Ростиславичам удалось убежать: Мстиславу — в Новгород, к сыну, а Ярополку — в Рязань, к зятю Глебу Ростиславичу. А вот их мать, «княгиня Ростиславляя», и жёны были схвачены владимирцами и попали в руки к Юрьевичам. Князь Владимир Святославич с честью великой и славой вернулся к отцу в Чернигов, щедро одарённый Юрьевичами. А вскоре во Владимир из Чернигова прибыли жёны Юрьевичей — княгини Феврония (жена Михалка) и Мария Всеволожая. Князь Святослав Всеволодович, у которого они всё это время находились, приставил к ним «для чести» другого своего сына, Олега, который, как и полагается, проводил княгинь до Москвы.
Завершая рассказ о событиях этой второй войны между Юрьевичами и Ростиславичами, летописец посчитал нужным поместить пространное рассуждение о граде Владимире и его роли в судьбах Северо-Восточной Руси. Рассуждение это часто цитируют историки, ибо оно многое даёт для правильного понимания не только местных, суздальских реалий, но и политического строя всей Русской земли, и в частности места и роли веча в других, сопредельных с Суздальской, землях. Нам же оно важно как свидетельство нового представления о Владимире как о городе, находящемся под особой защитой и покровительством Пресвятой Богородицы. Это представление сформировалось при князе Андрее Боголюбском, украсившем Владимир и построившем в нём великолепный храм во имя Успения Пресвятой Богородицы. При его законных преемниках на владимирском престоле покровительство Божией Матери городу должно было ещё более усилиться, что, собственно, и доказывали события только что закончившейся войны: «…И бысть радость велика во Владимире граде, от того, что видели у себя великого князя всей Ростовской земли. Мы же подивимся чуду новому, и великому, и преславному Матери Божией, как заступила град свой от великой беды и горожан своих укрепляет. Ибо не вложил им Бог страха, и не убоялись, имея князей двух в сей волости (Ростиславичей. — А. К.), и бояр их прещения ни во что положили… Только возложили всю свою надежду и упование на Святую Богородицу и на свою правду. Ибо изначально новгородцы, и смоляне, и киевляне, и полочане, и все волости, яко на думу, на вече сходятся, и что старейшие надумают, то и пригороды принимают. А здесь город старый Ростов, и Суздаль, и все бояре хотели свою правду утвердить: не хотели сотворить правды Божией, но “как нам любо, — сказали, — так и сотворим; Владимир есть пригород наш”, противясь Богу и Святой Богородице и правде Божией, слушая злых людей, развратников, не хотящих нам добра, завидующих граду сему и живущим в нём. Ибо прежде поставил град этот великий Владимир[11], и потом князь Андрей. Сего же Михаила [и брата его Всеволода] избрали Бог и Святая Богородица. Как сказано в Евангелии: “Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам” (Мф. 11:25); так и здесь: не уразумели, как правду Божию исполнить, ростовцы и суздальцы, издавна бывшие старейшими; новые же люди мизинные (меньшие. — А. К.), владимирские, уразумевши, встали за правду крепко. И все сказали себе: “Либо Михалка князя себе добудем [и брата его Всеволода], либо головы свои сложим за Святую Богородицу и за Михалка”. И утешили их Бог и Святая Богородица чудотворная Владимирская, ибо чего человек просит у Бога всем сердцем, того Бог не лишает его. И вот владимирцы прославлены Богом по всей земле за их правду, Бог им помогает»27. Когда-то киевский митрополит Иларион в своём знаменитом «Слове о законе и благодати» обосновывал новую роль Руси — «нового» народа, последним пришедшего к Богу, но, по слову евангельскому («Так будут последние первыми»: Мф. 19:30; 20:16), впитавшего новую веру глубже, чем те, кто был призван прежде: «…Ибо не вливают, по словам Господним, вина нового, учения благодатного, “в мехи ветхие”… — “а иначе прорываются мехи, и вино вытекает” (Мф. 9:17)… Но новое учение — новые мехи, новые народы!»28 На иных примерах — но также взятых у евангелиста Матфея — автор летописной повести о войне Юрьевичей и Ростиславичей обосновывал первенство «нового города» — Владимира — над старыми, «обветшавшими» городами княжества — Ростовом и Суздалем. И объяснялось это первенство заступничеством Пресвятой Богородицы, которая покровительствовала городу, осенённому её чудотворной иконой, столь предательски похищенной из её же храма князьями Ростиславичами. В первоначальной версии летописного рассказа имя Всеволода не упоминалось — оно было вставлено позже, уже после вокняжения Всеволода во Владимире, — и прославлялся лишь освободитель Владимира «великий князь всей Ростовской земли» Михалко Юрьевич. Но пройдёт время — и все те идеи, которые были обозначены в летописном повествовании, найдут своё наиболее полное развитие в летописании его младшего брата Всеволода Юрьевича.
В соответствии с заявленной программой, первым шагом князя Михалка Юрьевича после вступления во Владимир стало возвращение церкви Святой Богородицы тех «городов и даней», которые были отняты у неё Ярополком. По возможности возвращались в храм и святыни, отнятые Ярополком. Правда, главная из них — чудотворная Владимирская икона — была возвращена во Владимир чуть позже. Бегство из Суздальской земли Ростиславичей заставило искать мира с новым владимирским князем суздальских и ростовских «мужей». Суздальцы первыми отправили к Михалку своих представителей. Вопреки очевидному, они заявляли о своей непричастности к недавней войне: — Мы, княже, на полку том со Мстиславом не были. Но были с ним бояре, а на нас лиха не держи, но поеди к нам! Михалко — очевидно, оправившийся от болезни — «лиха» держать не стал и поехал в Суздаль. Его сопровождал брат Всеволод — его имя, как обычно, вставлено в ту версию летописного рассказа, которая возникла в результате более поздней обработки первоначального текста. Князья заключили с суздальцами «ряд» — договор, скреплённый крестным целованием. (Летопись об этом не сообщает, но без заключения такого «ряда» поездка в Суздаль смысла не имела.) Из Суздаля князья отправились в Ростов. Ростовцы тоже признали Юрьевичей — может быть, и скрепя сердце, но иного выхода у них не было. Михалко со Всеволодом «сотворили людям весь наряд, утвердившись крестным целованием с ними», то есть заключили с ними договор, «и честь взяли у них, и дары многие». Братьям важно было не повторить ошибки своих племянников — не рассориться вконец ни с суздальскими, ни с ростовскими «мужами». По всей вероятности, они не стали полностью менять органы управления в подчинившихся им городах, заменять на своих бояр и «детских» прежних тысяцких и посадников. Правда, судить об этом мы можем лишь по косвенным признакам. В написанном в XVI веке Житии преподобной Евфросинии Суздальской, в миру Феодулии, дочери черниговского князя Михаила Всеволодовича и современницы Батыева нашествия на Русь, упоминается некий суздальский «князь» Мина Иванович, род которого происходил «от варяг, от Шимона, князя Африкановича»29. (Мина был женихом княжны Феодулии Михайловны; к нему она и ехала для вступления в брак в Суздаль, однако перед самой свадьбой её жених умер, и княжна осталась в Суздале, приняв иночество с новым именем.) Если доверять этому сообщению, то получается, что Мина — прямой потомок тысяцкого Георгия Шимоновича (Симоновича), «дядьки»-воспитателя самого Юрия Долгорукого, который и поставил его во главе ростовской «тысячи» и определил ему местом пребывания Суздаль. Должность тысяцкого осталась наследственной и принадлежала потомкам Георгия, и ни князь Михалко Юрьевич, ни затем его брат Всеволод не стали вмешиваться в порядок этого наследования30. Столь же легендарны наши сведения о «сильных» ростовских боярах. По крайней мере один из них, знаменитый Александр (Алёша) Попович, определённо назван в летописи «ростовским жителем»; он владел неким городом на реке Гзе и впоследствии, вместе с другими, перешёл на службу к князю Всеволоду Юрьевичу, а от него — к его старшему сыну, ростовскому князю Константину31. Но вот происходил Александр, судя по отчеству, совсем не из бояр, а из духовного сословия. Поражение Ростиславичей в любом случае не прошло для ростовских и суздальских «мужей» бесследно. Главным и наиболее тяжёлым его следствием стала ликвидация в Ростове княжеского стола. Так потерпели крах почти сбывшиеся надежды ростовцев на восстановление роли и значения их города. Очевидно, не только Михалко, но даже Всеволод княжить вРостове не пожелал, а может быть, и побоялся. Братья возвратились из Ростова во Владимир, и по возвращении Всеволод получил от брата во владение Переяславль-Залесский — ещё один «новый» город во Владимиро-Суздальской земле, ранее никогда не бывший стольным и не имевший своего князя. В том же году братья предприняли ещё один совместный поход — против рязанского князя Глеба Ростиславича. Сделано это было, несомненно, по согласованию с черниговским князем Святославом Всеволодовичем. Союз с Юрьевичами и поражение Ростиславичей, поддерживаемых рязанским князем, сразу же принесло вполне ощутимую выгоду Святославу. Он начал войну с Рязанью даже чуть раньше Юрьевичей. Сын Святослава Олег на обратном пути из Москвы (куда он, напомню, провожал владимирских княгинь) двинулся к Лопасне — волости, находящейся на берегу Оки, против устья одноимённой реки. Здесь, на Оке, сходились границы трёх княжеств — Черниговского, Владимиро-Суздальского и Рязанского. На этом пути Олег Святославич-младший занял городок Сверильск — прежнюю черниговскую волость, захваченную Глебом Рязанским едва ли не в короткий период княжения Ростиславичей в Ростовской земле; как полагают, этот населённый пункт находился на реке Сиверке, правом притоке Москвы, где известно село Сиверское (Северское), в семи километрах к северу от Коломны32. Глеб послал против Олега своего племянника (внучатого?), некоего Юрьевича (возможно, одного из младших сыновей бывшего муромского князя Юрия Владимировича, умершего в 1174 году?), однако в битве у Сверильска дружина Олега одержала полную победу, рязанцы бежали, и спорная волость осталась за Черниговом. Воевать ещё и с Юрьевичами Глеб не решился. Когда владимирские и переяславские полки приблизились к Коломне, ближайшему рязанскому городу, их встретили послы Глеба. Переговоры проходили близ Коломны, на реке Мерьской (позднее этот приток Москвы получил более благозвучное название — Нерская). — Глеб кланяется тебе, — передаёт летопись речь послов, обращённую к князю Михалку, — так говоря: «Аз во всём виноват. А ныне возвращаю всё, что забрал у шурьёв твоих, у Мстислава и у Ярополка, и до золотника. И Святую Богородицу, что взял из Владимирской церкви». «И всё, что взял, и до книг, — всё то возвратил»33. В летописи не сказано, обсуждалась ли при этом судьба захваченных в плен княгинь. Наверное, Глеб должен был озаботиться участью своей тёщи, княгини Ростиславлей. Тем более не знаем мы, как обстояло дело с жёнами Ростиславичей. Но, учитывая, что старший из братьев Мстислав в том же или следующем году женился в Новгороде, его первая жена так и осталась во Владимире и либо быстро умерла, либо приняла иноческий постриг. Надо думать, то же ждало и молодую Всеславну, жену Ярополка. Михалко Юрьевич вместе со Всеволодом вернулся во Владимир, откуда Всеволод отправился в Переяславль. Но главное, на своё законное место — в Успенский собор города Владимира — была возвращена похищенная чудотворная икона. Теперь князья Юрьевичи могли по-настоящему торжествовать: их победа над Ростиславичами обрела окончательное, символическое оформление.
В Переяславле-Залесском
Если не принимать в расчёт кратковременное вынужденное пребывание Всеволода на киевском престоле, то северный, суздальский Переяславль (Переяславль-Новый, или Залесский, как называли его, чтобы отличить от Южного, или Русского, Переяславля) стал первым городом, полученным им во владение, можно сказать, первым его настоящим домом, в котором он мог чувствовать себя полным хозяином. Этот город, основанный Юрием Долгоруким в 1152 году — на новом, необжитом месте, в низине, несколько в стороне от старого города Клещина, но на берегу того же Клещина (ныне Плещеева) озера, — отличался от других городов Северо-Восточной Руси прежде всего размерами. Летописец не случайно назвал его «великим»: общая длина валов Переяславской крепости достигала 2,5 километра — это больше, чем в других городах Суздальской земли, за исключением Владимира. Главный собор города был посвящён Спасу; построенный из белого камня, он был украшен Юрием со всей возможной пышностью: «…и заложи велик град, и церковь камену в нём доспе Святаго Спаса, и исполни ю книгами и мощми святых дивно…»34 Сохранившийся до нашего времени собор стоял не в центре города, а почти у самых крепостных стен и особыми переходами был соединён с расположенным по соседству деревянным княжеским дворцом; рядом находились дворы приближённых и знати. Это был городской собор, но вместе с тем Юрий строил его как княжескую церковь, как храм для себя лично и для своей семьи. Теперь в княжеском дворце обитал Всеволод со своей семьёй, и Спасский собор стал для него в какой-то степени домовой церковью. В очертаниях нового города Юрий Долгорукий стремился повторить Южный Переяславль — свою «отчину», которую вынужден был покинуть годом раньше. Даже речка, в устье которой строился город, получила привычное Юрию название — Трубеж: северный Трубеж впадал в Клещино озеро, подобно тому, как южный — в Днепр. Всеволоду тоже приходилось жить в Южном Переяславле, где княжил его старший брат Глеб, а затем сын Глеба Владимир. Так что в своём новом городе он мог чувствовать себя так, словно вновь оказался на юге. Уже вскоре после своего основания Переяславль стал одним из главных городов Залесской земли, сравнявшись по значимости со «старыми» городами — Ростовом и Суздалем. В бурных событиях, последовавших за гибелью Андрея Боголюбского, переяславцы участвовали в решении всех важнейших дел княжества наравне с ростовскими, суздальскими и владимирскими «мужами». И вот теперь город получил своего князя, стал второй, после Владимира, столицей княжества. Событие это можно назвать знаковым в его истории. Как мы увидим, переяславские «мужи» окажутся наиболее надёжной опорой Всеволода в его борьбе за владимирский княжеский стол. А имя самого Всеволода будет жить здесь даже после его смерти. Восторженно принимая к себе на княжение Всеволодова сына Ярослава, переяславцы будут приветствовать его как «нового Всеволода», как своего рода воплощение великого отца: «Ты — наш господин, ты — Всеволод!»35 Впрочем, единство державы было сохранено. Даже и после своего вокняжения в Переяславле Всеволод оставался в подчинении у старшего брата, которого летопись подчёркнуто именовала «великим князем всей Ростовской земли». Между прочим — первым из суздальских князей! (Юрий Долгорукий и Андрей Боголюбский тоже именуются в источниках «великими князьями» — но лишь после их смерти.) Очевидно, что титул этот был усвоен князем Михалком Юрьевичем именно потому, что он воссоединил в своих руках обе части княжества, столь неосмотрительно разделённого его племянниками. Ну а после Михалка титул «великого князя» будут носить его преемники на владимирском княжеском столе, и первым из них — Всеволод.Короткое — год и пять дней — княжение Михалка Юрьевича не запомнилось историописателям Владимиро-Суздальской Руси. Московские книжники XV–XVI веков исходили из того, что князь этот правил «с тихостию, и с кротостию, и с любовию»36, то есть, надо понимать, не совершая каких-либо резких движений, по возможности незаметно. Но это не совсем так, или совсем не так, — князь сделал очень многое и для умиротворения Владимиро-Суздальской земли, и для дальнейшего её поступательного развития. Взойдя на владимирский стол человеком больным, как казалось, чуть ли не прикованным к постели, Михалко Юрьевич на удивление мало времени проводил во Владимире. За отведённый ему год с небольшим он успел побывать в разных городах княжества и поучаствовал в двух военных походах. Летопись, помимо Владимира, застаёт его в Москве, Суздале, Ростове, на реке Мерьской вблизи Коломны, а также в Городце Радилове на Волге; личные печати князя найдены тоже не во Владимире, а в других местах — в Новгороде (куда князь, видимо, направлял свои грамоты), в Щёлковском районе Московской области и на селище Мордыш-1 на правом берегу реки Нерль, между Суздалем и Владимиром37. Князья того времени вообще редко засиживались надолго на одном месте (Андрей Боголюбский в этом отношении представлял собой исключение), но даже на их фоне активность Михалка — особенно с учётом его нездоровья — впечатляет. Всеволод, как мы видели, постоянно сопровождал брата — и в поездках в Суздаль и Ростов, и в походе против Глеба Рязанского. «Тихость» и «кротость» князя если и имели место, то явно не в отношении всех его подданных. Умел он быть и беспощадным — по крайней мере к своим врагам. И в этом Всеволод тоже будет следовать ему. О княжении Всеволода Юрьевича в Переяславле никаких сведений в летописях нет. Однако об одном его деянии — совершённом совместно с братом Михалком — мы всё-таки знаем — из внелетописного, но весьма надёжного источника, открытого учёными совсем недавно. Речь идёт о его участии в расправе над убийцами Андрея Боголюбского. Как мы уже имели случай заметить, лица, причастные к этому преступлению, долго оставались ненаказанными. Возможно даже, что «ряд», который князья заключали с владимирскими «мужами», предусматривал их безопасность — ведь людей, так или иначе замешанных в кровавые события, происходившие в Боголюбове и Владимире, было слишком много. Убийц Боголюбского не тронули, придя к власти, князья Ростиславичи; оставались они на свободе и в первые недели или даже месяцы пребывания на владимирском престоле князя Михалка Юрьевича. Но долго так продолжаться не могло. До тех пор, пока кровь Андрея оставалась неотмщённой, князь не мог чувствовать себя в безопасности — и не мог пользоваться должным авторитетом среди подданных. И Михалко — при всей своей немощи — нашёл способ показать, что «не в туне», но на казнь злодеям носит свой княжеский меч. О том, как именно совершилась казнь, нам известно лишь из поздних легенд и преданий, самые ранние из которых были записаны в XV веке и сильно раскрашены фантазией позднейших книжников. Примечательно, что в одних легендах мстителем за Андрея выступает Михалко Юрьевич, в других — Всеволод. В уже многократно цитировавшейся новгородской статье «А се князи русьстии» (XV век) названы оба. Здесь ничего не говорится о княжении в Ростовской земле братьев Ростиславичей (о судьбе которых в Новгороде как раз хорошо знали), но сообщается, что после смерти Боголюбского «в первое лето мстил обиду его брат Михалко». «Того же лета» Михалко умер, после чего «на третий год» (по смерти Андрея?) сел «на великое княжение» другой его брат, Всеволод; и он снова «мсти обиду брата своего Андрееву: Кучковичи поймал, и в коробы саждая, в озере истопил»38. В другой, распространённой версии того же рассказа, содержащейся в Степенной книге царского родословия (XVI век), эта Всеволодова месть названа «сугубой», то есть второй по счёту; возмездие учинено было не только самим Кучковичам (надо понимать: Якиму Кучковичу и Петру, «Кучкову зятю»), но и «всему сродьствию их и всем обещником их»: Всеволод, «их же ухващая, многоразличным смертем предати повеле, овех же в коробы пошивая, в езере истопите осуди»39. Местное владимирское предание указывает озеро, в которое живьём, зашитые в «коробах», были брошены убийцы Андрея Боголюбского. Это так называемое Пловучее озеро, верстах в семи от Владимира по Московской дороге, недалеко от левого берега реки Клязьмы. Как рассказывают, на нём и по сей день видны мшистые плавучие зелёные островки — кочки, плавающие от одного берега к другому: предание превратило их в «коробы» — так и не сгнившие и обросшие мхом «гробы» Кучковичей, которых будто бы вели к месту казни с подрезанными пятками, да ещё по дороге, усеянной сухими сосновыми шишками. Другое озеро, претендующее на ту же роль водной могилы для убийц Андрея, — так называемое Поганое, также верстах в семи от Владимира, но по Муромской дороге. В XIX веке считали, что здесь была утоплена вдова Андрея Улита Кучковна, также причастная к убийству своего мужа и брошенная в воду с тяжёлым жерновым камнем40. О казни, которая постигла убийц Андрея Боголюбского, рассказывается и в так называемой «Повести о начале Москвы» — сочинении, принадлежащем перу некоего московского книжника XVII века и изобилующем легендами и откровенными литературными штампами. Здесь мстителем за кровь брата однозначно назван «князь Михайло Юрьевич»: это он, придя во Владимир, «изби убийцы брата своего и… телеса их вверже в езеро» («всякой гадине на снедение», — добавлял один из редакторов «Повести…»). Среди убийц, по версии «Повести…», была и жена Андрея; её ждала та же, и даже ещё более страшная участь: «…А жену его повеле повесите на вратех и разстреляти ю изо многих луков, да накажутся и прочий впредь таковая не творите»41. Ну а наиболее подробный, хотя также едва ли претендующий на какую-либо историческую достоверность рассказ о судьбе заговорщиков содержится в «Истории Российской» В. Н. Татищева. В первой редакции своего труда историк XVIII века ещё не определился, какой из версий отдать предпочтение: «О казни же убийц и заточении жены в монастырь (новая подробность! — А. К.) разногласят, — писал он в примечании к рассказу об убийстве Боголюбского: — одни сказуют, что Михаил, пришед во Владимер, всех казнил; другие сказуют, что Всеволод всех оных убийц повелел переломати кости и в коробех в озеро опустити, а жену Андрееву, по веся на воротех, растрелять и туда же бросил, от того оное озеро Поганое доднесь имянуется»42. Во вторую же, более позднюю редакцию «Истории…» попал совсем другой рассказ, многие детали которого свидетельствуют о его искусственном, чисто книжном происхождении. Как полагал Татищев, убийцы со своими сообщниками пользовались значительным влиянием в княжестве и после своего преступления. И только когда Михалко Юрьевич утвердился на княжеском столе, да и то не сразу, он решился наказать их. Но сделать это было непросто, и князю пришлось пойти на хитрость. Заключив мир с Глебом Рязанским, он отправился во Владимир, взяв с собой вдову Андрея, «якобы для лучшего ея покоя», и «Кучковых», по-прежнему пребывавших при власти. Созвав на другой день совет с участием «всех бояр, не выключая и самых тех убийцев», Михалко стал держать речь (разумеется, вымышленную самим Татищевым): — Вы хвалите меня и благодарите за то, что я волости и доходы, по смерти Андреевой от монастырей и церквей отнятые, возвратил и обиженных оборонил, — обратился он к собравшимся. — Но ведаете, что оные доходы церквям Андрей, брат мой, дал, а не я. Да ему вы никоей чести и благодарения не изъявили и мне не упоминаете, чтоб вашему князю, а моему старейшему брату по смерти честь кую воздать… Решили, будто Михаил намеревается установить вечное церковное поминовение брату. Против этого никто не возражал, и потому все согласились с князем: — Что тебе угодно, то и мы все желаем, и готовы исполнять без отрицания, и совершенно знаем, что он (Андрей. — А. К.) по его многим добрым делам достоин вечной памяти и хвалы. Но Михаил помышлял совсем о другом. — Ахце он неправильно убит, то тако право убийцам не мстите? — неожиданно спросил он у толпы. — Аще же правильно, как многие о нём говорят, то он недостоин похвалы и благодарения. Собравшиеся — кто «по правде», а кто «за стыд и нехотя» — отвечали, что да, Андрей Юрьевич «воистину убит неправо». Услышав это, Михалко повелел тут же схватить главных убийц — благо слуги его были уже наготове. А затем велел привести на суд и княгиню, «где, яко дело известное, недолго испытав, осудили всех на смерть». Главарей заговора, «Кучковых» и Анбала, велено было, прежде повесив, расстрелять из луков, а пятнадцати другим заговорщикам отрубили головы. Что же касается вдовы Андрея, то её, «зашив в короб с камением, в озеро пустили, и все тела прочих за нею побросали» (как видим, эта версия отличается от предыдущих, где зашивают в «коробы» главных убийц, а вдову Андрея, напротив, расстреливают из луков). Имущество же преступников князь повелел раздать «тем, которые от них обижены, а паче вдовам и сиротам побитых, достальное на церкви и убогим»; сам же не прикоснулся ни к чему, заявив, «яко сие грабленное осквернит сокровище моё». «Прочим всем бывшим противником вину отпустил и сим себе велику похвалу у всех приобрёл»43. Можно ли отыскать хоть какое-то зерно истины в этих легендах? Трудно сказать: всё же они несут на себе слишком отчётливый фольклорный, а отчасти и книжный отпечаток. Впрочем, особая жестокость убийства князя Андрея, равно как и изощрённость казни его убийц могли, наверное, отложиться в памяти поколений. Но гадать не имеет смысла. Ныне в нашем распоряжении имеется ещё одно свидетельство на сей счёт, и оно позволяет сделать более или менее определённые выводы. Я имею в виду уже цитированную выше надпись-граффити, обнаруженную на стене Спасского собора города Переславля-Залесского. Напомню: в ней перечислены имена убийц Андрея Боголюбского (перечень, к сожалению, читается не полностью). «Си суть убийцы великого князя Андрея, да будут прокляты»; «овому вечная память, а сим вечная мука…» — эти слова свидетельствуют о том, что казнь их уже свершилась и убийцы князя обречены на вечные, адовы муки. Но почему надпись сделана на стене именно Переяславского храма? Высказывалось предположение, что текст церковного проклятия был разослан по всем главным городам Ростово-Суздальской епархии — дабы его воспроизвели на стенах всех главных городских соборов44. Но в том-то и дело, что Переяславль был не просто одним из главных городов княжества, но — на короткое время — стал его второй столицей, городом, где княжил брат Михалка Всеволод! Соответственно, факт появления здесь надписи может свидетельствовать, во-первых, о том, что казнь убийц великого князя состоялась тогда, когда в Переяславле сидел на княжении Всеволод, то есть до смерти Михалка Юрьевича, а во-вторых, о том, что Всеволод вместе с братом участвовал в казни злодеев. А это в той или иной степени подтверждает обе содержащиеся в поздних источниках версии — о мести за Андрея и Михалка, и Всеволода. «Месть», конечно же, была одна, но вот приложили к ней руку, судя по всему, оба брата. Что естественно — они и в других случаях действовали сообща. Двадцать казнённых злодеев — цифра большая для того времени. К тому же люди эти, по всей вероятности, пользовались немалым авторитетом в княжестве. Так разом, в один момент, оказался разгромлен центр возможной оппозиции княжеской власти. И если для самого Михалка Юрьевича это уже не имело значения — дни его были сочтены, то для его преемника на владимирском столе имело, и очень большое.
И снова война. Триумф
Князь Михалко Юрьевич умер в ночь с 19 на 20 июня 1176 года45. Случилось это в Городце на Волге (или Радилове Городце, как по-другому называли этот город) — довольно далеко от Владимира, на крайнем восточном рубеже Владимиро-Суздальской земли. Какие заботы занесли туда смертельно больного князя, летопись не объясняет (уж не готовил ли он поход на волжских болгар, как иногда полагают?). Но именно там, в Городце, с ним случился очередной удар, оправиться от которого князю уже было не суждено. Тело его спешно привезли во Владимир и похоронили во владимирском Успенском соборе — там же, где был похоронен его старший брат Андрей. «Благоверным и христолюбивым» назвал князя автор летописной записи о его кончине — именно так воспринимали умершего современники, в том числе, конечно же, и Всеволод[12]. Теперь Всеволод оставался единственным из сыновей Юрия Долгорукого, старшим в своём роду — не по возрасту, но по династическому счёту. А значит, единственным законным наследником отца и братьев — во всяком случае, сам он был в этом твёрдо уверен. Договорённость с Михалком на этот счёт у них, несомненно, существовала, да и во Владимире его видели единственно возможным преемником умершего брата. Вспоминали при этом и о давнем крестном целовании Юрию Долгорукому на его меньших детях. Но более всего владимирских «мужей» страшила перспектива восстановления власти Ростиславичей. Вновь перед ними замаячила угроза превращения Владимира в «пригород» Ростова и Суздаля, а потому владимирцы действовали быстро, без раздумий. Всеволод, судя по указанию ряда летописей, к моменту смерти брата находился в Переяславле47, откуда и поспешил во Владимир. «Владимирцы же, помянув Бога и крестное целование великому князю Юрию, вышли пред Золотые ворота и целовали крест Всеволоду князю, брату Михалкову, и на детях его, |и] посадили его на отчем и деднем столе во Владимире»48. (В этой летописной записи более всего обращают на себя внимание слова о детях Всеволода. Известно, что первыми у них с Марией рождались девочки; старший же из сыновей, Константин, появился на свет лишь в 1185 году. Представительницы женской части княжеского семейства, естественно, не могли приниматься в расчёт, когда речь шла о наследовании власти. Так что же, получается — если исключить возможность рождения у Всеволода неких не известных по летописи старших сыновей, которые очень рано, ещё в младенчестве, умирали, — что владимирские «мужи» имели в виду тех сыновей князя, которые только должны были родиться в будущем? Неужели, не желая даже помыслить о переходе княжения в руки Ростиславичей, они давали, так сказать, «крестное целование вперёд», обещая хранить верность Всеволодову потомству, буде такое появится?49 Или интересующие нас слова представляют собой добавление летописца, сделанное уже после того, как у Всеволода Юрьевича появились сыновья? Но оснований считать так у нас нет: слова эти присутствуют во всех списках Лаврентьевской летописи. Думаю, однако, что ни то ни другое предположение здесь не требуется и искомое «…и на детях его» относится не к Всеволоду, а к его отцу Юрию Долгорукому, но лишь поставлено не на место: «Владимирцы же, помянув… крестное целование великому князю Юрию… и на детях его…». Между тем у Михалка Юрьевича сын как раз имелся — некий Борис, наверное, совсем ещё ребёнок. Единственное упоминание о нём присутствует в поздних западнорусских летописях — так называемых Никифоровской и Супрасльской (обе XV века), в которых читается (в первой фрагментарно, во второй полностью) «Сказание о верных святых князьях русских» — внелетописный памятник, имеющий, вероятно, ростовское или владимирское происхождение. В тексте князь назван, во-первых, по отчеству — Борисом Михалковичем, а во-вторых, — сыном «брата Андреева [и] Всеволожа», что снимает сомнения в том, о ком идёт речь50. Правда, упоминание о нём связано сразу с двумя несообразностями, ибо Борис Михалкович представлен устроителем церкви в Кидекше, под Суздалем, и основателем самой Кидекши и Радилова Городца на Волге («…и съсыпа город Кидекшу, той же Городець на Волзе») — а это, конечно же, неверно, ибо первый из названных городов был основан Юрием Долгоруким около 1152 года, а второй — скорее всего, Андреем Боголюбским ранее 1172 года. Но, может быть, оба эти города (или только второй, Городец на Волге?)[13] юный Борис Михалкович как раз и получил во владение при жизни отца? А если так, то не объясняет ли это поездку его отца из Владимира в Радилов на Волге накануне смерти? Не устроением ли дел сына пытался заниматься там смертельно больной князь? Правда, усилия его в любом случае оказались тщетными. Имени князя Бориса Михалковича в летописях мы не встретим, а это значит, что места в княжеской иерархии при Всеволоде Юрьевиче для него не найдётся — точно так же, как и для другого Всеволодова племянника, сына Андрея Боголюбского Юрия, который вынужден будет вообще покинуть Русь. Но пока что Всеволоду пришлось в очередной раз столкнуться с притязаниями на власть других своих племянников — Ростиславичей, которых немедленно поддержали ростовские бояре. Ещё только получив известие о болезни — даже не о смерти! — Михалка Юрьевича, они отправили посольство в Новгород — к князю Мстиславу Ростиславичу, старшему из братьев: — Пойди, княже, к нам! Михалка Бог поял на Волге на Городце. А мы хотим тебя, а иного не хотим! «На живого князя Михалка повели его», — с негодованием замечает летописец. Смерть князя казалась неизбежной, будущее страшило, и в окружении князя нашлись люди, немедленно известившие обо всём ростовских бояр. «Иного не хотим!» — эти слова в данном случае относились к Всеволоду, уже поддержанному владимирцами. Так в Суздальской земле начался новый виток утихшей было гражданской войны. К тому времени князь Мстислав Ростиславич, казалось, прочно обосновался в Новгороде. Сразу после того, как он явился сюда после разгрома на Колокше, новгородцы провозгласили его князем вместо его малолетнего сына Святослава. Весной 1176 года Мстислав женился вторым браком — на дочери бывшего новгородского посадника Якуна Мирославича, человека очень влиятельного; посадником же в Новгороде был избран Завид Неверенич, принадлежавший к той же боярской группировке, что и Мстиславов тесть51. Однако княжение в неспокойном и вечно мятущемся Новгороде не было пределом мечтаний для Мстислава. Получив известие от ростовских бояр, он немедленно собрался в дорогу. Наверное, он был уверен в успехе, в том, что Всеволод не сумеет оказать ему серьёзного сопротивления. Поспешность князя, пренебрежение к городу, предоставившему ему убежище и посадившему на княжеский стол, не могли не покоробить новгородцев. Но Мстислав и не собирался возвращаться сюда, а потому, не задумываясь, «ударил пятою» Новгород, по образному выражению самих новгородцев. Вместо себя он вновь оставил в городе сына Святослава. Его уверенность в успехе всецело основывалась на словах ростовских бояр. Но было в планах Мстислава и очевидное слабое звено. Его дружина однажды уже бежала перед владимирскими полками. А привычка к бегству — это очень плохая привычка, избавиться от которой совсем не просто. К тому же Мстислав слишком спешил. Он не успел или не захотел согласовать своё наступление с братом Ярополком в Рязани и предпочёл действовать самостоятельно. «Он же приехал к Ростову, — пишет о Мстиславе Ростиславиче летописец, — совокупив ростовцев: и бояр, и гридьбу, и пасынков, и всю дружину, поехал ко Владимиру». Гридьба — это младшие дружинники; пасынки — княжеские слуги. Перечисляя столь скрупулёзно состав Мстиславова войска, летописец хотел показать, что князь собрал всех, кого мог: что называется, «до последнего человека». Судя по показаниям Новгородской летописи, сторону Мстислава приняли и суздальцы, присоединившиеся к ростовским «мужам» и вошедшие в состав его войска. Всеволод, в свою очередь, выступил навстречу племяннику «с владимирцами, и с дружиною своею, и с теми боярами, что остались у него». (В оригинале: «что бяше бояр осталось у него», — то есть, надо полагать, часть бояр уклонилась от участия в войне или даже готова была поддержать Мстислава.) Послал Всеволод и за переяславцами, на которых он как недавний переяславский князь мог более всего положиться. Эта миссия была возложена на другого его племянника, Ярослава Мстиславича, который в новгородских источниках именуется Красным, то есть «красивым». Впервые Всеволод был полностью самостоятелен в своих действиях, впервые мог не прятаться за авторитет кого-то из старших, более опытных князей. И надо признать, что в этой новой для себя ситуации он оказался на высоте. События же развивались очень быстро. Войска двинулись навстречу друг другу почти сразу после смерти Михалка, тело которого едва успели предать погребению. Всеволод, несомненно, опасался за исход войны. «Благосерд сый, не хотя крове прольяти», по выражению благоволившего ему владимирского летописца (эти слова будут звучать рефреном на протяжении всего его княжения), он поначалу предложил племяннику поделить Суздальскую землю. Правда, в его словах, воспроизведённых в летописи, угадывалось и явное чувство превосходства над племянником, которого призвали на княжение люди, в то время как его с братом — Божья воля. Но в «земной», политической плоскости предложение Всеволода выглядело вполне разумным: — Брате, оже тя привела старейшая дружина, а поеди Ростову, а оттоле мир возьмём. Тебя ростовцы привели и бояре, а меня с братом Бог привёл и владимирцы. А Суздаль будет нам обще: да кого восхотят, тот им будет князь52. Полутора годами раньше Ростиславичи так и поделили княжество: старшему, Мстиславу, отошёл Ростов, а младшему, Ярополку, — Владимир. Но тогда дядья их были выключены из игры; теперь же Мстиславу приходилось считаться с тем, что свою долю власти — и, получается, в его, «Ростовской», половине, буде он согласится на предложение Всеволода, — потребует и Ярополк. Надо полагать, это обстоятельство, а не одно только недовольство ростовских бояр, стало причиной его отказа Всеволоду. Но и ростовские бояре выступили решительно против. Летописец называет по именам тех, кто держал речь перед Мстиславом, — это некие Добрыня (в летописи: Добрына) Долгий и Матвей Шибутович. Поддерживал Ростиславича и старый воевода Андрея Боголюбского Борис Жидиславич. Мстислав же «послушал речи ростовские и боярские, кои, величаясь и крестного целования забыв, молвили ему: — Если ты и дашь мир ему, но мы не дадим!» Так столкновение стало неизбежным. Решимость Всеволода была подкреплена необычным небесным явлением, случившимся уже после того, как его войско миновало Суздаль. Люди Средневековья с исключительным вниманием присматривались к разного рода знамениям и очень хорошо умели угадывать их смысл, чаще всего истолковывая его в свою пользу. Здесь же им довелось лицезреть настоящее чудо, не оставлявшее сомнений в том, что Бог на их стороне: на небе словно бы возник образ самой Божией Матери — и именно так, как она была изображена на похищенной из Успенского собора и возвращённой на своё место Владимирской иконе, — а также явлен был и град Суздаль, «и до основанья, акы на воздусе стоящь». Это необычное атмосферное явление — вероятно, мираж, что-то вроде знаменитой «фата-морганы», встречающейся иногда и в наших широтах, — видели и сам князь Всеволод, и его воины; и все единодушно решили, что оно сулит победу князю. У Юрьева-Польского Всеволод соединился с переяславцами, которых привёл Ярослав Красный. Переяславские «мужи» тоже призвали князя проявить твёрдость: его противник отверг предложение о мире, а значит, вина за пролитие крови лежит теперь на нём — для людей того времени это было очень важно; отсюда и высокая патетика их речи, обращённой к Всеволоду: — Ты ему добра хотел, а он головы твоей ловит. Поезжай, княже, на него, ни во что же не ставим жизни свои за твою обиду. И не дай нам Бог ни единому возвратиться, если не будет нам от Бога помощи: нас переступив мёртвых, жён наших и детей наших [пусть заберёт]. Брату твоему Михалку ещё и девятого дня нету, как умер, а он кровь хочет пролить!53 Всеволоду оставалось подчиниться их требованию и подтвердить свою правоту на деле, в бою. Слова переяславцев прозвучали, по всей видимости, 26-го числа, в субботу, то есть спустя неделю после смерти Михалка Юрьевича. Мстислав с ростовцами и дружиной уже стоял близ Юрьева, за рекой Гзой (это левый приток Колокши — той самой реки, в нижнем течении которой, недалеко от Владимира, полк Мстислава Ростиславича однажды уже потерпел поражение от дружин князей Юрьевичей). Здесь, на обширном безлесном пространстве — так называемом «Юрьевском поле» — и должна была решиться судьба Всеволода, а заодно — в очередной раз — судьба владимирского престола. «Князь же Всеволод, надеясь на Бога и на Святую Богородицу, которую видел у Суздаля, переехал реку Гзу в субботу рано и поехал к нему, полки нарядив», — свидетельствует летописец54. Эта местность близ Юрьева словно самой природой была предназначена для больших сражений (своими размерами и рельефом она была пригодна «для проведения военных сражений с использованием конницы», при этом, что особенно важно, не давая «видимого преимущества ни одной из сторон», — замечает современный историк-картограф55). По крайней мере трижды в продолжение XII–XIII веков — в 1176, 1216 и 1297 годах — здесь, на «Юрьевском поле» (или «Юрьевом полчище»), происходили столкновения враждующих русских князей и решалась судьба всего Русского государства: в первый раз в битве между Всеволодом и Мстиславом; во второй — между сыновьями Всеволода Юрием и Ярославом, с одной стороны, и их старшим братом Константином и тестем Ярослава Мстиславом Мстиславичем Удатным — с другой; в третий — между Даниилом Александровичем Московским и Михаилом Ярославичем Тверским, с одной стороны, и великим князем Владимирским Андреем Александровичем — с другой (в последнем случае до сражения не дошло: «за мало не бысть бою промежи ими, и взяша мир»). В летописи эта местность называется Липидами — по названию реки (нынешняя Липня, левый приток реки Ирмес, впадающей, в свою очередь, в Нерль-Клязьменскую). «Мстислав же стоял, доспев (изготовившись. — А. К.) у Липид» — так определяет положение Мстиславовой рати владимирский летописец (или «у Липиды», как сказано в более поздних версиях летописного рассказа). О самом же сражении говорится, что войска обеих ратей покрыли всё «поле Юрьевское» (или, опять же в позднем варианте Никоновской летописи: «…съступишася у Юрьева меж Гзы и Липиды»56). Сражение, вероятно, произошло в воскресенье 27 июня, на память преподобного Сампсона странноприимца57. Оно началось, как обычно, с перестрелки пешцев, но затем, когда в бой вступили конные массы, переросло в ожесточённую и кровавую рубку. «…Стрелки же перестреливались между полками, [и] пошли друг на друга рысью (в оригинале Лаврентьевской летописи: «на грунах». — А. К.), и покрыли поле Юрьевское, и Бог помог Всеволоду Юрьевичу…» Не выдержав натиска владимирских и переяславских полков[14], Мстислав бежал, а из его войска были убиты виднейшие ростовские бояре — Добрыня Долгий (тот самый, что не давал мириться своему князю), некий Иванко Степанович «и иные». «А ростовцев и бояр всех повязали, а во Всеволодовом полку не бысть пакости (то есть обошлось без потерь. — А. К.) [благодаря] Богу и кресту честному; и сёла боярские захватили, и коней, и скот…» Конечно же, владимирский летописец преувеличивал, выдавая желаемое за действительное: потери, и немалые, были и во Всеволодовом войске. «…И бились, и пало обоих многое множество, и одолел Всеволод», — свидетельствует новгородский летописец; «И бысть сеча зла, акы же не бывала николиже в Ростовской земле», — вторит ему автор Тверской летописи. Так была одержана историческая победа. Войско Всеволода вернулось во Владимир «с честью великою», а «владимирцы и дружина повели колодников и скот погнали и коней, славя Бога и Святую Богородицу и крестную силу, его же (крест, то есть клятву на кресте. — А. К.) переступили ростовцы и бояре. Доколе же Богу терпеть нас? — завершает свой исполненный благочестия и назидательной силы рассказ летописец. — За грехи навёл на них и наказал по достоянию рукою благоверного князя Всеволода, сына Юрьева». Рука Всеволода — рука Божия: таков смысл летописного рассказа о победе на «Юрьевском поле», ибо он, Всеволод, — в отличие от лживого князя Мстислава Ростиславича и столь же лживых и нарушающих данную на кресте клятву ростовских бояр — всегда и во всём полагался на волю Божию и исполнял её: ведь это Бог (а уже потом владимирские «мужи») привёл его и его брата Михалка в Ростовскую землю. Конечно, для такого понимания произошедшего требовалось время — но ведь и рассказ о победе Всеволода получил своё литературное оформление позднее — уже после окончательной победы Всеволода в войне с племянниками.Если верить В. Н. Татищеву, то на следующий же день после победы, оставив нескольких людей для погребения убитых и отпустив по домам раненых, Всеволод Юрьевич «наскоро пошёл к Ростову и разорил уезд весь», но к самому городу приступать не стал и вернулся во Владимир из-за угрозы нападения Глеба Рязанского. Когда же выяснилось, что нападения не будет, Всеволод «паки пошёл к Ростову, где его по нужде приняли с честью. Он же бояр тех, которые были ему противны и народ возмусчали, вывез во Владимир, и волости их и скот взял на себя, и всё распорядил, пребыв там до осени, и со многим имением возвратился»58. Пленников ростовцев и суздальцев мы действительно позднее увидим во Владимире. Мстислав же Ростиславич с остатками дружины бежал сначала в Ростов, а оттуда — в Новгород. Но на этот раз новгородцы отказались принимать его и «показали путь» неудачливому князю, а заодно и его малолетнему сыну Святославу: — Ударил еси пятою Новгород. А шёл было на стрыя своего на Михалка, позван ростовцами. Да если Михалка Бог поял, а с братом его со Всеволодом Бог рассудил, то к чему к нам идёшь? Дело было не только в их «обиде» (хотя и в ней тоже), но ещё в их желании наладить отношения с новым суздальским князем, с которым они тут же вступили в переговоры. Новгородцам нужен был мир с Суздальской землёй, и мир этот был заключён к обоюдной выгоде. По договору со Всеволодом они приняли на княжение в Новгород его племянника — всё того же Ярослава Красного59. Несомненно, это была ещё одна, на этот раз дипломатическая победа Всеволода, означавшая признание его в качестве владимиро-суздальского князя за пределами Суздальской земли. Но война с Ростиславичами была далека от завершения. В события, происходившие в Суздальской земле, вмешалась ещё одна сила — рязанский князь Глеб Ростиславич. Ибо именно к нему, в Рязань, бежал изгнанный из Новгорода князь Мстислав Ростиславич и именно у него, в Рязани, находился другой Ростиславич, младший брат Мстислава Ярополк. «И подмолвил Глеба, рязанского князя, зятя своего», — пишет о Мстиславе владимирский летописец. Так начался новый виток войны. Поначалу события складывались не слишком удачно для Всеволода. Осенью того же 1176 года Глеб Ростиславич со своим войском подступил к Москве и полностью выжег город и окрестности («пожже город весь и сёла»). Всеволод со своим полком выступил против него. Судя по логике летописного рассказа, он находился тогда не во Владимире, а в Ростове; во всяком случае, ехал он к Москве через Переяславль и далее через Шернский лес — лесной массив, получивший своё название по реке Шерне, левому притоку Клязьмы. Здесь, «за Переяславлем, за Шернским лесом», его и нагнало новгородское посольство, «Милонежкова чадь», — то есть сам Милонег (вероятно, будущий новгородский тысяцкий) и люди, входившие в его окружение. «Княже, не ходи без новгородских сынов! Пойди на него (на Глеба. — А. К.) вместе с нами» — так передаёт их речь владимирский летописец60. По-видимому, для новгородцев важно было подтвердить союз со Всеволодом, так сказать, скрепить его кровью. И новый владимирский князь предпочёл выполнить их волю. «Возложив упованье на Бога и на Святую Богородицу» (опять-таки слова владимирского летописца), он вернулся во Владимир, а Глеб, пожёгши Москву, беспрепятственно ушёл в Рязань. Оба князя — и Всеволод, и Глеб — готовились к новой большой войне. Помимо новгородцев, Всеволоду обещал оказать помощь главный его союзник в то время, князь Святослав Всеволодович Черниговский; сумел он договориться и со своим племянником Владимиром Глебовичем, княжившим в Южном Переяславле. Всеволод недаром съездил в Ростов: в состав его войска вошли и ростовцы, ещё недавно поддерживавшие Мстислава Ростиславича; теперь они спешили показать свою лояльность новому князю — правда, насколько искренне, сказать трудно. Рязанский князь, в свою очередь, заключил союз с половцами — неизменными участниками большинства междоусобных войн того времени. С наступлением зимы, когда дороги стали пригодными для продвижения конницы, войска выступили навстречу друг другу. «На зиму пошёл князь Всеволод на Глеба к Рязани с ростовцами, и с суздальцами, [и с владимирцами], и со всею дружиною, — читаем в летописи. — И прислал к нему Святослав Всеволодович сыновей своих в помощь: Олега и Владимира; пришёл же к нему и Глебович Владимир, сыновец его, из Переяславля». Но когда полют были уже у Коломны, то есть на рязанской территории, Всеволоду стало известно, что войско противника другим путём прошло от Рязани к Владимиру (вновь они разминулись в лесах!) и уже разоряет окрестности города. Сам Владимир взят не был, а вот Боголюбово, бывшую резиденцию князя Андрея Юрьевича, рязанский князь разорил полностью: «…и с половцы с погаными много… зла створил церкви Боголюбской, её же украсил Андрей, князь добрый, иконами и всяким узорочьем, златом и серебром и каменьем драгим; и ту церковь повелел, двери вышибив, разграбить с погаными, и сёла пожёг боярские, а жён, и детей, и товар дал поганым на щит (то есть отдал в добычу половцам. — А. К.), и многие церкви запалил огнём…» Пришлось от Коломны поворачивать обратно, к Владимиру. Зима в тот год выдалась крайне неустойчивой. Когда в начале февраля 1177 года Всеволод нагнал Глеба, только-только отступившего от Владимира к Рязани вместе с половцами и захваченным полоном, сразу вступить в сражение князьям не удалось. Оба войска расположились по разным берегам Колокши — всё той же реки, на которой Мстислав Ростиславич уже терпел сокрушительное поражение от братьев Юрьевичей. Переправляться через реку князья опасались, ограничиваясь тем, что сторожили места возможных переправ: «ибо нельзя было перейти реку твердью», — объясняет летописец, то есть лёд на реке был тонок и мог не выдержать тяжести войска. Всеволод с союзниками занял левый берег реки, Глеб — правый: он не хотел битвы, но и просто отступить было нельзя, ибо за этим последовал бы удар с тыла. Так продолжалось целый месяц — до начала марта. По сведениям ряда летописей, Глеб вступил в переговоры со Всеволодом, предлагая решить дело миром — подобно тому, как это было полутора годами раньше, когда он заключил мир с князем Михалком Юрьевичем. Наверное, рязанский князь и на этот раз готов был вернуть Всеволоду захваченные боголюбовские святыни, рассматривая их как своего рода отступное, залог мира. Но Всеволод на мир не пошёл: «понеже Глеб поганых навёл и много крови пролил, слушаючи Ростиславичей, шурьёв своих, а Всеволод не створил ему зла никакого»61. Летописец точно называет место расположения Всеволодовой рати — в окрестностях «Прусковой горы»; предположительно гора эта находилась недалеко от существующего иныне села Ставрова в Собинском районе Владимирской области, то есть совсем рядом от Волосова, места битвы 1175 года. Ещё в XIX веке там была известна гора, называемая Прусковой, или, по-другому, Бабаевой62. Надо полагать, что февраль 1177 года ознаменовался необыкновенной оттепелью, и лишь в марте лёд прочно сковал реку. Этим и воспользовались оба князя. 6 марта, «на Масленой неделе» (то есть в воскресенье, называемое прощёным, последнее перед Великим постом), Всеволод «нарядил» полки, изготовив их к схватке. На правый берег Колокши были отправлены обозы («возы») — едва ли не отвлекающий манёвр с целью разделить войско противника и не дать ему действовать всеми силами разом63. Глеб также «нарядил» свои войска и действительно разделил их. Часть сил во главе с Мстиславом Ростиславичем должна была атаковать «возы» Всеволода. Для их защиты с левого берега Колокши был направлен племянник Всеволода Владимир Глебович «с переяславцы» (в данном случае, очевидно, имеется в виду полк из Южного Переяславля) «и неколико дружины с ним». Как выяснилось чуть позже, их целью была не столько защита «возов», сколько атака на дружину Мстислава — наиболее слабое и уязвимое звено противника. Основные же силы Глеба Ростиславича перешли на левый берег Колокши. Вместе с Глебом были дружины его сыновей Романа и Игоря, а также младшего из Ростиславичей Ярополка. И, естественно, половцы, всегда использовавшиеся русскими князьями на направлении главного удара, но не всегда надёжные в том случае, если этот удар выдерживался противником. Вместе со Всеволодом оставались черниговские князья Святославичи. По сведениям поздней Никоновской летописи, приняли участие в сражении и новгородцы (которых ранние летописи как союзников Всеволода не называют)64. Сама битва состоялась на следующий день, 7 марта, в понедельник Фёдоровой (первой) недели Великого поста. Разворачивалась она на обоих берегах Колокши. Первым опять не выдержал Мстислав Ростиславич. Рязанские полки как раз начали наступать на позиции Всеволода и его союзников на Прусковой горе и находились от них на расстоянии «стрелища единого», когда Глебу стало известно о бегстве шурина. Остановившись и «постояв мало», рязанский князь сам увидел, что происходит на противоположном берегу реки, и… тоже побежал, «гоним Божьим гневом», по выражению владимирского летописца. И опять разгром оказался полным, ещё бо́льшим, чем у Липиц. «Всеволод же князь погнался вслед за ними со всею дружиною, одних секуще, других вяжуще, — вновь процитируем Лаврентьевскую летопись. — И тут самого князя Глеба взяли в плен, и сына его Романа, и шурина его Мстислава Ростиславича, и дружину его всю захватили, и думцев его повязали всех: и Бориса Жидиславича, и Ольстина, и Дедильца, и иных множество, а поганых половцев перебили оружием… Помог Бог и Святая Богородица Всеволоду князю в понедельник Фёдоровой недели, и возвратился с победою великою во Владимир». Пленные князья были с триумфом введены в город; «и дружина их вся схвачена, и все вельможи их, и бысть радость велика во Владимире»65. Вот так в одночасье Всеволод Юрьевич превратился в одного из сильнейших и могущественнейших правителей Руси. Война была победоносно завершена, враги повержены, всё княжество оказалось в его руках, и титул его брата — «великий князь всей Ростовской земли» — теперь по праву принадлежал ему. Больше того, у него в руках оказались рязанские князья. Напомню, что и Новгород — пусть на время — признал его власть, приняв к себе на княжение его племянника. Казалось, что победа сама пришла к нему в руки — без каких-либо видимых усилий с его стороны. Всё решили умелые действия его племянника Владимира Глебовича (как оказалось впоследствии, действительно блестящего полководца), а также нестойкость Мстислава и начавшаяся паника в рядах противника. Отступавшие в беспорядке на левый берег Колокши рязанцы и половцы смешивались с бегущими и оказывались под ударами не только своих преследователей, но и дружин того же Владимира Глебовича. Но в глазах современников это лишний раз указывало на то, что Бог на стороне Всеволода и не одной только силой оружия побеждены враги владимирского князя. «…Как пыль в вихре, как огнь пред лицем ветра… так погони их гневом Своим», — перефразирует летописец слова псалмопевца Давида, обращённые к Господу (Пс. 82: 14–16), а далее следует жестокий приговор побеждённым — «суд без милости не сотворившему милость» — слова из Послания апостола Иакова (Иак. 2: 13). Лишь немногие из побеждённых сумели убежать с поля боя, и среди них — племянник Всеволода Ярополк Ростиславич и сын Глеба Рязанского Игорь. Судьба же тех, кто оказался в плену, сложилась по-разному, по большей части трагически: одних князь казнил, «а овых пожаловал, отпустил» — то ли за выкуп, то ли потому, что «благосерд… и милостив и не рад кровопролитию никако же», как утверждал позднее летописец66. Но сказанное им относилось, наверное, к обычным, рядовым пленникам. Что же касается князей, оказавшихся в руках Всеволода, то на них милосердие владимирского князя не распространялось.
Расправа
Триумфальное завершение войны высвечивает новые, ранее не замеченные черты в характере князя Всеволода Юрьевича. С одной стороны, летопись по-прежнему акцентирует внимание на его внушаемости, даже податливости: как прежде он подчинялся воле своих старших родственников, так теперь он слушает то переяславских «мужей», требующих от него немедленной битвы, то новгородских посланцев, напротив, настаивающих на том, чтобы такую битву отложить. И даже после окончательной победы над врагами Всеволод, как мы увидим, оказывается под сильным давлением владимирских «мужей» и предпочитает подчиниться теперь уже их требованиям. С другой стороны, сами эти требования выглядят не просто жёсткими, но жёсткими до крайности, и может сложиться впечатление, что они и нужны были Всеволоду прежде всего для оправдания собственной жестокости (которой ранее мы за ним не замечали) — жестокости, кажущейся едва ли не беспрецедентной в истории древней Руси. Во всяком случае, и последующие шаги Всеволода — сделанные уже без всяко го принуждения и давления извне — вполне укладываются в логику его поведения в качестве полновластного правителя Владимиро-Суздальского княжества — правителя сурового и беспощадного. Итак, на третий день после возвращения Всеволода, то есть 9 марта 1177 года (по «включённому» счёту, принятому в древней Руси), во Владимире начались беспорядки. Предшествующие события приучили жителей княжества к тому, что многое, если не всё, совершается по воле веча, к решениям которого обязаны прислушиваться даже князья. Подобное было в обычае в Новгороде, случалось прежде и в Киеве, и в Галиче, и вот теперь похожий сценарий разыгрывался во Владимире. Гнев горожан был направлен не против князя Всеволода, но, наоборот, в его поддержку, против его недругов — в первую очередь ростовцев и суздальцев, находившихся во Владимире в качестве пленников, но пользовавшихся пока что относительной свободой. (По-видимому, не все из ростовских и суздальских «мужей» сражались на Колокше на стороне Всеволода, хотя нельзя исключать и того, что речь идёт о пленниках, захваченных ещё в битве на Липице.) «И… бысть мятеж велик в граде Владимире, — читаем в Лаврентьевской летописи, — восстали бояре и купцы, говоря: “Княже, мы тебе добра хотим и за тебя головы свои кладём, а ты держишь врагов своих просто. А то враги твои и наши, суздальцы и ростовцы; либо казни их, либо слепи, или дай нам!”». Волнения эти оказались на руку Всеволоду. Их следствием стали, во-первых, более строгие условия содержания пленных — но не ростовцев и суздальцев, а именно князей, которые были помещены Всеволодом в земляную тюрьму — поруб, а во-вторых, обращение в Рязань с требованием выдать ещё одного врага Всеволода — князя Ярополка Ростиславича. В обоих случаях Всеволод мог ссылаться на мнение горожан. «Князь же Всеволод, благоверный и богобоязнивый, — продолжает летописец, — не хотя того створить, повелел посадить их в поруб, людей ради, чтобы утих мятеж, а за Ярополком послал, говоря рязанцам: “Выдайте врага нашего, а не то иду к вам!”». Ярополк в то время находился не в самой Рязани, а на юге княжества — в той его области, которая именовалась Воронеж и располагалась в верховьях одноимённой реки (может быть, намереваясь бежать «в Половцы»?)[15]. Рязанцы предпочли исполнить требование Всеволода — собственно, иного выхода у них не оставалось. «Князь наш и братья наши погибли за чужого князя», — передаёт их слова летопись; они сами схватили Ярополка и отвезли его во Владимир68. Но если они надеялись таким образом облегчить участь своих князей или выменять их на Всеволодова племянника, то они просчитались. Всеволод бросил Ярополка в темницу — ту же, где томились остальные князья, в том числе Глеб Рязанский и его сын Роман. В Лаврентьевской летописи — владимирской версии последующих событий — сообщается и о втором мятеже во Владимире, следствием которого стала расправа над племянниками Всеволода, братьями Ростиславичами. Однако здесь версии разных летописей расходятся. В Ипатьевской — в которой владимирский источник соединён с киевским (или, может быть, черниговским) — о втором мятеже ничего не говорится и всё дальнейшее происходит без какого-либо участия владимирских «мужей» — по воле одного лишь князя Всеволода Юрьевича. Обращает на себя внимание и то, что все летописи без исключения крайне путано рассказывают о случившемся во Владимире — то ли сознательно скрывая истинную картину событий, то ли, может быть, ужасаясь произошедшему. Так, в Лаврентьевской летописи рассказ вообще обрывается на половине фразы и о том, что произошло на самом деле, не говорится ни слова. «По мале же дни всташа опять людье вси и бояре, — сообщает владимирский летописец (предпочтём цитировать его здесь в подлиннике, без перевода), — и придоша на княжь двор многое множьство с оружьем, рекуще: “Чего их додержати? Хочем слепити и (их. — А. К.)”…» Заметим, что требование ослепить пленных — требование беспрецедентное для городских восстаний домонгольской Руси! — звучит в летописной статье уже во второй раз: несколькими строчками ранее уже было: «…любо слепи, али дай нам»; а это может свидетельствовать и о дублировании предыдущего известия — о первом (оно же единственное?) владимирском восстании. По летописи, Всеволод и на этот раз не смог или не захотел противиться воле веча. Правда, Лаврентьевская летопись, как уже было сказано, содержит явно дефектный текст: «…Князю же Всеволоду печалну бывшю, не могшю удержати людии множьства их ради клича…»69 — на этом фраза обрывается, и далее следует пропуск, охватывающий все последующие события этого исполненного многими драматическими событиями года. И это не дефект одного Лаврентьевского списка. В летописях, содержащих более поздние редакции Владимирского летописного свода, предпринимались попытки хоть как-то сгладить явную ущербность летописного повествования. В Радзивиловской и так называемой Академической (или Московско-Академической) летописях и Летописце Переяславля Суздальского получилось довольно неуклюже, причём сокращению подверглось само требование об ослеплении пленников: «По мале же дни опять восташа людие и бояре, и вси велможи, и до купець, и приидоша на двор на княжь многое множество со оружьем, рекуще: “Чего их додержати (вариант: держати. — А. А".)?” И пустиша ею из земли»70. О том, что продолжение оборванного в Лаврентьевской и других летописях текста существовало, но позднее было исключено, можно говорить с уверенностью. В Московском летописном своде конца XV века (в котором, как считается, отразился летописный свод сына Всеволода, князя Юрия Всеволодовича, первой трети XIII века71) говорится, может быть, и не слишком внятно, но всё-таки более или менее определённо — Всеволод действительно вынужден был подчиниться требованиям владимирских «мужей» и дать добро на расправу над племянниками: «Князю же Всеволоду печалну бывшю, но не могшу ему удержати людии множьства, но шедше розметаша поруб и емше Мъстислава и Ярополка ослепиша, а Глеб ту умре, а тех отпустиша в Русь»72. Вот это-то «…отпустиша в Русь», или «…пустиша… из земли» и осталось в Радзивиловской и сходных с нею летописях как осколок прежде читавшегося текста. Такова владимирская версия событий. Вся ответственность за случившееся возложена здесь на владимирских «мужей», но не на князя Всеволода Юрьевича, который не смог удержать своих людей. Что же касается Глеба Рязанского, то о его смерти в летописи сказано одной фразой, вскользь: в конце концов, князь действительно был стар, и то, что он умер в порубе, не должно было казаться удивительным; винить в этом вроде бы некого. Но совсем не так смотрели на произошедшее за пределами Владимиро-Суздальского княжества. Автор Новгородской Первой летописи, сообщив под 6685-м (1177) годом о смерти во владимирском плену князя Глеба («Преставися Глеб, князь Рязаньскыи, Володимире, в порубе»), продолжал: «В то же время слеплен бысть Мьстислав князь с братомь Яропълкомь от стръя (стрыя, то есть от дяди. — А. К.) своего Всеволода…»73 Новгородский книжник не вдавался в подробности, зафиксировав лишь итог разыгравшейся драмы. Но ответственность за ослепление племянников без всяких оговорок возложена им на самого Всеволода. Что и неудивительно: на то он и князь, что несёт ответственность за всё совершённое его подданными. Имеется в нашем распоряжении ещё одна — южнорусская — версия случившегося. Она сохранилась в Ипатьевской летописи, рассказ которой, правда, тоже очень краток и не вполне ясен. И тем не менее только отсюда мы узнаём о подоплёке событий и о том, что сопутствовало расправе над пленниками. Произошедшая во Владимире драма касалась не только её непосредственных участников. События вышли за пределы Северо-Восточной Руси. В той или иной степени в них оказались вовлечены и другие русские князья. Внезапное возвышение Всеволода Юрьевича и судьба оказавшихся в его руках сразу четырёх русских князей не могли не обеспокоить правителей соседних княжеств. Правда, на какое-то время южнорусские князья были отвлечены от событий в Суздальской земле. Как раз в те месяцы, когда там шли военные действия, в Южной Руси тоже разворачивались события весьма драматичные, серьёзно изменившие соотношение сил между отдельными княжескими кланами — прежде всего смоленскими Ростиславичами и черниговскими Ольговичами, глава которых, Святослав Всеволодович, исполнил наконец свою мечту и занял-таки киевский престол. В мае 1176 года смоленские Ростиславичи потерпели поражение от половцев, вторгшихся в русские пределы. Воспользовавшись этим, Святослав Всеволодович подступил к Киеву со «своими погаными» — «чёрными клобуками». Роман Ростиславич ушёл в Белгород, и 20 июля Святослав занял Киев. Но утвердиться в стольном городе Руси ему удалось не сразу. Узнав о том, что младший брат Романа князь Мстислав Храбрый со своим полком подошёл к Киеву и намерен штурмовать город, Святослав бежал за Днепр, причём многие из его людей утонули при переправе. Однако на стороне Святослава были половцы. Киевщина и вся Южная Русь стояли на пороге новой большой войны, и Ростиславичи предпочли уступить. «Не желая губить Русской земли и христианской крови проливать», они, «сгадавше», то есть обсудив всё между собой, отдали Киев Святославу, и Роман вновь, уже добровольно, по соглашению со Святославом, ушёл в свой Смоленск, оставив ближние к Киеву города братьям: Давыду Вышгород, Рюрику Белгород. Заключённый тогда договор — «Романов ряд» — стал основой политического устройства Руси на следующие полтора десятилетия, определив права и сферы влияния обоих соперничающих кланов74. Так на время между черниговскими князьями и Ростиславичами установился мир. Это дало им возможность действовать согласованно на разных направлениях — в том числе и в отношении конфликта в Суздальской земле. Более всех уступкой Киева Святославу Всеволодовичу был недоволен Мстислав Храбрый, младший из князей Ростиславичей, который княжил прежде в Смоленске, переданном им теперь старшему брату. Но он же первым и обратился к Святославу Всеволодовичу — уже как к великому князю Киевскому! — с просьбой вмешаться в суздальский конфликт. Помимо прочего, Мстислав был женат на дочери князя Глеба Рязанского. Но просил он не только за тестя, но и за суздальских Ростиславичей. «Пошли ко Всеволоду Мстислава для и Ярополка» — так передаёт смысл его послания летописец75. К просьбе Мстислава присоединилась и княгиня Глебовая, «молясь о муже и о сыне». Можно было бы добавить: и о братьях — ведь жена рязанского князя, напомню, приходилась сестрой суздальским Ростиславичам. Самого же Святослава Всеволодовича должна была беспокоить ещё и судьба собственного зятя, князя Романа Глебовича.













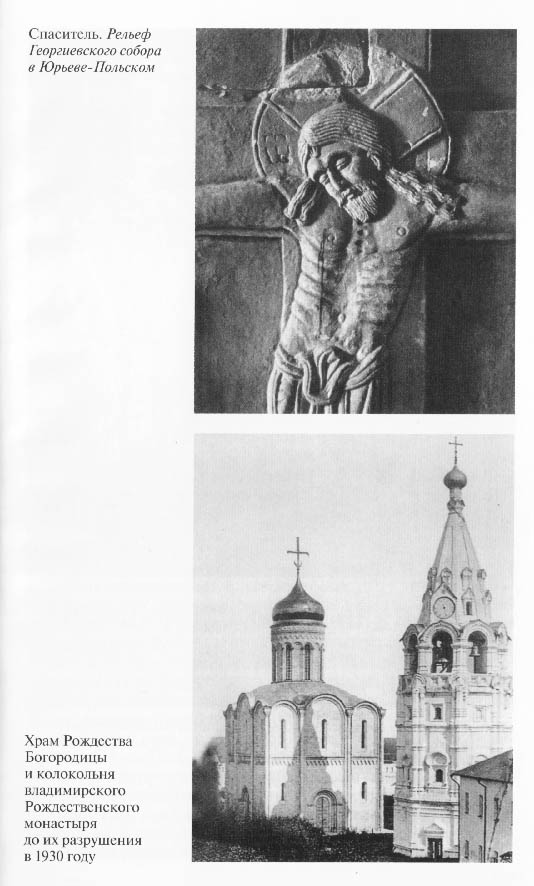
 Произошедшее во Владимире вообще сильно задевало бывшего покровителя Всеволода. Ведь это он некогда приютил у себя и самого Всеволода с братом, и его племянников и настоял на заключении ими мира, и это без его помощи Всеволод не смог бы победить в войне за Владимир. Будучи черниговским князем, Святослав Всеволодович помогал Юрьевичам, опасаясь чрезмерного усиления своих противников как в Суздале и Ростове, так и в Рязани. Но итогом войны стали объединение Владимиро-Суздальского княжества в одних руках и подчинение Рязани новому владимирскому князю — а это отнюдь не отвечало интересам Святослава. Его сыновья участвовали в битве на Прусковой горе, но теперь, судя по логике летописного повествования, покинули своего недавнего союзника и какого-либо влияния на него не имели. А потому Святослав прибег к посредничеству церковных иерархов, которых всегда привлекали князья, чтобы «отмолить» попавших в плен родичей. Во Владимир к Всеволоду отправились черниговский епископ Порфирий и игумен монастыря Святой Богородицы Ефрем. Однако миссия их полностью провалилась.
Порфирий, по всей вероятности, был тем самым не названным по имени церковным иерархом, «из руки» которого целовали крест все четыре суздальских князя после смерти Андрея Боголюбского. Тогда этот договор почти сразу же был нарушен, в чём, возможно, Всеволод углядел вину епископа. Может быть, поэтому он обошёлся с ним и его спутником столь негостеприимно. И епископ Порфирий, и игумен Ефрем были задержаны во Владимире; «и удержа их Всеволод два лета», — свидетельствует летописец. Если посланцы Святослава прибыли во Владимир весной 1177 года, то «два лета» пребывания во Владимире означают, что отпущены они были не ранее весны — лета следующего, 1178 года. Несомненно, такие действия владимирского князя нельзя расценить иначе, как недружественные в отношении Святослава Всеволодовича. Но теперь Всеволод чувствовал себя настолько сильным, что не нуждался в покровителе, и спешил продемонстрировать это самым наглядным и даже оскорбительным для того образом.
Тем не менее переговоры продолжились. Предложение Святослава Всеволодовича сводилось к тому, чтобы Всеволод освободил рязанского князя, так сказать, под его поручительство — с условием, что тот навсегда откажется от своих прав на Рязань в пользу сыновей, а сам «поидеть в Русь», то есть в Чернигов или Киев. Но этому воспротивился сам Глеб Ростиславич. «Лучше здесь умру, не[жели] иду!» — такие его исполненные чувства собственного достоинства слова приводит летописец.
К сожалению, слова эти оказались пророческими. 30 июня князь Глеб Ростиславич умер76. При каких обстоятельствах это произошло, своей ли смертью, или кто-то помог ему расстаться с жизнью, неизвестно. Обращает на себя внимание то, как сказано об этом в летописях — авторы их прибегали к каким-то нарочито неопределённым, туманным выражениям: «Тогда же Глеб мёртв бысть» (в Ипатьевской); или: «И не стало его в изымании (в плену. — А. К.)» (рязанская по происхождению статья «Начало о великих князьях рязанских», сохранившаяся в Воскресенской летописи XVI века)77.
С большим трудом и не сразу удалось договориться об освобождении князя Романа Глебовича. «А Романа, сына его, едва выстояша, целовавше крест», — читаем в той же Ипатьевской летописи. «Выстояли» князя, очевидно, при посредничестве Святослава Всеволодовича и черниговских иерархов. Крест же Роман целовал Всеволоду Юрьевичу на всей его воле. Так рязанские князья оказались в полной зависимости от владимирского «самодержца» — даже большей, чем во времена Андрея Боголюбского.
Ну а затем настал черёд Всеволодовых племянников. «А Мстислав и Ярополк в порубе были, — продолжает киевский летописец. — И потом вывели их оттуда и, слепив, пустили». (Или, как ещё определённее сказано в статье «Начало о великих князьях рязанских»: «…князь великий Всеволод ослепи».)
Итак, братьев всё-таки «пустили» из Суздальской земли. Но как! Предварительно искалечив, лишив зрения, то есть сделав, по меркам древней Руси, полностью недееспособными!
Подобную двойную расправу можно назвать беспрецедентной для древней Руси. Домонгольская история знает ещё лишь один случай такого рода — это расправа над теребовльским князем Васильком Ростиславичем, схваченным в Киеве великим князем Святополком Изяславичем в 1097 году и злодейски ослеплённым людьми Святополка и его тогдашнего союзника, волынского князя Давыда Игоревича. Ослепление Василька воспринято было как неслыханное преступление. «Такого не бывало ещё в Русской земле ни при дедах наших, ни при отцах наших!» — восклицал, узнав об этом, Владимир Мономах; «Не было этого в роде нашем», — вторили Мономаху его двоюродные братья черниговские князья Олег и Давыд Святославичи78. Теперь, при внуках Мономаха, зло это повторилось в его собственном семействе!
Зато ослепление как средство расправы с политическими противниками широко практиковалось в Византийской империи. Об этом на Руси хорошо знали; по крайней мере один случай такого рода попал на страницы летописи: под 1095 годом в «Повести временных лет» сообщается об ослеплении императором Алексеем Комнином некоего самозванца, выдававшего себя за царевича Леона, сына императора Романа IV Диогена79. Но то лишь один пример в богатой подобными примерами истории Ромейской державы: ведь ранее ослеплены были и сам император Роман IV — ещё в 1072 году, и один из его предшественников, император Михаил V Калафат, — в 1042 году, вместе со своим дядей новелиссимом Константином, и многие, многие другие. Во времена Всеволода Большое Гнездо — времена смут и мятежей в Византийской империи, когда, по словам поэта, «погрязли в скверне византийцы, / И рушилась Империя»[16], — дело это, можно сказать, было поставлено на поток; так расправлялись с любыми нежелательными претендентами на императорский венец, прежде всего с представителями правящих династий: для примера назовём хотя бы внучатого племянника императора Мануила Комнина Алексея, ослеплённого по приказу императора Исаака Ангела, или другого Алексея, незаконнорождённого сына императора Мануила, казнённого при императоре Андронике Комнине, или ослеплённых при том же Андронике его собственных внучатых племянников Мануила и Алексея, или сыновей Андроника Иоанна и Мануила, ослеплённых при Исааке Ангеле…. список едва ли не бесконечен. За действительные или мнимые провинности лишали зрения и людей не столь знатных, но приближённых ко двору: в той части знаменитой «Истории» византийца Никиты Хониата, которая посвящена царствованию императора Мануила Комнина (того самого, что столь радушно принимал некогда Всеволода и его братьев и по-прежнему правил Империей), мы найдём немало примеров такого рода; ещё больше их при описании правления врага Мануила, императора Андроника Комнина80.
Иерархи-греки и на Руси использовали ослепление как форму церковного наказания — но по преимуществу в отношении тех, кого обвиняли в ереси или святотатстве: так, по нормам византийского права в 1169 году в Киеве был жестоко казнён владимирский «лжеепископ» Феодор, которому, «яко злодею еретику», вырезали язык, отсекли правую руку, «и очи ему вынули, зане хулу измолвил на Святую Богородицу»; впрочем, так же прежде расправлялся со своими врагами во Владимире и сам Феодор, тоже грек по происхождению81.
Но вот городским восстаниям такая форма расправы, повторюсь, не знакома. (При том, что развивались эти восстания нередко именно по «владимирскому» сценарию, в защиту собственного князя, и порой оборачивались смертью «чужого», враждебного горожанам правителя — как, например, было в Киеве в 1147 году, когда обезумевшая толпа растерзала князя-инока Игоря Ольговича.) Тогда почему же владимирские «мужи» так настойчиво (дважды, если доверять показаниям Лаврентьевской летописи) требовали от Всеволода «слепить» попавших к ним в руки князей? Не чужая ли воля направляла их, и не они ли — а отнюдь не князь Всеволод — оказывались объектом влияния извне? Или же свидетельство об их настойчивости владимирского летописца — не более чем желание выгородить своего князя, снять с него обвинение в излишней жестокости? Ведь составленная при Всеволоде Юрьевиче летопись отражает события исключительно в выгодном для него свете. В конце концов, традиции византийской политической борьбы были знакомы Всеволоду, несколько лет проведшему в Империи, куда лучше, чем владимирским горожанам. Что ж, поле для домыслов, как говорится, свободно, и каждый волен высказывать на сей счёт собственные предположения…
Между тем история с братьями Ростиславичами оказалась ещё более запутанной. Покинув Владимир, несчастные направились в Смоленск, к князю Роману Ростиславичу, от которого, наверное, ждали покровительства и поддержки. Конечно же, направились не сразу и не сами по себе. Передвигаться самостоятельно они не могли, к тому же сильно страдали («гниюще очами», по свидетельству летописца). В самом начале сентября князья оказались близ Смоленска, у церкви Святых Бориса и Глеба на Смядыни, выстроенной на том самом месте в устье одноимённой реки, притока Днепра, где 5 сентября 1015 года был убит князь Глеб Владимирович — один из двух (наряду с братом Борисом) первых русских святых, покровителей всех князей Рюрикова рода. И вот 5 сентября 1177 года, в самый день мученической гибели святого Глеба, случилось то, что современники посчитали чудом, а историки Нового времени — по большей части мистификацией или «политической спекуляцией»82.
Автор Лаврентьевской летописи ни словом не упоминает об этом. Зато в Новгородской Первой летописи читаем:
«…В то же время ослеплён был Мстислав князь с братом Ярополком от стрыя своего Всеволода, и пустил их (Всеволод. — А. К.) в Русь. Вели же их слепыми и гниющими глазами, и когда дошли Смоленска и пришли на Смядынь в церковь Святых мучеников Бориса и Глеба, и тут тотчас постигла их Божия благодать и святой Владычицы нашей Богородицы и святых новоявленных мучеников Бориса и Глеба, и тут прозрели»83.
(Во всех списках, заметим, в единственном числе: «…ослеплён бысть Мстислав…», хотя далее упоминается и его брат Ярополк и использовано уже двойственное число: «…ведома же има слепома и гньющема… и ту прозреста»).
«…И вошли в церковь Святых мучеников Бориса и Глеба на Смядыни, и тут прозрели сентября в 5 [день], на убиение Глебово, а на зиму пришли в Новгород…» — добавляет дату чудесного исцеления автор Московского летописного свода конца XV века, а внизу на поле помещает особый заголовок к этому своему сообщению: «О ослепленьи Ростиславичев и о прозреньи их на Смядыне»84.
Впоследствии рассказ о чудесном исцелении братьев вошёл в особую редакцию Сказания о чудесах святых Бориса и Глеба, сохранившуюся в украинской рукописи середины XVII века («чудо 7-е»). Рассказ этот в основе своей отражает именно владимирскую версию событий[17], а далее содержит обычное для житийной литературы распространение первоначального краткого повествования:
«…Молящимся же им прилежно Богу с великим умилением и святых мученик Бориса и Глеба яко сродник своих в помощь призывающим, еже облегчитися им от болезни, гнияху бо им очи. И ещё им молящимся, и се скорая помощника и заступника скорбящим не презреста моления их (использовано двойственное число. — А. К.), но ускориша им на помощь и благодатию Божию дароваша им очёса. Они же паче надежды не токмо облегчение от болезни прияша, но и очи свои абие целы обретше и, ясно прозревше, велми прославиша Бога и Пречистую Матерь и такожде великих Христовых угодников и мученик Бориса и Глеба. И отъидоша здравы, видяще добре, хваляще и благодаряще Бога и святых мученик везде прославляюще и проповедающе чудеса и дерзновение еже к Богу…»85
Что в действительности случилось на Смядыни, мы, конечно же, так никогда и не узнаем. Впоследствии не раз утверждалось, что чудесное исцеление братьев Ростиславичей было подстроено, и чуть ли не самим Всеволодом. Впервые такое предположение высказал в XVIII веке Василий Никитич Татищев, попытавшийся разобраться в произошедшем с чисто рационалистических позиций. На его просвещённый взгляд, никакого исцеления, равно как и никакого ослепления братьев Ростиславичей во Владимире не было: Всеволод лишь инсценировал жестокую казнь, желая успокоить народ и утишить мятеж. Пообещав ослепить племянников, он повелел им «намазати очи и лица кровию» и в таком виде предъявил собравшимся86. При этом Татищев ссылался на некие бывшие в его распоряжении манускрипты — Раскольничий и Хрущовский летописцы, но оба современной науке не известны, и само существование их крайне сомнительно. Впоследствии Татищев слегка откорректировал текст, добавив в него ряд подробностей: в самый день мятежа, «пред вечером», Всеволод будто бы «велел сыновцам своим сверх очей кожу надрезали, довольно окровеня, объявил народу, что им глаза выколоты. И тотчас, посадя на телегу, за город велел проводить, доколе от народа безопасны будут»87. «Сие я для того пространнее положил, — объяснял Татищев в примечаниях ко второй редакции своего труда, — чтоб всяк те сумнительныя сказания и правость познать мог».
Версия Татищева получила распространение в исторической литературе88. Что ж, Всеволод и в самом деле мог проявить гуманность и не доводить дело до крайности. В конце концов, подобное тоже случалось — и опять-таки в византийской истории, хорошо известной владимирскому князю. Так, в 70-е годы XI века будущий император, а в то время стратопедарх Алексей Комнин похожим образом расправился с мятежным полководцем «кельтом» Руселем, возглавившим восставших против Империи «варваров» (германских наёмников). Зять Алексея Никифор Вриенний в своих «Исторических записках» приводит подробности устроенной инсценировки, и эти подробности могут представлять для нас интерес именно в связи с расправой над племянниками Всеволода. По приказу стратопедарха, сообщает Никифор, палач «разводит огонь, раскаляет железо, распростирает Руселя на полу, приказывает ему жалобно кричать и стенать, как будто его лишают зрения… Потом на его глаза накладывают целебный пластырь, а на пластырь — повязку; поутру же выводят его перед народом и показывают всем как ослеплённого. Таким действием стратопедарх прекратил всякое волнение». Когда же позднее один из родственников Комнина, некий Докиан, стал порицать его за жестокость, Алексей приказал своему пленнику снять повязку, и это привело Докиана в совершенное изумление и восторг89.
Могло ли что-то похожее случиться и во Владимире? Трудно сказать. Всё же цели у Алексея Комнина и у Всеволода Юрьевича были разными. Стратопедарху важно было доказать наёмникам-варварам бессмысленность их дальнейшего сопротивления, Всеволоду же — избавиться от возможных посягательств на власть со стороны племянников. Алексею нужен был живой и дееспособный Русель, которого можно было бы использовать и в дальнейшем, а вот для Всеволода именно это представляло главную опасность. Впрочем, у Мстислава и Ярополка могли найтись доброхоты и не из числа близких к Всеволоду людей, так что мнимое или не доведённое до конца ослепление братьев могло случиться как раз вопреки воле князя — такое предположение, также высказанное в литературе90, имеет не меньше прав на существование. Другой вопрос: а можно ли было чисто технически провести во Владимире столь сложную операцию? Ведь в этом деле от палача требовалось немалое, если можно так выразиться, искусство. Опыта же подобных операций на Руси, повторюсь, не было — в отличие от Византии.
Словом, история в высшей степени загадочная. Одно, пожалуй, можно сказать наверняка. Жестокая расправа над братьями Ростиславичами (или по крайней мере над старшим из них, Мстиславом) всё же имела место — как имело место и нечто из ряда вон выходящее уже после неё. В историю Великого Новгорода Мстислав Ростиславич вошёл с прозвищем Безокий91 — а такое прозвище говорит само за себя. То есть полностью или частично он был лишён зрения. Но при этом, будучи Безоким, Мстислав остался дееспособным, полноправным князем, как и его брат Ярополк, — и это, несомненно, могло быть воспринято как самое настоящее чудо! Ибо уже после пребывания на Смядыни сначала Мстислав, а затем и Ярополк будут приглашены на княжение — и не куда-нибудь, а в Новгород, где сменят ставленника Всеволода Юрьевича, князя Ярослава Красного. То есть оба останутся в числе политических противников Всеволода. А это значит, что достичь своих целей князь Всеволод Юрьевич так и не смог.
Произошедшее во Владимире вообще сильно задевало бывшего покровителя Всеволода. Ведь это он некогда приютил у себя и самого Всеволода с братом, и его племянников и настоял на заключении ими мира, и это без его помощи Всеволод не смог бы победить в войне за Владимир. Будучи черниговским князем, Святослав Всеволодович помогал Юрьевичам, опасаясь чрезмерного усиления своих противников как в Суздале и Ростове, так и в Рязани. Но итогом войны стали объединение Владимиро-Суздальского княжества в одних руках и подчинение Рязани новому владимирскому князю — а это отнюдь не отвечало интересам Святослава. Его сыновья участвовали в битве на Прусковой горе, но теперь, судя по логике летописного повествования, покинули своего недавнего союзника и какого-либо влияния на него не имели. А потому Святослав прибег к посредничеству церковных иерархов, которых всегда привлекали князья, чтобы «отмолить» попавших в плен родичей. Во Владимир к Всеволоду отправились черниговский епископ Порфирий и игумен монастыря Святой Богородицы Ефрем. Однако миссия их полностью провалилась.
Порфирий, по всей вероятности, был тем самым не названным по имени церковным иерархом, «из руки» которого целовали крест все четыре суздальских князя после смерти Андрея Боголюбского. Тогда этот договор почти сразу же был нарушен, в чём, возможно, Всеволод углядел вину епископа. Может быть, поэтому он обошёлся с ним и его спутником столь негостеприимно. И епископ Порфирий, и игумен Ефрем были задержаны во Владимире; «и удержа их Всеволод два лета», — свидетельствует летописец. Если посланцы Святослава прибыли во Владимир весной 1177 года, то «два лета» пребывания во Владимире означают, что отпущены они были не ранее весны — лета следующего, 1178 года. Несомненно, такие действия владимирского князя нельзя расценить иначе, как недружественные в отношении Святослава Всеволодовича. Но теперь Всеволод чувствовал себя настолько сильным, что не нуждался в покровителе, и спешил продемонстрировать это самым наглядным и даже оскорбительным для того образом.
Тем не менее переговоры продолжились. Предложение Святослава Всеволодовича сводилось к тому, чтобы Всеволод освободил рязанского князя, так сказать, под его поручительство — с условием, что тот навсегда откажется от своих прав на Рязань в пользу сыновей, а сам «поидеть в Русь», то есть в Чернигов или Киев. Но этому воспротивился сам Глеб Ростиславич. «Лучше здесь умру, не[жели] иду!» — такие его исполненные чувства собственного достоинства слова приводит летописец.
К сожалению, слова эти оказались пророческими. 30 июня князь Глеб Ростиславич умер76. При каких обстоятельствах это произошло, своей ли смертью, или кто-то помог ему расстаться с жизнью, неизвестно. Обращает на себя внимание то, как сказано об этом в летописях — авторы их прибегали к каким-то нарочито неопределённым, туманным выражениям: «Тогда же Глеб мёртв бысть» (в Ипатьевской); или: «И не стало его в изымании (в плену. — А. К.)» (рязанская по происхождению статья «Начало о великих князьях рязанских», сохранившаяся в Воскресенской летописи XVI века)77.
С большим трудом и не сразу удалось договориться об освобождении князя Романа Глебовича. «А Романа, сына его, едва выстояша, целовавше крест», — читаем в той же Ипатьевской летописи. «Выстояли» князя, очевидно, при посредничестве Святослава Всеволодовича и черниговских иерархов. Крест же Роман целовал Всеволоду Юрьевичу на всей его воле. Так рязанские князья оказались в полной зависимости от владимирского «самодержца» — даже большей, чем во времена Андрея Боголюбского.
Ну а затем настал черёд Всеволодовых племянников. «А Мстислав и Ярополк в порубе были, — продолжает киевский летописец. — И потом вывели их оттуда и, слепив, пустили». (Или, как ещё определённее сказано в статье «Начало о великих князьях рязанских»: «…князь великий Всеволод ослепи».)
Итак, братьев всё-таки «пустили» из Суздальской земли. Но как! Предварительно искалечив, лишив зрения, то есть сделав, по меркам древней Руси, полностью недееспособными!
Подобную двойную расправу можно назвать беспрецедентной для древней Руси. Домонгольская история знает ещё лишь один случай такого рода — это расправа над теребовльским князем Васильком Ростиславичем, схваченным в Киеве великим князем Святополком Изяславичем в 1097 году и злодейски ослеплённым людьми Святополка и его тогдашнего союзника, волынского князя Давыда Игоревича. Ослепление Василька воспринято было как неслыханное преступление. «Такого не бывало ещё в Русской земле ни при дедах наших, ни при отцах наших!» — восклицал, узнав об этом, Владимир Мономах; «Не было этого в роде нашем», — вторили Мономаху его двоюродные братья черниговские князья Олег и Давыд Святославичи78. Теперь, при внуках Мономаха, зло это повторилось в его собственном семействе!
Зато ослепление как средство расправы с политическими противниками широко практиковалось в Византийской империи. Об этом на Руси хорошо знали; по крайней мере один случай такого рода попал на страницы летописи: под 1095 годом в «Повести временных лет» сообщается об ослеплении императором Алексеем Комнином некоего самозванца, выдававшего себя за царевича Леона, сына императора Романа IV Диогена79. Но то лишь один пример в богатой подобными примерами истории Ромейской державы: ведь ранее ослеплены были и сам император Роман IV — ещё в 1072 году, и один из его предшественников, император Михаил V Калафат, — в 1042 году, вместе со своим дядей новелиссимом Константином, и многие, многие другие. Во времена Всеволода Большое Гнездо — времена смут и мятежей в Византийской империи, когда, по словам поэта, «погрязли в скверне византийцы, / И рушилась Империя»[16], — дело это, можно сказать, было поставлено на поток; так расправлялись с любыми нежелательными претендентами на императорский венец, прежде всего с представителями правящих династий: для примера назовём хотя бы внучатого племянника императора Мануила Комнина Алексея, ослеплённого по приказу императора Исаака Ангела, или другого Алексея, незаконнорождённого сына императора Мануила, казнённого при императоре Андронике Комнине, или ослеплённых при том же Андронике его собственных внучатых племянников Мануила и Алексея, или сыновей Андроника Иоанна и Мануила, ослеплённых при Исааке Ангеле…. список едва ли не бесконечен. За действительные или мнимые провинности лишали зрения и людей не столь знатных, но приближённых ко двору: в той части знаменитой «Истории» византийца Никиты Хониата, которая посвящена царствованию императора Мануила Комнина (того самого, что столь радушно принимал некогда Всеволода и его братьев и по-прежнему правил Империей), мы найдём немало примеров такого рода; ещё больше их при описании правления врага Мануила, императора Андроника Комнина80.
Иерархи-греки и на Руси использовали ослепление как форму церковного наказания — но по преимуществу в отношении тех, кого обвиняли в ереси или святотатстве: так, по нормам византийского права в 1169 году в Киеве был жестоко казнён владимирский «лжеепископ» Феодор, которому, «яко злодею еретику», вырезали язык, отсекли правую руку, «и очи ему вынули, зане хулу измолвил на Святую Богородицу»; впрочем, так же прежде расправлялся со своими врагами во Владимире и сам Феодор, тоже грек по происхождению81.
Но вот городским восстаниям такая форма расправы, повторюсь, не знакома. (При том, что развивались эти восстания нередко именно по «владимирскому» сценарию, в защиту собственного князя, и порой оборачивались смертью «чужого», враждебного горожанам правителя — как, например, было в Киеве в 1147 году, когда обезумевшая толпа растерзала князя-инока Игоря Ольговича.) Тогда почему же владимирские «мужи» так настойчиво (дважды, если доверять показаниям Лаврентьевской летописи) требовали от Всеволода «слепить» попавших к ним в руки князей? Не чужая ли воля направляла их, и не они ли — а отнюдь не князь Всеволод — оказывались объектом влияния извне? Или же свидетельство об их настойчивости владимирского летописца — не более чем желание выгородить своего князя, снять с него обвинение в излишней жестокости? Ведь составленная при Всеволоде Юрьевиче летопись отражает события исключительно в выгодном для него свете. В конце концов, традиции византийской политической борьбы были знакомы Всеволоду, несколько лет проведшему в Империи, куда лучше, чем владимирским горожанам. Что ж, поле для домыслов, как говорится, свободно, и каждый волен высказывать на сей счёт собственные предположения…
Между тем история с братьями Ростиславичами оказалась ещё более запутанной. Покинув Владимир, несчастные направились в Смоленск, к князю Роману Ростиславичу, от которого, наверное, ждали покровительства и поддержки. Конечно же, направились не сразу и не сами по себе. Передвигаться самостоятельно они не могли, к тому же сильно страдали («гниюще очами», по свидетельству летописца). В самом начале сентября князья оказались близ Смоленска, у церкви Святых Бориса и Глеба на Смядыни, выстроенной на том самом месте в устье одноимённой реки, притока Днепра, где 5 сентября 1015 года был убит князь Глеб Владимирович — один из двух (наряду с братом Борисом) первых русских святых, покровителей всех князей Рюрикова рода. И вот 5 сентября 1177 года, в самый день мученической гибели святого Глеба, случилось то, что современники посчитали чудом, а историки Нового времени — по большей части мистификацией или «политической спекуляцией»82.
Автор Лаврентьевской летописи ни словом не упоминает об этом. Зато в Новгородской Первой летописи читаем:
«…В то же время ослеплён был Мстислав князь с братом Ярополком от стрыя своего Всеволода, и пустил их (Всеволод. — А. К.) в Русь. Вели же их слепыми и гниющими глазами, и когда дошли Смоленска и пришли на Смядынь в церковь Святых мучеников Бориса и Глеба, и тут тотчас постигла их Божия благодать и святой Владычицы нашей Богородицы и святых новоявленных мучеников Бориса и Глеба, и тут прозрели»83.
(Во всех списках, заметим, в единственном числе: «…ослеплён бысть Мстислав…», хотя далее упоминается и его брат Ярополк и использовано уже двойственное число: «…ведома же има слепома и гньющема… и ту прозреста»).
«…И вошли в церковь Святых мучеников Бориса и Глеба на Смядыни, и тут прозрели сентября в 5 [день], на убиение Глебово, а на зиму пришли в Новгород…» — добавляет дату чудесного исцеления автор Московского летописного свода конца XV века, а внизу на поле помещает особый заголовок к этому своему сообщению: «О ослепленьи Ростиславичев и о прозреньи их на Смядыне»84.
Впоследствии рассказ о чудесном исцелении братьев вошёл в особую редакцию Сказания о чудесах святых Бориса и Глеба, сохранившуюся в украинской рукописи середины XVII века («чудо 7-е»). Рассказ этот в основе своей отражает именно владимирскую версию событий[17], а далее содержит обычное для житийной литературы распространение первоначального краткого повествования:
«…Молящимся же им прилежно Богу с великим умилением и святых мученик Бориса и Глеба яко сродник своих в помощь призывающим, еже облегчитися им от болезни, гнияху бо им очи. И ещё им молящимся, и се скорая помощника и заступника скорбящим не презреста моления их (использовано двойственное число. — А. К.), но ускориша им на помощь и благодатию Божию дароваша им очёса. Они же паче надежды не токмо облегчение от болезни прияша, но и очи свои абие целы обретше и, ясно прозревше, велми прославиша Бога и Пречистую Матерь и такожде великих Христовых угодников и мученик Бориса и Глеба. И отъидоша здравы, видяще добре, хваляще и благодаряще Бога и святых мученик везде прославляюще и проповедающе чудеса и дерзновение еже к Богу…»85
Что в действительности случилось на Смядыни, мы, конечно же, так никогда и не узнаем. Впоследствии не раз утверждалось, что чудесное исцеление братьев Ростиславичей было подстроено, и чуть ли не самим Всеволодом. Впервые такое предположение высказал в XVIII веке Василий Никитич Татищев, попытавшийся разобраться в произошедшем с чисто рационалистических позиций. На его просвещённый взгляд, никакого исцеления, равно как и никакого ослепления братьев Ростиславичей во Владимире не было: Всеволод лишь инсценировал жестокую казнь, желая успокоить народ и утишить мятеж. Пообещав ослепить племянников, он повелел им «намазати очи и лица кровию» и в таком виде предъявил собравшимся86. При этом Татищев ссылался на некие бывшие в его распоряжении манускрипты — Раскольничий и Хрущовский летописцы, но оба современной науке не известны, и само существование их крайне сомнительно. Впоследствии Татищев слегка откорректировал текст, добавив в него ряд подробностей: в самый день мятежа, «пред вечером», Всеволод будто бы «велел сыновцам своим сверх очей кожу надрезали, довольно окровеня, объявил народу, что им глаза выколоты. И тотчас, посадя на телегу, за город велел проводить, доколе от народа безопасны будут»87. «Сие я для того пространнее положил, — объяснял Татищев в примечаниях ко второй редакции своего труда, — чтоб всяк те сумнительныя сказания и правость познать мог».
Версия Татищева получила распространение в исторической литературе88. Что ж, Всеволод и в самом деле мог проявить гуманность и не доводить дело до крайности. В конце концов, подобное тоже случалось — и опять-таки в византийской истории, хорошо известной владимирскому князю. Так, в 70-е годы XI века будущий император, а в то время стратопедарх Алексей Комнин похожим образом расправился с мятежным полководцем «кельтом» Руселем, возглавившим восставших против Империи «варваров» (германских наёмников). Зять Алексея Никифор Вриенний в своих «Исторических записках» приводит подробности устроенной инсценировки, и эти подробности могут представлять для нас интерес именно в связи с расправой над племянниками Всеволода. По приказу стратопедарха, сообщает Никифор, палач «разводит огонь, раскаляет железо, распростирает Руселя на полу, приказывает ему жалобно кричать и стенать, как будто его лишают зрения… Потом на его глаза накладывают целебный пластырь, а на пластырь — повязку; поутру же выводят его перед народом и показывают всем как ослеплённого. Таким действием стратопедарх прекратил всякое волнение». Когда же позднее один из родственников Комнина, некий Докиан, стал порицать его за жестокость, Алексей приказал своему пленнику снять повязку, и это привело Докиана в совершенное изумление и восторг89.
Могло ли что-то похожее случиться и во Владимире? Трудно сказать. Всё же цели у Алексея Комнина и у Всеволода Юрьевича были разными. Стратопедарху важно было доказать наёмникам-варварам бессмысленность их дальнейшего сопротивления, Всеволоду же — избавиться от возможных посягательств на власть со стороны племянников. Алексею нужен был живой и дееспособный Русель, которого можно было бы использовать и в дальнейшем, а вот для Всеволода именно это представляло главную опасность. Впрочем, у Мстислава и Ярополка могли найтись доброхоты и не из числа близких к Всеволоду людей, так что мнимое или не доведённое до конца ослепление братьев могло случиться как раз вопреки воле князя — такое предположение, также высказанное в литературе90, имеет не меньше прав на существование. Другой вопрос: а можно ли было чисто технически провести во Владимире столь сложную операцию? Ведь в этом деле от палача требовалось немалое, если можно так выразиться, искусство. Опыта же подобных операций на Руси, повторюсь, не было — в отличие от Византии.
Словом, история в высшей степени загадочная. Одно, пожалуй, можно сказать наверняка. Жестокая расправа над братьями Ростиславичами (или по крайней мере над старшим из них, Мстиславом) всё же имела место — как имело место и нечто из ряда вон выходящее уже после неё. В историю Великого Новгорода Мстислав Ростиславич вошёл с прозвищем Безокий91 — а такое прозвище говорит само за себя. То есть полностью или частично он был лишён зрения. Но при этом, будучи Безоким, Мстислав остался дееспособным, полноправным князем, как и его брат Ярополк, — и это, несомненно, могло быть воспринято как самое настоящее чудо! Ибо уже после пребывания на Смядыни сначала Мстислав, а затем и Ярополк будут приглашены на княжение — и не куда-нибудь, а в Новгород, где сменят ставленника Всеволода Юрьевича, князя Ярослава Красного. То есть оба останутся в числе политических противников Всеволода. А это значит, что достичь своих целей князь Всеволод Юрьевич так и не смог.
Взятие Торжка
Первый новгородский поход князя Всеволода Юрьевича стал прямым продолжением войны за Владимир, а потому скажем о нём в этой части книги. «На зиму» того же 1177 года, то есть в ноябре — декабре, князь Мстислав Ростиславич (получивший с того времени прозвище Безокий) вместе с братом Ярополком явился в Новгород. И удивительное дело: изгнав годом ранее полного сил, здорового князя, новгородцы теперь приняли князя-калеку к себе на княжение. Может быть, впечатлённые недавним чудом на Смядыни, а может быть, посчитав, что немощный князь, не способный править самостоятельно, лучше отвечает их интересам. При этом полностью рвать со Всеволодом новгородцы, кажется, не хотели. Ставленник суздальского князя Ярослав Мстиславич получил во владение Волок Дамский — новгородский анклав в Суздальской земле, важный политический центр, расположенный на границах трёх княжеств — Новгородского, Владимирского и Смоленского. Это вряд ли могло устраивать Всеволода. Однако Ярослав остался в Новгородской земле — может быть даже, вопреки воле своего дяди. Что же касается младшего Ростиславича, Ярополка, то он был посажен на княжение в Торжке — ещё одном укреплённом центре близ границ Суздальской земли. Так Новгородская земля — по воле самих новгородцев — оказалась на время разделённой между тремя князьями. Однако княжил Мстислав в Новгороде очень недолго. 20 апреля 1178 года он умер92 и был похоронен в притворе Софийского собора. Не исключено, что эта преждевременная смерть стала следствием жестокой расправы, учинённой над ним во Владимире. Со смертью старшего из племянников ситуация в Новгороде для Всеволода нисколько не изменилась. Похоронив Мстислава, новгородцы вывели из Торжка его брата Ярополка и посадили на новгородский княжеский стол. Это и стало причиной новой войны. «И захватил Всеволод гостей (купцов. — А. К.) новгородских», — сообщает новгородский летописец93. Торговая блокада Новгорода со стороны Суздаля, как всегда, возымела действие. «И показали новгородцы путь Ярополку», — продолжает летописец. Куда убыл Ярополк, не сообщается. По-видимому, в Чернигов, к своему бывшему покровителю Святославу Всеволодовичу, — во всяком случае, именно там он окажется два года спустя, когда Святослав начнёт войну со Всеволодом94. Всеволод не ограничился блокадой Новгорода. Осенью-зимой 1178 года он во главе войска сам выступил в поход. Целью похода стал Торжок, или Новый Торг, как чаще называли этот город, расположенный на реке Тверце, притоке Волги. Само название свидетельствует о его значении как нового — и очень быстро ставшего главным! — торгового пункта на пути из Новгородской земли во Владимиро-Суздальскую. Кроме того, князь, владевший Новым Торгом, имел возможность взимать дани «по всему Верху (или Бежецкому Верху, в верховьях Мологи. — А. К.), и Мете, и за Волоком»95 — то есть в богатейших областях Новгородской земли, в том числе и тех, откуда в Новгород шла пушнина — основной «экспортный» товар того времени. Город был взят 8 декабря и полностью разорён. Удивительно, но и здесь владимирский книжник объясняет случившееся тем, что Всеволод поддался на уговоры своей дружины. Сам поход, как выясняется из летописного рассказа, был совершён «за новгородскую неправду»: новгородцы целовали крест Всеволоду (очевидно, ещё тогда, когда принимали на княжение его племянника), «и не управиша» — то есть нарушили крестное целование. Но Всеволод всё равно «не хотяше взяти города», ибо новоторжцы били ему челом, «обещалися дань дати». И вновь воля князя была поставлена ни во что. «Дружина же Всеволожа начала князю жаловаться: “Мы не целовать их приехали. Они, княже, Богу лгут и тебе!” И, сказав так, ударили в стремена. И взяли город: мужей повязали, а жён и детей на щит, и товар взяли, а город пожгли весь за новгородскую неправду…»96 Что ж, привычка самому отвечать за то, что происходит, а не перекладывать ответственность на других, возникает не у всех и не сразу. Князю Всеволоду Юрьевичу для этого потребуется время — некий переходный период, занявший первые год-два его самостоятельного княжения во Владимире. А пока что он по-прежнему мог ссылаться на чужую злую волю. И казалось, что всё складывается очень удачно для него: в очередной раз он сумел показать всем, что хочет проявить милость, но вынужден подчиниться обстоятельствам и только потому проявляет жестокость, — в результате же ему удалось полностью разгромить своих противников, а заодно и наградить дружину богатой и заслуженной добычей… На этом военные действия ещё не были завершены. Отправив во Владимир захваченный полон, Всеволод «перебрал» «дружины неколико» и двинулся к Волоку Дамскому. Сам он штурмовать город не стал, отправив «на вороп», то есть в набег, отобранных воинов; те появились у города неожиданно для жителей, захватили князя Ярослава Мстиславича (непонятно даже, чью позицию занимал он в этом конфликте), «…а город пожже, а люди бяху выбегли, а жита пожгоша, и до всего». И только после этого Всеволод вернулся во Владимир. Сожжение двух новгородских городов трудно расценивать иначе, как месть Всеволода их жителям, принявшим на княжение его врагов. Ибо политических целей он не достиг: власть его над Новгородом восстановлена не была. Новгородские послы отправились в Смоленск — звать на княжение старшего из князей Ростиславичей Романа. Сначала тот отправил в Новгород своего второго сына Мстислава (упомянутого в летописи под своим крестильным именем — Борис), а 18 февраля 1179 года, «на Сбор по Чистей недели», то есть в первое, «соборное», воскресенье Великого поста, сам вступил в город97. Впрочем, пробыл он здесь немногим более полугода и осенью вернулся в Смоленск. Новгородцы послали за его братом Мстиславом Храбрым, и 1 ноября того же 1179 года князь Мстислав Ростиславич торжественно въехал в Новгород. Соперничать с князьями «Ростиславля племени» Всеволод пока что не мог. А это значило, что вся борьба за Новгород была для него впереди.Часть третья БРЕМЯ ВЛАСТИ 1179–1205
«Стояние на Влене»
Превращение князя Всеволода Юрьевича в одного из сильнейших правителей Руси произошло стремительно. К новому, изменившемуся статусу нужно было привыкнуть — и ему самому, и другим князьям. Время своеобразной «притирки» и заняло первые несколько лет его самостоятельного правления. Способ, к которому новый владимирский князь прибег в первую очередь, был традиционным — через установление родственных, или, точнее, матримониальных, связей. Прежде всего со своим ближайшим и наиболее сильным соседом, великим князем Киевским Святославом Всеволодовичем. Переговоры на этот счёт шли ещё тогда, когда Всеволод пользовался покровительством Святослава. Сам же династический союз был заключён позднее, уже после окончательного утверждения Всеволода на владимирском престоле, когда отношения между князьями заметно охладели. Тем не менее обычай был соблюдён. «Того же лета, — читаем в Киевской (Ипатьевской) летописи под 1179 годом, — призвал Всеволод Юрьевич Владимира Святославича к себе во Владимир и отдал за него свою братаничну (племянницу, дочь брата. — А. К.), Михалкову дщерь». И, по совершении брака, «иде Владимир с женою в Чернигов к отцу, ибо тут жил Святослав, придя из Киева»1. У самого Всеволода к тому времени родились уже три дочери — но все они пребывали в младенчестве, так что использовать их в качестве инструмента создания княжеских союзов пока было рано. Судя по тому, что Михалко лишь несколькими годами был старше Всеволода, его дочь тоже едва вышла из отроческого возраста. Но из последующей истории Всеволода Большое Гнездо мы знаем, что он имел обыкновение очень рано выдавать девочек замуж — как только позволяла физиология или даже ещё раньше. Так что предполагаемый юный возраст его племянницы не мог стать препятствием для заключения брака — ни для него самого, ни для ставшего его сватом князя СвятославаВсеволодовича, ни для жениха, князя Владимира, не имевшего пока собственного удела. Вероятно, в следующем, 1180 году, 10 ноября, был заключён ещё один брак: племянник Всеволода, 23-летний переяславский князь Владимир Глебович, взял в жёны дочь черниговского князя Ярослава, родного брата Святослава Всеволодовича. Впрочем, Владимир Глебович был фигурой вполне самостоятельной и мог устраивать свои дела без участия дяди. Брак этот таил даже некоторую опасность для Всеволода, ибо ещё больше отдалял от него племянника. Тем более что вскоре и родная сестра Владимира Глебовича — если мы правильно разбираемся в династических хитросплетениях того времени — вышла замуж за младшего двоюродного брата Святослава Всеволодовича, курского князя Всеволода Святославича — в будущем одного из героев «Слова о полку Игореве». В семье же самого Всеволода Юрьевича почти в это самое время, «того же лета до Дмитрова дни», то есть ранее 26 октября 1180 года, произошло очередное прибавление в семействе — у его жены Марии родилась четвёртая дочь. О рождении первых трёх летописи ничего не сообщают; об этой же имеется запись: «…родися у великого [князя] Всеволода четвёртая дчи, и нарекоша имя во святом крещении Пелагея, а княжье — Сбыслава»2. Крестила новорождённую её тётка Ольга — та самая бывшая жена галицкого князя Ярослава Осмомысла, которая бежала от мужа и доживала теперь свои дни во Владимире, у брата. Память преподобной Пелагеи Антиохийской празднуется 8 октября — действительно «до Дмитрова дни»; как мы увидим, Всеволод Юрьевич и позднее будет давать своим детям имена в соответствии с церковным календарём. Примечательно, что в Ипатьевском списке, откуда извлечён этот текст, слово «князя» было приписано над строкой позднее, а первоначально читалось: «…родися у великого Всеволода…» Что ж, владимирский князь и в самом деле постепенно становился «великим Всеволодом». Из множества других событий этих двух лет отметим смерть «княгини Глебовой», вдовы недавно умершего рязанского князя (и сестры Мстислава и Ярополка Ростиславичей), а также смерть 16 января 1180-го или 1181 года новгород-северского князя Олега Святославича. Для Святослава Всеволодовича и особенно для его брата Ярослава это стало событием, можно сказать, долгожданным, ибо позволяло избавиться от постоянных притязаний Олега на «отчий» Чернигов. Ситуация внутри разветвлённого семейства черниговских князей наконец-то более или менее стабилизировалась: «…Потом же Игорь, брат его (Олега. — А. К.), сел в Новегороде Северском, а Ярослав Всеволодич в Чернигове сел». Но мира со Святославом так и не получилось. Ни Всеволод не собирался подчиняться свату, ни Святослав Всеволодович не мог удовлетвориться заключённым во Владимире браком своего сына. Конфликт двух князей, обозначившийся ещё в «деле» Глеба Рязанского, с каждым месяцем только нарастал. «Рвануло» именно там, где Всеволод поначалу добился наибольших успехов, — в Новгороде и Рязани. И там, и там Святослав Всеволодович имел свои интересы, и интересы эти вступали в противоречие с интересами Всеволода Юрьевича. Ставший в ноябре 1179 года новгородским князем Мстислав Храбрый оставил яркий след в истории Великого Новгорода, совершив во главе огромного 20-тысячного войска победоносный поход «на Чудь, на Очелу», то есть на территорию нынешней Эстонии. На обратном пути князь заставил подчиниться себе свободолюбивых псковичей, а потом едва не предпринял поход на Полоцк, но был остановлен братьями. Вскоре после этого Мстислав заболел и 13-го или 14 июня 1180 года (в разных летописях приведены разные даты) умер. «И плакалась по нему вся земля Новгородская», — свидетельствует летописец. Признанием заслуг князя перед городом стало то, что его похоронили в Новгородской Софии в той же гробнице, где лежали кости самого почитаемого из новгородских князей — Владимира Ярославича, сына Ярослава Мудрого. Оставшись без князя, новгородцы обратились не к братьям Мстислава, но к Святославу Всеволодовичу — как к великому князю Киевскому. Святослав и определил им в князья своего сына Владимира. Так новоиспечённый зять Всеволода Юрьевича стал новгородским князем; «…и привели Владимира в Новгород, и посадили его на столе 17 августа», — читаем в Новгородской Первой летописи. В наследство от прежних новгородских князей Владимир Святославич получил вражду с суздальским князем. И тот факт, что князем этим был дядя его юной жены, не имел теперь никакого значения. Владимир во всём подчинялся отцу и исполнял его волю, стараясь при этом не рассориться с новгородцами. Для Святослава же Всеволодовича на первый план к тому времени вышли рязанские дела. И дело было не только в том, что у него имелся ещё один зять, Роман Рязанский, сильно обиженный на Всеволода Суздальского. Но ещё и в том, что подчинение Рязанской земли князю из рода Мономашичей — то есть Всеволоду Суздальскому — было крайне нежелательно для него. К тому же рязанские князья никак не могли поделить доставшееся им от отца княжество. От их вражды — точно так же, как в своё время от суздальской междоусобицы, — Святослав Всеволодович ожидал вполне конкретных выгод для себя лично и для Черниговского княжества, которое по-прежнему воспринимал как своё. Князь Глеб Рязанский оставил после себя пять или шесть сыновей, и старейшинство Романа не всем из них пришлось по душе. Начались обычные в таких случаях свары. По договору с рязанскими князьями, заключённому после смерти Глеба, арбитром между ними должен был стать Всеволод. Но Роман сделал ставку на своего тестя. Этим и воспользовались его младшие братья. «В том же году, — читаем в Суздальской (Лаврентьевской) летописи под 1180 годом, — прислали Глебовичи, Всеволод и Владимир, ко Всеволоду Юрьевичу, так говоря: “Ты — господин, ты — отец! Брат наш старейший Роман отнимает волости у нас, слушая тестя своего Святослава. А к тебе крест целовал и переступил (то есть нарушил крестное целование. — А. К.)”»3. Братья княжили в Пронске — городе, расположенном на юго-западе Рязанской земли, на реке Проне. Действительно ли Роман пытался отобрать у них Пронск, или братья наговаривали на него, неизвестно. Но Всеволод отреагировал немедленно и выступил с войском к Рязани. Между тем Роман успел заручиться поддержкой тестя — и не только дипломатической, но и военной. «Того же лета послал Святослав Глеба, сына своего, в Коломну, в Рязанскую волость, помогая рязанским князьям и зятю своему Роману, ибо были ратные со Всеволодом», — сообщает киевский летописец4. У Коломны — ближайшего рязанского города — Всеволода встречали оба звавших его Глебовича, «два брата княжича, с поклоном; князь же Всеволод приял их в любовь». Однако тут же, в Коломне, произошёл и другой эпизод, имевший для Всеволода серьёзные последствия. В Лаврентьевской летописи об этом сказано кратко: «Тут в Коломне Святославича Глеба схватил князь Всеволод (в оригинале: «я», то есть «ял»; в Радзивиловской: «пойма», то есть поймал. — А. К.) и послал его во Владимир». Киевский автор чуть более подробен: «Слышал же Всеволод, что прислал Святослав сына своего, помогая зятю своему, и позвал его к себе. Глеб же Святославич не хотел ехать, но и волею, и неволею (несколько загадочное выражение, оставляющее простор для фантазии. — А. К.) ехал к нему, зоне бяшеть в его руках[18]. Он же схватил его, и оковал, и послал его в волость свою, Владимир, и приставил к нему сторожей, и дружину его изымал также около него». Следовательно, было замыслено какое-то коварство, и Глеб и его люди были схвачены отчасти силой, а отчасти хитростью, обманом. В военном отношении это был верный шаг, лишавший князя Романа каких-либо надежд на помощь извне. Но захватывая сына великого князя, Всеволод переступал ту грань, за которой могла быть только война. Всеволод, несомненно, понимал это, а значит, Глеб был нужен ему ещё и как заложник в будущей войне со сватом. Не случайно летописец продолжает: «Слышав же Святослав, располелся гневом и разжеся яростью…» Он готов был немедленно начать войну со Всеволодом, но пока не мог сделать это — ибо в очередной раз рассорился с Ростиславичами, своими главными соперниками за главенство в «Русской земле». Судьба Романа Глебовича была решена, хотя он и предпринял отчаянную попытку изгнать суздальское войско со своей земли. «Сторожи же Романовы переправились через Оку и встретились с нашими сторожами, — пишет суздальский летописец. — И Бог помог нашим сторожам: те же побежали, а наши погнались [за ними] и притиснули их к реке Оке: одних перебили, других захватили, а иные утопли. Роман же, то слышав, побежал в Поле (Половецкую степь. — А. К.), мимо Рязани, а братию свою, Игоря и Святослава, затворил в Рязани». Всеволод двинулся к Рязани. По пути он взял город Борисов-Глебов (Борисоглебск; возможно, по соседству с Переяславлем-Рязанским — современной Рязанью), но, подступив к самой столице княжества, не стал разорять её, а заключил мир с Игорем Глебовичем и Романом (очевидно, вернувшимся домой после получения от Всеволода гарантий). Князья целовали крест «на всей воле Всеволожи». «Ряд», то есть договор, был заключён между всеми Глебовичами, так что Всеволод вернулся домой, «поряд створив всей братьи, роздав им волость их, комуждо (каждому. — А. К.) по старейшинству». Итоги этой первой Рязанской войны были крайне важны для Всеволода. Вновь приведя рязанских князей в повиновение себе и показав им свою силу (но при этом не разорив Рязань и не доведя их до отчаяния и жажды немедленной мести), он обезопасил себя от удара с их стороны в случае большой войны с князем Святославом Всеволодовичем. Более того — заручился их поддержкой и обязал участвовать в этой войне на его, Всеволода, стороне: таково, по-видимому, было одно из условий «ряда». А в том, что война со Святославом неизбежна, сомнений у владимирского князя не было. Не стоит забывать, что Всеволод принадлежал к поколению внуков Владимира Мономаха — то есть в династическом отношении был ровней Святославу Всеволодовичу[19]. И при том, что по возрасту Святослав годился ему в отцы, что Всеволод многим был обязан ему и в прошлом пользовался его покровительством, он не хотел переходить на положение «младшего» князя. Равно как и Владимирское княжество не хотел признавать «младшим» по отношению к Черниговскому или даже Киевскому. Святослав Всеволодович оказался в непростом положении — прежде всего из-за желания добиться слишком многого сразу — и на севере, и на юге. «Мстил бы Всеволоду, — передаёт его рассуждения киевский летописец, — но нельзя [из-за] Ростиславичей: а те мне во всём пакостят в Русской земле». С чего начать и с кем вступить в войну первым, он так и не выбрал. Помог случай. Как раз в то время, когда Святослав готовился к войне со Всеволодом, недалеко от него, на противоположной, Киевской, стороне Днепра, охотился князь Давыд Ростиславич, «в лодьях ловы дея», а Святослав занимался тем же на Черниговской стороне, «ловы дея противу Давыдови». Искушение было слишком велико, и Святослав не удержался: «переступив» крестное целование Ростиславичам, он с немногими людьми скрытно переправился через Днепр: «Давыда схвачу, — рассуждал князь, — а Рюрика изгоню из земли и приму один власть русскую с братьями, и тогда отмщу Всеволоду обиды свои». Но не вышло: Давыд с княгиней успели запрыгнуть в ладью и спаслись; Святослав захватил лишь дружину князя и «товары». Ничего не дала и попытка поймать Давыда у Вышгорода — тот сумел бежать. Поняв, что он проиграл и что возвращаться в Киев нельзя, Святослав уехал в Чернигов и «скупи всю Черниговскую сторону», готовясь к войне — теперь уже со смоленскими Ростиславичами. Давыд, в свою очередь, прибежал в Белгород, к брату Рюрику. «Рюрик же, слышав, что Святослав бежал за Днепр, и въехал в Киев… и сел на столе деда своего и отца своего»… Но в каком печальном и жалком образе предстала перед ним столица Руси! Всего несколькими месяцами раньше в Киеве случился пожар: сгорели дворы и церкви «по Горе» — в самом богатом, аристократическом районе города; огонь не пощадил даже «великую митрополью Святую Софью» — главный храм Киева и всей Руси… Так Святослав Всеволодович опять потерял с трудом добытое им великое княжение. Вступив в Киев, Рюрик тоже стал собирать силы, готовясь к большой войне. Брата Давыда он отправил в Смоленск — к старшему из Ростиславичей Роману. Но как раз на пути к Смоленску Давыд узнал, что Роман умер. Теперь братьям надлежало решать свои собственные дела. Их осталось всего двое из многочисленного прежде клана. Давыд занял смоленский стол, Рюрик же остался в Киеве, плача по брату, «аки по отцу». Угроза войны Ростиславичей с «Ольговым племенем» на время отступила на второй план. Это дало возможность Святославу Всеволодовичу вновь поменять свои планы и начать наконец войну со Всеволодом — «про Глеба, сына своего». Тем более что полки были уже наготове, братья собраны в Чернигове, сюда же явились и половцы, нанятые Святославом. Летописец приводит речь, с которой Святослав обратился к братьям — и к родному Ярославу, и к двоюродным Игорю и Всеволоду Святославичам: — Се аз старей Ярослава, а ты, Игорь, старей Всеволода, а ныне я вам в отца место остался. А велю тебе, Игорь, здесь остаться с Ярославом: блюсти Чернигов и всю волость свою. А я пойду со Всеволодом к Суздалю и взыщу сына своего Глеба: да как нас Бог рассудит со Всеволодом (Юрьевичем. — А. К.). Половцев Святослав также разделил надвое: половину оставил братьям — для войны с Ростиславичами, а половину забрал с собой. А ещё к нему присоединились его сын Олег (совсем недавно воевавший на стороне Всеволода Юрьевича) и племянник Всеволода Ярополк Ростиславич — тот самый, что был ослеплён во Владимире и чудесно прозрел на Смядыни. «На зиму», то есть на исходе осени или в начале зимы 1180/81 года, войско выступило в поход. Двигались кружным путём — сначала к верховьям Волги. Здесь Святослав должен был соединиться со своим сыном Владимиром — также недавним союзником и к тому же зятем Всеволода Юрьевича, приведшим «весь полк новгородский». «И съехались на Волге, в устье Твери (Тверцы. — А. К.)», — пишет автор Новгородской летописи. Так началась новая большая война, грозившая стать самым серьёзным испытанием для князя Всеволода Юрьевича6. Прежде, при Андрее Боголюбском, нельзя было и помыслить о том, что кто-то из соседних князей может напасть на его владения. Но времена изменились — и это было уже третье или даже четвёртое нападение извне на земли княжества. Не так давно горела Москва, рязанские князья вместе с половцами разоряли окрестности Владимира, полностью выгорели Боголюбово и монастырь, основанный Андреем, и их надо было отстраивать заново. Теперь та же участь ожидала города и веси Верхнего Поволжья… Когда мы читаем строки «Слова о полку Игореве» о том, как князья начинали «сами на себе крамолу ковати», а «поганые» приходили «с победами на землю Русскую», то перед нашим взором предстают картины половецких набегов и княжеских междоусобиц в Южной Руси — Киевщине и Переяславщине. Но и Суздальские, Залесские земли пылали в огне междоусобиц всего за несколько лет до описываемых в «Слове…» событий. В начавшейся здесь войне приняли участие многие персонажи будущего «Слова о полку Игореве» — и сам Всеволод Юрьевич, предстающий в «Слове…» грозным блюстителем «отня злата стола» киевского, и мудрый Святослав Всеволодович, в чьи уста автор вложит «злато слово со слезами смешено» о единстве Русской земли, и его бесстрашный племянник «буй-тур» Всеволод, и, наконец, те же половцы — пусть и приведённые на сей раз самим Святославом, но оттого не менее алчные и жестокие… От устья Тверцы полки повернули к Переяславлю-Залесскому, разоряя города и селения, встречавшиеся им на пути. «И положиша всю Волгу пусту, и городы все пожгоша», — свидетельствует новгородский летописец. Всеволод Юрьевич тоже готовился к войне. Помимо собственных, он привлёк под свои знамёна дружины рязанских и муромских князей. «И вышел навстречу ему Всеволод со всеми суздальскими полками и с рязанскими полками и муромскими, — читаем в Киевской летописи (которая не слишком комплиментарна Святославу, врагу Ростиславичей), — и встретил их на Влене реке». «Не дошедше Переяславля за 40 вёрст» — уточняет новгородский книжник. На реке Влене и произошли главные события этой войны. Река с таким названием более в источниках не упоминается. Однако историки давно уже пришли к выводу, что речь идёт о речке Веле, левом притоке Дубны (именно так: «на Вели реке» значится в некоторых летописях)7. Ныне в своём нижнем течении она спрямлена каналом, а прежде действительно была «бережистой» (по выражению летописца), то есть с крутыми, обрывистыми берегами. На восточном её берегу возвышаются холмы, разделённые оврагами; здесь-то, «во пропастех и ломах», то есть в низинах и оврагах, и поджидал неприятеля Всеволод со своим войском. Переправляться через Влену (Велю) князь Святослав Всеволодович не решился. «Ибо вышли тут суздальцы полком и учинили около себя твердь (укрепление, крепость. — А. К.)». Правильный выбор позиции — одно из необходимых качеств для полководца. Всеволод этим качеством обладал. Противники расположились на противоположных берегах и в течение двух недель ограничивались тем, что перестреливались через реку. «Стояние на Влене» грозило затянуться, что хорошо понимал Святослав. Видя невозможность дать бой непосредственно на льду реки или на одном из её берегов, он вступил в переговоры со Всеволодом, отправив к нему в качестве парламентёра некоего священника — «попа своего». Приведена в летописи и речь, с которой Святослав обратился к бывшему союзнику: — Брате и сыну! Много тебе добра творил, и не чаял я такого возмездия от тебя! Но если уж умыслил на меня зло и схватил сына моего, то недалече тебе меня искать. Отступи от речки той, дай мне путь. Я к тебе перейду — пусть нас рассудит Бог. Или, если мне не дашь пути, — я отступлю, ты перейди на эту сторону: пусть здесь нас Бог рассудит! Это было в обычае древней Руси: князья находили удобное, подходящее место и изготавливали свои полки, дабы решить спор в честном бою — «как Бог рассудит». Но Всеволод никак не отреагировал на предложение своего бывшего покровителя. Больше того — он «изымал» посла и отправил его под стражей во Владимир, «а к Святославу не отвечал». Конечно, такое отношение к послу — лицу неприкосновенному, тем более к лицу духовного звания, не красит героя нашей книги. Но Всеволод ещё раньше успел доказать, что отличается прагматизмом, но отнюдь не рыцарскими качествами, и без какого-либо пиетета относится даже к церковным иерархам, исполняющим посольские функции. Святослав располагал большими силами, чем он, да и черниговские воины на поле брани превосходили рязанских или муромских — Всеволод сам убедился в этом в ходе недавней войны, когда сражался в одном строю с сыновьями Святослава Всеволодовича — теми самыми, что стояли сейчас на противоположном берегу Влены. А потому вступать с ними в открытый бой, полагаясь на одну только Божью волю, он не хотел. Но, оказывается, не только Святослав — собственная дружина Всеволода тоже просила князя о сражении: «хотя-хуть крепко ехати на Святослава», по выражению летописца. Князь, однако, отказал и им. «Всеволод же, благосерд сый, не хотя кровопролитья» (или, в другом варианте: «не хотя крове прольяти»), — а потому и не двинулся со своей укреплённой позиции. Но дело, конечно, было не только в «благосердии» владимирского князя, или даже совсем не в этом. Примерно так же Всеволод действовал в недавней битве на Колокше, у Прусковой горы: тогда он тоже проявил выдержку, не тронулся с места — и это принесло ему победу. Вот и теперь он предпочёл выжидать. Для нас в этом летописном известии особенно важен даже не военный аспект. Кажется, в первый раз за время своего княжения Всеволод не пошёл на поводу у дружины, но поступил по-своему. И летописец не преминул отметить это! Получается, что только сейчас князь наконец-то почувствовал себя способным самому брать ответственность за принимаемое им решение, не перекладывая её на других. Сказался ли опыт, накопленный им в предшествующих войнах? Придали ли уверенность одержанные им победы? Или ему попросту надоело скрываться, как прежде, за чьим-то чужим мнением? При этом нельзя сказать, что Всеволод полностью бездействовал, пассивно следя за перестроениями противника. Со своего берега Влены он отправил рязанских князей атаковать «товары» Святослава Всеволодовича. Нападение оказалось неожиданным: рязанцы ворвались в стан Святослава и захватили его людей. Но на помощь черниговцам подоспел Всеволод Святославич со своими «кметями» — теми самыми, что «под трубами повиты, под шеломами взлелеяны», по выражению автора «Слова о полку Игореве»: они набросились на рязанцев и перебили их, а частью самих захватили в полон, так что рязанские князья едва сумели уйти. В числе пленённых оказался рязанский воевода Ивор Мирославич — судя по тому, что его имя, да ещё с отчеством, приведено в летописи, человек знатный, близкий к княжескому роду. Между тем начиналась оттепель. Дороги грозили сделаться непроезжими для конницы; могли вскрыться реки. Убоявшись «теплыни» и «полой воды», Святослав Всеволодович повернул свои полки обратно. Отступать пришлось спешно, бросив «товары», так что воинам Всеволода досталось много всякого добра. Но преследовать Святослава Всеволод запретил: противник по-прежнему был слишком силён. Всего в ходе боёв, по сведениям новгородского летописца, было убито около трёхсот воинов из лагеря Всеволода (большей частью, наверное, рязанцев, перебитых во время атаки на Святославовы «товары»), «А новгородцы все здравы пришли», — не забыл отметить автор Новгородской летописи. Как видим, потери были достаточно велики. Но результаты войны не всегда определяются числом погибших. Возвращаясь от Влены, Святослав Всеволодович сжёг Дмитров — город, прикрывающий Суздаль со стороны Черниговского княжества и к тому же «тезоименитый» Всеволоду. Это был во многом акт мести — своих целей Святослав не достиг. Но урон Суздальской земле был нанесён немалый. …Много лет спустя, описывая кровопролитную войну между сыновьями Всеволода Большое Гнездо, новгородский книжник вложит в уста одного из владимирских бояр слова, обращённые к Юрию и Ярославу Всеволодовичам и исполненные гордости и откровенного бахвальства: «Не было того ни при прадедах, ни при дедах, ни при отце вашем, чтобы кто-нибудь пришёл с войной в сильную Суздальскую землю и вышел цел»8. Это, конечно, явное преувеличение — во всяком случае, в отношении Всеволода Юрьевича: сват его Святослав «пришёл с войной» в Суздальскую землю и вышел из неё цел, с минимальными потерями. Времена Андрея Боголюбского, когда враги действительно боялись заглядываться на владения суздальских князей, увы, миновали… Возвращаться домой Святослав не захотел, отправив «в Русь» двоюродного брата Всеволода Святославича и сына Олега, а сам вместе с сыном Владимиром двинулся в Новгород. Теперь он сам решил занять новгородский стол. «И вошёл Святослав великий Всеволодович в Новгород», — свидетельствует летописец. Обиженный же племянник Всеволода Ярополк Ростиславич вновь был посажен на княжение в Торжке — вероятно, в пику своему дяде. Что же касается Всеволода Юрьевича, то он вернулся во Владимир — не победителем, но и не побеждённым.Мир
Война Ольговичей с Ростиславичами имела продолжение. Ярослав Черниговский и Игорь Новгород-Северский выступили к Друцку — городу в Полоцкой земле. Полоцкие князья, союзники Ростиславичей, двинулись им навстречу, подоспел и Давыд Ростиславич — теперь уже князь Смоленский. Но вскоре подоспел и Святослав Всеволодович с новгородским полком. Давыд убоялся и отступил в Смоленск, а Святослав Всеволодович, сжёгши Друцкий острог, отпустил новгородцев домой, а сам отправился к Киеву — вслед за двоюродным братом Игорем. Киевская земля и вся Южная Русь вновь запылали. Игорь привёл с собой половцев — в том числе злейших врагов Руси Кобяка и Кончака — того самого Кончака, на которого несколько лет спустя совершит свой злосчастный поход, воспетый автором «Слова…». Тогда, попав в плен и прося у Бога смерти, Игорь будет горько каяться, вспоминая о великом зле, которое он учинил, воюя против таких же, как он, русских людей — христиан; как взял он «на щит» город Глебов в Переяславской земле, как много убийства и кровопролития совершил: «…и всё смятено пленом и скорбью… живые мёртвым завидуют… старцы оскорбляемы, юнцы же принимают лютые и немилостивые раны, мужи убиваемы и рассекаемы, жёны оскверняемы…»9 Наверное, всё это имело место и в Киевской земле летом 1181 года… На этот раз русские дружины — во главе даже не с князьями, так и не решившимися вступить в бой, а с княжескими воеводами — сумеют разбить половцев и вынудят их бежать из русских пределов. Дело закончится полным разгромом. Самому Игорю придётся спасаться бегством в одной лодке с Кончаком (вот так затейливо переплетутся их судьбы!), а многие из половецких вождей, включая Кончакова брата и двух его сыновей, будут убиты или захвачены в плен. Вновь занявший к тому времени Киев Святослав Всеволодович сумеет всё же договориться с Рюриком Ростиславичем и разделит с ним власть и великое княжение Киевское в соответствии с прежним «Романовым рядом»: Рюрик — хотя и победивший в войне! — уступит Святославу «старейшинство» и сам Киев (объяснив это тем, что Святослав «старее летами»), а себе возьмёт «всю Русскую землю», то есть власть над Киевской областью с Белгородом, Вышгородом и другими её главными городами. Установившееся «двоевластие» на время положит конец войнам князей и примирит Ольговичей и Ростиславичей… Уходя на войну, Святослав вновь оставил в Новгороде сына Владимира. Этим и воспользовался Всеволод Юрьевич. Летом 1181 года он возобновил военные действия — и снова направил свой удар на Торжок. «В то же лето пошли новгородцы к Друцку со Святославом, со Ольговым внуком. И в то время пришёл Всеволод со всем полком своим, и с муромцами, и с рязанцами на Новый Торг», — читаем в Новгородской Первой летописи. Для Всеволода это была война, прежде всего, против ненавистного племянника — Ярополка Ростиславича. Посаженный в Торжке, Ярополк «начал воевать Волгу» — то есть разорять принадлежавшие Всеволоду волости в верховьях реки, и захватывать «людей Всеволожих» — так объясняет причины второго похода на Торжок суздальский летописец. Должным образом подготовиться к нападению новоторжцы не успели. Вместе со своим князем они сели в осаду, которая продолжалась пять недель10. «И изнемогли в городе, потому что не было им корма (припасов. — А. К.)», — сетует новгородский книжник. Дошло до того, что горожане начали есть конину, что было противно обычаю и прямо воспрещалось церковными правилами. Ярополк находился среди тех, кто оборонял город с крепостных стен (как видим, он действительно исцелился после владимирской расправы). Там, на стене, его и ранили («устрелиша»), что окончательно подорвало решимость жителей оборонять город. «И беда им была великая», — продолжает автор Новгородской летописи. Не стерпев голода, новоторжцы сдались, выдав своего князя Всеволоду. Участь их, однако, оказалась незавидной. Ярополка князь заковал в железо и увёл во Владимир — но точно так же он увёл и жителей города «с жёнами и с детьми», а сам город сжёг. Теперь уже Новгороду предстояло искать мир с владимирским князем. Можно сказать, что Всеволод расквитался и со Святославом: сожжённый Торжок должен был стать платой за сожжённый несколькими месяцами раньше Дмитров. К тому же в руках у Всеволода по-прежнему находился Святославов сын. Всё это и стало фоном, на котором два князя начали переговоры и наконец-то заключили друг с другом мир. По условиям мира, Святослав Всеволодович уступал своему недавнему противнику Новгород, а Всеволод отпускал к отцу князя Глеба Святославича. Кроме того, Всеволод соглашался признать себя «младше» Святослава. К осени (или «на зиму», по выражению новгородского летописца) первые два условия были выполнены. Новгородцы «показали путь» князю Владимиру Святославичу, и тот отправился к отцу «в Русь»; за новым князем было снаряжено посольство во Владимир, к Всеволоду. В свою очередь, Всеволод Юрьевич выпустил Глеба Святославича «из оков» — и «прия великую любовь» с его отцом Святославом Всеволодовичем. Отпущены из Владимира были и новоторжцы, вернувшиеся в свой город. Тогда же получил свободу и Ярополк Ростиславич — очевидно, это было ещё одним условием заключённого договора. Подтверждением «великой любви» двух князей вновь должен был стать династический брак. У жены Всеволода Марии подросли две сестры, и Всеволод нашёл возможность устроить судьбы обеих, заодно решив и собственные насущные задачи. Одна из его своячениц стала женой князя Ярослава Владимировича, сына Владимира Мстиславича («Матешича»), Двоюродный брат смоленских Ростиславичей Ярослав держался особняком и среди своих родных братьев, и среди других Мономашичей. Когда-то его отец нашёл поддержку у Андрея Боголюбского, и вот теперь Ярослав Владимирович прибег к покровительству Всеволода. Его-то Всеволод и поставил княжить в Новгород. Примечательно, что в новгородских источниках князь этот значится как «свояк Всеволож». Впоследствии Ярослав ещё дважды — и опять-таки с помощью Всеволода Юрьевича — будет занимать новгородский стол. В историю Великого Новгорода он войдёт прежде всего как строитель великолепного храма Спаса на Нередице. Но вот снискать любовь подданных у него не получится: каждый раз ему придётся покидать город не по своей воле. В первый раз он будет «выведен» из Новгорода спустя два года после вокняжения по настоятельным просьбам самих жителей — «зане много творяху пакостий волости Новгородской». Вторая свояченица Всеволода — напомню, отнюдь не княжна, но дочь боярина — была предназначена младшему сыну Святослава Всеволодовича Мстиславу. (Именно она — единственная среди дочерей Шварна — поименована в летописи Ясыней.) Договорённость о браке была достигнута в конце того же 1181 года, о чём в летописи была сделана соответствующая запись, однако сам брак (может быть, из-за молодости невесты?) был заключён позднее — в 1183 году. Тогда в Киеве устроили грандиозные торжества: женились сразу двое сыновей великого князя Киевского Святослава Всеволодовича, причём оба брака носили ярко выраженный политический характер: недавно вернувшийся из владимирского плена Глеб Святославич брал в жёны дочь соправителя отца, великого князя Рюрика Ростиславича, а Мстислав — «Ясыню из Владимира Суздальского, Всеволодову свесть (свояченицу. — А. К.)»; и «бысть же брак велик»11. Киевские торжества свидетельствовали о наступившем, наконец, мире во всей Русской земле — не только в «узком» значении этого названия — Поднепровье и вообще Южной Руси, но и в «широком», включая суздальское «Залесье» и Новгородскую землю. И получается так, что главными, ключевыми фигурами, можно сказать, гарантами этого мира выступили три князя — глава черниговских Ольговичей Святослав Всеволодович, глава смоленского клана Рюрик Ростиславич и владимирский князь Всеволод Юрьевич. А это значило, что Всеволод добился полного признания со стороны других князей. Больше того. Как покажут события ближайших нескольких лет, его авторитет будет признан и за пределами Руси. Имя Всеволода — как одного из сильнейших русских князей — прозвучит и на западе, и на востоке христианского мира: к его слову будут прислушиваться и сам император Фридрих I Барбаросса, и польский князь Казимир II Справедливый, и венгерский король Бела III; о грозном правителе Владимирской Руси найдётся упоминание и в грузинских и армянских хрониках. Святослав Всеволодович — на правах великого князя Киевского и старейшего «летами» — по-прежнему будет обращаться к нему как к «сыну и брату», то есть как к «младшему» князю, но на деле Всеволод уже тогда сравняется с ним по своему политическому весу. И не случайно под 1182 годом — уже без каких-либо оговорок или исправлений — он будет поименован в Киевской летописи «Всеволодом Великим». Именование это связано с событием печальным для семьи владимирского «самодержца». 4 июля 1182 года во Владимире скончалась его сестра Ольга. Летописец называет её «благоверной княгиней»: ещё прежде она приняла иноческий образ с именем Евфросинии в одном из владимирских монастырей. Ольга-Евфросиния была погребена в «Святой Богородице Златоверхой», то есть во владимирском Успенском соборе. Кажется, это была последняя старшая родственница Всеволода Юрьевича, последняя из тех членов княжеской семьи, кто мог по привычке разговаривать с ним как с младшим.* * *
Родственные, семейные отношения очень много значили для князя Всеволода Юрьевича. Его ближний круг составляли в эти годы прежде всего его младшие родственники — дочери, племянники и племянницы, а также свояченицы, сёстры жены. Ставший теперь старшим в семье, Всеволод должен был проявлять о них отеческую заботу. Он и проявлял. Его забота в отношении женской части семьи сказывалась прежде всего в том, что он подыскивал жениха каждой сколько-нибудь подросшей девице. В этом нельзя видеть одно лишь желание избавиться от неё или использовать как инструмент достижения собственных политических целей. Обязанность выдать девушку замуж была главнейшей для отца или человека, его заменяющего. Ситуация, когда «девка засядет», прямо осуждалась Церковью и княжескими уставами, не говоря уже об общественном мнении. Правда, церковные установления знали и другую ситуацию: когда «девка не въсхощет замуж», а «отец и мати силою дадут», — в таком случае могло быть и так, «что девка учинит над собою»12, — но к княжеским бракам, устраиваемым Всеволодом, это, конечно же, отношения не имело: юные девушки, даже девочки, благодаря его стараниям получали новый, значительно более высокий социальный статус — и это не могло не льстить им. Особенно сёстрам Марии Шварновны, которые из дочерей давно почившего боярина, пусть и весьма заметного на княжеской службе, но всё-таки княжеского слуги, вынужденного переходить от князя к князю, становились сначала свояченицами владимирского «самодержца», а затем и княгинями — со всеми причитающимися их новому титулу почестями и привилегиями. Точно также будет поступать Всеволод позднее и с собственными дочерьми. Первой в 1186 году была выдана замуж его дочь Всеслава (вероятно, она и была его старшей дочерью) — за сына черниговского князя Ярослава Всеволодовича Ростислава; свадьбу сыграли 11 июля, «и бысть радость велика в граде Владимире»13. Едва ли невесте могло быть больше одиннадцати-двенадцати лет, однако для Всеволода этот возраст казался вполне подходящим для брака. Позднее и дочь, и зятя мы увидим во Владимире, где они, вероятно, жили подолгу. Одна из сестёр Всеволода, напротив, стала женой боярина (брак этот был заключён задолго до Всеволода). К её сыну, своему «сестричичу», некоему Якову, Всеволод относился с полным доверием — впоследствии он поручит его заботам свою любимую дочь Верхуславу, отправленную им в ещё более раннем возрасте к мужу в чужое княжество. Князь взял на себя заботы и о семье покойного брата Бориса. Его вдова и дочь проживали в Кидекше, близ Суздаля, — там же, где жил и был похоронен сам Борис Юрьевич. Известно, что княжна Евфросиния Борисовна (или Борисковна, как она названа в летописи) умерла зимой 1201/02 года и была положена в Борисоглебской церкви «посторонь отца и матере»14. В Суздале же, вдали от Владимира, и, вероятно, на полном обеспечении деверя, проживала и вдова князя Михалка Юрьевича Феврония (умершая в августе 1201 года). О других княжнах и княгинях нам ничего не известно из летописей — но такова специфика этого источника. Можно не сомневаться в том, что и они либо жили на иждивении владимирского «самодержца», либо должны были принять монашеский постриг. С представителями мужской части семейства дело обстояло сложнее. Не ко всем своим племянникам Всеволод испытывал одинаково добрые чувства и не всем дозволял жить в пределах Суздальской земли. Так, несомненно, он дорожил родством со своими «братаничами» Владимиром и Изяславом, сыновьями его старшего брата Глеба. Оба принимали участие в его войнах, Изяслава Всеволод вообще приблизил к себе. Но оба были сыновьями князя киевского и переяславского (Переяславля-Русского), но не суздальского, и, следовательно, не были связаны напрямую с Суздальской землёй. А значит, не представали в глазах Всеволода потенциальными претендентами на владимирский или какой-то иной княжеский стол. Точно так же Всеволод приблизил к себе другого племянника, Ярослава Мстиславича, и сделал всё, чтобы тот вокняжился в Новгороде — городе, в котором прежде княжил его отец. Даже после того, как Ярослав без его позволения остался на княжении в Волоке Дамском, отношение к нему если и изменилось, то не сильно. Впрочем, держать Ярослава в Суздальской земле Всеволоду, вероятно, не хотелось. После 1178 года имя князя в летописи не упоминается — вплоть до его смерти в 1199 году. А к тому времени Ярослав Красный будет занимать переяславский стол, то есть княжить в городе, находящемся вне пределов Суздальской земли, но полностью подконтрольном Всеволоду. Свояк Всеволода Ярослав Владимирович тоже стал членом семьи владимирского «самодержца». Едва ли он был намного младше Всеволода и тем не менее относился к нему как к отцу. Стоит обратить внимание на такой примечательный факт: на своих печатях Ярослав помещал изображение святого Димитрия, небесного покровителя Всеволода Большое Гнездо15. При этом Всеволод будет стараться и его «испоместить» вне границ Суздальской земли, а именно в Новгороде; в промежутках же между новгородскими княжениями Ярослав находился при Всеволоде и участвовал в его военных походах. Совсем по-другому Всеволод отнёсся к тем из своих племянников, для которых Владимиро-Суздальское княжество могло рассматриваться как «отчина», то есть чьи отцы когда-то княжили здесь. На них Всеволод смотрел прежде всего как на прямых конкурентов для своих будущих сыновей в борьбе за владимирский стол. Понятно, что искалеченный им Ярополк Ростиславич мог оказаться в его княжестве только на положении пленника, в темнице. Он там и оказался, хотя позднее под давлением других князей Всеволод выпустил его, и Ярополк перебрался в Черниговское княжество. Едва ли какая-то угроза власти владимирского «самодержца» могла исходить от Ярополкова племянника Святослава (сына Мстислава Ростиславича). Но судьба этого княжича нам совсем не известна. Имя его из летописей исчезает, и мы ничего не знаем о том, приложил ли руку к этому исчезновению Всеволод или нет. Это были его прямые враги. Но Всеволод явно опасался оставлять дома даже тех «отчичей» прежних владимирских князей, от которых не испытал никакого зла по отношению к себе лично. Надо сказать, что в этом отношении у него был хороший учитель — Андрей Боголюбский, по чьей воле он сам и его старшие единоутробные братья на несколько лет были изгнаны из Руси. И полученный урок Всеволод хорошо усвоил. Так, он изгнал из своего княжества и вообще из русских пределов сына Андрея Боголюбского — Юрия. Некогда, как мы помним, Юрий помог утвердиться во Владимире князю Михалку Юрьевичу. Как он отнёсся к вокняжению Всеволода, неизвестно. Но это и не важно: Всеволод воспринял племянника как опасного соперника — а потому сделал всё, чтобы тот покинул Суздальскую землю. В русских источниках имя Юрия Андреевича после 1175 года не упоминается. Мы бы так ничего и не узнали о его последующей судьбе, если бы князь этот не оказался вовлечён в круговорот событий совсем в другом государстве и не стал бы мужем знаменитой грузинской царицы Тамар (Тамары). Средневековые грузинские и армянские хроники сообщают нам о его мытарствах после изгнания из Руси, и в этих источниках возникает имя его могущественного дяди — Всеволода (Савалата). После смерти в 1184 году грузинского царя Георгия III и восшествия на престол его дочери, восемнадцатилетней Тамары, начались поиски мужа для царственной девы. Тогда-то взоры части сановников обратились в сторону «царевича, сына великого князя русского Андрея». Как оказалось, «он остался малолетним после отца и, преследуемый дядею своим Савалатом, удалился в чужую страну [и] теперь находится в городе кипчакского царя Севенджа»16. Имя «царевича» грузинские источники не называют — ибо их авторы относились к нему весьма негативно; приведено оно лишь у армянского историка второй половины XIII — самого начала XIV века Степаноса Орбеляна — Георгий (церковная форма русского имени Юрий)17. Преследованию со стороны дяди Юрий должен был подвергнуться по крайней мере за несколько лет до 1184 года — вероятно, вскоре после завершения войны за Владимир. Что привело его в Половецкую землю? Сразу ли он оказался там после своего изгнания (или бегства?) из Руси или сначала постранствовал по другим землям? Все эти вопросы остаются без ответов. Можно, конечно, вспомнить о том, что бабка Юрия была половчанкой; можно вспомнить и о том, что русское и вообще христианское население в половецких городах имелось — так что Юрий, во всяком случае, не был там одинок. Упоминается в летописях и половецкий «князь» Севенч, чьё имя носил город, в котором русский изгнанник нашёл пристанище. Этот Севенч был союзником Юрия Долгорукого, деда Юрия Андреевича. Правда, он погиб ещё в 1151 году, сражаясь на стороне русского князя в битве на реке Лыбедь, близ Киева, — но, очевидно, его потомки помнили о некогда существовавшем союзе. Грузинские источники описывают сына Боголюбского как «юношу доблестного, совершенного по телосложению и приятного для созерцания». Брак был заключён в 1185 году, однако оказался несчастливым и продлился не более двух с половиной лет, после чего Георгий был с позором изгнан из страны. Грузинский автор «Жизнеописания царицы Тамар» объяснял это «скифскими нравами», которые обнаружились у русского: «при омерзительном пьянстве стал он совершать много неприличных дел, о которых излишне писать…»18. Не исключено, впрочем, что дело было не только и даже не столько в пороках нового грузинского царя, сколько в его излишней самостоятельности и обострившейся до крайности внутриполитическойборьбе в окружении царицы. За отведённое ему время Юрий успел проявить себя как незаурядный полководец; он совершил несколько успешных походов, однако главную задачу, ради которой его призвали в Грузию, решить не смог: Тамара так и не сумела зачать от него наследника. Юрий вынужден был отправиться в новое изгнание — на этот раз по более привычному для русских князей маршруту — в Константинополь. Он ещё дважды предпринимал попытки вернуться в Грузию и занять трон — но оба раза неудачно. Умер Юрий, судя по всему, в Грузии19. Похожая судьба могла ждать и малолетнего сына князя Михалка Юрьевича, ещё одного «сыновца» Всеволода. Тот факт, что основные русские летописи ни разу не упоминают его имя, отнюдь не свидетельствует о том, что такого князя не существовало в действительности, как иногда считают. Борис Михалкович был младше Юрия Андреевича и — в отличие от своего двоюродного брата — никак не успел проявить себя на княжеском поприще до смерти отца — а ведь только в таком случае его имя могло попасть в летописи. А вот во внелетописном (хотя и связанном с летописной традицией и вошедшем в отдельные летописные своды) памятнике — «Сказании о верных святых князьях русских» — его имя осталось20. Места в княжеской иерархии этому князю при Всеволоде Юрьевиче тоже не нашлось. Можно было бы предположить, что и Борис Михалкович, чуть повзрослев, вынужден был удалиться в изгнание. Но это, вероятно, не так. Среди гробниц владимирского Успенского собора, описанных в последней четверти XVII века, упомянута гробница князя Бориса Михайловича, и очень похоже, что принадлежала она не кому иному, как сыну Михалка Юрьевича21. Получается, что племянник Всеволода пребывал во Владимире — что называется, на глазах у дяди. А вот на каком положении — остаётся только гадать. Это те два примера, о которых мы знаем. Могли ли быть и другие? Вполне возможно — ибо далеко не обо всех русских князьях того времени сохранились хоть какие-нибудь сведения в источниках — как русских, так и иностранных. Так, например, мы ничего не знаем о внуке Андрея Боголюбского Василии, сыне князя Мстислава Андреевича. Он родился в 1170/71 году, за год до смерти отца, и… тоже исчез со страниц летописи. Вероятнее всего, княжич умер ещё ребёнком. Или, может быть, разделил судьбу дяди?.. Разумеется, с самых первых лет своего княжения во Владимире Всеволод не мог не задумываться над тем, кто унаследует его власть. Долгое время у них с Марией рождались только девочки. Но оба были молоды, княгиня отличалась завидным чадородием, исправно, год за годом, приносила потомство — и в том, что рано или поздно у неё родится мальчик, сомнений не возникало. И действительно, 18 мая 1185 года на свет появился первенец Всеволода, наречённый Константином (это имя стало для него и княжеским, и крестильным). Правда, двое следующих сыновей Всеволода умерли в младенчестве: родившийся 2 мая 1186 года Борис умер в следующем, 1187 году, а Глеб, дата рождения которого неизвестна, — 29 сентября 1188-го. Однако и эти несчастья стали лишь эпизодами в счастливой семейной жизни княжеской четы. Дальше мальчики будут появляться на свет здоровыми, один за другим, что, собственно, и принесёт Всеволоду его знаменитое прозвище.Поход на Волгу
Поход в Волжскую Болгарию в 1183 году — самое масштабное военное предприятие князя Всеволода Юрьевича. Понятно, что поход этот стал возможен только после того, как Всеволод упрочил своё положение на владимирском престоле и урегулировал отношения с другими князьями — а значит, мог рассчитывать на их поддержку. Наступившая в русских землях относительная стабильность дала возможность князьям успешно действовать сразу на нескольких внешнеполитических направлениях. Причём направления эти были, так сказать, поделены между ними: «западное» досталось смоленским Ростиславичам, «южное» — великому князю Святославу Всеволодовичу и отчасти его союзнику и соправителю Рюрику Ростиславичу; «восточное» же — Всеволоду Юрьевичу. Стоит напомнить о том, что само Древнерусское государство возникло когда-то как военно-торговая «корпорация» князей на важнейших путях Восточной Европы — по Днепру из «Варяг в Греки» и по Волге из «предела Симова», то есть из стран Востока, в Северную Европу. Затем оба пути были перекрыты: половцами на юге и волжскими болгарами на востоке. Войны с половцами занимают всю историю Руси со второй половины XI века. В 80-е годы XII века её возглавил ставший великим князем Киевским Святослав Всеволодович — и это несмотря на установившиеся у него тесные связи сразу с несколькими половецкими ордами (а может быть, как раз и благодаря им). В это время русские князья предпринимают отчаянную попытку вернуть себе давно утраченные пути на юг — «поискати», по выражению автора «Слова о полку Игореве», «града Тьмутороканя» — то есть древней Тамани, бывшего русского Тьмутороканского княжества. Попытка эта, как известно, закончилась крахом, но сам её факт, сама мечта о столь отдалённой цели говорят о многом. Волжская же Болгария — так сложилось ещё со времён Юрия Долгорукого — оказалась основным торговым партнёром и, соответственно, основным конкурентом и военно-политическим противником Суздальской Руси. Главный путь княжества — по Волге, и, в частности, тот его участок, который проходил от Ярославля до Городца Радилова (а это важнейшие города Суздальской земли), — оказывался уязвимым со стороны болгар в случае прямого столкновения с ними. В отношениях с Болгарским государством Всеволод Юрьевич выступил как прямой продолжатель своих предшественников, и прежде всего старшего брата Андрея Боголюбского, при котором Владимиро-Суздальское княжество перешло в наступление на восточном направлении. Во многом это объяснялось тем, что при Андрее, а затем и при Всеволоде торговые пути по Волге заметно оживились. А ещё тем, что власть владимирских князей распространилась на восток и северо-восток — почти к самым границам Волжской Болгарии, а также «за Волок», то есть в тот регион, откуда на рынки Европы поступала основная масса пушнины — главнейшего и ценнейшего продукта, обладание которым представляло стратегический интерес для правителей как Северной и Северо-Восточной Руси, так и Волжской Болгарии. В борьбе за доступ к этим богатствам Владимиро-Суздальское княжество постоянно сталкивалось ещё и с Великим Новгородом — и мы уже говорили о том, что одной из причин походов Всеволода Юрьевича на Новый Торг (Торжок) было то, что сидевший здесь князь взимал дани «по Мете и за Волоком», а значит, имел возможность контролировать один из торговых путей, по которым этот товар шёл на европейские рынки. Новгородские и владимиро-суздальские «данщики» сталкивались и севернее — на Сухоне и Северной Двине. Но дальнейшему продвижению тех и других на север и северо-восток мешала Волжская Болгария, чьи правители ещё раньше поставили под свой контроль эти земли. С таким положением дел Всеволод не желал мириться, а потому принимал свои меры. В одной из поздних летописей — так называемой Вычегодско-Вымской (она же Мисаило-Евтихиевская), конца XVI — начала XVII века, — сообщается об основании великим князем Всеволодом Юрьевичем в 1178 году на устье реки Юг при слиянии её с Сухоной города Гледена — легендарного предшественника Великого Устюга22; именно отсюда, а затем и из основанного в четырёх «стадиях» от Гледена Устюга шли дани по Двине, Вычегде, Сухоне и Югу, а также, как сказано в том же источнике, из «Великой Перми» — сказочной «Биармии» скандинавских саг и «страны Вису» восточных — обиталища мифических людей, обладающих несметными сокровищами. Конечно, названная в летописи точная дата, как и личное участие князя в закладке нового города, представляются сомнительными (хотя нельзя не отметить, что как раз в 1178 году у Всеволода могло найтись время для похода на Сухону). Но вот основание города на Юге (Сухоне) при Всеволоде, и притом в первый период его владимирского княжения, кажется вполне вероятным, ибо напрямую связано с военным противостоянием с болгарами. Не случайно уже после смерти Всеволода болгары попытаются уничтожить возникший здесь русский город: в 1218 году им удастся захватить и разорить Устюг. Начиная войну с Болгарским царством, Всеволод брал пример с Андрея Боголюбского, организовавшего за двадцать лет до него, в 1164 году, большой поход на болгар и взявшего «град их славный Бряхимов» на Каме. Для Андрея это военное предприятие носило прежде всего идеологический характер — как часть общехристианской войны с «сарацинами», своего рода крестовый поход, в который он выступил из Ростова чуть ли не «в един день» с императором Мануилом, выступившим против «сарацин» из Царьграда. Для Всеволода религиозная сторона была, несомненно, тоже важна. И хотя в летописном рассказе она не нашла такого же отражения, как в текстах, посвящённых войне Андрея, мотив войны за веру звучал и во время подготовки к походу, и во время самого похода. Но для войны имелись и более прозаические причины. Историк XVIII века В. Н. Татищев так объяснял их. Волжские болгары, имея «непрестанной торг» с «Белой Русью» (то есть с Северо-Восточной Русью, по терминологии автора), «множество привозили яко жит (хлеба. — А. К.), тако разных товаров и узорочей», продавая их в русских городах по Волге и Оке. Но русские, «собрався тайно, по Волге купцов болгарских грабили, а потом по Волге сёла их и городы разоряли, о чём болгары два раза присылали Всеволода о управе просить. Но понеже люди те были резанцы, муромцы и других градов неведомые, не мог Всеволод никакой управы учинить, только во все свои области послал запресчение, чтобы таких разбойников, ловя, приводили; а ловить их по Волге не послал, чем болгоры озлобясь, собрав войска великие, пришли в лодиях по Волге и берегом в области белоруские, которые около Городца, Мурома и до Резани великое разорение учинили». Всеволод отправил против них свои войска, но те «для множества их» противостоять болгарам не могли, но сами (болгары?), «набрав множество в плен людей и скота, возвратились». «Вельми оскорбяся сим и желая болгарам отмстить», Всеволод и начал войну, предварительно договорившись о совместных действиях с другими князьями, и прежде всего со Святославом Всеволодовичем23. Источник своих сведений Татищев не назвал, их достоверность, как всегда, вызывает сомнения. Из сохранившихся летописей нам не известно ни о переговорах Всеволода Юрьевича с болгарскими послами, ни о нападении болгар на города его княжества, равно как и на рязанские или муромские, ни о столкновениях с болгарами владимирских войск. Однако мелкие конфликты всегда предшествуют большой войне. Наверное, что-то подобное имело место и в этом случае. Подобно Андрею, Всеволод смог придать войне общерусский характер, умело разыграв всё ту же религиозную карту борьбы с «погаными» и «бохмитами» (магометанами). Созданная им коалиция князей оказалась даже большей, чем у брата. В неё вошли не только «подручные» Всеволоду рязанские и муромские князья, но и союзники из Киева и «Русской земли» — младшие князья из числа Ольговичей и Ростиславичей. Помимо самого Всеволода, в походе приняли участие его племянник Изяслав Глебович из Русского Переяславля, сын Святослава Всеволодовича Владимир, сын смоленского князя Давыда Ростиславича Мстислав, а также рязанские князья Роман, Игорь, Всеволод и Владимир Глебовичи и муромский князь Владимир Юрьевич24. Автор Киевской летописи рассказал о том, как Всеволод присылал за помощью к Святославу; тот отпустил в поход сына Владимира, сопроводив его соответствующим наставлением, обращённым к Всеволоду: — Дай Бог, брате и сыну, во дни наши нам створити брань на поганыя! К весне войска выступили в поход. Основная их часть двигалась, вероятно, по Клязьме и Оке и далее от Городца Радилова вниз по Волге; участие же в походе особого белозёрского полка свидетельствует о том, что другая часть войска следовала по Волге через Ярославль25. Точные даты приведены только у Татищева. По его сведениям (опять-таки не известно, насколько достоверным), 20 мая Всеволод с князьями, после пятидневного пирования во Владимире, отправился в Городец, куда уже собрались войска. 8 июня судовая рать подошла к острову Исады на Волге (у Татищева: Сады), где их дожидалось конное войско. Болгарский поход подробно описан в летописях, причём главные из них, Лаврентьевская и Ипатьевская, взаимно дополняют друг друга. Речная рать плыла в «насадах», или стругах, — гребных беспалубных судах с низкой осадкой и высокими, «насаженными» бортами, и «галеях» — более совершенных, «византийских» судах, оснащённых, наряду с вёслами, ещё и парусами. Конная же следовала по берегу. Вскоре войска дошли до места, «идеже остров, нарицаемый Исады». Напрасно было бы искать на Волге остров с таким именем: этим словом («исады», или «исад») в древней Руси обозначали пристань, место стоянки или прибрежный посёлок. Летописец уточняет: остров, у которого пристали и где высадились на берег русские, находился против устья Цевцы — но и река с таким именем также неизвестна, и какой из притоков Волги имел в виду летописец, мы в точности не знаем, хотя предположений на этот счёт в литературе было высказано немало. Кажется очевидным, что встреча русского флота и конницы должна была состояться ниже места впадения Камы в Волгу — в противном случае при движении к основным центрам Болгарского государства русским пришлось бы форсировать ещё и Каму. Но вряд ли намного ниже. Именно напротив Камского устья находилось наиболее удобное место для переправы войск. В старину здешняя местность называлась Переволокой и была известна удобной переправой («переволокой») через Волгу. До образования гигантского Куйбышевского водохранилища здесь имелось несколько островов, более или менее подходящих для стоянки русского флота; один из них, вероятно, и был выбран русскими[20]. Далее войско вновь разделилось. Ладьи и галеи были оставлены у Исад. Для их охраны Всеволод выделил белозёрский полк во главе с воеводами Фомой Лазковичем (в разных летописях: Ласковичем или Назковичем, Назаковичем) и Дорожаем, воеводой его отца, Юрия Долгорукого («то бо бяше ему отень слуга», уточняет летописец). Здесь же остались и иные, не названные по именам воеводы; прочие князья тоже выделили каждый своих людей27. Основная же часть войска двинулась на конях к Великому городу (или «Великому городу Серебряных болгар», как значится в Ипатьевской летописи). Под этим именем, как предположили историки, подразумевалась тогдашняя столица Болгарского царства — город Биляр, расположенный при впадении реки Билярки в Малый Черемшан (который, в свою очередь, впадает в Большой Черемшан — левый приток Волги)28. Путь их лежал мимо некоего Тухчина городка (отождествляемого исследователями с Кураловым городищем в нынешнем Спасском районе Республики Татарстан). Войска простояли здесь два дня, однако взять город не смогли и на третий день двинулись дальше. Впереди, как всегда, шла сторожа. На пути от Тухчина к Великому городу у русских князей произошла неожиданная встреча. «В поле», то есть на открытой местности, русские сторожа увидели чужую рать — и, посчитав, что это враги, болгары, приготовились к битве. Однако из чужой рати к ним прискакали пятеро мужей и ударили челом князю. Оказалось, что это половцы из какой-то Емяковой орды и они готовы воевать вместе со Всеволодом: — Кланяются, княже, половцы Емяковы! Пришли есмы с князем Болгарским воевать болгар! Что за «князь Болгарский» шёл вместе с ними, мы, конечно, не знаем. Полагают, что в это время в Болгарском царстве развернулась междоусобная война29 и некий изгнанный из своих владений болгарский правитель нанял половцев, чтобы с их помощью справиться со своими недругами. Если так, то трудно удержаться от предположения, что Всеволод не случайно выбрал время для своего похода. Очень может быть, что он знал о неурядицах в Болгарской земле и собирался воспользоваться ими. Во всяком случае, всё складывалось удачно для него. «Здумав с братьею своею и с дружиною», Всеволод привёл новых союзников «в роту», то есть к присяге, проведённой по половецкому обряду (что специально отметил летописец: Всеволод, несомненно, хорошо знал половецкие обычаи). Уже вместе с половцами русские переправились через реку Черемшан, на которой и стояла столица Болгарского царства. В соответствии с принятой в те века тактикой обороны городов, болгары учинили перед крепостными стенами «оплот», или «твердь», — вал с расположенным на нём частоколом. Всеволод тоже действовал по привычной схеме. В первый же день осады он устроил совет с князьями и старшей дружиной и «нарядил» полки, то есть распределил их по отдельным участкам. «Младшие» князья, как обычно, должны были начать штурм вражеских укреплений. Инициативу проявил князь Изяслав Глебович, племянник Всеволода: «доспев с дружиною», он устремился к вражескому «оплоту» и смял противника, «вогнав» его «за оплот, к воротам городним»: первым «изломи копьё», по выражению летописца. Воодушевлённый успехом, Изяслав продолжил битву возле городских ворот — эта битва и стала для него роковой: «И тут ударили его стрелою сквозь бронь под сердце, и принесли еле живого в товары». («Болгари же тогда напрасно устремишася и многих христиан избиша», — добавляет московский книжник XVI века, может быть, и домысливая ситуацию по собственному усмотрению30.) Сама по себе смертельная рана или смерть в бою были обычным делом. («То не дивно есть: в ратях ведь и цари, и мужи погибают!» — восклицал некогда князь Мстислав Владимирович; «Дивно ли, если муж погиб на войне? Так умирали лучшие в роду нашем!» — повторил слова сына Владимир Мономах31.) Но потеря Изяслава в самом начале осады произвела удручающее впечатление на участников похода. «…И бысть печаль велика Всеволоду и всем князьям и дружине уныние» — это уже строки из Ипатьевской летописи. Тем не менее войска приступили к правильной осаде Великого города, которая продолжалась десять дней. В это время болгарское войско, собранное из других городов и местностей Болгарской земли, совершило нападение на белозёрский полк, оставленный на Волге. Часть их числом в пять тысяч человек (какие-то «собекуляне» и войска «из Челмата», то есть с Камы, соединившись «с иными болгарами, зовомыми темтюзи», — все эти названия мало что говорят нам) шли в «учанах» (ладьях) по Волге, а другие — на конях — из «Торкского» (как видим, города с таким названием и торкским населением существовали не только на Руси). Подойдя к острову, на котором расположился русский флот, болгары атаковали его, но были отбиты с большими потерями. Русские стали преследовать противника. «Поганые бохмиты» бежали к своим «учанам», но уйти не успели: русские опрокинули их ладьи, и в результате более тысячи человек утонули в водах Волги. Другие были порублены в битве — так что всего, по подсчётам русского летописца, болгары потеряли едва ли не половину своего войска: две с половиной тысячи человек (впрочем, следует помнить, что участники войны всегда преувеличивают потери противной стороны и собственные успехи). Так яркой победой белозёрского полка завершилась эта битва — самый кровавый эпизод всего Болгарского похода. Победа была одержана не просто Божией помощью: болгары бежали «Божьим гневом гонимы, и Святою Богородицею, и Всеволода князя молитвою», не забыл отметить суздальский летописец. Разгром на Волге, по-видимому, и вынудил болгар просить о мире. Но эти же события показали уязвимость русских полков, что не могло не беспокоить Всеволода и других князей. Мир был заключён, но на каких условиях, летопись не сообщает; сказано лишь, что владимирский князь, простояв десять дней возле города и «видев брата изнемогающего (Изяслава. — А. К.), и болгары выслали к нему с миром» (вариант: «с челобитьем»), повернул вспять и вернулся к Исадам. Собственно, о том, принял ли Всеволод предложенный мир, в летописи не сказано. И лишь в более поздних летописях, в частности, в Московском летописном своде конца XV века (отразившем, напомню, летописание Всеволодова сына Юрия), говорится определённо: Всеволод ушёл от города, «съмирився с ними»32. На Исадах князь Изяслав Глебович скончался — «от стрельной той раны». Тело его «спрятали», то есть обрядили по православному обычаю, и положили в одну из ладей. «Князь же Всеволод возвратился во Владимир, — заключает свой рассказ о Болгарском походе летописец, — …а Изяслава, привезя, положили у Святой Богородицы, во Владимире». Но ещё прежде возвращения домой Всеволод отправил конное войско «на мордву». Полагают, что мордовские племена выступали союзниками болгар, а потому и подверглись удару русской рати. Однако сказать что-либо определённое на этот счёт трудно. Нельзя исключать, например, что поход на мордву, напротив, был согласован с болгарами. А может быть, он объяснялся гораздо проще и имел целью захват полона — особенно в том случае, если русское войско не сумело должным образом «ополониться» в Болгарской земле. Не будем забывать о том, что именно захват полона являлся главной целью почти всех военных предприятий того времени. Воинственные мордовские племена занимали земли между Владимиро-Суздальским княжеством и Волжской Болгарией, а потому им приходилось выбирать между двумя этими сильными государствами, поддерживая то одних, то других. Позднее, в эпоху сыновей Всеволода Большое Гнездо, русско-мордовские войны станут делом обычным; не раз русские земли подвергнутся нападению мордвы, не раз и русские будут совершать походы в Мордовскую землю. Первый же из таких походов пришёлся на время княжения Всеволода. Надо сказать, что Болгарский поход князя Всеволода Юрьевича произвёл впечатление на современников. Запись о том, что Всеволод ходил «на Болгаре со всею областью своею», была внесена в Новгородскую Первую летопись (где, между прочим, ни словом не упомянуто ни об одной из многочисленных половецких войн того времени). Знали о походе Всеволода и на юге: именно Болгарская война, участниками которой стали в том числе и подручные владимирскому князю рязанские Глебовичи, дала основание автору «Слова о полку Игореве» обратиться к Всеволоду со ставшими знаменитыми словами: «…Ты бо можеши Волгу вёслы раскропити (расплескать. — А. К.)… Ты бо можеши посуху живыми шереширы (вероятно, нечто вроде катапульт или зажигательных снарядов. — А. К.) стреляли — удалыми сыны Глебовы»33. И, наверное, нельзя счесть случайностью то, что именно после этой войны летописцы начинают именовать Всеволода Юрьевича великим князем34. Это изменение в титуле владимирского «самодержца» свидетельствует о его возросших амбициях и вполне обоснованных претензиях на главенство среди прочих русских князей. Однако мир, заключённый с болгарами в 1183 году, вряд ли устроил князя. Спустя два года Всеволод начал новую войну с тем же противником. На этот раз он не выступил в поход сам, но отправил против болгар своих воевод с «городчанами» — дружиной из Радилова Городца на Волге; очевидно, этот город и стал центром сбора судовой рати. Удар нанесён был не по главным городам Болгарской земли, но по её окраинам, ближним к Владимирскому княжеству, — а потому принёс более ощутимые результаты. «Того же лета, — сообщает суздальский летописец под 1185 годом, — послал великий князь Всеволод Юрьевич на болгар воевод своих с городчанами, и взяли сёла многие, и возвратились с полоном многим»35.А вот на другом — половецком — «фронте» участие Всеволода в те годы не проявилось никак. А ведь середина 1180-х годов — время ожесточённого русско-половецкого противостояния, требовавшего значительного напряжения сил всей Русской земли. Спустя несколько лет, уже после трагического поражения новгород-северского князя Игоря Святославича, великий князь Киевский Святослав Всеволодович (а скорее от его имени безымянный автор «Слова о полку Игореве») будет мысленно обращаться к Всеволоду всё с теми же, цитированными выше словами, отчасти, кажется, укоряя его: «Великый княже Всеволоде! Не мыслиши прелетети издалеча отня злата стола поблюсти?..» «Златой» киевский стол и в самом деле был «отним» для Всеволода — ибо его отец умер киевским князем, — но Всеволод не принимал никакого участия в борьбе за Киев и до времени даже не помышлял о том, чтобы «блюсти», то есть оберегать, «отень стол». Он и здесь явился продолжателем политики своего брата Андрея Боголюбского, отказавшегося от Киева ради княжения во Владимире-Залесском. Половцы не тревожили земли Владимиро-Суздальской Руси (не считая тех случаев, когда их в качестве союзников приводили сюда Святослав Всеволодович или рязанские князья) — а потому и Всеволод не считал нужным посылать своих «воев» в объединённую рать, собираемую Святославом. Впрочем, самое деятельное участие в борьбе с половцами принимал в те годы его племянник, переяславский князь Владимир Глебович, — а это значило, что в его лице был представлен весь клан князей Юрьевичей. Владимир Глебович показал себя тогда несомненным героем и незаурядным полководцем. «Муж бодр и дерзок и крепок на рати» — так характеризует его летописец36. Во многом благодаря его мужеству русские одержали самую значимую из своих побед — 30 июля 1184 года на реке Орель, при впадении её в Днепр, когда в плен попал и был убит половецкий хан Кобяк с двумя сыновьями, и ещё множество других были пленены или убиты. (Автор Лаврентьевской летописи называет какие-то немыслимые цифры: одних «князей» половецких было пленено тогда 417, а всего «руками изымали» до семи тысяч; победа же целиком приписана здесь Владимиру Глебовичу, ибо остальные русские князья «не утягли» за ним.) Владимир сам вызвался в передовой полк и в следующем походе на половцев — в конце зимы — начале весны 1185 года, когда при приближении русских полков бежал хан Кончак, а в плен к русским попал некий «бесурменин», стрелявший «живым огнём» — новым, невиданным доселе оружием, оказавшимся в распоряжении степняков37. Несчастный поход Игоря Святославича и разгром его войска в мае 1185 года имели катастрофические последствия для всей Южной Руси. Сразу четыре русских князя — сам Игорь, его брат Всеволод, княживший в Трубчевске, пятнадцатилетий сын Владимир Путивльский и племянник Святослав Ольгович Рыльский — оказались в половецком плену — а такое случилось впервые в истории русско-половецкого противостояния. Оставшиеся без князей и без дружины города Северской земли «возмятошася», ибо никто не знал, что делать и как быть; «и бысть скорбь и туга люта, якоже николиже не бывала, во всём Посемьи, и в Новегороде Северском, и по всей волости Черниговской». По образному выражению Святослава Всеволодовича, его двоюродные братья сами «отворили ворота на Русскую землю» для «поганых». Споры, начавшиеся среди половецких вождей, помешали им нанести единый, концентрированный удар по русским землям. Кончак призывал к походу на Киевщину и Переяславщину: он уже тогда «сватился» с оказавшимся у него в плену Игорем — и позднее действительно выдал за его сына Владимира свою дочь; старая дружба сказывалась — потому, наверное, Кончак не спешил разорять волость будущего свата. Соперник же Кончака Гза настаивал на набеге в Посемье (земли по реке Сейм), где, как говорил он, остались лишь жёны и дети, «и готов нам полон собран». Но и два отдельных набега двух разных орд привели к бесчисленным бедствиям. Особенно пострадало Переяславское княжество, наиболее уязвимое со стороны Степи. Орда Кончака осадила Переяславль. Битва продолжалась весь день. Видя, что «поганые» одолевают и город может пасть, князь Владимир Глебович с немногими людьми, подавая пример оробевшей дружине, сам выехал из крепостных ворот. Он едва не попал в плен: был окружён половцами и ранен тремя копьями; его с трудом сумела отбить подоспевшая дружина, но раны князя оказались очень тяжёлыми — летописец называет их «смертными», хотя год спустя Владимир примет участие ещё в одном совместном походе князей на половцев. Страшной была судьба города Римова в Переяславском княжестве, который половцы захватили на обратном пути, возвращаясь от Переяславля. Жители затворились в городе и отбивались с крепостных стен. Но под их тяжестью две «городницы» рухнули, погребая под собой людей. Часть жителей сумела убежать и отбиться на каком-то «Римовском болоте»; тех же, кто остался в городе, увели в полон. Гза со своими половцами «в силах тяжких» воевал по другую сторону реки Суды, продвигаясь к Путивлю. «И повоевали волости их, и сёла их пожгли; пожгли же и острог у Путивля и возвратились восвояси», — бесстрастно констатирует летописец38. Все эти печальные события не могли не отзываться горечью в душе князя Всеволода Юрьевича. Не будем забывать о том, что с попавшими в половецкий плен северскими князьями Всеволода связывали узы свойства и близкого родства. Оба старших Святославича были женаты на его племянницах: знаменитая Ярославна, жена Игоря и одна из главных героинь «Слова о полку Игореве», была дочерью Ярослава Осмомысла и Ольги Юрьевны, сестры Всеволода; «красная» же Глебовна, милая жена «буй-тура» Всеволода Святославича, также воспетая в «Слове…», — дочерью переяславского князя Глеба Юрьевича, брата Всеволода. Надо ли говорить о том, сколь радостным стало для владимирского князя известие о возвращении из плена сначала Игоря, а затем и других князей?! Но половецкие войны тех лет имели и вполне конкретные политические последствия для владимирского «самодержца». 18 марта 1187 года, «в среду Вербной недели»39, в Переяславле скончался князь Владимир Глебович, оплакиваемый всеми своими подданными и особенно дружиной, для которой он — подобно легендарным князьям прошлых столетий — не щадил ни своего имения, ни злата: «бе бо князь добр, и крепок на рати… и всякими добродетелями исполнен», как написал о нём летописец. (Стоит отметить, что в этом летописном некрологе впервые в источниках мы встречаем название «Украина» — в значении южная окраина, порубежье Русской земли: «…о нём же Украина много постона».) Князя умирающим принесли в город из нового половецкого похода, в который он — несмотря на свои раны — выступил несколькими неделями раньше. Удивительно, но и на этот раз Владимир упросил великого князя Святослава Всеволодовича отпустить его в передовой полк; Святослав поначалу не хотел этого — и не из сострадания к его ранам, но из ревности к его подвигам и не желая пускать его впереди собственных сыновей. Предупреждённые о наступлении русских, половцы тогда ушли за Днепр, а наши не смогли преследовать их из-за начавшегося разлива Днепра. На обратном пути Владимир Глебович и разболелся «болестью тяжкою» — как видно, он так и не оправился от «копийных язв», полученных при обороне Переяславля… Князю было 30 лет. Похоронили его в Переяславле, в храме Архангела Михаила. За четыре года до этого в Болгарском походе погиб его младший брат Изяслав. Переяславль остался без своего князя. Между тем Всеволод Юрьевич воспринимал этот город не иначе как «отчий» — за последние десятилетия здесь княжили лишь потомки Юрия Долгорукого. Летописи не сообщают нам, кто из князей сменил Владимира Глебовича на переяславском престоле; не исключено, что в течение нескольких лет город не имел своего князя и управлялся тиунами великого князя Киевского Святослава Всеволодовича40. Если так, то это было серьёзное политическое поражение клана князей Юрьевичей, и прежде всего главы этого клана Всеволода. Несомненно, Всеволод должен был позаботиться о возвращении Переяславля и всей Переяславской области под свой контроль. Это было жизненно важно для него: и при Юрии Долгоруком, и при Андрее Боголюбском Переяславское княжество было своего рода форпостом Суздаля в Южной Руси и обеспечивало суздальским князьям участие в решении общерусских и южнорусских дел. Может быть, и не сразу, но Всеволоду удастся добиться своего. Под 1198 годом в летописи в первый раз после смерти Владимира Глебовича упоминается переяславский князь — и именно племянник Всеволода Ярослав Мстиславич. Названный год — это год смерти Ярослава. Несомненно, переяславским князем он стал раньше. Но вот когда именно, нам, к сожалению, неизвестно41.
«Великий пожар»
Когда-то, в период своего наивысшего могущества, Андрей Боголюбский задумал создать во Владимире отдельную, самостоятельную от Киева митрополию, напрямую подчинённую Константинополю. Задумка не удалась — его претендент на роль владимирского митрополита, «белый клобучок» Феодор, не нашёл поддержки ни в Киеве, ни в Константинополе, и Андрей вынужден был смириться, выдать его на расправу в Киев и вновь принять изгнанного прежде епископа Леона. Планы Всеволода Юрьевича так далеко не простирались. Но фактической независимости своей епархии от Киева он, в отличие от брата, добиться сумел. Как складывались его отношения с епископом Леоном, нам неизвестно, но если тот действительно жил в Ростове, а не во Владимире (куда путь ему был заказан Андреем), то можно предположить, что Леон поддерживал соперников князей Юрьевичей — их племянников Ростиславичей. Судя по сохранившейся печати, Леон получил титул архиепископа (которого не удостаивались ни его предшественники, ни преемники)42, а этот титул мог даровать ему только патриарх — в ознаменование его личных заслуг перед Церковью и для укрепления авторитета в глазах князя. Епископ Леон почти на десять лет пережил князя Андрея. Он скончался около 1183 года, и вот когда после его смерти ростовская кафедра освободилась, князь Всеволод показал свой характер. Митрополичий стол в Киеве занимал в то время грек Никифор (Никифор II). На освободившуюся кафедру в Ростове он рукоположил грека же Николая — это, кстати, первое известное нам деяние митрополита на Руси. Николай отправился было в путь, но добраться до места назначения не смог: против его поставления резко выступил владимирский князь. «…Всеволод же Юрьевич, князь Суздальский, не принял его, но послал к Киеву, ко Святославу ко Всеволодичу и к митрополиту Никифору», — рассказывает киевский летописец43. Приводит он и слова Всеволода, обращённые к митрополиту и объясняющие, почему князь отверг киевского кандидата: «Не избраша сего людье земле нашее, но [е]же еси поставил, ино камо тобе годно, тамо же идежи (идеши. — А. К.)…» То есть: «…если поставил его сам, то пускай куда тебе угодно, туда и идёт…» — а во Владимир ему, стало быть, путь заказан. Утверждали, будто Никола Гречин был поставлен «на мзде», то есть за взятку44. Можно не сомневаться, что подобное случалось в те времена, и нередко, и далеко не всегда вызывало осуждение, но считалось, что называется, в порядке вещей. Однако дело было не только в этом. Всеволод настаивал на том, что именно князь и «людье» (в данном случае — вече) имеют право на избрание пастыря, епископа для своей земли, или по крайней мере должны утверждать его — тогда это будет не только их, но и Божьим избранием. Княжья воля и есть Божья воля — эту мысль мы и ранее встречали в летописном повествовании о Всеволоде; очень ярко выражена она и в рассказе Суздальской летописи о неприятии нового владыки: «…Всеволоду не хотящю его, паче же Богови»; и далее соответствующая нравоучительная сентенция: «…несть бо достойно наскакати на святительскыи чин на мьзде. Но егоже Бог позоветь и Святая Богородиця [и] князь въсхочеть и людье». Никола Гречин хотел именно «наскакати» на освободившуюся кафедру — а потому и был отставлен Всеволодом, который — в отличие от киевского митрополита — исполнял Божью волю. Имелся у Всеволода и собственный кандидат на это место — игумен киевского Спасского на Берестовом монастыря Лука, «смиренный духом и кроткий», как характеризует его летописец. Выбор объясним: в Берестовской церкви был похоронен отец Всеволода Юрий, а значит, с Берестовским монастырём поддерживали тесные связи суздальские и владимирские князья, сыновья Долгорукого. Этого-то Луку Всеволод и просил поставить в епископы, обращаясь по-прежнему не столько к митрополиту, сколько к ставшему его союзником великому князю Святославу Всеволодовичу. И митрополиту пришлось подчиниться, не выдержав двойного давления. «Митрополит же Микифор не хотяше поставити его», объясняет киевский летописец, но вынужден был сделать это «неволею великою Всеволода и Святославлею». Решена была и судьба грека Николая — причём чуть ли не в буквальном соответствии с пожеланием князя Всеволода: митрополит отправил своего соотечественника на другую русскую кафедру — «епискупить» в Полоцк. При этом пришлось прибегнуть к не совсем обычной для древней Руси процедуре: митрополит повелел ему «отписатися» от Ростовской земли. Это произошло, во всяком случае, до 31 июля 1183 года, ибо в этот день Николай — уже в качестве полоцкого епископа — участвовал в пострижении киевского священника Василия, избранного в игумены Печерского монастыря45. Стоит заметить, что поставление «Гречина» произошло ещё при жизни прежнего полоцкого епископа Дионисия, который умер лишь в следующем, 1184 году. Надо думать, что Дионисий вынужденно, по болезни, оставил кафедру. Или, может быть, по принуждению митрополита? 11 марта 1184 года, в воскресенье, Лука был торжественно возведён на кафедру. Суздальский летописец самым лестным образом отзывался о новом владыке: «Был же сей муж молчалив, милостив к убогим и вдовицам, ласков же ко всякому, богатому и убогому, смирен же и кроток, речью и делом утешая печальных, поистине добрый пастух…» Несомненно, его поставление на кафедру Всеволод мог рассматривать как свою победу. Ибо он получал надёжного соратника в духовных делах, причём соратника, во многом обязанного лично ему. Заметим, что, согласно летописи, Лука был поставлен епископом «Ростову, и Владимиру, и Суздалю, и всей земле Ростовской»: иными словами, в его титуле стольный Владимир занял второе место — после Ростова, но впереди Суздаля — места пребывания прежних епископов. …А спустя месяц и неделю после торжеств, 18 апреля 1184 года, во Владимире случился «великий пожар», уничтоживший значительную часть города. И Суздальская (Лаврентьевская), и Киевская (Ипатьевская) летописи сообщают о нём сразу же после известия о поставлении епископа Луки: тогда погорел «мало не весь город»; одних церквей сгорело тридцать и две, и среди них главный храм Владимира и всей Суздальской земли — Успенский собор, построенный Андреем Боголюбским. Суздальский летописец с особой тщательностью перечисляет невосполнимые утраты в сгоревшем храме: «…и соборная церковь Святой Богородицы Златоверхая, которую украсил благоверный князь Андрей, и та загорелась сверху, и что было в ней узорочья (драгоценностей. — А. К.): паникадил серебряных, и сосудов золотых и серебряных, и одежд, шитых золотом и жемчугом, и чудных икон, окованных золотом, и каменьем драгим, и жемчугом великим, им же нет числа…» Люди в панике выбрасывали на церковный двор из храма и из «терема» — особой пристройки к храму, где хранилась церковная казна, — всё, что собиралось там со времён князя Андрея: иконы, и куны (деньги), и книги в богатых переплётах, и паволоки — драгоценные ткани, и богатые епископские облачения, и бесчисленные священные сосуды — но всё тщетно: огонь погубил эти богатства без остатка. Погорело и множество домов знати и простых людей. В «Истории Российской» В. Н. Татищева рассказ о владимирском пожаре дополнен. Здесь говорится ещё и о щедрости, проявленной Всеволодом и его супругой: «Князь великий, видя так великую скорбь в народе, и хотя многое его имение погорело, но повелел немедленно во первых церкви все строить от своего имения, та же убогим раздавал много на построение. Княгиня же наипаче убогим раздавала, хотя ея уборы богатые едва не все погорели»46. Вовсе не обязательно что-то подобное автор мог извлечь из неких неизвестных нам летописей, оказавшихся в его распоряжении; скорее это не более чем догадки. Но князья всегда оказывали помощь погорельцам, считая это своим первейшим долгом. И Всеволод вряд ли являл собой исключение из правил. Ну а об особом милосердии княгини Марии, заступницы сирых и обездоленных, мы ещё будем говорить в книге. Наверное, кому-то в Киеве или Полоцке могло показаться, что страшный владимирский пожар есть не что иное, как кара за своеволие князя и людей, за нарушение ими митрополичьего слова. Но в Суздальской земле так не считали и никакой связи между двумя событиями не увидели. Своё описание «великого» пожара летописец сопроводил пространным рассуждением, в общем-то стандартным для описания разного рода бедствий — как стихийных, так и рукотворных: «Се же сделалось за грехи наши, ибо умножились грехи наши и неправды… Ибо Бог казнит рабов Своих напастями различными: огнём, и водою, и ратью, и иными различными казнями, — да явятся словно золото, испытанное в горниле, ибо христиане чрез многие напасти [могут] войти в Царствие небесное…» А далее — почти дословное воспроизведение сентенции более раннего киевского книжника, автора «Повести временных лет», описавшего под 1093 годом ужасы жестокого половецкого нашествия на Русь: «…Да никто же не дерзнёт сказать, что ненавидимы Богом!.. Ибо кого так любит Бог, как возлюбил нас и вознёс? Никого! Потому и большую ярость явил Свою на нас, что больше всех почтены были и горше всех впали в грехи…»47 Даже здесь летописец увидел свидетельство особого небесного покровительства своей земле (как прежде видел это киевский книжник), ибо Бог являет Свою любовь в том числе и через безмерные казни и испытания. Наверное, именно эти чувства испытывал тогда князь Всеволод Юрьевич… «Великий пожар» 1184 года во Владимире был, возможно, и первым, но далеко не последним за годы его княжения. И тем не менее именно он обозначил важный рубеж в его биографии. Пожар уничтожил многое из того, что было построено до него и не им, — уничтожил с тем, чтобы Всеволод смог приступить к строительству своего Владимира — таким, каким он видел его или хотел видеть. Ведь именно после этого пожара началось то бурное строительство в «городе Всеволода», которое будет продолжаться в течение почти всего времени его княжения. Первым — и это понятно — стали восстанавливать «Златоверхий» храм Пресвятой Богородицы. Он был завершён строительством и освящён «великим священием» епископом Лукой 14 августа 1188 года, в канун праздника Успения Божией Матери; «и бысть радость велика вграде Владимире», — свидетельствует летописец. Это был действительно большой праздник, на котором рядом со Всеволодом стояли его трёхлетний сын Константин и зять Ростислав Ярославич (были, конечно же, здесь и представительницы женской части княжеской семьи, но упоминать о них летописец, как всегда, не счёл нужным). Трудно сказать наверняка, русские или иноземные мастера руководили восстановлением храма. Последнее кажется более вероятным: всё-таки связи с западным миром установились у владимирских князей ещё со времён Андрея Боголюбского, который охотно привлекал в свой город «делателей» из других стран, и едва ли Всеволод, сам побывавший на Западе, пресёк эту практику. Известно, что в 1475 году владимирский Успенский собор осматривал знаменитый итальянский архитектор Аристотель Фиораванти, признавший его творением не местных, но западноевропейских зодчих48. Не доверять его профессиональной оценке у нас нет никаких оснований. Да и суздальский летописец, кажется, намекал на то, что Всеволод предпочитал искать мастеров «от Немец», то есть из стран латинского Запада, а не от «своих» людей49. Княжеским зодчим пришлось не просто восстанавливать, но по существу возводить собор заново. Старые стены были обнесены новыми высокими и мощными галереями, на углах которых появились четыре главы с золочёными куполами, так что собор стал пятиглавым — таким, каким мы видим его сегодня. «Великий князь Всеволод Юрьевич церковь Владимирскую сугубо округ ея упространи и украси, юже брат его князь Андрей постави об едином верее… Всеволод же четыре верхи назда (надстроил. — А. К.) и позлати» — так описывал результаты этого поновления московский книжник XVI века, один из авторов «Степенной книги царского родословия»50. В ходе этих работ старые стены собора оказались как бы в футляре новых51, и между ними образовалась просторная галерея, предназначенная стать усыпальницей для почивших князей и святителей. Для этого во вновь возведённых стенах выложены были особые ниши. Пройдёт время, и в приделе собора упокоится сам князь Всеволод Юрьевич. Всеволод не стал особо украшать церковь с внешней стороны: на новые стены были перенесены лишь немногие отдельные рельефы, вынутые из стен старого здания. Разной оказалась толщина стен, не везде соблюдены симметрия и пропорции. Даже аркатурно-колончатый пояс — главное украшение храма — не на всех стенах оказался на одной высоте. Это была первая крупная работа зодчих Всеволода Большое Гнездо. Историки архитектуры по-разному оценивают её. По мнению одних, «зодчие блестяще справились со своей задачей», проявили «большую техническую смелость, свидетельствующую об их недюжинном инженерном опыте», а также «особую чуткость» и понимание стиля52. Другие, напротив, обращают внимание на явные нарушения пропорций и отдельные неудачные решения при перестройке храма: соглашаясь с тем, что владимирские мастера выполнили свою основную, чисто прагматическую задачу, укрепив и расширив прежний храм, они полагают, что в архитектурном плане перестроенное ими здание можно назвать «шагом назад» по сравнению с прежним собором Андрея и даже более ранними храмами Юрия Долгорукого53. Воздержимся от каких-либо собственных оценок — это дело профессионалов. Новый пятиглавый собор — конечно же, после многочисленных поновлений ещё более позднего времени — каждый может лицезреть сам, посетив Владимир. Суровое его величие впечатляет — собор стал подлинным символом города и всей Владимирской Руси. Но вместе с тем ещё и памятником его создателям — князю Андрею Боголюбскому и продолжателю его дела Всеволоду: они оба погребены здесь. Что же касается искусства Всеволодовых зодчих, то оно с годами будет расти; подлинные их шедевры — великолепный Дмитриевский собор во Владимире, соборы Рождественского и Успенского Княгинина монастырей там же — ещё впереди.
Пока же скажем о том, что, обновив и «упространив» главный храм своей земли, Всеволод в глазах подданных сравнялся со старшим братом. Точно так же, как Андрей, он будет украшать церковь, заново наполнять её святостью и богатствами — так что последующие книжники будут с таким же благоговением перечислять их: и драгоценные оклады икон, и почитаемые кресты, и священные сосуды, и хранившиеся в церкви одеяния «блаженных первых князей», и священнические облачения. Упоминают летописцы и «чудное дно медяное», то есть выстланный медными плитами пол Успенского храма (он уцелеет во время Батыева погрома, но будет выломан и унесён татарами Дюденевой рати, разграбившими Владимир в 1293 году). Надо думать, что этот исключительно ценный по тем временам материал был закуплен князем Всеволодом специально для собора и на собственные средства54. Подтвердит Всеволод и все пожалования клиру своего главного храма, в том числе «городы ея и дани», возвращённые церкви его братом Михалком Юрьевичем. В летописи упоминается один из таких городов — Гороховец на правом берегу реки Клязьмы, на востоке нынешней Владимирской области — «град Святой Богородицы», как называет его летописец: этот город будет сожжён в нашествие Батыя в 1239 году.
…Когда в самом конце XIII столетия, уже после ордынского нашествия на Русь, один из владимирских епископов (Иаков или Симеон) будет обращаться к не названному по имени князю, сыну Александра Невского (Дмитрию или Андрею), он будет ставить ему в пример его предков — «прадедов и дедов», неустанно заботившихся о «Святей Богородице Володимирской»: как они «украсили церковь Божию клирошаны и книгами», как «богатили домы великыми, десятинами по всем градом и суды церковными…»55. «Прадеды» (во множественном числе!) — это первые устроители церкви, Всеволод и Андрей, чьими стараниями град Владимир и был превращён в «город Святой Богородицы», находящийся под Её особым и неусыпным покровом.
Воздержимся от каких-либо собственных оценок — это дело профессионалов. Новый пятиглавый собор — конечно же, после многочисленных поновлений ещё более позднего времени — каждый может лицезреть сам, посетив Владимир. Суровое его величие впечатляет — собор стал подлинным символом города и всей Владимирской Руси. Но вместе с тем ещё и памятником его создателям — князю Андрею Боголюбскому и продолжателю его дела Всеволоду: они оба погребены здесь. Что же касается искусства Всеволодовых зодчих, то оно с годами будет расти; подлинные их шедевры — великолепный Дмитриевский собор во Владимире, соборы Рождественского и Успенского Княгинина монастырей там же — ещё впереди.
Пока же скажем о том, что, обновив и «упространив» главный храм своей земли, Всеволод в глазах подданных сравнялся со старшим братом. Точно так же, как Андрей, он будет украшать церковь, заново наполнять её святостью и богатствами — так что последующие книжники будут с таким же благоговением перечислять их: и драгоценные оклады икон, и почитаемые кресты, и священные сосуды, и хранившиеся в церкви одеяния «блаженных первых князей», и священнические облачения. Упоминают летописцы и «чудное дно медяное», то есть выстланный медными плитами пол Успенского храма (он уцелеет во время Батыева погрома, но будет выломан и унесён татарами Дюденевой рати, разграбившими Владимир в 1293 году). Надо думать, что этот исключительно ценный по тем временам материал был закуплен князем Всеволодом специально для собора и на собственные средства54. Подтвердит Всеволод и все пожалования клиру своего главного храма, в том числе «городы ея и дани», возвращённые церкви его братом Михалком Юрьевичем. В летописи упоминается один из таких городов — Гороховец на правом берегу реки Клязьмы, на востоке нынешней Владимирской области — «град Святой Богородицы», как называет его летописец: этот город будет сожжён в нашествие Батыя в 1239 году.
…Когда в самом конце XIII столетия, уже после ордынского нашествия на Русь, один из владимирских епископов (Иаков или Симеон) будет обращаться к не названному по имени князю, сыну Александра Невского (Дмитрию или Андрею), он будет ставить ему в пример его предков — «прадедов и дедов», неустанно заботившихся о «Святей Богородице Володимирской»: как они «украсили церковь Божию клирошаны и книгами», как «богатили домы великыми, десятинами по всем градом и суды церковными…»55. «Прадеды» (во множественном числе!) — это первые устроители церкви, Всеволод и Андрей, чьими стараниями град Владимир и был превращён в «город Святой Богородицы», находящийся под Её особым и неусыпным покровом.
Вторая Рязанская война
Первый поход Всеволода на Рязань в 1180 году привёл к подчинению ему Рязанской земли. Братья Глебовичи целовали крест «на всей воле Всеволожи» и обязались каждый держаться своей волости. Вместе участвовали они и в походах владимирского «самодержца». Но мир в Рязанской земле продержался недолго. Причиной новой войны вновь стала вражда между князьями, и вновь из-за Пронска. Пожалуй, нигде на Руси вражда между братьями не достигала такого ожесточения, как в Рязанском княжестве, а мирить князей на первых этапах этой бесконечной междоусобицы приходилось Всеволоду Юрьевичу. «И бысть крамола зла вельми в Рязани: брат брата искаше убити» — так начинает рассказ о Рязанской войне 1185 года Лаврентьевская летопись. По убеждению летописца, крамола эта всегда и везде есть дьявольское наваждение: так было и в прежние дни, когда ненавистник рода человеческого воздвиг Каина на Авеля, а потом окаянного Святополка на Бориса и Глеба, — и всё ради власти, «абы единому власть прияти, а братию избити»; так случилось и теперь, когда старшие Глебовичи, Роман, Игорь и Владимир, задумав извести братьев, начали войну против младших, Всеволода и Святослава, княживших в Пронске56. Впрочем, такова версия суздальского летописца — мы же не будем забывать о том, что великий князь Всеволод Юрьевич поддерживал в этой войне своего рязанского тёзку. А потому к версии, изложенной в Лаврентьевской летописи, нельзя относиться как к вполне объективной. Как видим, по сравнению с первой междоусобицей расклад сил в семье рязанских князей изменился, но ненамного: Владимир и Святослав поменялись лагерями (предварительно, видимо, поменявшись и волостями); Всеволод же сохранил княжение в Пронске, оставшись во враждебных отношениях со старшими Романом и Игорем (ещё один Глебович, Ярослав, участия в событиях не принимал). Старшие предложили уладить спор на княжеском «съезде», собравшись все вместе, впятером; однако веры им не было: младшие посчитали, что их приглашают на съезд «лестью», обманом, только для того, чтобы схватить или даже убить. Может быть, это было лишь плодом их воображения, а может быть, и правдой. Историописатели более позднего времени также расходились во мнениях. Одни винили во всём старшего, Романа, который и натравил братьев на злое дело (или даже его злую жену — напомню, дочь великого князя Святослава Всеволодовича); другие — младшего, Всеволода, бывшего будто бы зачинщиком смуты. Так или иначе, но, опасаясь нападения, Всеволод и Святослав начали «город твердити», то есть готовить Пронск к осаде. Это было расценено старшими Глебовичами как объявление войны: «…И они услышали, что город укрепляют, и пошли к Пронску, собрав воинов множество; те же затворились в граде. И начали воевать град их и сёла». Так война вновь пришла в рязанские пределы. Младшие Глебовичи обратились за помощью к Всеволоду Юрьевичу — гаранту мирного договора 1180 года. Всеволоду война в Рязанском княжестве была не нужна, и он постарался не допустить её. «Правоверен, бояся Бога и не хотя видеть кровопролития в них» (выражение суздальского летописца), он отправил в Рязань своих послов. Летопись приводит слова, с которыми владимирский князь обратился к Роману, Игорю и Владимиру Глебовичам: — Братия! Что так делаете? Не удивительно, если бы нас поганые воевали. А вы ныне хотите братию свою убить?! Однако этот исполненный пафоса призыв не произвёл на братьев должного впечатления: «Они же, услышав это, разгорелись буйством, и начали гневаться на него, и бОльшую вражду иметь». Если верить суздальскому летописцу, Глебовичи начали «замышлять рать» уже против самого великого князя Всеволода. Это надо понимать так, что Всеволод Юрьевич оказал младшим князьям не только моральную, но и военную помощь — направил в Пронск триста ратников из владимирской дружины, что должно было остановить войну в Рязанской земле. Но не остановило. И теперь враждебные действия старших князей против младших должны были восприниматься как направленные против «Всеволода Великого» (как именует летописец владимирского князя, дабы отличить его от рязанского тёзки). Поскольку мольбы пронских князей о помощи продолжались, Всеволод Юрьевич отправил в Рязанскую землю настоящую рать; возглавлять её он поручил свояку Ярославу Владимировичу (который годом ранее был выведен из Новгорода по требованию новгородцев) и муромским князьям Владимиру и Давыду Юрьевичам. Когда те были у Коломны, то есть вошли уже в пределы Рязанской земли, старшие Глебовичи наконец опомнились и отступили от Пронска. Всеволод Глебович выехал к Коломне, навстречу своим избавителям, оставив в Пронске брата Святослава. Считая свою миссию выполненной, муромские князья и Ярослав Владимирович вернулись домой: первые в Муром, второй во Владимир. Воевать в Рязанской земле им тоже не хотелось. Вместе с Ярославом отправился во Владимир и Всеволод Глебович — благодарить великого князя за помощь, а главное — на «свет» с ним: обсуждать сложившуюся ситуацию, а может быть, и с надеждой на получение новых волостей или даже княжения в Рязани. Однако война была далека от завершения. Узнав об уходе чужих князей, Роман с братьями возвратился к Пронску. Отказываться от своих планов братья не собирались. Особенно тревожил их предстоящий «свет» их брата со Всеволодом Великим: ничего хорошего от этого они не ждали. Итак, осада Пронска возобновилась. Святослав Глебович затворился в городе вместе со своими людьми и людьми брата, а также владимирцами из присланной Всеволодом Юрьевичем дружины. «И бишася крепко», — свидетельствует летописец. Но выдержать осаду у них не получилось. Осаждавшие перекрыли доступ к воде (крепость стояла на высоком мысе), так что защитники города начали изнемогать не только от голода, но и от жажды. И тогда старшие братья обратились к Святославу с предложением: — Не мори себя голодом с дружиною. И людей не мори, но выходи к нам! Ты нам брат — разве съедим тебя? Только отступи от брата Всеволода. («Ибо не ты нам враг, но Всеволод», — прибавляет к их речи поздний московский летописец.) Святославовы бояре тоже уговаривали князя: — Брат твой ушёл во Владимир, а тебя бросил! И Святослав согласился отворить город и перейти на сторону большинства. Он целовал крест братьям, а те передали ему Пронск, в котором он теперь должен был княжить один, без брата. Особенно горькой оказалась участь сидевших в осаде людей Всеволода Глебовича и его близких. Победители захватили в плен его жену и детей и повязали всю его дружину и бояр; всех их увели в Рязань в качестве пленников вместе со всем их добром. Но точно так же были схвачены и владимирцы — из числа трёхсот, присланных в Пронск Всеволодом Юрьевичем. А это владимирский «самодержец» не мог воспринять иначе как открытый вызов и личное оскорбление. Всеволод Глебович немедленно занял Коломну. Его появление в этом стратегически важном городе на границе Владимирской и Рязанской земель могло произойти только с ведома великого князя. «И сел в Коломне, — пишет о Глебовиче летописец, — и начал воевать, и бысть ненависть между ними люта». Всеволод Юрьевич тоже начал собирать войско, готовясь к большой войне. Но сначала он обратился со словами увещевания к князю Святославу Глебовичу, ставшему теперь главным его обидчиком: — Верни мою дружину добром, как и получил её у меня! Если миришься с братьею своею, то моих людей зачем выдаёшь? Я к тебе послал, ведь ты у меня выпросил [их], челом бив. Если ты воюешь, то и они воюют; если ты мирен, то и они мирны! Глебовичам пришлось задуматься. Захватив людей Всеволода Великого, они поступили очень неразумно. Понимая это, князья поспешили вернуть владимирцев обратно князю, напоминая ему, что прежде исправно участвовали во всех его военных предприятиях и проливали за него кровь (как это было на Влене и в Болгарском походе). Князья во всём винили своего брата Всеволода, начавшего, по их словам, усобицу, и с поклоном, как к отцу, обращались к владимирскому «самодержцу», не забывая, впрочем, что и сами принадлежат к единому с ним княжескому роду: — Ты — отец, ты — господин, ты — брат! Где твоя обида будет, мы прежде тебя головы свои сложим за тебя! А ныне не имей на нас гнева! Если и воевали против своего брата, то потому, что он нас не слушает. А тебе кланяемся, а людей твоих отпускаем! Но это уже не могло удовлетворить Всеволода Юрьевича. Он исходил из того известного на Руси постулата, что «брань славна лучше есть мира студна (постыдного. — А. К.)» — эта сделавшаяся знаменитой фраза повторена в летописном рассказе о Рязанской войне дважды. Остановить войну попытались его союзники Ольговичи — великий князь Святослав Всеволодович (тесть Романа Глебовича) и Ярослав Черниговский (с которым как раз тогда Всеволод вёл переговоры о династическом браке). Весной 1186 года они направили своих послов во Владимир. Вместе с ними с миротворческой миссией к князю прибыл черниговский епископ Порфирий. 22 мая, в самый день Вознесения Господня, он явился во Владимир и — что казалось символичным — остановился во владимирском Вознесенском монастыре. Рязанская земля в церковном отношении подчинялась черниговскому епископу, и Порфирий имел все основания обратиться к Всеволоду Юрьевичу, дабы «умирить» его с Глебовичами. Как мы помним, однажды Порфирий уже выступал миротворцем, пытаясь «отмолить» того же Романа Рязанского и его отца Глеба Ростиславича, захваченных Всеволодом в плен. Всеволод тогда плохо обошёлся с ним, однако Романа всё-таки отпустил. На этот раз черниговского владыку поддержал епископ Лука. Всеволод скрепя сердце вынужден был согласиться на переговоры. В Рязань «с миром» отправились епископ Порфирий, а также «мужи» самого Всеволода и послы Святослава и Ярослава. Вместе с ними уехали домой рязанские послы, которых удерживал владимирский князь57. Однако переговоры завершились полным провалом. Суздальский летописец винит во всём епископа Порфирия: это он, утаившись Всеволодовых и черниговских «мужей», извратил Всеволодовы речи и повёл разговор совсем не так, как они договаривались с владимирским князем, — «не по-святительски, но как переветник и лжец… исполнившись срама и бесчестия». Оценка, что и говорить убийственная! Но каковы были условия мира, которые извратил епископ Порфирий? Что он предложил рязанским князьям или что скрыл от них? На что пытался толкнуть или от чего отговаривал? Как мог обмануть своего князя Святослава, более других заинтересованного в мире между зятем Романом и сватом Всеволодом Владимирским? Ничего этого мы не знаем; обо всём, что происходило тогда, нам известно только со слов суздальского летописца — а в его объективности, повторюсь, позволительно усомниться. Известно же нам лишь то, что Порфирий вынужден был спешно покинуть Рязань. Причём домой он ехал не через суздальские земли, а «иным путём». Разгневанный Всеволод хотел даже снарядить за ним погоню, но потом передумал — «положил упование на Бога и на Святую Богородицу». Как раз в эти дни во Владимире проходили пышные торжества: Всеволод выдавал свою дочь Всеславу замуж за князя Ростислава Ярославича, сына Ярослава Черниговского. На свадьбу, состоявшуюся 11 июля 1186 года, Всеволод пригласил нескольких князей, своих союзников, — причём тех самых, что участвовали в недавнем походе на Рязань, когда союзная рать едва вступила в рязанские пределы и тут же повернула обратно, посчитав, что дело сделано и цели достигнуты. Это были свояк Всеволода Ярослав Владимирович и муромский князь Давыд Юрьевич. Надо думать, что князья не только пировали и не только одаривали новобрачных и сами получали подарки. Куда важнее для Всеволода Юрьевича было обсудить с ними условия предстоящего похода на Рязань. На этот раз Всеволод намеревался сам выступить против Глебовичей, но ему нужны были ратники из других княжеств. «И потом разошлись каждый восвояси», — свидетельствует летописец. Собственно, «восвояси» уехал один Давыд — очевидно, пообещав, что в будущей войне примет участие если не он сам, то его брат Владимир. Для самого Всеволода Юрьевича подготовка к походу была омрачена начавшейся в городе эпидемией неизвестной болезни. «Бысть болезнь сильна в людях вельми, ибо не было ни одного двора без больного, — свидетельствует летописец. — А в ином дворе некому было и воды подать, но все лежали, болея». Семья князя, вероятно, пребывала вне города, а вот самому Всеволоду приходилось заниматься организацией войска. Надо думать, что напасть задержала выступление владимирской рати и уж точно не способствовала укреплению воинского духа: Бог в очередной раз испытывал жителей города — не огнём, так «болезньми тяжкими». Впрочем, о массовых случаях смертельного исхода летопись не сообщает. А это значит, что болезнь не имела катастрофических последствий, и войско — пусть и с опозданием — выступило в поход. Вместе со Всеволодом Юрьевичем шёл его свояк Ярослав Владимирович, из Мурома привёл свою дружину князь Владимир Юрьевич, в Коломне к ним присоединился Всеволод Глебович. О ходе самой войны летопись пишет очень скупо. Князья переправились через Оку и двинулись к Попову — под этим названием, вероятнее всего, надо понимать крепость Опаков на левом берегу Оки, недалеко от впадения в неё Прони58. «И взяли сёла все и полон многий, и возвратились восвояси опять, землю их пусту створивши и пожёгши всю». По свидетельству Никоновской летописи, тогда же с юга в рязанские пределы вторглись половцы: и тоже «много зла сотворили и отошли восвояси»59. Такой удар с двух сторон рязанским князьям выдержать было очень трудно. Могли Всеволод считать себя отмщённым? Трудно сказать. О заключении мира с рязанскими князьями летопись не сообщает, и складывается впечатление, что разорение и опустошение Рязанской земли было главной целью войны. Но позднее мы вновь видим рязанских князей в подчинении у «Всеволода Великого» — а это значит, что они приняли его условия и согласились быть «в его воле». Вернул себе Пронск и князь Всеволод Глебович — и это, надо полагать, тоже стало одним из результатов второй Рязанской войны. Однако мир между князьями установился лишь до поры до времени. Когда на политическую арену вступит новое поколение рязанских князей, распри между ними возобновятся и Всеволоду придётся вновь утверждать свою власть над ними на поле брани.«Сестричич» Владимир
Особые отношения связывали Всеволода Юрьевича ещё с одним его племянником — Владимиром Ярославичем, сыном его старшей сестры Ольги и галицкого князя Ярослава Владимировича. О полной драматизма судьбе этого князя, которому пришлось «блуждать» по разным землям в поисках пристанища и защиты от гнева отца, мы уже говорили на страницах книги. Владимир по возрасту был старше своего дяди, но Всеволод, несомненно, относился к нему как к младшему в княжеской иерархии. По мере сил он готов был принять участие в его судьбе — но не в ущерб себе и интересам своего княжества. Напомню, что мать Владимира, не выдержав унизительности своего положения вдовы при живом муже, дважды бежала от Ярослава — сначала вместе с сыном в Польшу, а затем, уже одна, к брату Всеволоду. Что же касается самого Владимира, то он, изгнанный отцом, искал приют у разных князей и в разных княжествах. Летописец рассказывает о его мытарствах в статье под 1184 годом, но здесь, конечно же, объединены события разных лет60. Около 1184 года Владимир явился и в Суздаль, к дяде. Явился он из Смоленска, а прежде побывал и во Владимире-Волынском — у князя Романа Мстиславича, и в Дорогобуже — у Ингваря Ярославича, и в Турове — у Святополка Юрьевича, но ни один из этих князей не решился принять его у себя, «блюдяся отца его». Возможно, что их нежелание приютить изгнанника подкреплялось ещё и его нравом: по свидетельству галицкого летописца, Владимир был «любезнив питию многому», а также склонен к насилию и разврату. Вот и смоленский князь Давыд Ростиславич тоже спровадил беспокойного гостя — в Суздаль, к Всеволоду. Однако и у родного дяди Владимир, по выражению летописца, не «обрете собе покоя». Что стоит за этим выражением? Не будем гадать. Важно, что Всеволод также не захотел портить отношения с Ярославом Галицким. Не найдя поддержки у дяди, Владимир Ярославич отправился в Путивль — к своему зятю Игорю Святославичу (это произошло уже после возвращения Игоря из половецкого плена). С черниговскими Ольговичами Владимира связывали даже двойные узы свойства, ибо женой Игоря была его родная сестра — знаменитая Ярославна, а сам он был женат на дочери великого князя Святослава Всеволодовича. Женой, однако, Владимир открыто пренебрегал: подобно отцу, он завёл себе любовницу, некую попадью, от которой прижил двух сыновей. Тем не менее Игорь принял изгнанника «с любовью и положил на нём честь великую» — может быть, даже в пику киевскому князю, своему двоюродному брату. В Путивле Владимир провёл два года, а на третье лето, как сообщает летописец, Игорь «ввёл его в любовь со отцем его». Инициатива примирения исходила, по-видимому, от самого Ярослава Владимировича, который на пороге смерти захотел привести в порядок свои мирские дела. Как можно понять из летописной хронологии, в Галич Владимир прибыл в сопровождении совсем ещё юного Игорева сына Святослава, скорее всего, уже после кончины отца61. Всеволод Юрьевич на этом этапе в судьбу «сестричича» предпочёл не вмешиваться. Галицкий князь умер 1 октября 1187 года. Перед смертью он тяжело болел. Чувствуя близость конца, Ярослав созвал своих «мужей» и «всю Галицкую землю»: «и сборы вся, и манастыря (то есть представителей и белого, и чёрного духовенства. — А. К.), и нищая, и силныя, и худыя»; князь плакался перед ними и каялся в своих грехах — а затем повелел в течение трёх дней раздавать все свои богатства по церквам и неимущим. Но главное, Ярослав потребовал от своих «мужей» целовать ему крест в том, что они примут на княжение его младшего сына Олега — пресловутого «Настасьича», прижитого им вне брака. Законному же своему сыну Владимиру князь оставлял град Перемышль — один из старых княжеских центров на западе Галицкой земли, у границы с Польшей. Владимира привели к крестному целованию, «яко ему не искать под братом Галича»; клятву на кресте дали и галичане. Но, как оказалось, и те и другие делали это не с чистым сердцем. Сразу же после смерти Ярослава Владимировича «бысть мятеж велик в Галицкой земле»: галичане, «сдумавше» с Владимиром, переступили только что данное крестное целование и изгнали Олега из своей земли. «Настасьич» бежал во Вручий к князю Рюрику Ростиславичу, а Владимир Ярославич сел на княжение в Галиче, «на столе деда своего и отца своего». Но и его княжение продлилось недолго. Летописец ставит в вину Владимиру прежде всего пьянство и прелюбодейство: он не только нажил детей с попадьёй, но и творил насилия жёнам и дочерям галичан (впрочем, в летописи это стандартное обвинение). Важнее, наверное, было то, что новый князь пренебрегал советами галицких «мужей». Большая их часть склонилась на сторону волынского князя Романа Мстиславича (сына бывшего великого князя Киевского Мстислава Изяславича). Это один из самых ярких русских князей XII столетия, к тому времени уже снискавший себе воинскую славу (напомню, что именно Роман Мстиславич княжил в Новгороде в 1170 году, когда под стенами города было разгромлено громадное союзное войско, посланное Андреем Боголюбским). Роман находился в свойстве с Владимиром: он выдал свою совсем ещё юную дочь Феодору за его сына (даже не названного в летописи по имени). Роман и научил галичан выгнать свата из княжества и сам занял галицкий престол, оставив во Владимире-Волынском младшего брата Всеволода. По уверению средневековых польских хронистов, Роман опирался на польское войско, предоставленное ему родным дядей, князем Краковским и Сандомирским Казимиром II Справедливым (ибо матерью Романа была Агнешка, сестра Казимира, да и сам Роман в детстве воспитывался при польском дворе)62. Владимир вместе с женой (попадьёй?) и двумя сыновьями бежал в «Угры» (Венгрию), где обратился за помощью к другому восточноевропейскому монарху — венгерскому королю Беле III. Галицкое княжество издавна было связано и с Польшей, и с Венгерским королевством, которые соперничали за влияние в этом регионе; неудивительно поэтому, что король поспешил вмешаться в галицкие дела. Но если Владимир надеялся, что король будет отстаивать его интересы, то он ошибался. Узнав о том, что венгерское войско во главе с самим королём перешло Карпаты и движется к Галичу, Роман Мстиславич не стал искушать судьбу и удалился к себе на Волынь. Однако путь во Владимир-Волынский неожиданно оказался для него закрыт: его младший брат Всеволод отказался пустить его в город; поддержали Всеволода и жители, оскорблённые тем, что Роман так легко пренебрёг их городом в пользу Галича. Князю было теперь не до ратных подвигов. Он вновь обратился за помощью к Казимиру, но тот пока что вмешиваться в конфликт не стал и помощи племяннику на этот раз не оказал. Позднее Роман Мстиславич сумеет вернуть себе Владимир-Волынский — но с помощью не поляков, а своего тестя Рюрика Ростиславича (Роман был женат на его дочери Предславе); брату же Всеволоду он передаст Белз, один из важных городов Волынского княжества. Итак, король Бела без какого-либо сопротивления вошёл в Галич. С «мужами»-галичанами он заключил «наряд», и те согласились принять на княжение его сына Андрея (будущего венгерского короля Андрея II). Как казалось многим, с иноземным правителем им будет легче договориться, чем с собственными князьями — упрямым и взбалмошным Владимиром Ярославичем и известным своей жестокостью Романом Мстиславичем. Владимира же Ярославича король увёз обратно в Венгрию и заточил там вместе с женой и детьми в некую башню («вежу каменную», по выражению летописца). Русскому князю, однако, удалось выбраться из заточения. Подкупив нескольких человек из стражи, он спустился с башни по верёвкам (изрезав для этого шатёр, установленный на вершине «вежи») и бежал в Немецкую землю — к императору Фридриху Барбароссе. Тогда-то и выяснилось, сколь важным было для него родство с суздальским князем Всеволодом Юрьевичем. Именно оно решило судьбу беглеца. В Киевской (заметим, не в Суздальской!) летописи читаем о прибытии Владимира Ярославича «ко цареви Немецкому», то есть к императору Фридриху: «Царь же уведав, оже есть сестричичь великому князю Всеволоду Суждальскому, и прия его с любовь[ю] и с великою честью…»63 Сам император готовился в то время выступить в Крестовый поход против сарацин, захвативших Иерусалим. Ему было не до галицких дел, к тому же император дорожил миром с королём Белой, через земли которого ему предстояло пройти. Однако он вник в положение галицкого изгнанника. В свою очередь, Владимир пообещал выплачивать императору в качестве компенсации (или, если угодно, дани) две тысячи гривен серебра в год — а это очень внушительная сумма. В преддверии Крестового похода деньги императору были особенно нужны. Он поручил Владимира заботам польского князя Казимира — того самого, который совсем недавно помогал сопернику Владимира Роману Мстиславичу. Приставив к Владимиру своих «мужей», рассказывает летопись, Фридрих направил его «в Ляхи», приказав Казимиру «доправити Галич по своей воле». Казимир с готовностью откликнулся на призыв императора: подчинение Галицкого княжества Венгрии явно нарушало баланс сил в регионе не в его пользу. Третий Крестовый поход начался в 1189 году. В мае Фридрих во главе крестоносного войска выступил из Регенсбурга и двинулся вниз по Дунаю. Соответственно, описываемые летописью события должны были происходить незадолго до этого. После смерти Ярослава Осмомысла прошло около полутора лет — совсем немного! — однако в Галиче сменилось уже четыре князя. Вокняжение венгерского королевича раскололо город. Очень скоро венгры начали вести себя в Галиче как захватчики в завоёванном городе. Андрей не принадлежал к Рюрикову роду, а потому чувствовал себя здесь чужим. Тем более это относилось к его окружению. Противоречия между католиками и православными в XII столетии ещё не дошли до той степени взаимной вражды, как в последующие века. И тем не менее латиняне со своими чуждыми и непонятными русским обрядами воспринимались как еретики — в свою очередь, и сами венгры не могли смотреть на русские обычаи и русское богослужение иначе как на еретические. Результаты такого взаимного неприятия не замедлили сказаться. «И начали насилие творить во всём, — не жалеет красок галицкий летописец. — И у мужей галицких начали отымать жён и дочерей на постели себе, и в божницах начали коней ставить и в избах, [и] иные многие насилия творить. Галичане же начали тужить вельми и много каяться об изгнании князя своего». Часть галичан — особенно из числа тех, чьи родичи были уведены в Венгрию в качестве заложников, — продолжала поддерживать королевича. Другие же решили пригласить на галицкий стол ещё одного князя — уже пятого за полтора года: князя-изгоя Ростислава Ивановича, или «Берладчича», как его называли, — сына знаменитого Ивана Берладника (умершего ещё в 1162 году), тоже изгоя, много воевавшего с Галицкими князьями, но так и не сумевшего утвердиться в Галиче, на который он как старший двоюродный брат Ярослава Осмомысла имел все права. «Берладчич» жил в Смоленске у князя Давыда Ростиславича. Он откликнулся на приглашение галичан и, «отпросившись» у Давыда, выступил со своей дружиной и даже занял два города на «Украине Галичской». Но сил, для того чтобы взять Галич, у него не хватило. Во время одного из приступов «Берладчич» был ранен; венгры внесли его в город еле живого и, боясь, чтобы горожане не отбили его и не провозгласили князем, умертвили: «приложивше зелье смертное к ранам, и с того умре». Присутствие венгров в Галиче внесло раскол не только в среду самих галичан. Едва не дошло до открытого столкновения князей-соправителей Южной Руси — Святослава Всеволодовича и Рюрика Ростиславича. Первый ещё раньше заключил договор с королём Белой, надеясь на переход Галича в руки своего сына Глеба — пускай и от короля как верховного суверена. Рюрик, узнав об этом, посчитал, что Святослав нарушил существующий между ними мир. Между князьями начались «распри многие», и только вмешательство митрополита Никифора заставило князей примириться и целовать крест в том, что они вместе будут добывать отнятую иноплеменниками русскую «отчину». Князья готовились уже выступить в поход на Галич, однако между собой опять не договорились. Святослав был согласен отдать Галич теперь уже Рюрику — но в обмен на «всю Русскую землю около Киева»; Рюрик на это, естественно, не согласился. «И тако не урядившеся, и возвратишася восвояси». На этом фоне и произошло возвращение в Галич Владимира Ярославича — пускай и далёкого от идеала, но всё же «своего» князя. И русские, и польские источники согласны в том, что вернулся он с польской помощью и что польское войско возглавлял знаменитый краковский воевода палатин Николай из рода Лисов (Миклай, как он назван в летописи). Разница лишь в том, что преисполненные чувством превосходства собственной нации над всеми прочими польские хронисты приписывают заслугу исключительно своим, которые и изгнали казавшихся непобедимыми «паннонцев» (венгров), после чего «такой ужас охватил все восточные королевства, что они, словно дрожащие листья, трепетали под властью Казимира»64, а русский летописец видит решающую роль галицких «мужей», которые встретили своего князя «с радостью великою… а королевича прогнали из земли своей». Так или иначе, но венгры были изгнаны из Галича, и Владимир Ярославич вторично воссел «на столе деда своего и отца своего». Случилось это «на Спасов день», то есть 6 августа65. Если это произошло в том же году, в котором император Фридрих отправился в Крестовый поход, то мы должны датировать вокняжение Владимира 6 августа 1189 года. Краковский князь Казимир претензий на Галич, кажется, не предъявлял. Объяснялось это и тем, что он был слишком занят борьбой за польский престол со своим старшим братом Мешко (Мешко Старым), и тем, что такова была воля императора Фридриха. Но ещё и тем, что какое-то соглашение на сей счёт существовало между императором и владимиро-суздальским князем Всеволодом Юрьевичем: не случайно император выразил готовность помочь галицкому князю лишь после того, как узнал, чьим племянником тот является. В июне следующего, 1190 года Фридрих Барбаросса погиб, утонув при переправе через горную речку Селиф в Малой Азии. Но на судьбу галицкого князя эта смерть не повлияла (разве что позволила ему отказаться от ежегодной выплаты двух тысяч гривен). Ибо у Владимира нашёлся другой могущественный покровитель, а именно его дядя, владимиро-суздальский князь Всеволод Юрьевич. К нему Владимир и обратился за помощью. «…И послал ко Всеволоду, к уеви (дяде по матери. — А. К.) своему, в Суждаль, — рассказывает летопись. — И моляся ему: — Отче, господине! Удержи Галич подо мною! А яз Божий и твой есмь со всем Галичем, а во твоей воле есмь всегда!»66. И Всеволод действительно «удержал» под ним Галич. Он отправил своих послов «ко всем князьям» — надо понимать, и к Святославу Всеволодовичу в Киев, и к Рюрику Ростиславичу в Белгород, и к его брату Давыду в Смоленск, и к Роману Мстиславичу на Волынь, но также ещё и «к королеви», то есть к королю Беле в Венгрию, и «в Ляхи», то есть к Казимиру; «и водил их ко кресту на своём сестричиче: Галича не искати николи же под ним». Такое крестное целование было дано — и не только русскими князьями, но и восточноевропейскими монархами. (Заметим, кстати, что клятва, данная на кресте латинянами «римского закона», признавалась точно так же, как и клятва, данная православными.) Этого оказалось достаточно. «Владимир же утвердился в Галиче, и оттоле не бысть на него никого же». Так, не участвуя в военных действиях и до поры вообще не вмешиваясь в события, Всеволод Юрьевич распространил свою власть ещё и на Юго-Западную Русь — сильнейшее в военном, экономическом и политическом отношении Галицкое княжество. Подобно рязанским князьям, Владимир Галицкий признал его «отцом и господином» и обязался быть «в его воле» — и отныне ни Святослав Киевский, ни польский или волынский князья уже не покушались на Владимирову «отчину»: в противном случае им пришлось бы «испрашивать» на это позволение у Всеволода Юрьевича — или вступать с суздальским князем в открытое противостояние. Другое дело, что «старейшинство» и «господство» Всеволода относились лишь к правителю княжества, его «сестричичу». Когда же в 1198-м или 1199 году Владимир умрёт, не оставив законных наследников, влияние Всеволода Юрьевича на галицкие дела сойдёт на нет, и занявший Галич с помощью поляков князь Роман Мстиславич никакого позволения на это у Всеволода спрашивать не будет.Кириопасха
Освящение перестроенного Успенского собора в августе 1188 года — одно из последних деяний епископа Луки. Он умер год спустя, 10 ноября 1189 года[21], оплакиваемый князем и людьми, а на следующий день, 11 ноября, был погребён в том же соборе, становившемся усыпальницей и для членов княжеского семейства, и для церковных иерархов. За год до смерти владыка совершил ещё одно благое дело для князя Всеволода Юрьевича — так сказать, семейного характера. 26 ноября 1188 года, в осенний Юрьев день, у княгини Марии родился четвёртый сын. «И велел отец его Всеволод епископу Луке наречи имя ему Юрий — дедне имя», — сообщает летописец. «Дедне имя» — это имя Юрия Долгорукого; владимирский князь, несомненно, должен был увидеть добрый знак в том, что новорождённый появился на свет в день, посвящённый святому покровителю своего деда, основателя всего рода князей Юрьевичей. «И бысть радость в Суздальской земле во всей, и створи брак велик (здесь в значении: празднование, пир. — А. К.) Всеволод». И для князя, и для княгини радость эта была особенной, ибо она пришла на смену печали. За два месяца до рождения Юрия умер третий сын Всеволода Глеб (а ещё за год до того — и второй, Борис). Наречение «дедним» именем, да ещё совершённое ростовским владыкой, должно было снять печать некоего проклятия, тяготившего княжескую чету. И действительно: 8 февраля 1190 года у Марии родится пятый сын, наречённый Ярославом (а в крещении Фёдором) — родится столь же здоровым, как и Юрий. Здоровыми и жизнеспособными появятся на свет и следующие их сыновья. По прошествии установленного срока поминания «благоверного и блаженного епископа Луки», зимой 1189/90 года, князь Всеволод Юрьевич отправил своих посланников в Киев — к митрополиту Никифору. На этот раз он сразу назвал имя преемника Луки — им должен был стать его, Всеволода, духовник Иоанн. Вместе с «мужами» Всеволода Иоанн тоже отправился в Киев. По сведениям (или догадке?) В. Н. Татищева, Иоанн прежде был священником владимирского Успенского собора. Поставление в епископы из священников, «бельцов» (представителей белого духовенства), практиковалось в древней Руси. (Таковы были многие из новгородских владык: например, современники Всеволода братья Илья и Гавриил, принявшие иноческий постриг лишь перед самой смертью.) Выбор «земли» и князя — Божий выбор; сам Всеволод Юрьевич был в этом уверен, а потому и извещал киевского митрополита, что «на сего блаженаго», то есть на его духовного отца, «призре Бог и Святая Богородица», желая поставить его «служителем Своей церкви и пастухом всей земли Ростовской, и Суздальской, и Владимирской». В Киеве споров уже не возникало. 23 января 1190 года Иоанн был рукоположен митрополитом Никифором. Название кафедры при этом звучало так: Ростовская, Суздальская и Владимирская. Дальнейший путь епископа Иоанна в Суздальскую землю описан в летописи очень подробно, так что можно не сомневаться в том, что автор летописи (если им в этой её части не был сам епископ Иоанн) лично сопровождал владыку. В Ростов епископ прибыл через месяц, 25 февраля, подгадав своё прибытие к Неделе крестопоклонной — третьему воскресенью Великого поста, когда служба в церкви отличается особой торжественностью, а из алтаря выносится святой крест. В эти дни в Ростове пребывал и сам князь Всеволод Юрьевич с семейством. Подобно отцу, Всеволод соблюдал традицию, ежегодно зимой объезжая свои земли. В Ростов, «в полюдие», он прибыл из Переяславля, где тоже был «в полюдьи» (именно там 8 февраля появился на свет княжич Ярослав). Ростов был кафедральным городом для Иоанна, а потому не кажется случайным то, что он оказался здесь раньше, чем в других главных городах княжества. Ну а то, что именно здесь произошла его встреча с князем Всеволодом, было несомненным знаком уважения новому владыке со стороны князя. За несколько лет до этого, в 1186 году, стараниями епископа Луки был расписан главный, кафедральный храм Ростова, посвящённый Успению Пресвятой Богородицы. Каменный храм на месте сгоревшей деревянной церкви — между прочим, первой в Ростовской земле! — был возведён Андреем Боголюбским ещё в 60-е годы XII столетия, но долго стоял нерасписанным. Именно тогда, при строительстве новой церкви, в земле были найдены мощи епископа Леонтия, жившего в XI веке и, по преданию, убитого язычниками; мощи эти были переложены в каменную гробницу, присланную Андреем, и вскоре сделались одной из почитаемых святынь не только Ростова, но и всего княжества. Тогда же, в годы княжения Андрея, было составлено Житие святого. Велись при церкви, как это всегда бывает в таких случаях, и особые записи о происходивших возле гробницы чудесах и исцелениях; впоследствии они легли в основу новой редакции Жития, составленной уже при Всеволоде или его преемниках. Епископ Иоанн был изначально связан с Залесской землёй, а потому горячо почитал ростовского святителя. Одним из первых его деяний в качестве епископа и стало установление празднования святителю Леонтию по всей епархии (а затем и во всей Русской церкви) 23 мая — в день обретения мощей и внесения их в новоустроенную церковь. Поздние редакции Жития святого Леонтия сообщают о том, что произошло это почти сразу по приезде Иоанна в Ростовскую землю, в 1190 году68. К тому времени у гроба святого случилось уже несколько чудес. Но прославлялся святитель Леонтий не просто как чудотворец, но как «сотворивший дело равно апостолам», то есть как просветитель и первый креститель Ростовской земли, обративший в христианскую веру здешних язычников. «Хвалит Римская земля Петра и Павла, Греческая земля — Константинацаря, Киевская земля — Владимира князя; Ростовская же земля тебя, великий святитель Леонтий, створивший дело равно апостолам…» — перефразирует ростовский агиограф, автор новой редакции Жития, слова более раннего киевского памятника — Жития равноапостольного князя Владимира, просветителя всей Русской земли69. Почитание святителя Леонтия возвышало и прославляло Ростовскую землю — так же, как почитание святого Владимира прославляло Киевскую, делая их равными и Греческой, и Римской, и другим, каждая из которых прославляла и почитала своего угодника, — такова главная идея всего Жития. Иоанн составил и канон святителю Леонтию — древнейшее песнопение, которое легло в основу церковной службы святому. В рукописи XVI века оно надписано именем автора: «Канон святому Леонтию Ростовскому, творение Иоанна, епископа тоя же богоспасаемые епископиа»70. 10 марта, на Похвалу Пресвятой Богородицы, в субботу пятой недели поста, епископ Иоанн вошёл в Суздаль, а 16-го числа того же месяца, в пятницу, канун Лазаревой субботы, — в стольный Владимир. Это были особенные дни. Заканчивалась последняя неделя Великого поста перед Страстной седмицей — временем самого строгого воздержания и всеобщего покаяния. Спустя два дня, 18-го числа, наступило Вербное воскресенье, или Неделя ваий (по-славянски Неделя цветная), когда православные празднуют Вход Господень в Иерусалим, один из двунадесятых праздников. Столетия спустя московские патриархи будут возглавлять в этот день крестные ходы из Московского Кремля, олицетворяя тем самым шествие на осляти самого Христа. В письменных источниках обряд этот упоминается с XVI века. Вряд ли он существовал раньше, во времена митрополитов. Но само празднование, конечно же, существовало, и новый ростовский владыка должен был возглавить его. Наверное, именно в этот день, 18 марта, он и обратился к пастве со словом увещевания и наставления — первым в своём новом качестве епископа Ростовского, Суздальского и Владимирского. Слово это дошло до нас в списке XVI века; его название в рукописи: «Поучение в Неделю цветную священноепископа И(и)оанна Ростовского к правоверным крестьяном»71. Оно обращено «ко всем христолюбивым людем, живущим во области Пресвятыя Богородица Ростовскыя епископья», в том числе, конечно, и к князю. Автор объявляет о своём пришествии в епархию: «Не на покой пришёл есмь, но на воспоминание вам духовнаго учения…» Дни Великого поста подходят для этого как нельзя лучше: они установлены «на очищение грехов всего года», и новый пастырь призывает свою паству строго блюсти пост, ибо кто «не потрудится к Богу о гресех своих, не может спасён быти, токмо же в сия святыя дни постныя». Но Господь милостив: «Да аще будем обленилися во прочая дни сиа постныя, да отныне потщимся», ибо «призывает нас Господь Бог наш на светлую радость преславнаго дни Воскресениа Своего». Светлое празднование Воскресения Христова, пришедшееся в тот год на 25 марта, праздник Благовещения, — иными словами, Кириопасха, или, по-русски, Господня Пасха, Сущая Пасха, случающаяся чрезвычайно редко — пару раз за столетие, — обещало много светлого и радостного и князю Всеволоду Юрьевичу, и его подданным. Казалось, что и в их, и в его жизни наступает новая, светлая полоса. И действительно: в ближайшие несколько лет владимирский князь не будет вести войн и вообще покидать пределы княжества; летописи этого времени сообщают почти исключительно о праздничных событиях во Владимирской Руси: рождениях детей в княжеской семье, княжеских свадьбах, «постригах» сыновей князя, возведении и освящении новых храмов.Собственно, пора празднеств и торжеств наступила во Владимире ещё при жизни епископа Луки. Князь Всеволод Юрьевич, несомненно, любил праздники. Не знавший семейных радостей в годы отрочества и юности, он спешил теперь наверстать упущенное. А потому обставлял все мало-мальски значимые события семейной жизни с пышностью и великолепием. Ещё летом 1186 года, когда он выдавал замуж свою дочь Всеславу, во Владимире были устроены торжества, на которые пригласили нескольких князей — и не из числа ближайших родственников жениха и невесты. «И бысть радость велика в граде Владимире» — эти слова будут сопровождать почти все летописные записи за ближайшие годы. Впрочем, в плане организации торжеств Всеволоду было куда стремиться и с кого брать пример. В Киевской Руси случались свадьбы и помасштабнее, и суздальский князь вскоре смог убедиться в этом. Весной 1188 года начались приготовления к новым свадебным торжествам. Сразу после Пасхи (пришедшейся в тот год на 17 апреля) князь Рюрик Ростиславич заслал сватов к Всеволоду: просить руки его восьмилетней дочери Верхуславы (в крещении Анастасии) для своего шестнадцатилетнего сына Ростислава, получившего тогда же в княжение Торческ — город, в котором некогда обитал князь Всеволод Юрьевич. Брак этот, несомненно, носил династический характер и свидетельствовал о новом повороте в политике Всеволода Юрьевича — в сторону более тесного союза с князьями Ростиславичами. Обставлено же сватовство было с исключительной пышностью72. В роли сватов выступили шурин Рюрика князь Глеб Юрьевич (из князей Туровских) со своей княгиней, а также боярин Чюрына с женой «и иные многие бояре с жёнами». Всех их приняли во Владимире с почестями. Приготовления к свадьбе шли больше трёх месяцев, и лишь в июле (по Киевской летописи, на Борисов день, то есть 24-го числа, а по Суздальской — 30-го) князь отпустил дочь в дорогу. Расстаться с совсем ещё юной девочкой родителям было трудно: князь с княгиней провожали её «до трёх станов, и плакались по ней отец и мать, занеже была мила им и млада сущи, осми лет, и так, многие дары дав, отпустили её в Русь с любовью». Всеволод дал за дочерью богатое приданое: «…многое множество без числа злата и серебра, и сватам подарил великие дары». Для сопровождения юной княжны было снаряжено тоже весьма представительное посольство, в которое вошли Всеволодов «сестричич» Яков с женой «и иные бояре с жёнами». Двигались не спеша. В Белгород, город Рюрика Ростиславича, свадебная процессия прибыла только на «Офросинин день», 25 сентября, а на следующий день, на Ивана Богослова, белгородский митрополит Максим венчал молодых в церкви Святых Апостолов. По словам летописца, белгородский князь устроил тогда «вельми сильную» свадьбу, «какой же не бывало в Руси»: одних князей было приглашено на неё более двадцати. Для Рюрика Ростиславича родство со Всеволодом было особенно важно, а потому он богато одарил юную сноху, отдав ей во владение, помимо многих даров, один из городов своей земли — Брягин. Богатые подарки получили и бояре, сопровождавшие княжну. Домой они вернулись как раз в те дни, когда во Владимире праздновали рождение Всеволодова сына Юрия; «и бысть радость великому князю, и его княгине, и боярам, и всем людям», — вновь не забывает отметить летописец. Забегая вперёд, скажем, что княгиня Верхуслава-Анастасия прожила долгую жизнь. Летописи упоминают о ней как об участнице нескольких важных политических и церковных событий, что не вполне обычно для женщины домонгольской Руси. Даже после смерти мужа княгиня продолжала вести активную светскую и церковную жизнь, по собственному усмотрению распоряжаясь своим громадным состоянием. Верхуслава состояла в переписке с виднейшими церковными интеллектуалами того времени — первым епископом Владимиро-Суздальским Симоном и печерским иноком Поликарпом, двумя авторами Киево-Печерского патерика (20-е годы XIII века). Она покровительствовала Поликарпу и, по её словам, готова была потратить «до 1000 серебра», дабы поставить его епископом на одну из пустующих кафедр — в Новгород, Смоленск или Юрьев. Княгиня сама писала об этом Симону (не видя ничего зазорного в поставлении «на мзде»!), однако Симон в ответном послании возразил против таких её планов как дела явно не богоугодного73. Но вернёмся к событиям, происходившим во Владимиро-Суздальской Руси. После смерти епископа Луки и подавления на кафедру епископа Иоанна праздники продолжились с ещё большим размахом. Летописец тщательно фиксирует их, почти не отвлекаясь на другие события. 8 февраля 1190 года, «на память святаго пророка Захарьи», в Переяславле родился пятый сын Всеволода и Марии, наречённый Ярославом, а в крещении Фёдором (память великомученика Феодора Стратилата праздновалась в тот же день, 8 февраля). Следующая летописная статья (за 1190/91 год) оставлена пустой, а под 1191 годом летописец сообщает о «постригах» совсем ещё маленького, не достигшего даже трёхлетнего возраста Всеволодова сына Юрия. Ритуальное обрезание пряди волос (потом её хранили в княжеской семье в качестве оберега) означало вступление ребёнка в отроческий возраст. С этого времени его отнимали от мамок и кормилиц и передавали «дядьке»-воспитателю, который начинал обучать мальчика княжеской премудрости. В тот же день 28 июля юного Всеволодова сына впервые посадили на коня — это тоже был древний, восходящий ещё к языческим временам обряд, свидетельствующий о превращении младенца в княжича. Торжества проходили в Суздале, где пребывали тогда и князь с княгиней, и епископ Иоанн; «и бысть радость велика в граде Суздале». Присутствие здесь княжеской семьи объяснялось тем, что в Суздале строилась новая деревянная крепость. «Того же лета заложен бысть град Суздаль, и срублен бысть того же лета», — сообщает летописец. А месяц спустя после «постригов» Юрия княжеское семейство находилось уже в стольном Владимире: «В то же лето заложил благоверный великий князь Всеволод Юрьевич церковь Рождества Святой Богородицы в граде Владимире. Начата же была строением месяца августа в 22-й день… при блаженном епископе Иоанне». Был устроен и монастырь, которому предстояло стать первенствующим во всей Владимиро-Суздальской, а затем и Московской Руси. Таковым он оставался до времён царя Ивана Грозного. Одним из первых настоятелей монастыря был печерский постриженник Симон — духовник супруги Всеволода княгини Марии (а возможно, и самого Всеволода) и первый епископ Владимиро-Суздальский. Каменный собор Рождественского монастыря строили пять лет: он был завершён строительством и освящён 27 октября 1196 года. В истории России собор этот славен прежде всего тем, что в нём был похоронен внук Всеволода Большое Гнездо великий князь Александр Невский. Мощи одного из самых почитаемых русских святых хранились здесь до их перенесения в Петербург в 1724 году. Этот выдающийся памятник русской архитектуры — многократно перестроенный и поновлённый — простоял до 1930 года, когда был безжалостно разрушен. Ныне на его месте возведён новый белокаменный храм — точная копия прежнего, времён Всеволода Большое Гнездо. Год 1192-й ознаменован был новым большим пожаром, случившимся во Владимире 23 июля74. Это было событие, несомненно, трагическое, ибо во время пожара, продолжавшегося с полуночи и «мало не до вечера», погорела половина города (летописец называет число сгоревших церквей: четырнадцать), «и много зла учинилось грех ради наших». Но княжеский двор не пострадал. Успенский же собор погорел лишь внешне, так что стены пришлось заново белить известью: год спустя, на праздник Успения, «обновлена бысть церковь Святой Богородицы во Владимире, яже ополела в великий пожар, блаженным епископом Иваном и при благоверном и христолюбивом князе Всеволоде Юрьевиче, и бысть опять, аки нова, и бысть радость велика в граде Владимире». Несколькими месяцами раньше, 26 апреля 1193 года, Всеволод устроил во Владимире «постриги» сыну Ярославу, а на следующий день «и на конь его всади» — и вновь «бысть радость велика в граде Владимире». Княжичу было тогда три с небольшим года. В том же 1193 году, 25 октября, «до заутрени», у княгини Марии родился ещё один, шестой сын. Для отца это был особый, двойной праздник, ибо на следующий день праздновалась память святого Димитрия Солунского — его, Всеволода, именины. «Всеволод же велел учинить сыну своё имя — Дмитрий в святом крещении, а княжее имя учинил ему — Владимир, деда своего имя, Владимира Мономаха», — сообщает летописец75. Седьмой сын Всеволода появился на свет полтора года спустя, 27 марта 1195 года. Он был назван Святославом, а в крещении Гавриилом, также в соответствии с церковным календарём (накануне, 26-го числа, праздновался Собор Архангела Гавриила). Осенью того же 1195 года, 15 октября, Всеволод женил своего первенца, десятилетнего Константина. Отец спешил превратить мальчика в настоящего князя, а для этого его сыну следовало обзавестись княгиней — пусть даже возраст был явно неподходящим. Женой юного Константина стала Мария, дочь смоленского князя Мстислава Романовича, племянника Рюрика и Давыда Ростиславичей. «И венчан был в церкви Святой Богородицы во Владимире блаженным епископом Иоанном», — читаем в так называемом Летописце Переяславля Суздальского76. Свадьба устроена была с размахом: по свидетельству того же летописца, присутствовали на ней и рязанские князья: Роман, брат его Всеволод, брат Владимир с сыном Глебом, Игорь; и муромские: Владимир и Давыд Юрьевичи: «и бысть радость велика в граде Владимире». Не успели закончиться эти торжества — как начались другие: 26 октября, на память святого Димитрия Солунского, то есть в именины и княжича, и его родителя, «были постриги у великого князя Всеволода сыну его Владимиру при епископе Иоанне». И вновь в присутствии тех же князей, которым Всеволод пока что не позволял покидать Владимир: «…и были, веселяся, у отца своего (Всеволода Юрьевича. — А. К.) за месяц, и так разъехались каждый восвояси, одарены дарами бесценными: конями, и сосудами златыми и серебряными, портами, и паволоками, и мужей их так же одарил. И поехали, славя Бога и великого князя Всеволода». Последний, восьмой сын князя Всеволода родился 28 августа 1197 года и был назван Иваном (на следующий день праздновалась память Усекновения главы Иоанна Предтечи) — это имя стало для него и княжеским, и крестильным77. А 9 ноября того же года Всеволод праздновал «постриги» сына Гавриила-Святослава. Но это событие, вероятно, отмечалось не так пышно: после рождения младшего сына княгиня тяжело заболела. По словам летописца, она пролежала в немощи семь или восемь лет, до самой своей смерти. Известия о семейных делах княжеской четы перемежаются в летописи другими — о многочисленных строительных работах, которые продолжались во Владимире и других городах княжества. В одних случаях заказчиком выступал князь, в других — епископ Иоанн, который находил работников для «церковного здания» и оплачивал работы. Понятно, что для строительства такого количества зданий (причём каменных!), для возведения крепостей и крепостных сооружений требовались очень большие средства. И средства эти находились — и у епископской кафедры, и, главное, у князя. А это можно расценивать как ещё одно наглядное свидетельство успешного, поступательного развития всего княжества. Время смуты и междоусобицы ушло в далёкое прошлое; напротив, Залесская Русь процветала, привлекая множество людей, переселявшихся сюда из других, разоряемых половцами и собственными князьями областей Южной Руси. Собственно, процесс этот начался ещё при Юрии Долгоруком и Андрее Боголюбском и продолжился при Всеволоде. А новые люди — это и новые рабочие руки, и новые поступления в казну. Со временем менялась и социальная структура общества. Князь и его окружение — опять-таки ещё со времён Андрея Боголюбского — всё больше отдалялись от остального населения. Андрей — в буквальном смысле, запёршись в своём Боголюбове. Всеволод — не покидая Владимира. Эти изменения отразились и в архитектуре и социальной структуре стольного города. 4 июня 1193 года князь Всеволод Юрьевич приступил к возведению новой Владимирской крепости внутри прежнего «города Мономаха»: «заложил… детинец в граде Владимире». Новые каменные стены должны были окружать княжеский и епископский дворы, отделяя их от остальной части города. Спустя два года работы были в основном завершены. 1 мая 1195 года епископ Иоанн заложил на вновь возведённых «воротах Святой Богородицы» — то есть ведущих к «Златоверхому» Успенскому храму, — каменную церковь во имя Святых Иоакима и Анны78; освящена церковь была полтора года спустя, 3 ноября 1196-го. Зодчие владыки Иоанна тоже трудились не покладая рук. В сентябре 1193 года ими была обновлена церковь Святой Богородицы в Суздале. Летописец — а им, напомню, был кто-то из близких владыке Иоанну людей — не забыл указать, что суздальская церковь разрушилась не только «старостью», но и «безнарядьем» прежних церковных властей; заботами же «блаженного епископа Ивана» она стала словно новая и выглядела нарядно, по-праздничному: «покрыта бысть оловом от верху до комар и до притворов». Именно в связи с обновлением суздальского собора летописец вводит в текст похвалу своему епископу, из которой мы узнаём об участии в его строительстве русских мастеров — вероятно, в отличие от того строительства, которое вёл в те же годы князь Всеволод Юрьевич, пользовавшийся услугами иноземных специалистов и пришлых мастеров из других русских земель. «И то чуду подобно, — читаем в летописи о владыке Иоанне, — ибо молитвою Святой Богородицы и его верою не искал мастеров от Немец, но нашёл мастеров от клеврет (слуг. — А. К.) Святой Богородицы и своих: иных олово лить, иных крыть, иных известью белить. Ибо отверзнуты ему были от Бога очи сердечные на церковное дело, чтобы печься о церковных делах и клириках, как правому пастуху, а не наимнику»79. Когда читаешь летописный текст, складывается впечатление, будто князь и епископ соревновались друг с другом в церковном и гражданском строительстве. Ещё два великолепных белокаменных храма были возведены князем чуть позже: Дмитриевский на его дворе во Владимире, вероятнее всего, в 1197 году (дата его строительства в летописи не обозначена) и Успенский в Княгинине монастыре — в 1201-м (специально для княгини Марии, готовившейся к принятию здесь иноческого пострига, и на её собственные средства)[22]. Особое внимание в эти годы князь Всеволод Юрьевич уделял укреплению своих городов, возведению в них новых крепостных сооружений. Помимо Владимирского детинца и деревянной Суздальской, он возводит ещё две крепости. Летом 1194 года «заложил благоверный и христолюбивый князь Всеволод Юрьевич град Переяславль месяца июля в 29-й день, на память святого мученика Калинника». Как и Суздальская, Переяславская крепость была возведена за один строительный сезон: «того же лета» и «срублена». Ну а другое строительство князя заслуживает того, чтобы выделить его особо. В том же 1194 году, видимо, ещё весной, Всеволод отправил своего тиуна Гюрю с людьми «в Русь», то есть на юг: «и созда град на Городце на Востри, обнови свою отчину». Городец Остёрский, на левом берегу Десны при впадении в неё реки Остёр, на стыке Черниговского и Переяславского княжеств, некогда принадлежал отцу Всеволода князю Юрию Долгорукому. Он входил в состав Переяславского княжества, но мог представлять собой и отдельное, не подчиняющееся переяславскому князю образование: напомню, что Городец был оставлен Юрию Долгорукому после того, как тот потерпел в Г151 году жестокое поражение от князя Изяслава Мстиславича Киевского и был лишён Переяславля. Тогда в Городце сел на княжение сын Юрия Глеб, однако уже в начале весны 1152 года Изяслав и союзные ему черниговские князья сожгли Городец, сровняв крепость с землёй. И вот сорок с лишним лет спустя сын Юрия Всеволод вспомнил о своих «отчинных» правах на этот город. Означало ли это, что он к тому времени вернул себе и Южный Переяславль? Возможно, хотя полной уверенности в этом нет. Но его строительная активность на Остре весной 1194 года в любом случае свидетельствовала о том, что он почувствовал в себе достаточно сил для того, чтобы не только обозначить, но и затвердить своё присутствие в Южной Руси и вмешаться наконец в борьбу князей за преобладание на юге.
Всеобщая распря
Появление Всеволодовых людей «на Востри» более всего должно было обеспокоить киевского князя Святослава Всеволодовича. Всеволод не зря «сватился» с Рюриком Ростиславичем. Оба правителя сблизились друг с другом ещё в конце 1180-х годов — во многом на почве взаимной неприязни к престарелому Святославу. А тот всё чаще попадал впросак — и, как правило, из-за собственных неумных или недальновидных действий, «тщательно фиксируемых летописцем»81. Так, осенью 1190 года Святослав бросил в темницу торкского «князя» Кунтувдея, не раз предводительствующего «чёрными клобуками» в походах на половцев. Кунтувдей был верным союзником русских князей, но Святослав схватил его «по обаде», то есть по ложному доносу. Рюрик Ростиславич немедленно прислал в Киев своих людей — просить за Кунтувдея: «зане бе муж дерз и надобен в Руси». Святослав послушался свата и отпустил торчина, приведя его прежде к присяге. Но Кунтувдей «сорома» не стерпел и бежал к половцам, а те с лёгкостью освободили его от присяги («потоптавше роту»), Кунтувдей действительно был «дерз» и к тому же хорошо знал слабые места в обороне русских земель. Мстя за обиду, он повёл теперь уже половцев на Русь и захватил один из своих прежних городов в земле «чёрных клобуков», заодно вернув и собственных жён, и «челяди много». В начавшихся войнах с половцами особенно ярко проявил себя в те годы молодой зять Всеволода Ростислав Рюрикович. Для него, княжившего в Торкском городе, измена Кунтувдея была особенно болезненной. Святослав же Всеволодович помощи князю не оказал: в ту осень он покинул Киев и уехал в Черниговскую землю — «на думу» с братьями. По той же причине отвлечён от киевских дел оказался и отец Ростислава Рюрик Ростиславич. «Дума» Ольговичей была прямо направлена против него. У князей-«дуумвиров» возникли какие-то споры из-за волостей в Смоленской земле — как можно догадываться, из-за Витебска, которым владел смоленский князь Давыд Ростиславич, но на который претендовали и брат Святослава Всеволодовича Ярослав Черниговский, и полоцкие князья. Вновь едва не дошло до открытого столкновения. И Всеволод Юрьевич поддержал в этом споре свата Рюрика. «Рюрик же, сослався со Всеволодом, сватом своим, и с Давыдом, братом своим», отправил «мужей» к Святославу со старыми крестными грамотами «Романова ряда» — то есть заключёнными ещё его старшим братом Романом Ростиславичем: в грамотах этих, как мы уже имели случай заметить, оговаривались права князей и их взаимный отказ от притязаний на земли друг друга. Ростиславич спрашивал Святослава, держится ли тот прежних договорённостей или нет. Святослав поначалу грамот принимать не хотел — но это означало войну; он «много превся» с Рюриковыми людьми, даже отослал их от себя, но потом всё-таки одумался, вернул с полпути и целовал крест Рюрику и его союзникам «на всей их воле». Так обозначилась новая коалиция князей, способная против желания киевского князя принимать важнейшие решения в жизни Руси. Коалицию эту составили три правителя — сидевший на юге великий князь Рюрик Ростиславич, его брат Давыд Смоленский и Всеволод Владимиро-Суздальский. И Всеволод претендовал на главенствующую роль в этой коалиции, считая себя старше и Рюрика, и Давыда. Он и был таковым — конечно, не по возрасту, но по принадлежности к поколению внуков Владимира Мономаха. Рюрик и Давыд приходились правнуками великому устроителю Руси, а значит, вынуждены были признать «старейшинство» своего троюродного дяди. «Нарекли меня во своём племени во Владимировом старейшим» — так заявит Всеволод Рюрику Ростиславичу несколькими годами позже, и Рюрик должен будет согласиться с ним: «А ты, брате, во Владимировом племени старей нас»82. На зиму 1192 года Рюрик примирился и с Кунтувдеем, передав ему один из городов на реке Рось — «Русской земли для», как выразился летописец. Это тоже воспринималось как свидетельство слабости его соправителя — ибо у Святослава примириться с вождём торков не получилось. Два князя никак не могли согласовать свои действия. Так, они вознамерились было заключить мир со всей Половецкой землёй — но не вышло: на Русь, как всегда отдельно, явились для мира сразу две половецкие орды; сначала долго препирались, кому ехать за миром первыми: русским к половцам или наоборот; затем, когда одна из половецких орд, отказавшись уступить, убралась восвояси, Святослав заявил, что мириться с «половиной» Половецкой земли не намерен. Пришлось разъехаться, не взяв мира. Потом, осенью 1193 года, князья надумали организовать большой совместный поход на половцев, но и эта затея провалилась: у обоих, и у Святослава, и у Рюрика, нашлись более важные дела: первый ссылался на то, что «в земле нашей жито не родилось»; второй собрался воевать совсем на другом «фронте» — против Литвы, враждебной смоленским и полоцким князьям. Зато в поход на половцев в декабре того же 1193 года — откликнувшись на призыв «чёрных клобуков» и даже не отпросись у отца — выступил князь Ростислав Рюрикович, соединившийся со своим двоюродным братом Мстиславом, сыном князя Мстислава Ростиславича Храброго (впоследствии этот Мстислав Мстиславич сделается одним из самых прославленных русских князей и заслужит прозвище Удатной, то есть удалой, удачливый). Князья разбили половцев на реке Ивле, в трёх днях пути от Днепра, и вернулись домой на Рождество с огромным полоном «и со славою и с честью великою». Ростислав «с сайгаты» (захваченными в походе трофеями) отправился к отцу во Вручий, а оттуда в Смоленск, к дяде. Но и Всеволод Юрьевич не захотел оставаться в стороне от чествования своего зятя. Он поспешил присоединиться к торжествам — и потребовал, чтобы Ростислав явился и к нему тоже. «Слышал же Всеволод, тесть его, и позвал его к себе, — сообщает киевский летописец. — Ростислав же ехал ко отцу своему (так назван здесь Всеволод. — А. К.) в Суздаль, с сайгаты. Тесть же его держал у себя зиму всю, и одарил дарами многими, и с честью великою, зятя своего и дочь свою, и отпустил восвояси»83.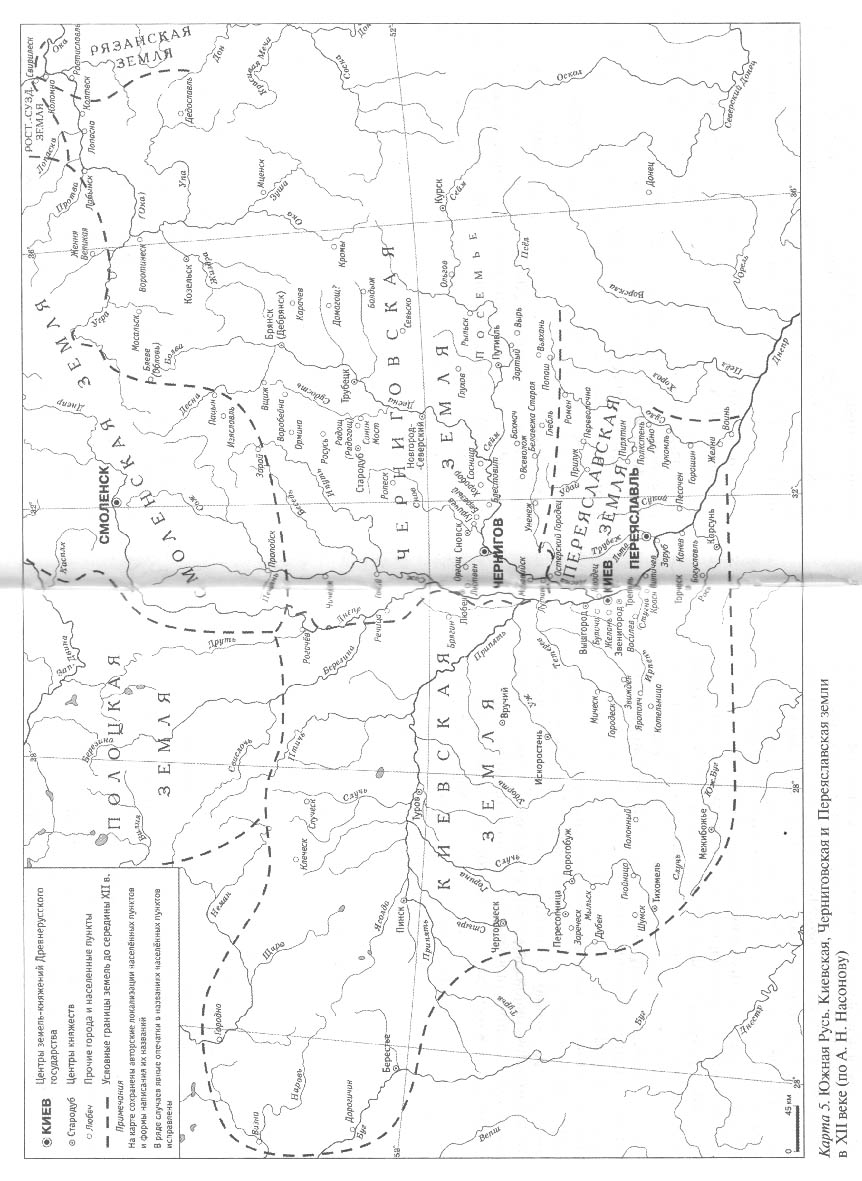 Всеволод и прежде любил надолго задерживать у себя гостей — порой даже против их воли. Теперь же к нему приехали любимая дочь, совсем ещё юная, четырнадцатилетняя, и зять — недавний победитель половцев, и он никак не хотел расставаться с ними. Это было и проявлением отцовской любви к дочери и, если угодно, отцовской власти над зятем, но ещё и демонстрацией равновесия внутри всё той же коалиции трёх сильнейших князей — Рюрика, Давыда и его, Всеволода. Даже в чествованиях и празднованиях он не хотел уступать им первенство.
Дочь и зять вернулись на юг только в конце зимы или начале весны 1194 года. Как раз перед тем, как в Городец на Остре двинулись Всеволодовы мастера — строить крепость.
Последнее столкновение Всеволода со Святославом Киевским носило, так сказать, латентный характер. Но именно оно в наибольшей степени показало возросшее могущество суздальского князя и беспомощность его бывшего покровителя.
В начале весны того же 1194 года великий князь Святослав Всеволодович вновь покинул Киев и отправился «за Днепр», к Карачеву, лично принадлежавшему ему городу в «Лесной» земле (в нынешней Брянской области). Сюда он позвал на «снем» своих братьев: и родного Ярослава, и двоюродных Игоря и Всеволода Святославичей, «и поча с ними думати, хотя на рязанский князи, бяхуть бо им речи про волости». В чём была суть спора с рязанскими князьями, о каких волостях шла речь, неизвестно, но вопросы на княжеском съезде обсуждались, надо полагать, серьёзные, раз сюда съехались все четыре старших представителя рода. Зашла речь и о большом походе на рязанские земли. Но до войны дело не дошло — и именно из-за решительной позиции князя Всеволода Юрьевича. Рязанские князья признавали его власть, пользовались его покровительством, а потому начинать войну с Рязанью без позволения Всеволода черниговские князья не решились.
Ольговичи отправили своих послов к Всеволоду — «просячися у него на Рязань. Всеволод же их воле не створи»84. Вердикт суздальского князя был вынесен и получен Ольговичами в середине апреля, до 23-го числа. И Ольговичи вынуждены были подчиниться. Съезд четырёх князей не закончился ничем. Князьям пришлось разъезжаться по домам — заметим, уже во второй раз подряд.
Неудачный съезд в Карачеве стал последним большим событием в жизни великого князя Святослава Всеволодовича. Из Карачева он выехал «с Юрьева дня», 23 апреля. Снег давно сошёл, но князя везли на санях, так как самостоятельно передвигаться он не мог, «бе бо нечто изверглося ему на ноге». Вот так, на санях, в соответствии с древним славянским обрядом, везли в последний путь покойников. Теперь этот путь становился последним и для престарелого, но ещё живого князя.
Уже из Киева, летом, князь отправился в Вышгород, к гробницам святых Бориса и Глеба. Здесь же, в притворе Вышгородской церкви, был похоронен его отец, великий князь Киевский Всеволод Ольгович. Святослав хотел поклониться и его гробу, но не сумел этого сделать: священник с ключом куда-то ушёл, и князь его не дождался. 24 июля, в самый день Бориса и Глеба, Святослав не смог даже выйти из своих покоев. Он был совсем плох, у него стал отниматься язык, появились видения. Князь успел узнать об осуществлении последнего своего амбициозного замысла — к Киеву приближались греческие послы: сватать его внучку, юную Евфимию Глебовну, за византийского царевича, сына императора Исаака II Ангела (скорее всего, за Алексея, будущего императора Алексея IV Ангела); князь отправил им навстречу «мужей киевских», однако был ли заключён брак и стала ли его внучка византийской царицей, летописи не сообщают… Сам князь доживал, можно сказать, последние часы. С содроганием он ждал наступления 1 августа, дня святых мучеников Маккавеев: в этот день ушли из жизни его отец, Всеволод Ольгович (в 1146 году), и дед, Олег Святославич (в 1115-м). Но дожить до 1 августа ему было не суждено. Он умер в июле (точная дата в летописи не обозначена)85. Перед смертью князь велел постричь себя в чернеческий образ…
Так завершилось восемнадцатилетнее правление Святослава Всеволодовича, так завершилась целая эпоха в истории Русского государства. И так началась новая эпоха. Как оказалось — в значительной степени связанная с именем князя Всеволода Большое Гнездо.
Всеволод и прежде любил надолго задерживать у себя гостей — порой даже против их воли. Теперь же к нему приехали любимая дочь, совсем ещё юная, четырнадцатилетняя, и зять — недавний победитель половцев, и он никак не хотел расставаться с ними. Это было и проявлением отцовской любви к дочери и, если угодно, отцовской власти над зятем, но ещё и демонстрацией равновесия внутри всё той же коалиции трёх сильнейших князей — Рюрика, Давыда и его, Всеволода. Даже в чествованиях и празднованиях он не хотел уступать им первенство.
Дочь и зять вернулись на юг только в конце зимы или начале весны 1194 года. Как раз перед тем, как в Городец на Остре двинулись Всеволодовы мастера — строить крепость.
Последнее столкновение Всеволода со Святославом Киевским носило, так сказать, латентный характер. Но именно оно в наибольшей степени показало возросшее могущество суздальского князя и беспомощность его бывшего покровителя.
В начале весны того же 1194 года великий князь Святослав Всеволодович вновь покинул Киев и отправился «за Днепр», к Карачеву, лично принадлежавшему ему городу в «Лесной» земле (в нынешней Брянской области). Сюда он позвал на «снем» своих братьев: и родного Ярослава, и двоюродных Игоря и Всеволода Святославичей, «и поча с ними думати, хотя на рязанский князи, бяхуть бо им речи про волости». В чём была суть спора с рязанскими князьями, о каких волостях шла речь, неизвестно, но вопросы на княжеском съезде обсуждались, надо полагать, серьёзные, раз сюда съехались все четыре старших представителя рода. Зашла речь и о большом походе на рязанские земли. Но до войны дело не дошло — и именно из-за решительной позиции князя Всеволода Юрьевича. Рязанские князья признавали его власть, пользовались его покровительством, а потому начинать войну с Рязанью без позволения Всеволода черниговские князья не решились.
Ольговичи отправили своих послов к Всеволоду — «просячися у него на Рязань. Всеволод же их воле не створи»84. Вердикт суздальского князя был вынесен и получен Ольговичами в середине апреля, до 23-го числа. И Ольговичи вынуждены были подчиниться. Съезд четырёх князей не закончился ничем. Князьям пришлось разъезжаться по домам — заметим, уже во второй раз подряд.
Неудачный съезд в Карачеве стал последним большим событием в жизни великого князя Святослава Всеволодовича. Из Карачева он выехал «с Юрьева дня», 23 апреля. Снег давно сошёл, но князя везли на санях, так как самостоятельно передвигаться он не мог, «бе бо нечто изверглося ему на ноге». Вот так, на санях, в соответствии с древним славянским обрядом, везли в последний путь покойников. Теперь этот путь становился последним и для престарелого, но ещё живого князя.
Уже из Киева, летом, князь отправился в Вышгород, к гробницам святых Бориса и Глеба. Здесь же, в притворе Вышгородской церкви, был похоронен его отец, великий князь Киевский Всеволод Ольгович. Святослав хотел поклониться и его гробу, но не сумел этого сделать: священник с ключом куда-то ушёл, и князь его не дождался. 24 июля, в самый день Бориса и Глеба, Святослав не смог даже выйти из своих покоев. Он был совсем плох, у него стал отниматься язык, появились видения. Князь успел узнать об осуществлении последнего своего амбициозного замысла — к Киеву приближались греческие послы: сватать его внучку, юную Евфимию Глебовну, за византийского царевича, сына императора Исаака II Ангела (скорее всего, за Алексея, будущего императора Алексея IV Ангела); князь отправил им навстречу «мужей киевских», однако был ли заключён брак и стала ли его внучка византийской царицей, летописи не сообщают… Сам князь доживал, можно сказать, последние часы. С содроганием он ждал наступления 1 августа, дня святых мучеников Маккавеев: в этот день ушли из жизни его отец, Всеволод Ольгович (в 1146 году), и дед, Олег Святославич (в 1115-м). Но дожить до 1 августа ему было не суждено. Он умер в июле (точная дата в летописи не обозначена)85. Перед смертью князь велел постричь себя в чернеческий образ…
Так завершилось восемнадцатилетнее правление Святослава Всеволодовича, так завершилась целая эпоха в истории Русского государства. И так началась новая эпоха. Как оказалось — в значительной степени связанная с именем князя Всеволода Большое Гнездо.
Правда, другие князья поняли это не сразу. Незадолго до смерти Святослав Всеволодович послал за своим сватом Рюриком Ростиславичем, предназначая ему киевский стол, — очевидно, между ними существовала договорённость на этот счёт. Рюрик въехал в Киев и был встречен с крестами митрополитом Никифором, игуменами киевских монастырей и всеми киевлянами, «от мала и до велика, с радостью великою», включая и «чёрных клобуков»; и так воссел «на столе деда своего и отца своего со славою и с честью великою, и обрадовалась вся Русская земля о княжении Рюриковом: кияне, и христиане, и поганые, зане всех принимал с любовью: и христиан, и поганых, и не прогонял никого же» — так описывает восшествие Рюрика Ростиславича на престол преданный ему летописей, составитель Киевской летописи. Прибыли в Киев и «мужи» суздальского князя Всеволода Юрьевича; наряду с другими они участвовали в интронизации нового киевского правителя. Их присутствие было особенно важно, ибо означало, что Всеволод Юрьевич признал вокняжение своего свата. И не просто признал. Тогда же или чуть позже в Суздальскую летопись была внесена удивительная по смыслу фраза: о том, что «послал великий князь Всеволод мужей своих в Киев и посадил в Киеве Рюрика Ростиславича»86. Именно так — следуя логике и представлениям своего князя — расценил восшествие Рюрика на киевский стол суздальский книжник. И именно так будет он отныне писать о вокняжении большинства других киевских князей, считая всех их посаженными на киевский стол по воле Всеволода Юрьевича. Хотя сам Рюрик едва ли готов был согласиться с подобной трактовкой. Всеволод княжил далеко на севере и, как казалось ему, в события, происходившие на юге, не должен был вмешиваться без крайней необходимости. Пока же новый киевский князь мог торжествовать. О его ответном посольстве во Владимир, к свату, в летописи ничего не говорится. Зато говорится о том, что он направил послов в Смоленск, к брату Давыду, которого готов был признать своим соправителем: — Се, брате, остались старейше всех в Русской земле! (Имеется в виду «Русская земля» в узком смысле слова — Южная Русь. — А. К.) А поеди ко мне к Киеву: что будет на Русской земле думы, и о братии своей, о Володимировом племени, и то всё укончаем (решим. — А. К.)\ В мае следующего, 1195 года Давыд Ростиславич прибыл в Киев. Начались празднества и возлияния: Рюрик устроил обед для брата, на котором богато одарил его «дары многими»; затем дядю угощал племянник Ростислав Рюрикович, получивший от отца Белгород близ Киева — то есть прежнюю «волость» самого Рюрика; «и тут пребывали в веселии великом и в любви многой». Не отставал и Давыд: он устроил богатый пир для брата Рюрика и его сыновей и отдельно для «монастырей всех… и был с ними весел, и милостыню сильную раздавал им, и нищим, и отпустил их». Не забыл Давыд и «чёрных клобуков»: устроил пир и для них, «и тут упились (в оригинале: «попишася». — А. К.) у него все чёрные клобуки». Киевские «мужи» тоже позвали Давыда на пир, воздавая ему почести; в свою очередь, и Давыд чествовал киян — точно так же, как прежде чествовал их Рюрик Ростиславич. А затем братья «укончали» «ряды все… о Русской земле и о братьи своей, о Володимировом племени», — то есть заключили договоры, определявшие передел владений внутри «Мономахова рода», после чего Давыд уехал в свой Смоленск. Больше всего от этих «укончаний» выиграли даже не Ростиславичи, а зять Рюрика волынский князь Роман Мстиславич, глава другой ветви потомков Мстислава Великого — Изяславичей. Ему досталась, по выражению летописца, «волость лепшая», включавшая города Торческ, Треполь, Корсунь, Богуславль и Канев. Всеволода же Юрьевича Рюрик как будто в расчёт не принимал, полагая, что ему, помимо обширных владений в «Залесье», довольно будет и Переяславля (который Всеволод получил либо в княжение Святослава Всеволодовича, либо сразу после его смерти). Но это была ошибка — и, как оказалось, ошибка фатальная, дорого стоившая и самому Рюрику, и всей Русской земле. Всеволод ещё раньше ясно показал, что замыкаться в пределах своего княжества не намерен. А ведь по формальному, династическому счёту именно он был «старейшим» в «Володимировом племени», и Рюрик с Давыдом ранее признали это! Всеволод расценил поведение братьев как повод для прямого вмешательства в южнорусские дела. Он направил своих послов к Рюрику в Киев. Речь его, содержащая неприкрытую угрозу в адрес свата, дословно воспроизведена киевским летописцем: — Вы есте нарекли мя во своемь племени во Володимере стареишаго. А ныне седел (сел. — А. К.) еси в Киеве. А мне еси части не учинил в Рускои земле, но раздал еси инемь, моложьшим, братьи своей. Да же мне в ней части нет! Да то — ты, а то — Киев и Руская область! А кому еси в ней часть дал, с тем же еси и блюди и стережи [ея]. Да како ю (её. — А. К.) с ним удержишь, а то узрю же, а мне не надобе!87 Угроза и в самом деле была обозначена ясно. И Рюрик со своими «моложыиими» должен был теперь позаботиться о том, как ему «блюсти» и «стеречь» Киевскую область без Всеволода — в том числе и от его, Всеволода, и его союзников возможного нападения. Назвал Всеволод и конкретные города, которые хотел бы получить в «Русской земле», дабы «блюсти» и «стеречь» её, — а именно те самые, что были переданы Рюриком зятю Роману: Торческ — главный город в области «чёрных клобуков», Треполь в устье реки Стугны, правого притока Днепра, Корсунь и Богуславль на Роси и Канев на правом берегу Днепра, ниже Киева. Все эти города полумесяцем окружали Киев и Переяславль с юга; они располагались у границы со Степью и включали в себя область «чёрных клобуков»: владевший Поросьем мог при случае диктовать свою волю киевскому князю. Едва ли в притязаниях Всеволода на названные города можно видеть лишь его корыстолюбие и тщеславие или одну лишь хитроумную интригу, провокацию, направленную на то, чтобы столкнуть южнорусских князей и заставить их воевать друг с другом, как чаще всего полагают историки88. По крайней мере дело было не только в этом. Занявшись дележом «Русской земли», Рюрик и Давыд и в самом деле забыли о признанном ими же «старейшинстве» своего троюродного дяди. Рассуждая о том, что они остались здесь «старейте всех», они ограничили не одно только понятие «Русской земли» — сведя его к Южной Руси, Поднепровью, но и представление о «Владимировом племени» — которое вовсе не сводилось к потомкам Мстислава Великого: Изяславичам и Ростиславичам. И Всеволод обязан был напомнить им о своём действительном «старейшинстве» даже после восшествия Рюрика на киевский стол — и подтвердить это «старейшинство» не только на словах, но и на деле. Его бездействие в данном случае означало бы добровольный отказ от «старейшинства», по сути — капитуляцию. Рюрик Ростиславич оказался в крайне затруднительном положении. Он успел уже поцеловать крест своему зятю Роману в том, что не станет отбирать переданные ему волости и отдавать их кому-нибудь другому. Но, признав ещё раньше «старейшинство» Всеволода, он должен был теперь исполнить его просьбу. Не желая «переступать крест», он попробовал предложить Всеволоду «иную волость», не ту, что была «под Романом», но Всеволод упрямо стоял на своём. «И бысть межи ими распря велика и речи, — свидетельствует киевский летописец, понимая под «речами» открытые угрозы и обвинения: — И хотеша межи собою востати на рать». Иными словами, Всеволод готов был силой, с помощью войны добиваться того, что, как он считал, принадлежит ему по праву. Что было делать Рюрику? «Переступи» он крестное целование зятю — это значило бы принять на себя грех; прояви твёрдость и верность слову — началась бы война. Рюрик был в замешательстве, не зная, как поступить. В конечном же счёте получилось так, что ему пришлось и «переступить» крест, и — чуть позже — втянуться в кровопролитную и к тому же несчастливую для себя войну. Так, к слову, и происходит чаще всего, когда политик проявляет слабость, стараясь угодить и тем и другим. Киевский князь обратился за помощью и советом к митрополиту Никифору. И тот проявил поистине пастырское смирение, объявив о готовности принять княжий грех на себя: — Княже, мы приставлены в Русской земле от Бога удерживать вас от кровопролития. Если прольётся кровь христианская в Русской земле от того, что дал волость младшему во блазне (по заблуждению, ошибке. — А. К.) пред старейшим и крест к нему целовал, — а ныне снимаю с тебя крестное целование и принимаю на себя. Аты послушай меня: возьми волость у зятя у своего, дай же старейшему, а Роману иную дай, вместо той! Это и в самом деле давало шанс избежать войны и решить дело миром. Едва ли можно думать, будто Никифор сознательно «волил» суздальскому князю[23]. Нет, он преследовал не чьи-то частные интересы, но интересы всей Русской земли, которую окормлял в качестве церковного владыки. И не его вина была в том, что князья не сумели воспользоваться предоставленным им шансом. Рюрик последовал совету мудрого грека. Он отправил послов к Роману, объясняя ему своё решение: что «Всеволод просит под тобою волости, а жалуется на меня про тебя». Роман спорить не стал, признав — конечно же, нехотя, через силу — правоту и митрополита Никифора, и своего тестя, и Всеволода Юрьевича, с которым ни ему, ни Рюрику было не совладать. Стоит заметить, что всего несколькими месяцами раньше умер младший брат Романа Всеволод Мстиславич (тот самый, которому Роман передал город Белз), и теперь Роман сосредоточил в своих руках слишком большую власть, включавшую в себя и всю Волынь, и Поросье, — а это явно нарушало интересы и его тестя в Киеве, и Всеволода Юрьевича (который, как мы помним, покровительствовал Романову сопернику Владимиру Ярославичу в Галиче). Взамен отнятых городов Роман потребовал себе либо иную, равноценную волость, либо возмещение кунами (деньгами) той стоимости, в которую утраченные им города могли быть оценены. Теперь киевскому князю было с чем посылать во Владимир на Клязьме. «Сдумав с братьею и с мужи своими», он обратился к Всеволоду со следующими словами: — Аже, брате, жаловался на мене про волость, [а се волости], которые же еси просил! Все те пять городов, которые были названы Всеволодом Юрьевичем, переходили под его руку. Князья целовали крест «на всей любви своей». Казалось, что инцидент исчерпан. Но не тут-то было. Всеволод не собирался сам княжить в переданных ему городах. В четыре из пяти он направил своих посадников, а пятый, Торческ, передал зятю, Ростиславу Рюриковичу, который, собственно, и владел Торческом прежде, при князе Святославе Всеволодовиче. Это было воспринято Романом как обида. Более того, он заподозрил Рюрика Ростиславича в сговоре со Всеволодом: якобы тот «смолвился со Всеволодом, отнял у него волость для сына своего». Начался новый виток взаимных обвинений. Роман «поча винити тестя своего и крестное целование поминая ему». Рюрика Ростиславича никак нельзя назвать изощрённым интриганом. Но и дальновидным политиком, просчитывающим все возможные варианты развития событий, он тоже не был. А потому он отвечал зятю искренне, пытаясь убедить его принять произошедшее как есть: — Я прежде всех дал тебе волость сию. Но вот Всеволод послал ко мне, жалуясь из-за тебя: что ему прежде чести не оказали. Я тебе представил все речи его; ты же добровольно отступился. А нам как было ему отказать?! Нам без Всеволода нельзя быть: положили на нём старейшинство во всей братии, во Владимировом племени. А ты мне — сын родной. А вот тебе волость иная, той равная! Роман, однако, от предложенной ему замены (какой именно, неизвестно) отказался, по-прежнему видя во всём злой умысел тестя: «и не хотя с ним любви», по выражению летописца. Нежелание «любви» означало отказ от мирного разрешения конфликта. Так распря из-за пяти городов обернулась общерусской войной. Главными противниками в этой войне должны были стать Роман и его тесть Рюрик Ростиславич. Всеволод же Юрьевич пока что оставался в стороне. Но такой расклад сил мог просуществовать недолго. Ибо спровоцированное Всеволодом столкновение тестя и зятя рушило ту политическую систему, котораяхудо-бедно просуществовала несколько десятилетий и основывалась на примерном паритете главных политических сил тогдашней Руси: князей Ольговичей и Мономашичей.
По свидетельству средневековых польских источников, Роман Мстиславич отличался не только личной храбростью и искусностью в военном деле, но и какой-то особой, лютой жестокостью90. Русский летописец, автор так называемой Галицко-Волынской летописи (сохранившейся в составе Ипатьевской), в общем-то подтверждает это: по его словам, князь нападал на своих врагов (прежде всего, конечно, имеются в виду половцы), «яко лев, сердит же (свиреп. — А. К.) был, яко и рысь, и поражал их, яко и крокодил… храбр же был, яко и тур»91. Но ещё он был умён и изворотлив и тонко чувствовал политическую конъюнктуру. Посовещавшись с дружиной и «мужами», князь решил сделать ставку на черниговского князя Ярослава Всеволодовича, брата покойного великого князя Святослава Всеволодовича, — единственного из правителей того времени, который в династическом отношении был равен Всеволоду Владимиро-Суздальскому. Роман «слася ко Олговичу ко Ярославу ко Всеволодичу к Чернигову, — сообщает Киевская летопись, — и целовал с ним крест, поводя его… на Киев, на тестя своего». Иными словами Роман предложил Ярославу занять киевский стол, обещая ему «старейшинство» среди всех русских князей. Чтобы показать серьёзность своих намерений и порвать всякие связи с тестем, Роман «поча пущати дчерь Рюрикову», то есть начал процесс развода («роспуска») со своей женой Предславой, намереваясь (в будущем?) постричь её в монастырь, а пока что просто отослав к отцу92. Так «искони злой враг» всего рода человеческого — диавол — «возбудил на вражду всех князей русских» — так начал рассказ об этой долгой, изобилующей крутыми поворотами войне суздальский летописец. А автор поздней Густынской летописи выразился иначе: «В сие лето нача диавол зваду (распрю. — А. К.) на великое зло и погибель Руского княжения»93. До погибели «Русского княжения» пока ещё было далеко. Но начало этому процессу, как считал украинский книжник, было положено именно тогда. Узнав о планах зятя, Рюрик Ростиславич стал держать совет с «братьею своею» — прежде всего, конечно, с братом Давыдом, а также с «мужами своими» — и, как и следовало ожидать, отправил посланцев к Всеволоду Юрьевичу — инициатору конфликта: — Роман приложился ко Ольговичам и поводит (Ярослава. — А. К.) на Киев и на всё Володимирово племя! Аты, брате, в Володимировом племени старей нас. А думай и гадай о Русской земле и о своей чести и о нашей! К зятю же Роману Рюрик тоже послал своих «мужей» — но для обличения его в прямом нарушении крестного целования. Посланцы киевского князя привезли с собой крестные грамоты, на которых приносил клятву Роман, — и бросили их к ногам князя. Это означало объявление войны. Того же Рюрик просил и от своего союзника Всеволода. Текст его послания суздальскому князю (того же? или ещё одного?) воспроизведён и в Лаврентьевской летописи: — Брате и свате! Романко от нас отступил и крест целовал к Ольговичам. А, брате и свате, пошли грамоты хрестные, поверзи им. А сам поиди на конь (то есть выступи в поход. — А. К.)! Логика межкняжеских отношений того времени не всегда понятна нам. Складывается впечатление, что Роман не ожидал такого поворота событий — хотя обращение его тестя к Всеволоду кажется естественным. Чего нельзя сказать о последующих действиях Романа. Впрочем, поначалу, узнав о готовности трёх сильнейших князей Руси — Рюрика Киевского, Давыда Смоленского и Всеволода Владимиро-Суздальского — выступить против него и «ублюдяся тестя своего», Роман тоже поступил вполне ожидаемо: обратился за помощью в Польшу. Однако ситуация в Польше к тому времени сильно осложнилась — из-за жестокой междоусобной войны, которая оказалась ничуть не менее кровавой, чем на Руси. В мае 1194 года, после успешного завершения Ятвяжской войны, умер Казимир II Справедливый, дядя Романа Мстиславича, — то ли отравленный во время пира, то ли внезапно заболевший. После него остались двое малолетних сыновей, восьми и семи лет: Лешко (будущий князь Краковский и Сандомирский) и Конрад (будущий князь Мазовецкий). Летописец сообщает, что Роман отправился «в Ляхи» к «Казимировичам», — но ясно, что просить о помощи против тестя он должен был не детей, а стоявших за ними польских вельмож, одним из которых был палатин Николай — участник недавней войны за Галич. Однако в борьбу за власть над Польшей вступил брат и давний соперник Казимира Мешко Старый, и вельможи — от имени Казимировичей — сами попросили помощи у Романа: по их словам, они бы помогли Роману — «но обидит нас стрый (дядя. — А. К.), Мешко: ищет под нами волости»; поляки обещали, что если Роман поможет им, то и они, в свою очередь, потом помогут ему. И Роман согласился на это предложение: заварив такую крутую кашу на Руси, он бросил всё и на время вообще покинул Русь. Здесь версии русских и польских источников совпадают: как образно выразился польский хронист, Роман исходил из того, что если Казимировичи погибнут или потерпят поражение, «то и его корню секира угрожает: здесь от Мешка, если тот победит, там от князя Киевского, с дочерью которого он развёлся»94. Так Роман ввязался в войну в Польше на стороне своих двоюродных братьев. И — потерпел жестокое поражение в битве на реке Мозгаве, к северу от Кракова, 15 сентября 1195 года95, потеряв значительную часть дружины и получив тяжелейшие раны (поначалу пошли слухи, будто он вообще погиб). С поля боя князь едва «утече» в Краков, откуда его перевезли во Владимир-Волынский. О продолжении войны с тестем речи уже не шло. Роман отправил послов к Рюрику Ростиславичу, обратился за посредничеством и к митрополиту Никифору — и вымолил для себя мир. Рюрик согласился простить бывшего зятя, привёл его к кресту «на всей воле своей» и даже передал ему «наделок» (заметим, не «надел»!) в «Русской земле» — город Полоный, принадлежавший ранее «Святой Богородице» (то есть клиру киевской Десятинной церкви), и какие-то «пол търтака Корьсуньского» (название явно искажено; скорее всего, речь идёт о половине Торкского града, перешедшего к сыну Рюрика Ростиславу, или, ещё точнее, — о половине доходов с этого города). Мир между Романом и Рюриком продержался недолго. Но, главное, он даже на время не привёл к миру во всей Русской земле, ибо механизм войны был уже запущен. «Поводя» на великое княжение Ярослава Черниговского, Роман не только нарушил единство «Владимирова племени», но и вновь столкнул друг с другом Ольговичей и Мономашичей. В свою очередь, приняв предложение Романа, Ярослав Черниговский бросил вызов и киевскому князю, и всему клану князей Мономашичей. Той же осенью 1195 года состоялись переговоры между Рюриком и Давыдом Ростиславичами и Всеволодом Юрьевичем. Заручившись поддержкой брата и свата, Рюрик отправил посольство в Чернигов, обращаясь при этом не только к Ярославу Всеволодовичу, но и ко всем Ольговичам. Условия, которые он выставил, оказались весьма жёсткими: своей «отчиной» (или, точнее, «отчиной» Мономашичей) Рюрик объявлял не только Смоленск, но и Киев, ссылаясь при этом на давнее завещание Ярослава Мудрого, но истолковывая его в свою пользу: — Целуй к нам крест со всею своею братьею, — потребовал он от Ярослава Всеволодовича, — что вам не искать отчины нашей, Киева и Смоленска, под нами, и под нашими детьми, и подо всем нашим Владимировым племенем, как нас разделил дед наш Ярослав по Днепр. А Киев вам не надобен! Как известно, сыну Ярослава Мудрого Святославу, родоначальнику черниговских князей, по завещанию отца достались Чернигов и «вся страна восточная, и до Мурома», то есть левобережье Днепра. Но ведь и Всеволоду Ярославичу, отцу Мономаха, по тому же завещанию тоже отходили земли на левобережье Днепра — Переяславль, Ростов, Суздаль и другие! Киев же считался общим достоянием русских князей. И отказываться от него навсегда — и за себя, и за своих потомков! — черниговские князья не могли. Они готовы были признать Киев достоянием Рюрика, или Давыда, или Всеволода — но только при их жизни, не дольше! Показательно, что, отвечая на требование Рюрика Ростиславича, Ярослав обращался не к Рюрику (или не только к Рюрику), но к Всеволоду Юрьевичу — как к «старейшему» во всём «Владимировом племени»: — Ажь ны еси вменил Кыев, то же ны его блюсти под тобою и под сватом твоим Рюриком (то есть: «Если вменил нам [в обязанность] признать Киев за тобой и за сватом твоим Рюриком». — А. К.), то в том стоим. Аж[е] ны лишитися его велишь отинудь (совсем. — А. К.), то мы не угре, не ляхове, но единого деда есмы внуци. При вашем животе не ищем его. Аж[е] по вас (после вас. — А. К.) — кому Бог дасть! За двадцать с лишним лет до описываемых событий один из князей Мономашичей, Ярослав Изяславич Луцкий, ссылаясь на то же завещание Ярослава Мудрого, уже выдвигал подобное требование князю Святославу Всеволодовичу, требуя от него отступиться от Киева («Чему тобе наша отчина? Тобе си сторона не надобе!»). Святослав и нашёл тогда убедительный аргумент, тоже вспомнив о Ярославе Мудром — но как о едином предке почти всех русских князей (за исключением полоцкой ветви династии): «Я не угрин, ни лях! Но одиного деда есмы внуци. А колко тобе до него, только и мне!»96 Вот и теперь Ярослав Черниговский почти дословно воспроизвёл речь и аргументацию покойного брата. Такой ответ ни Всеволода, ни Рюрика не устроил: «И бывши межи ими распри многие и речи великие, и не уладишася». Продолжались и переговоры между союзниками. К этому времени относится упомянутый выше брак старшего Всеволодова сына, десятилетнего Константина, с внучатой племянницей Рюрика и Давыда Ростиславичей, дочерью князя Мстислава Романовича Марией, заключённый 15 октября 1195 года; брак этот должен был ещё больше сплотить союзных князей. Они договорились «воссесть на коней», то есть начать войну, с Рождества Христова — 25 декабря 1195 года97. К началу зимы и Всеволод, и Рюрик собрали внушительные силы. Помимо суздальцев (и, наверное, рязанских и муромских полков), Всеволод призвал под свои знамёна новгородцев, которые должны были выступить против Ольговичей во главе со своим князем Ярославом Владимировичем (свояк Всеволода был возвращён на новгородский стол ещё в 1187 году). Войско это было достаточно велико и включало в себя не только княжеских дружинников, но и городское ополчение: «В том же году, на зиму, позвал Всеволод новгородцев на Чернигов, на Ярослава и на всё Ольгово племя, — читаем в Новгородской Первой летописи. — И новгородцы не отказали ему, пошли с князем Ярославом огнищане, и гридьба, и купцы»98. Однако двигалось войско очень медленно. И когда оно достигло Торжка, то есть не вышло даже за пределы Новгородской земли, последовал новый приказ: «И прислал Всеволод, и возвратил их с честью домой». Ибо той же зимой 1195/96 года военные действия, не успев начаться, были прекращены: Всеволод согласился на мир (или по крайней мере на перемирие) с Ярославом Черниговским. Киевская летопись так рассказывает об этом. Убоявшись приготовлений своих противников, Ольговичи направили к суздальскому князю послов, и в частности игумена Дионисия, «кланяючися и емлючися ему по всю волю его». Всеволод им поверил и, по образному выражению летописца, «сседе с коня», то есть прекратил только-только начатый поход99. Одновременно черниговское посольство было направлено и к Рюрику Ростиславичу. Ярослав Всеволодович сетовал на сложность переговоров о мире и просил о перемирии — до заключения (или, если не получится, незаключения) «ряда» (договора) между всеми князьями: — Брате! Нам с тобою не бывало николи же лиха! Аже есмы не укончали сее зимы ряду со Всеволодом и с тобою и с братом твоим Давыдом — а ты ны еси близь. А целуй с нами крест: како ти ся с нами не воевати, доколе со Всеволодом и с Давыдом любо ся уладим, любо ся не уладим! Рюрик такое обещание дал: направил посла к Ярославу Черниговскому, «хотя и (его. — А. К.) свести в любовь со Всеволодом и с Давыдом», и привёл черниговского князя к кресту, «како ему не востати на рать до ряду, и сам целова [крест] на том же». Между князьями велись и какие-то переговоры об обмене или уступке волостей; в частности, как позднее подтверждал сам Рюрик, он «ступил» черниговскому князю Витебск и даже послал с этим к своему брату Давыду в Смоленск100. После чего тоже распустил собранную дружину и отпустил домой нанятых им «диких» половцев, богато одарив их (сам он потом укорял Всеволода, что так и не дождался вестей от него и просидел большую часть зимы в напрасном ожидании военных действий). Из Киева Рюрик отправился во Вручий, где по-прежнему проводил значительную часть времени. Однако Ярослав Всеволодович был не из тех, кто твёрдо держит данное им слово. Да и Давыд Ростиславич отказываться от Витебска не хотел, и Ярослав, вероятно, знал об этом. В самом начале Великого поста 1196 года (а пост начался в том году 4 марта), не дожидаясь съезда послов для заключения общего мира и в нарушение только что данного крестного целования, Ярослав Всеволодович послал своих племянников — Олега Святославича с сыном Давыдом — на Витебск: «на зятя на Давыд[ов|а» (очевидно, имеется в виду зять Давыда Ростиславича; впрочем, летописное чтение в данном случае неясное)101. В те же дни, во вторник Фёдоровой (первой) недели Великого поста, в Киеве произошло землетрясение. Разрушений не было, но стены храмов ходили ходуном, так что людей охватил страх. Многие толковали, что подобные знамения бывают не на добро, «но на падение многим, и на кровопролитие, и на мятеж мног в Русской земле. Еже и сбысться», — заключает киевский летописец, писавший по горячим следам событий. По дороге к Витебску черниговские полки начали разорять смоленские земли. В ответ смоленский князь Давыд Ростиславич послал против них свои войска: племянника Мстислава Романовича (Всеволодова свата), внучатого племянника Ростислава Владимировича (ему Давыд поручил собственный полк) и зятя Глеба Рязанского (который проживал тогда в Смоленске у тестя: ему был поручен смоленский полк). На стороне Ольговичей выступили полоцкие князья, тоже претендовавшие на Витебск. Во вторник второй недели Великого поста, 12 марта (в этот день, как отмечает летописец, «потрясеся земля» уже не в Киеве, а в Смоленске), войска сошлись в битве. Глубокий снег сильно затруднял передвижения полков. Поначалу удача вроде бы улыбнулась смолянам. Дружина Мстислава Романовича «потопташа» и «исекоша» Ольговы стяги и устремилась вслед отступающим черниговцам. Однако в это самое время на их собственные тылы ударили дружины минского князя Василька Володаревича102. И когда Мстислав возвращался к своим, «мнев, яко уже победив Олга, а не веды[и] своих побеженых», он, не разобрав, где свои, а где чужие, попал… прямо в руки своих противников, а именно друцкого князя Бориса. Остальные князья и воеводы с остатками войск бежали в Смоленск. Вернулся на поле боя и Олег Святославич, он и выпросил своего врага у друцкого князя. А затем послал гонцов к дяде, Ярославу Всеволодовичу, — сообщая ему о том, что «Мстислава есмь ял (захватил. — А. К.), и полк его победил, и Давыдов полк, смолняны». Мстислав Романович был переправлен в Чернигов и надёжно там спрятан. Теперь Ольговичам можно было действовать с позиции силы — момент для реванша казался удачным, как никогда. — А ныне, отче, — призывал Олег дядю, — такого времени нам уже не будет больше. А поезжай, не мешкая, совокупив братию свою. Ныне возьмём честь свою! Ярослав Всеволодович мешкать не стал. Вместе с братьями он «изъездом» направился к Смоленску, намереваясь выгнать оттуда Давыда Ростиславича. Поражение смоленских полков, бегство князей с поля боя, захват в плен князя вызвали возмущение смолян. В городе давно росло недовольство Давыдом (несколько лет назад оно уже оборачивалось беспорядками и даже мятежом). Черниговские князья знали об этом и, наверное, собирались воспользоваться недовольством смолян. Но не мешкал и Рюрик Ростиславич. Из своего Вручего наперерез черниговским полкам он отправил послов с крестными грамотами и успел «перехватить» Ярослава Всеволодовича. Рюрик не только упрекал его в нарушении крестного целования, но и угрожал: — А вот тебе крестные грамоты! А ты поезжай к Смоленску, а я — к Чернигову. Да как нас Бог рассудит да крест честный! И Ярослав Всеволодович повернул обратно. Ситуация обострилась до предела. В плену оказался не только родной племянник великого князя Киевского, но и сват великого князя Владимирского. Союзникам надо было что-то предпринимать. И Рюрик отправляет очередное послание Всеволоду: — …Ныне же, брате, и твоему, и моему сыновцу Мстиславу так случилось, что схвачен Ольговичами. А не мешкая сел бы на коня! А сошлись бы где любо, отомстили бы обиду и сором свой, и сыновца своего выстояли, и правду свою налезли! «От Всеволода же не было вести всё лето», — продолжает киевский летописец. Правда, слова его про «всё лето» надо понимать как некоторое преувеличение, потому что парой строк ниже он приводит фразу из ответного послания Всеволода Рюрику, и из неё следует, что Всеволод всё же призывал свата к совместным действиям против черниговского князя, обещая присоединиться позже: — Ты починай, а яз готов с тобою!103 Суздальский же летописец сообщает более определённо: узнав о поражении смоленской рати и о том, что сват его Мстислав Романович «ят» черниговцами, «и от Рюрика речь слышав ту», Всеволод «ту зиму перестряп (переждал; речь идёт о зиме 1195/96 года. — А. К.)», а «на лето вседе на конь про свата своего». Так что весть от Всеволода в Киев или Вручий всё-таки пришла, но вот реальной военной помощи Всеволод оказывать своему свату не спешил — очевидно, выжидая наиболее удобный для этого момент и копя силы, а заодно дожидаясь, когда киевский и черниговский князья истощат силы в войне друг с другом. По свидетельству новгородского летописца, той же зимой 1195/96 года Всеволод послал «в Половцы». Так поступали в подобных случаях и другие русские князья, и Всеволод не являл собой исключение. Готовясь к войне, он взаимодействовал преимущественно с Давыдом Смоленским: «И почаста вое копити Всеволод и Давыд собе, а Ярослав Черниговский и Игорь с братьею; и не бяше мира межи ими, но рать большю въздвигнуша». Пока Всеволод и Давыд «копили» воев, Рюрику Ростиславичу пришлось принять на себя всю тяжесть войны с Ольговичами. Он вновь призвал под свои знамёна «братью» — младших князей; вновь нанял «диких» половцев — благо те всегда были готовы поживиться за счёт внутренних русских междоусобиц, охотно принимая сторону любого князя, который готов был им заплатить. Однако военные действия шли вяло. Рюрик всё ещё ждал вступления в войну Всеволода Юрьевича, но не мог даже связаться с ним, потому что все пути сообщения между Киевом и «Залесской» землёй были перерезаны Ольговичами (или, может быть, потому, что Всеволод сам не прилагал усилий для того, чтобы посланцы Рюрика добрались до него). При этом Ярослав Черниговский не прочь был заключить отдельный мир с Рюриком («К чему, брате, начал волость мою воевать? А поганым руки полнишь. А нам с тобою делить нечего, а Киева под тобою не ищу»). Черниговский князь готов был вернуть Рюрику его племянника безо всякого выкупа, «по любви», только просил помирить его с Давыдом Смоленским, а про Всеволода Юрьевича выразился так: — А Всеволод аже восхочет с нами уладитися, а уладится. А тобе не надобе с братом Давыдом! (То есть вам с Давыдом до этого дела нет. — А. К.) Рюрик, однако, мира не взял — ссылаясь на то, что у него нет связи со Всеволодом, а без него заключать мир он не хочет. «И тако воевашася межи собою, ездячи, всё лето и до осени». Положение Рюрика Ростиславича осложнилось ещё и тем, что той же осенью 1196 года войну с ним возобновил оправившийся от ран волынский князь Роман Мстиславич. Сам Рюрик воевать с ним не стал (как раз к этому времени он, наконец, сумел согласовать свои действия со Всеволодом Юрьевичем), но послал против бывшего зятя племянника Мстислава Мстиславича, который объединил усилия с галицким князем Владимиром Ярославичем. Князья пожгли Романовы волости около Перемышля, а сын Рюрика Ростислав со своей дружиной и «чёрными клобуками» разорил окрестности другого Романова города — Каменца.
Всеволод Юрьевич вступил в войну с Ольговичами только в самом конце лета или начале осени 1196 года. Но и при нём военные действия по-прежнему шли вяло. Что в общем-то неудивительно. И сам Всеволод по возможности избегал кровопролития и отнюдь не питал склонности к решительному наступлению, предпочитая выжидать, когда победа сама упадёт к нему в руки, и его союзники Рюрик и Давыд никогда не принадлежали к числу выдающихся полководцев, нередко уклоняясь от войны даже тогда, когда другие князья призывали их к этому. В полной мере то же относится и к их главному противнику Ярославу Черниговскому, также стороннику выжидательных действий. И хотя «Слово о полку Игореве» характеризует его как одного из сильнейших в военном отношении русских князей — «сильного, и богатого, и многовоя» (перечисляя далее, помимо «черниговских былей» — бояр, каких-то неведомых нам «могутов, и татран, и шельбиров», и прочие, по-видимому торкские, кланы, кои «без щитов», с одними засапожными ножами «кликом полки побеждают»)104, — Ярослав всё же вошёл в историю русского XII века более как интриган, нежели воин. В общем, доблестных военачальников не оказалось ни в одном из лагерей — ибо Роман Мстиславич ещё не до конца оправился от ран, самый удалой из черниговских князей, «буй-тур» Всеволод Святославич, скончался как раз в мае того же 1196 года, а его младший тёзка, энергичный племянник Ярослава Всеволодовича Всеволод (прозванный Чермным), оставался пока что на вторых ролях. В войско Всеволода, как обычно, вошли полки рязанских и муромских князей. Явились и половцы, за которыми князь посылал ещё зимой. По-видимому, Всеволод тщательно просчитывал различные варианты развития событий. Так, новгородскому полку он повелел выступить к Великим Лукам — городу на реке Ловать, «оплечью» Новгорода на юго-западе Новгородской земли: очевидно, новгородцы должны были стеречь полоцких князей, союзников Ольговичей, а также враждебную Новгороду Литву. По версии суздальского летописца, Всеволод начал войну прежде всего ради свата, Рюрика Ростиславича, «твердя» под ним княжение в Киеве105. Но и свои интересы он, несомненно, преследовал тоже. Его полки действовали совместно с полками Давыда Ростиславича. Удар объединённой рати пришёлся на Вятичскую землю, соседнюю с «Залесской». Союзники разоряли и жгли вятичские города (Татищев называет два из них: Козельск и Волхов). «И землю их пусту створи», — свидетельствует суздальский летописец; соответственно, поток пленников и добычи устремился в обратном направлении — к Суздалю, Рязани, Мурому и Смоленску. Ну и, конечно, немалая добыча доставалась половцам, приведённым Всеволодом; они всегда охотно разоряли русские города и сёла. Что же касается Рюрика Ростиславича, то он только осенью узнал о том, что Всеволод исполнил, наконец, своё обещание и «всел на коня», соединившись с его братом Давыдом. «А я сижу наготове, ожидая от них вести верной», — сообщал Рюрик в письме галицкому князю Владимиру (текст этого письма дошёл до нас в составе Ипатьевской летописи). Общий план кампании предусматривал, что князья должны встретиться у стен Чернигова, чтобы совместно взять столицу княжества или принудить черниговского князя к капитуляции. Но когда следует выступить, Рюрик не знал и продолжал воевать с Ольговичами в одиночку, сам по себе, терпя при этом немалый убыток, ибо военные действия велись по большей части на его территории. В такой ситуации Ярослав Всеволодович выбрал единственно правильный путь к спасению. «Сдумав» с «братией своей» (Игорем и племянниками, сыновьями старшего брата), он решил пойти на сепаратный мир со Всеволодом и сделать то, что у него не получилось с Рюриком, — расколоть коалицию враждебных ему князей. Ярослав укрепил Чернигов и «затворил» в нём двух Святославичей, Олега и Глеба; укрепил и другие города, опасаясь внезапного удара со стороны Рюрика, а сам, «совокупив» братию и племянников (и, разумеется, всё тех же «могутов» с «шельбирами» и союзных половцев), выступил навстречу Всеволоду и Давыду и велел устраивать «засеки» и рушить мосты «под лесы своими», то есть на границе «Лесной», или Вятичской, земли. Именно через «Лесную землю» — огромный лесной массив, по которому Суздальская земля и получила название «Залесской», — проходил прямой путь от Суздаля к главным городам Черниговской земли; именно здесь разворачивались главные события большинства междоусобных войн XII столетия, в том числе и этой «странной» войны осени 1196 года. Одновременно Ярослав направил своих «мужей» к Всеволоду и Давыду, обращаясь при этом прежде всего к Всеволоду и подчёркнуто именуя его «братом» и «сватом»: — Брате и свату! Отчину нашу и хлеб наш взял еси! Если любишь с нами ряд правый (честный, подобающий договор. — А. К.) и в любви с нами быть, то мы любви не бегаем и на всей воле твоей станем. Паки ли что еси умыслил, а того не бегаем же. Да како нас Бог рассудит и Святой Спас! Уповать на то, «како нас Бог рассудит», то есть решать дело на поле брани, Всеволоду, как всегда, не хотелось. Он стал держать совет с другими князьями и своими «мужами» — принять ли предложение Ярослава, и если принять, то какое: мира или войны. Сам Всеволод желал первого: «любя, како бы с ними умиритися». Давыд же Ростиславич категорически возражал против мира с Ярославом. Он настаивал на наступлении к Чернигову, то есть на выполнении намеченного плана, дабы, как и было условлено, соединиться с киевским князем. — Ты же ныне ни мужа своего не послал к брату своему Рюрику, ни о приходе своём, ни о моём не поведаешь ему, — укорял Давыд Всеволода. — …Он же ныне воюет с ними и волость свою зажёг тебя ради. А ныне без совета с ним хотим мириться! А скажу тебе, брате: этот твой мир не понравится брату моему Рюрику! Поддержали Давыда и рязанские князья. Всеволод, однако, слушать их не стал («не улюби думы Давыдовы, ни рязанских князей») и вступил-таки в переговоры с Ярославом Черниговским. Он выдвинул три условия, одно из которых не имело никакого отношения ни к Рюрику Ростиславичу, ни вообще к событиям этой войны, но свидетельствовало о долгой памяти самого Всеволода, не забывающего нанесённой ему обиды. Во-первых, Ярослав должен был немедленно отпустить Всеволодова свата Мстислава Романовича. (Как мы помним, Ярослав готов был это сделать и прежде, вступая в переговоры с Рюриком.) Во-вторых, Всеволод потребовал от черниговских князей «выгнати из земля своея» его племянника Ярополка Ростиславича — того самого, которого он почти двадцать лет назад ослепил (впрочем, ослепил ли?) во Владимире. Пребывание Ярополка во владениях черниговских князей по-прежнему претило Всеволоду, и он по-прежнему добивался его изгнания за пределы Руси. (Что, по всей видимости, и произошло — во всяком случае, следы Ярополка после 1196 года теряются из вида.) Ну а в-третьих, Всеволод потребовал от «свата» Ярослава «отступиться» Романа Мстиславича — таково, очевидно, было одно из условий их с Рюриком предварительных договорённостей. Но если первые два требования черниговский князь выполнил незамедлительно («Мьстислава яшася ему дати, и Ярополка выгнати из земля»), то в отношении третьего заупрямился: «…а Ярослав же не люби (не захотел. — А. К.) Романа отступите, занеже бяшеть помогл на тестя своего на Рюрика». Надо полагать, что Ярослав тонко уловил настроение Всеволода и понимал, где он должен уступить, а где этого делать не обязательно и Всеволод настаивать не будет. И Всеволод действительно настаивать не стал. Удовлетворившись исполнением первых двух требований, он согласился на мир с черниговским князем и прекратил военные действия. Всеволодовы послы отправились в лагерь черниговского князя. Всё было обговорено и решено; учёл Всеволод — как и подобает «старейшему» во «Владимировом племени» — и интересы своих союзников: «…И умолвил с ним про волость свою и про дети своя, а Киева под Рюриком не искать, а под Давыдом Смоленска не искать, и водил Ярослава ко честному кресту и всех Ольговичей». Ярослав Всеволодович, в свою очередь, прислал к Всеволоду своих «мужей», и те тоже водили ко кресту и Всеволода, и Давыда, и рязанских князей, «и тако утвердишася крестом честным», после чего «разидошася когождо во свояси». Один из пунктов договора касался Новгорода, за которым письменно закреплялось право самому выбирать себе князя: «А Новгород выложиша (поставили. — А. К.) вси князи в свободу: где им любо, ту же собе князя поимають». Если эта фраза, приведённая в Новгородской Первой летописи, действительно присутствовала в тексте договора, то она знаменовала важнейший этап в признании князьями особого политического статуса Новгорода, существовавшего де-факто и раньше. Впрочем, Всеволод Юрьевич и в дальнейшем будет всеми силами добиваться обратного, а именно превращения Новгорода в свою «отчину» и «дедину». Но путь для этого он выберет весьма изощрённый: через добровольное, полюбовное «поимание» новгородцами того князя, на которого он сам укажет им. В Суздальской летописи о мире между князьями сказано кратко, без особых подробностей, но акценты расставлены иначе. Имеется здесь и точная дата, позволяющая установить хронологию событий: «Ярослав же и Ольговичи не могли стати против него (Всеволода. — А. К.), поклонились ему, [и свата ему пустили]; князь же великий, дав им мир, возвратился [и вошёл] в град Владимир месяца октября в 6 день, на память святого апостола Фомы, и бысть радость велика в граде Владимире». Следовательно, договор между Всеволодом, Давыдом и Ярославом был заключён незадолго до 6 октября 1196 года. Не только суздальский, но и киевский летописец высоко оценил заключённый тогда мир — прежде всего потому, что он остановил дальнейшее разорение русских земель «окаянными» половцами. Но совсем не так отнёсся к произошедшему Рюрик Ростиславич. К нему Всеволод тоже направил своих «мужей», ибо условия договора казались ему вполне приемлемыми для киевского князя. («Со Ярославом есми умирился; и крест ко мне целовал, якоже им Киева под тобою не искати, ни под братом твоим Давыдом Смоленска», — похвалялся Всеволод.) Но Рюрик сильно обиделся на свата. И за то, что Всеволод не стал настаивать на разрыве союза между Ярославом Черниговским и Романом Мстиславичем, и главным образом за то, что заключил договор без его, Рюрика, участия, нарушив существовавшие между ними договорённости и не исполнив обещанного. Вновь последовал обмен посланиями; вновь киевский князь корил Всеволода: ведь это ему, Всеволоду, он отдал «волость лепшую», и «не от обилья», но отняв у братии своей и у зятя своего; ведь это с ним договаривался, что «кто мне ворог, тот и тебе ворог»; ведь это он, Всеволод, обещал «воссесть на коня», а сам тянул и лето, и зиму — а теперь вот начал войну, но разве тем мне помог? — нет, всё то делал ради своего договора с Ярославом. И даже Романа, Рюрикова зятя и обидчика, с которым Рюрик и поссорился-то только из-за него, Всеволода, «и того дал еси Ярославу рядити (устраивать. — А. К.), и с волостью своею, которую есмь ему дал»! «А мне с Ольговичи которая обида была?!» — восклицал в сердцах Рюрик, обращаясь к свату. Что, собственно, Всеволод ставит себе в заслугу? То, что Ольговичи обещали не «искать» под ним, Рюриком, Киев? Но они и не думали об этом до того, как Всеволод вмешался в южно-русские дела, потребовав себе «части» в Русской земле: «Ни они подо мною Киева искали! Но аже было тобе не добро, аз про тебе же (ради тебя. — А. К.) сними есмь не добр, и воевалъся с ними, и волость свою зажегл. Ныне же, како еси со мною умолвил, на чём еси ко мне крест целовал, того еси всего не исправил!» Конечно же, во многом Рюрик был прав, обвиняя Всеволода. Но, как известно, в политике у каждого своя правда. Любую ситуацию можно рассматривать и с той, и с этой стороны и представлять в наиболее выгодном для себя свете. И то, что Рюрику казалось нарушением крестного целования, Всеволод Юрьевич мог воспринимать (и наверняка воспринимал) совершенно иначе. Рюрик не ограничился одними словами. Оскорблённый, он отобрал у Всеволода переданные ему ранее города и раздал их опять «братьи своей». Перечня городов в летописи нет, но очень похоже, что речь шла о тех самых пяти городах на Днепре и Роси, которые стали причиной войны. Судя по летописи, Всеволод на это никак не отреагировал. Получается, что злополучные города нужны были ему не сами по себе, но лишь как повод для вмешательства в южнорусские дела? Может быть и так. Но Всеволода и без того должны были устраивать результаты войны. Его первенствующая роль во «Владимировом племени» и во всей Русской земле, более того — роль арбитра в межкняжеских спорах, была подтверждена и признана Ольговичами. Он закреплял за собой Южный, или Русский, Переяславль (в котором начал распоряжаться точно так же, как распоряжался у себя дома: всего несколькими месяцами позже, в конце весны или летом 1197 года, Всеволод отправит на переяславскую епископскую кафедру своего избранника, некоего Павла, и киевский митрополит будет вынужден принять его выбор). Ну и самое главное: Всеволод понимал, что ситуация на юге отнюдь не успокоилась и военные действия непременно должны будут возобновиться — к вящей его выгоде. Они и возобновятся — но чуть позже и без прямого его участия, со сменой многих действующих лиц. 23 апреля 1197 года в Смоленске умрёт 57-летний князь Давыд Ростиславич. Смоленский стол займёт старший из его племянников, Всеволодов сват Мстислав Романович (этот князь проживёт долгую жизнь, войдёт в историю с прозвищем Старый, станет великим князем Киевским и погибнет в трагической для русских битве на реке Калке в 1223 году). А ещё год спустя, в 1198 году (точная дата в летописи не указана), в Чернигове скончается старший из князей Ольговичей Ярослав Всеволодович — неудавшийся претендент на киевское княжение; его сменит Игорь Святославич, ставший-таки к концу жизни черниговским князем. Но и его княжение окажется недолгим. Игорь скончается в 1201 году, и на черниговский стол сядет сын Святослава Всеволодовича Всеволод Святославич, получивший прозвище Чермный (то есть «красный» — вероятно, в значении «рыжий»), и уже с ним придётся потом воевать, а ещё потом мириться Всеволоду Юрьевичу. В 1198 или 1199 году скончается и галицкий князь Владимир Ярославич, племянник Всеволода Юрьевича и последний представитель старшей ветви потомков Ярослава Мудрого. Галицкий стол — опять же с помощью поляков — займёт Роман Мстиславич, который соединит в своих руках Галицкую и Волынскую земли. Но это только усилит ненависть к нему бывшего тестя, Рюрика Ростиславича. Мир между князьями так и не будет заключён, и война продолжится, набирая всё большие и большие обороты.
Опять Новгород
Очередной конфликт Всеволода с Новгородом нарастал постепенно. Новгородцы в своём большинстве с неприязнью относились к навязанному им князю Ярославу Владимировичу, а управу на него искали у Всеволода. Искали — но не находили. Ещё зимой 1195/96 года, как раз тогда, когда Всеволод призвал новгородцев в поход на Ольговичей, представительное новгородское посольство направилось во Владимир. В него входили посадник Мирошка Несдинич, видный новгородец Борис Жирославич (вероятно, сын бывшего посадника Жирослава — между прочим, сторонника Андрея Боголюбского), сотский (одно из высших должностных лиц городского самоуправления) Никифор (Микифор), а также некие Иванко и Фома; явились же они просить у Всеволода на новгородский стол сына, «а Ярослава негодующе». Полностью рвать со Всеволодом в Новгороде не хотели, к тому же малолетний сын (а других у владимирского князя пока что не было) казался новгородцам предпочтительнее своевольного князя, по-прежнему способного творить Новгороду «пакости». Момент казался удачным, ибо новгородцы откликнулись на призыв Всеволода, выразили готовность поддержать его в противостоянии с Ольговичами. Всеволод, однако, к просьбе не прислушался и задержал всех (или почти всех) у себя, то есть поступил так, как он нередко поступал с послами106. В конце лета из Новгорода во Владимир отправилось новое посольство — теперь уже просить за задержанных князем первых послов, и прежде всего за посадника. Всеволод, однако, действовал избирательно. Если мы правильно понимаем летописный текст, то он отпустил в Новгород лишь Бориса Жирославича и каких-то «иных мужей с ним», а вот посадника Мирошку и Иванка с Фомой оставил. Больше того, когда князь во главе собранной им огромной рати двинулся в Вятичскую землю, он забрал всех с собой. И Мирошка, и другие новгородцы присутствовали при заключении мира между Всеволодом, Давыдом и Ярославом Черниговским; может быть даже, их присутствие повлияло на то, что вопрос о статусе Новгорода стал предметом обсуждения на переговорах. Всеволод давно уже привык к многоходовым комбинациям в политике. Новгородское общество было далеко не единым, его раздирали противоречия, в городе боролись враждебные друг другу боярские группировки. Одной из целей Всеволода было столкнуть их друг с другом, усилить существующую между ними вражду; он действовал избирательно, нащупывая наиболее болезненные точки во взаимоотношениях боярских кланов. Так, по возвращении во Владимир князь отпустил ещё одного заложника, Фому, но остальные по-прежнему оставались при нём. Это, видимо, и вызвало взрыв возмущения в Новгороде. На Юрьев осенний день, 26 ноября 1196 года, новгородцы созвали вече и «показали путь» князю Ярославу Владимировичу. По словам новгородского летописца, решение было далеко не общим. «…И жалели по нему в Новгороде добрые, а злые радовались», — пишет он, явно сочувствуя первым. Ярослав обратился за поддержкой к Всеволоду; «князь же великий посадил свояка своего на Новом Торжку»107. Этот город давно уже рассматривался как совместное владение Новгорода и владимирского князя. «И приняли его новоторжцы с поклоном», — пишет о Ярославе новгородский летописец. «А Новгород выложиша вси князи в свободу: где им любо, ту же собе князя поимають» — совсем недавно Всеволоду пришлось согласиться с такой формулой. Новгородцы и прежде постоянно пользовались ею, выбирая себе князя. Вот и теперь они послали к Ярославу Черниговскому, прося у него на княжение сына. Но Ярослав не спешил — может быть, считая необходимым согласовать этот вопрос со Всеволодом Юрьевичем, а может быть, просто опасаясь отправлять сына в неспокойный и вольнолюбивый город. «И сидели всю зиму в Новгороде без князя, а Ярослав (Владимирович. — А. К.) княжил на Торжке, в своей волости, и дани собирал по всему Верху, и по Мете, и за Волоком взимал дань». Дело едва не дошло до войны между Новгородом и Суздалем. Собственно, можно сказать, что Всеволод даже начал военные действия: его люди захватили новгородских «данщиков» и купцов «за Волоком»; схвачены были и те новгородцы, которые находились в пределах Владимиро-Суздальского княжества. Правда, обошлись с ними милостиво: им не позволяли вернуться в Новгород, но в остальном предоставили почти полную свободу. «На вербницу» 1197 года, 30 марта, в Новгород из Чернигова прибыл наконец князь Ярополк Ярославич, младший из сыновей черниговского князя. Однако княжение его продолжалось менее полугода. Дни князя Ярослава Всеволодовича были уже сочтены, опереться на него новый новгородский князь не мог, да и конфликт с владимирским «самодержцем» неблагоприятно сказывался на новгородских делах. Посадник и многие из «вятших людей» оставались во Владимире. Всё это привело к тому, что новгородцы пошли на мир со Всеволодом. 1 сентября того же года Ярополк был изгнан из города, и новгородцы били челом Ярославу Владимировичу, приглашая его опять на княжение. Прежде чем принять их приглашение, Ярослав отправился за разрешением во Владимир, к Всеволоду. Тот пожелал, чтобы всё было совершено, как положено, по его воле. Новая представительная делегация — «передние мужи» и «сотские» — явилась во Владимир, и уже отсюда, а не из Торжка, «пояша Ярослава со всею правдою и честью». Вместе с князем домой отправились и удерживаемые Всеволодом новгородцы, в том числе многострадальный посадник Мирошка, проведший во владимирском плену «за Новгород» почти два года; «и все пришли невредимые ничем же, и рады были в Новгороде все от мала и до велика»108. В третий и последний раз Ярослав Владимирович воссел на новгородском столе 13 января 1198 года, через неделю после Крещения. Своего восьмилетнего сына Изяслава он посадил на княжение в Великие Луки. Однако всего несколько месяцев спустя, летом 1198 года, один за другим умерли сразу двое его сыновей, Изяслав и пятилетний Ростислав109. Это стало тяжёлым ударом и для князя, и для княгини, свояченицы Всеволода. А ещё год спустя, летом 1199 года, князь Всеволод Юрьевич вывел Ярослава из Новгорода — возможно, опасаясь возросших политических амбиций своего ставленника (который начал именовать себя «великим князем» и вообще вести слишком самостоятельную политику)110, а возможно, потому что смерть сыновей Ярослава — племянников Всеволода — рушила существовавшие между ними родственные связи. Вместо Ярослава на княжение в Новгород владимирский «самодержец» решил поставить одного из младших своих сыновей, четырёхлетнего Святослава. Причём обставлено всё было так, что сам Новгород молит о том князя, признавая свой город его «отчиной» и «дединой» — то есть в корне меняя смысл только что сформулированного права «свободы» в князьях. Вновь многочисленное новгородское посольство, подчиняясь требованию князя, отправилось во Владимир; здесь были и новгородский архиепископ Мартирий, и тот же посадник Мирошка Несдинич, и бывший (и будущий) посадник Михалко Степанович, представитель другого новгородского боярского клана, и прочие «вятшие мужи» — словом, действительно, «весь Новгород». По дороге, на озере Селигер, 24 августа владыка Мартирий преставился; его тело отвезли в Новгород и положили в притворе собора Святой Софии. Остальные (суздальский летописец называет их «Мирошкиной чадью») вынуждены были продолжить свой путь: «Той же осенью пришли новгородцы, лепшие мужи, Мирошкина чадь, к великому князю Всеволоду с поклоном и с мольбою всего Новгорода, рекуще: — Ты — господин, князьвеликий Всеволод Юрьевич![24] Просим у тебя сына княжить Новгороду, зане тебе отчина и дедина Новгород! Князь же великий, сдумав с дружиною своею и утвердив их крестом честным на всей своей воле, дал им сына своего Святослава»112. Князя-ребёнка (даже ещё не отрока!) благословил епископ Иоанн, и 12 декабря Святослав отправился в путь — конечно, не сам, но в сопровождении своих «дядек»-наставников и Всеволодовых «мужей». «Братья же проводили его с честью», — продолжает суздальский летописец, перечисляя княжичей, сыновей Всеволода, которые постепенно выступали на передний план в межкняжеских делах, — четырнадцатилетний Константин, одиннадцатилетний Юрий, девятилетний Ярослав, шестилетний Владимир. 1 января 1200 года Святослав прибыл в Новгород. «И посадили его на столе в Святой Софии, и обрадовался весь Новгород». Так осуществлённая Всеволодом рокировка на новгородском столе привела к тому, что и Великий Новгород вынужден был признать себя «отчиной» и «дединой» владимирского «самодержца», пребывающей «во всей его воле». Как оказалось — не навсегда.Реликвии святого Димитрия
10 января 1197 года во Владимир из греческой Солуни были принесены реликвии, почитаемые во всём христианском мире: «доска гробная» — мироточивая икона с гробницы святого Димитрия Солунского («из нея же миро идеть», как писал о ней один из летописцев), и «сорочка» святого — часть одеяния, в котором мученик был пронзён копьями в начале IV столетия113. Это событие стало знаковым в истории Владимиро-Суздальской Руси. Всеволод Юрьевич, несомненно, горячо почитал своего небесного покровителя. Мы уже говорили о том, что во время вынужденного пребывания в Византии он, вероятно, посещал Солунь и молился у гроба святого. Пострадавший за проповедь христианской веры при римском императоре Максимиане, заточённый в темницу и убитый там «копийным прободением», святой Димитрий был похоронен в этом городе, однако собственно мощей его не существовало (или же они были недоступны верующим): чтились прежде всего частицы одеяний святого, пропитанные его кровью, а также источаемое от гробницы миро, которое расходилось по другим христианским странам. Мироточение было настолько обильным, что это казалось невероятным многочисленным паломникам, посещавшим Солунь, а в их рассказах приобретало уже эпические, можно даже сказать, сказочные масштабы[25]. От источаемого мира происходили многочисленные чудеса и исцеления; кроме того, святой почитался как защитник «Селуньского града» от «поганых», о чём тоже повествовалось в его Житии, весьма популярном на Руси. Солунские реликвии широко расходились по всему христианскому миру. (Даже после того, или особенно после того, как в августе 1185 года Солунь была разграблена норманнами сицилийского короля Вильгельма II. Тогда часть реликвий оказалась в Болгарии; вскоре, впрочем, император Исаак II сумел вернуть их обратно115.) В представлении православных людей часть святыни обладает всей полнотой святости, которой обладает святыня в целом. Перенесение во Владимир на Клязьме реликвий святого Димитрия ставило стольный город князя Всеволода Юрьевича под защиту и покровительство этого святого, превращало Владимир в своего рода «новый Селунь». Происходившее от «доски гробной» мироточение становилось источником чудес и исцелений теперь уже на Руси: как сообщает летописец, принесённая князем «доска гробная» непрестанно источала «мюро» «на здравье немощным». Считается, что эта «доска гробная» впоследствии была перенесена в Москву116. Она сохранилась до наших дней в местном ряду иконостаса Успенского собора Московского Кремля. Точнее сказать, сохранилась именно доска (пропорции которой, по оценке искусствоведов, характерны для византийских икон X–XII веков), но вот изображение на ней — уже Нового времени. Согласно надписи, читающейся на иконе, она была перенесена в Москву в 1380 году, при князе Дмитрии Ивановиче Донском, а «обновлён сей святый образ» в 1701 году мастером Кириллом Улановым — и хотя «по древнему начертанию», но, конечно, уже в манере, свойственной Петровскому времени117. До наших дней дошёл и серебряный позолоченный ковчежец: реликварий святого Димитрия Солунского — «верный образ кивория копьепронзённого мученика Димитрия», то есть точная модель того кивория Солунского храма, в котором располагалась мироточивая гробница. Это работа греческих мастеров, выполненная по заказу некоего вельможи Иоанна «из рода Автореанов» при императоре Константине X Дуке (1059–1067)118. На Русь, во Владимир, святыня попала, по-видимому, тоже при князе Всеволоде Юрьевиче; можно предположить, что именно она предназначалась для хранения упомянутой летописцем «сорочки» святого — ведь едва ли этот драгоценный фрагмент ткани занимал много места. Обе принесённые из Солуни святыни были положены в церкви Святого Димитрия, возведённой зодчими Всеволода Юрьевича во Владимире на его княжеском дворе. Церковь эта, посвящённая небесному покровителю владимирского князя, была домовой для него и, по-видимому, соединялась с его собственным дворцом не сохранившимися до настоящего времени переходами — подобно тому, как это было в Спасском соборе Переяславля-Залесского и Боголюбовской церкви. Точная дата строительства Дмитриевской церкви в летописях не обозначена; в посмертной же похвале князю Всеволоду сказано лишь о том, что он «созда церковь прекрасну на дворе своём святаго мученика Дмитрия и украси ю дивно иконами и писаньем (фресками? — А. К.)…» (или, в другом варианте похвалы: «Постави же церковь… чюдну, камень той около всея церкви резан, и верх ея позлати»119;) и далее о том, что он поставил в той церкви упомянутую «доску гробную» и «сорочку того же мученика ту же положи». Следовательно, к 1197 году церковь уже существовала; вероятно, перенесение солунских святынь и было приурочено к её освящению120. Этот удивительный храм из белого камня и поныне украшает Владимир. Частично уцелели и фрески XII века. Но главной примечательностью Дмитриевского собора, вызывающей восхищение как специалистов-искусствоведов, так и многочисленных туристов и любителей старины, является великолепная каменная резьба, покрывающая верхний ярус стен, барабан и арки порталов. Как отмечают специалисты, скульптурное убранство собора «принадлежит к уникальным явлениям мировой художественной культуры»121. Всего на фасадах собора насчитывают свыше тысячи резных камней (правда, не все они относятся к XII веку; часть была заменена позднее) — сюжеты на них самые разнообразные: здесь и фигуры библейских праотцев и святых мучеников (в том числе первых русских святых Бориса и Глеба), и мифические и реальные звери и птицы, и растительный орнамент. Богатство необыкновенное; оно поражает и завораживает, и разобраться в нём очень непросто. («В наружном его виде, — писал о соборе в середине позапрошлого века исследователь владимирских древностей Василий Иванович Доброхотов, — с первого взгляда… замечается что-то таинственное, загадочное, ибо от половины до самого верха нет камня, на котором не было бы нарезано изображений ангелов, людей, львов, грифонов и других иероглифов… Но когда всмотришься в изображения, объясняется, что всё это знаменует слова Давида, по которым всякое дыхание должно славословить Творца неба и земли» (см. Пс. 150: 6)122.) И именно библейский царь Давид, к трону которого собирается вся тварь небесная и земная, занимает в рельефах собора центральное место. Изображённый по меньшей мере трижды, он олицетворяет собой и божественный порядок, установленный во вселенной, и полноту власти христианского правителя, каковым был строитель собора князь Всеволод Юрьевич — «новый царь Давид» Владимирской Руси. Наибольшее внимание исследователей привлекла к себе скульптурная группа, размещённая в восточной части северного фасада здания: сидящий на престоле человек с ребёнком на руках и склоняющиеся к нему с двух сторон ещё четыре коленопреклонённые фигуры — по две с каждой стороны. Замечено, что вырезаны они так, что были видны из-за стены княжеского детинца со стороны города (в отличие от многих других изображений, доступных взгляду лишь тех, кто находился в самом детинце)123. По наиболее аргументированному мнению, поддерживаемому большинством исследователей, здесь изображён основатель собора князь Всеволод Юрьевич с сыновьями, коих к началу 1197 года (предполагаемой дате создания храма) было как раз пятеро: одиннадцатилетний и уже женатый Константин, восьмилетний Юрий, шестилетний Ярослав (в крещении Фёдор), трёхлетний Владимир (в крещении Дмитрий) и Святослав (в крещении Гавриил), которому шёл лишь второй год. Одного из них Всеволод держит на руках: может быть, младшего, Святослава, а может — соименного отцу Владимира, чьим небесным покровителем также был святой Димитрий (последнее предположил выдающийся исследователь древнерусской архитектуры Николай Николаевич Воронин, которому принадлежит наиболее обстоятельное исследование княжеской композиции). Именно Воронин указал на то, что изображённая на престоле фигура, несомненно, мужская (ранее здесь видели Богородицу со Спасителем на руках); об этом свидетельствует его одеяние: плащ-корзно, застёгнутый фибулой на правом плече, виднеющаяся под ним длинная, «княжеская», одежда («по штрихам резца, — писал исследователь, — можно думать, что резчик хотел передать узор ткани этой одежды в виде больших кругов, напоминающий ткани из княжеских гробниц владимирского Успенского собора»); также и «четыре припадающих фигурки — безусловно, мужские. Они одеты точно так же, как и сидящий на коленях князя мальчик, — в короткие до колен кафтанчики, украшенные теми же шитыми оплечьями, налокотниками и наручами, как и кафтан князя. Это не просто “люди”, поклоняющиеся князю и княжичу… но так же княжичи»124. Если принять эту атрибуцию, то, казалось бы, можно сделать некоторые замечания относительно внешности князя Всеволода Юрьевича: это человек среднего телосложения, с бритым лицом, без признаков усов и бороды; с продолговатым носом, выразительными глазами; длинные волосы зачёсаны назад, на прямой пробор. Однако, как замечает тот же Воронин, «по своим чертам» лицо князя «очень обычно для древних рельефов собора, напоминая, например, головы князей Бориса и Глеба в поясе того же северного фасада». В любом случае надо понимать, что перед нами совсем не портрет, а схематичное изображение князя, или, вернее, правителя вообще. Впрочем, и сама атрибуция Н. Н. Воронина не может быть признана бесспорной и единственно возможной. Нельзя исключать, например, того, что окружённый фантастическими и реальными фигурами зверей и коленопреклонёнными людьми сидящий на троне правитель-«царь» с ребёнком на руках представляет собой того же библейского царя Давида, держащего на руках сына Соломона (такое предположение также было высказано в литературе)125. Царь Давид — как идеальный правитель, лучше других понявший и воспевший полноту Божьего замысла, — многажды изображён на стенах собора; мог он быть помещён и на северном фасаде здания. Ну а симметрично этому образу на южном фасаде храма (не видимом со стороны города из-за стены детинца) размещена ещё одна композиция — с другим «идеальным правителем» древности посередине — известная из апокрифических сочинений сцена вознесения на небо царя Александра Македонского, прообразующая вознесение на небо самого Христа. Строительство этого роскошного белокаменного храма, равно как и других, подобных ему, свидетельствует не только об эстетических вкусах самого Всеволода Юрьевича и не только о его материальных возможностях. Как уже давно подметили историки, это ещё и «признак развитой городской жизни, так как эта символическая скульптура рассчитана на внимание и понимание населения» (заметим, в отличие от большинства из нас, сегодня разглядывающих каменное убранство Дмитриевского или Георгиевского (в Юрьеве-Польском) соборов). «Одних этих храмов, — писал сто лет назад выдающийся исследователь средневековой Руси Александр Евгеньевич Пресняков, — достаточно, чтобы отказаться от представления о северо-восточной Руси XII века как о тёмном захолустье, где и культура, и благосостояние, и городская жизнь стояли несравненно ниже, чем на Киевском юге»126. Действительно, нельзя не признать, что Владимиро-Суздальская Русь сделала за столетие гигантский шаг вперёд, а Владимир на Клязьме при князе Всеволоде Большое Гнездо превратился в один из наиболее развитых и в экономическом, и в культурном отношении городов Русской земли. Собор во Владимире был, разумеется, не единственным возведённым во имя святого Димитрия в пределах Владимиро-Суздальского княжества. Например, такой храм не мог не существовать в городе Дмитрове, который и получил своё имя в честь этого святого. После того как город был сожжён в 1181 году, его отстроили заново; очевидно, тогда же отстроена была и Дмитриевская церковь, впоследствии упразднённая. Именно из неё, по-видимому, происходит известная икона святого Димитрия Солунского, хранящаяся ныне в собрании Государственной Третьяковской галереи, а прежде помещавшаяся в Успенском соборе города Дмитрова, в приделе Святого Димитрия Солунского (сменившем древнюю церковь)127. Не вполне обычные поза и лик святого — он изображён анфас, с усами и едва намеченной бородой, сидящим на троне и держащим в руках меч с наполовину вынутым из ножен клинком — привели в своё время некоторых отечественных историков к предположению, будто на иконе помещён идеализированный портрет самого князя Всеволода Юрьевича128, что, конечно же, совершенно невероятно. Отнюдь не свидетельствует об этом и якобы имеющийся на иконе (в орнаменте трона, на котором восседает святой) княжеский знак Всеволода, напоминающий по форме лигатуру букв Т и Р: как показали исследования специалистов, этот мнимый знак присутствует и на других, созданных вне Руси иконах: он «восходит к античному и эллинистическому искусству» и «обычно… имитирует резные (или лепные) украшения» изображённых на иконах зданий и предметов, то есть не имеет к Всеволоду никакого отношения129. Изображение своего небесного покровителя князь Всеволод Юрьевич помещал и на печатях — на лицевой стороне: на оборотной, как это было принято в древней Руси, помещалось изображение святого Георгия, небесного покровителя его отца130. Печати эти известны, хотя об их принадлежности владимирскому «самодержцу» можно говорить лишь предположительно[26]. «География» их достаточно широка: из десяти булл шесть найдены в Новгороде, место обнаружения одной не известно, и по одной найдено в Суздале, Владимире и Биляре, столице Волжской Болгарии, с правителями которой Всеволод то воевал, то вёл переговоры. Святой Димитрий изображён и на печатях сыновей Всеволода Большое Гнездо — Константина, Ярослава, Святослава, а также (о чём уже шла речь выше) на печатях его свояка, новгородского князя Ярослава Владимировича. Характерно, что один из вариантов печати последнего в точности повторяет необычное изображение святого Димитрия Солунского на иконе из Дмитрова: так же, как и там, святой вырезан анфас, сидящим на троне, с мечом, до половины вынутым из ножен132 (обычно святой изображался стоящим в полный рост). Наверное, подобное изображение тоже имелось на не дошедших до нас печатях Всеволода, и резчики Ярослава Владимировича, исполняя волю своего князя, лишь повторили его. Словом, святой Димитрий постоянно сопровождал князя Всеволода Юрьевича, помогая ему во всех его делах и начинаниях.«Миродержец»
Так назвал Всеволода Юрьевича переяславский летописец, подводя итог его долгому 36-летнему княжению: «…благоверный и христолюбивый великий князь Всеволод… миродержец всея Суждальскыя земля»133. Хотя Всеволод, как любой из князей того времени, много воевал и не раз лично водил в поход собранное им войско, он и в самом деле по возможности старался избегать войн и был миролюбив — это качество отличало его от большинства тогдашних правителей. И не случайно о внутренних делах его княжества в летописи говорится больше, чем о его войнах. Но вот удивительный факт: не будучи блестящим полководцем и отчаянным храбрецом и уступая в этом отношении и отцу Юрию, и деду Владимиру, и старшему брату Андрею, Всеволод не потерпел ни одного поражения на поле брани! Может быть, как раз потому, что умел избегать сражений в невыгодных для себя условиях — как это было, например, при «стоянии на Влене» зимой 1180/81 года. Всеволод вступал в войну лишь тогда, когда это было необходимо, добиваясь своего политическими, а не одними только военными средствами. И при этом границы своего княжества сумел раздвинуть весьма заметно — и на западе, и, особенно, на востоке и северо-востоке. Несколько десятилетий спустя, уже в другую эпоху русской истории, наступившую после страшного монгольского разгрома Руси, автор так называемого «Слова о погибели Русской земли» — отрывка из какого-то большого несохранившегося произведения, создаст идеальный образ державы суздальских князей, предков «нынешнего Ярослава» (как будет назван в памятнике сын Всеволода Большое Гнездо великий князь Ярослав Всеволодович). И князь Всеволод Юрьевич будет представлен здесь в столь же идеальном образе — как один из правителей этой «светло светлой и украсно украшенной» земли Русской, прославленной многими удивительными красотами и исполненной «князьями грозными, боярами честными, вельможами многими». Автор перечислял народы, подвластные Всеволоду и его отцу и деду, рисуя поистине эпическую картину: «…Отселе до угров и до ляхов, до чехов, от чехов до ятвягов, и от ятвягов до литвы, до немец, от немец до корелы, от корелы до Устюга, где обитают тоймичи поганые, и за Дышащим морем, от моря до болгар, от болгар до буртас, от буртас до черемис, от черемис до мордвы — то всё покорено было Богом христианскому языку поганские страны — великому князю Всеволоду, отцу его Юрию, князю Киевскому, деду его Владимиру Мономаху…»134 Мы знаем об успешных войнах Всеволода и его воевод с волжскими болгарами и мордвой (а заодно, наверное, и с черемисами — предками нынешних марийцев); знаем о продвижении суздальской дани за Устюг, к Белому («Дышащему») морю; знаем, наконец, о мирных соглашениях с «ляхами» и «уграми» (поляками и венграми). Всеволод долго удерживал в своих руках и Великий Новгород, чьи дружины столь же успешно воевали и с ятвягами и литвой на западе, и с карелами и «погаными тоймичами» (какими-то приполярными финно-угорскими племенами) на севере. Но автор «Слова…», конечно же, преувеличивал могущество владимирских «самодержцев», противопоставляя его нынешнему положению русских князей, «улусников» татарского «царя». Сей князь Всеволод Юрьевич сидел на княжении во Владимире, «владея всею землёю Русскою» — так, опять же преувеличивая, писал о великом князе в конце XIII века другой русский книжник, автор прибавлений к переводу краткой византийской хроники («Летописца вскоре») константинопольского патриарха Никифора135. И ему тоже могущество владимирского «самодержца» представлялось большим, чем оно было на самом деле. В летописях не упоминаются города, основанные Всеволодом (за исключением разве что легендарного Гледена). Однако, анализируя массив летописной информации за последующие после его смерти годы, наполненные войнами между его сыновьями, историки приходят к выводу о том, что упомянутые тогда новые города возникли именно в его княжение — а это и Кострома, и Нерехта, и Соль Великая на Волге (в нынешней Ярославской области), и Зубцов, и Унжа136. А новые города — это и форпосты на границах его владений, опорные пункты дальнейшего продвижения власти суздальских князей, и центры ремесла и торговли, и места присутствия представителей княжеской администрации. А ещё — новые рабочие руки и новые потоки дани, поступающей в казну князя. В отличие от старшего брата Андрея, Всеволод проводил много времени в разъездах, не засиживаясь на одном месте. За время его долгого правления летописи застают его в разных городах и весях подвластной ему земли: не только во Владимире, куда он неизменно возвращался из своих поездок, но и в Ростове, Суздале, Русском Переяславле, Переяславле-Залесском (Всеволод особенно любил этот город и посещал его чаще других), Москве, на Оке близ Коломны, в Усть-Мерской (в устье реки Нерской, притока Москвы). Привычным для Всеволода стал и старинный обряд полюдья — регулярного объезда подвластного князю населения с целью сбора дани и разбора разного рода спорных и нерешённых дел. Обычай этот, существовавший у русов ещё в X веке, был тогда же описан византийским императором Константином Багрянородным. Всеволод старался соблюдать его в полном объёме. В путь он отправлялся вместе со всем своим многочисленным семейством — женой, детьми, домочадцами. Сам когда-то появившийся на свет в отцовском полюдье на берегах Яхромы, он брал с собой жену даже тогда, когда та была на сносях, и двигался очень неспешно. В этом отношении Всеволод явился продолжателем политики отца. Не случайно современные историки отмечают, что полюдье в Северо-Восточной Руси упоминается в летописях применительно лишь к двум князьям — Юрию Долгорукому и Всеволоду Большое Гнездо137. От времени Андрея Боголюбского таких свидетельств нет. Вероятнее всего, засевший в своём Боголюбове Андрей не совершал лично объездов подвластной ему территории или отказался от такой практики очень рано. Но ведь полюдье — это не просто сбор дани. Это ещё и исполнение князем некоего обязательства перед людьми, подтверждение его неразрывного единения с ними. Конечно, во времена, о которых идёт речь, традиционное представление о сути княжеской власти уходило в прошлое — настала пора чисто феодальных отношений. Андрей Боголюбский был правителем нового типа, «самовластием», а не просто князем, а потому с лёгкостью пренебрегал прежними обычаями. Но не нарушение ли традиционных норм во взаимоотношениях между князем и подвластной ему землёй в конце концов и привело к трагедии в Боголюбовском замке? Всеволод, оставаясь таким же «самовластием» и «самодержцем», как и его брат, старался — по крайней мере во внешних проявлениях — держаться обычая, подкреплённого примером отца. И власть его оказалась прочнее, чем власть брата. По летописи, мы застаём его в полюдье дважды или даже трижды: в феврале и марте 1190 года — в Переяславле вместе с беременной женой и в Ростове; и в августе 1200 года — в Переяславле вместе с сыновьями. Но эти летописные упоминания связаны отнюдь не с полюдьем как таковым, а с другими событиями, происходившими в главных городах княжества; о полюдье говорится вскользь, попутно. Не вызывает сомнений тот факт, что князь объезжал и другие подвластные ему территории, исполняя освящённый веками обычай, и делал это чаще, нежели можно судить по летописи; просто летописец не считал нужным упоминать обо всех его поездках. Мир в княжестве Всеволод старался поддерживать всеми доступными ему средствами. Одним из главных регуляторов социальной напряжённости в древнерусском обществе всегда была княжеская благотворительность. К широкой раздаче милостыни прибегали все русские князья, и Всеволод, конечно же, не был исключением. Летописец говорит об этом в посмертной похвале князю — правда, в выражениях вполне обычных, трафаретных, буквально одной фразой: «…Имея всегда страх Божий в сердце своём, подавая нуждающимся милостыню, судя суд истинен и нелицемерен, не обинуяся лица сильных своих бояр, обидящих меньших и порабощающих сирот и насилье творящих…»138 Каких-то особых, исключительных подвигов в милосердии и нищелюбии — подобных тем, например, которыми прославился Андрей Боголюбский, — Всеволод, вероятно, не совершал. Примечательно, что ни в Летописце Переяславля Суздальского, ни в Московском летописном своде конца XV века — то есть в тех летописных сводах, которые создавались при его сыновьях Ярославе и Юрии, — о раздаче милостыни в некрологе князю вообще не сказано. Упор в летописях сделан на ином — на правосудии Всеволода, который творил «суд истинен и нелицемерен», не потакая своим чересчур властным боярам. Но ведь и это во все времена было главнейшей обязанностью князя, который должен был оберегать своих подданных в том числе и от произвола собственных «велих мужей». Боярский произвол — это вообще одна из «больных» тем древней Руси. Судя по тексту летописной похвалы Всеволоду, тема эта была весьма актуальной в годы его княжения. Рассуждая о произволе на местах представителей княжеской администрации, историки, как правило, привлекают ограниченный набор источников. О двух из них необходимо сказать и здесь, ибо они относятся непосредственно к Северо-Восточной Руси и ко времени княжения Всеволода Большое Гнездо. В написанном не позднее середины XV века Житии преподобного Никиты, столпника Переяславского, рассказывается о необыкновенной судьбе этого почитаемого на Руси святого, современника Всеволода. Прежде, до своего духовного прозрения, Никита «бе мытарь друг» («другом мытарей»), а возможно, и сам был одним из «мытарей», то есть сборщиков княжеских податей и налогов. С теми вместе он «прилежа (потакал. — А. К.) градским судьям, и мног мятеж и пакости творяше человеком, от них же неправедну мьзду вземлюще», и «тем питаше себе и подружие своё» (то есть незаконно собираемой «мздой» кормил себя и свою жену). «И многа времена тако творяше»139. Из Жития святого известно, что он, будучи уже известным подвижником, аскетом, исцелил от жестокого недуга черниговского князя Михаила — совсем ещё юного тогда князя Михаила Всеволодовича, в будущем также почитаемого русского святого. Известна и точная дата этого события: как явствовало из надписи на кресте, поставленном на месте исцеления, оно случилось «в лето 6694 (1186), месяца мая 16»140. Это первое десятилетие владимирского княжения Всеволода Юрьевича. Дата не случайная: в эти самые дни во Владимире пребывали послы черниговских князей Святослава и Ярослава Всеволодовичей, готовилась свадьба владимирской княжны Всеславы, дочери Всеволода Большое Гнездо, и черниговского княжича Ростислава Ярославича. Но это ещё и то время, когда во Владимире начиналась эпидемия неизвестной болезни, поразившей весь город. Очень похоже на то, что юный Михаил, внук Святослава Всеволодовича, оказался во Владимире в числе родственников жениха; здесь он и мог заболеть, почему и отправился за исцелением в Переяславль. Если так, то «пакости» и неправедные деяния бывших друзей Никиты имели место раньше. Но когда? С точностью сказать, конечно, нельзя. Но стоит напомнить, что Переяславль — это город, в котором прежде княжил сам Всеволод и который он, став великим князем Владимирским, любил больше других своих городов. И «градские судии» и «мытари», друзья Никиты, наверняка были ему хорошо известны. Однако ни он, ни его предшественники не смогли (или не захотели?) пресечь творимые ими неправедные дела: в ином случае их преступления не продолжались бы столь долгое время. А защита от произвола таких вот неправедных судий могла найтись только у князя. Ещё один современник Всеволода Большое Гнездо, знаменитый писатель и интеллектуал Даниил Заточник, автор «Слова» (в другом варианте называемого «Молением»), живописал убожество своего положения, сетуя именно на отсутствие княжеской защиты и покровительства, а в результате — в качестве «подношения» князю — создав одно из самых поэтических произведений древнерусской литературы: «…Аз бо есмь, княже, господине, аки трава блещена (чахлая. — А. К.), растяще на застении: на ню же ни солнце сиаеть, ни дождь идёт. Тако и аз всем обиден есмь, зане [не] отражён есмь страхом грозы твоеа…»141 Князь, к которому обращено «Слово», назван Ярославом Владимировичем — надо полагать, это не кто иной, как свояк Всеволода Большое Гнездо, живший то в Новгороде, то во Владимире, то в Южной Руси. (В «Молении» — более позднем варианте «Слова» — имя князя приведено иначе: Ярослав Всеволодович, то есть сын Всеволода.) Сосланный на Лаче-озеро, на самую окраину славянского мира, Даниил взывал к княжеской милости и щедрости — неотъемлемой составляющей княжеской власти: «Да не будет, княже мой, господине, рука твоя согбена на подание убогих: ни чашею бо моря расчерпати, ни нашим иманием твоего дому истощити. Якоже бо невод не удержит воды, точию едины рыбы, тако и ты, княже, не въздержи злата, ни сребра, но раздавай людем». Ибо милостью своею князь «оживляет все человекы» — и не только «сирот и вдовиц, от велможь погружаемых» (обидимых), но и его, жаждущего княжеской милости Даниила. Ибо без защиты и покровительства князя человек — ничто. В том числе и потому, что он беззащитен перед произволом множества его слуг, его «холопов» и «меньших» (которые и являются-то «меньшими» лишь по сравнению с князем, но не по сравнению с теми, кого они попирают, компенсируя тем свою «малость» и своё «холопское» состояние). Такова главная мысль Даниила, и мысль эта, увы, оставалась актуальной во все времена русской истории, что и заставляло книжников разных эпох переписывать и дописывать сочинение Даниила Заточника, пополняя его всё новыми и новыми афоризмами142. Мы не знаем, за что пострадал автор «Слова». Но сам он, надо полагать, хорошо знал, о чём писал, раскрывая глаза князю на произвол его слуг, «тиунов» и «рядовичей»: «Не имей собе двора близ царёва двора и не дръжи села близ княжа села: тивун бо его — аки огнь, трепетицею накладен, и рядовичи его — аки искры. Аше от огня устережешися, но от искор не можеши устеречися…» Имени Всеволода ни в заголовке, ни в тексте Даниилова «Слова» нет. Но и его, Всеволода, «тиунов» и «рядовичей» надо было стеречься, и не только тем, кто приближался к «царёву двору». Всеволод сознательно отгородил свой двор во Владимире от остального мира каменными стенами — но для его слуг и «меньших», «детских», а ещё в большей степени для «сильных» бояр, «градских судий» и прочих власть предержащих стены княжеского детинца служили лишь ещё одной преградой, позволяющей скрыть свои неправедные дела от глаз самого князя. Из летописной похвалы Всеволоду Юрьевичу мы знаем, что князь — как и подобало ему — творил «суд истинен и нелицемерен». Но отнюдь не только над «сильными своими боярами». Он был «украшен всеми добрыми нравы, злыя казня, а добросмысленыя милуя» — воссоздаёт его идеальный портрет летописец. Именно в летописном некрологе Всеволода Юрьевича приведены знаменитые слова о существе княжеской власти и праве князя на суд и расправу: «Князь бо не туне мечь носить, [но] в месть злодеем, а в похвалу добро творящим». Когда-то дед Всеволода Владимир Мономах призывал в «Поучении» своих сыновей не казнить никого смертью: «Ни правого, ни виноватого не убивайте и не повелевайте убить его; если и будет достоин смерти, не губите никакой души христианской». Однако его потомки далеко не всегда следовали этому правилу. И расправа над «злыми» ставилась в заслугу князю наравне с такими его добродетелями, как милосердие или справедливость. Всеволод и здесь не являл собой исключения из правил. Несомненно, он отличался крутым нравом, хотя, по-видимому, старался без особой нужды не обагрять собственных рук кровью. Так, вернувшись во Владимир после одной из войн с рязанскими князьями, он, по словам летописца, «овых казни», но «овых же, пожаловав, отпусти», что летописец ставит ему в особую заслугу: «благосерд бо бе и милостив, и не рад кровопролитию никако же»143. Иногда князь прибегал и к другим способам расправы над врагами, в том числе и своими ближайшими родичами, — и порой весьма изощрённым. Он, например, изгнал из Русской земли своего племянника Юрия Андреевича (а может быть, и кого-то ещё). Ослепление племянников Мстислава и Ярополка Ростиславичей — это всё же исключительный случай, да и тогда Всеволод сделал всё, чтобы вина легла не на него, а на владимирцев, поднявших мятеж в городе. Случалось, что пленники Всеволода умирали в заточении (как, например, рязанский князь Глеб Ростиславич, а затем и его сын Роман) — но поспособствовали ли этому приставленные Всеволодом тюремщики или всё случилось само собой, естественным путём, нам неведомо. С прочими своими противниками владимирский «самодержец» церемонился ещё меньше. Очень многие из числа новгородцев, рязанцев, черниговцев, да и своих тоже, оказывались в погребах, застенках и земляных ямах; многие содержались там не по одному году. Доставалось при этом и послам других князей, и даже лицам духовного звания. Так что можно с уверенностью сказать, что князь действительно «не туне» носил свой меч, и «месть злодеем» оставалась отличительной чертой всего его долгого правления. В числе обычных княжеских добродетелей средневековые авторы нередко называли заботу об узниках. Ко Всеволоду это, по-видимому, не относилось. В отличие от его супруги Марии, об исключительном милосердии которой тоже повествуют летописи — и, пожалуй, в более сильных выражениях, нежели о самом князе. И вообще, если приглядеться, то можно заметить, что часть тех добродетелей, которые традиционно считались княжескими, была присуща ей, княгине, — и мы ещё будем говорить об этом. Пока же скажем о том, что именно она, по словам одного из летописцев, была подлинной защитницей сирых и обездоленных в княжестве: убогим — кормилица, печальным — заступница, томящимся в темницах (в оригинале: «темничиим») — избавление, окованным — разрешение (от оков), нагим — одеяние, болящим — посещение: такой выглядела она в глазах своих подданных144. Между прочим, читая эти летописные строки, нельзя не подивиться обилию «печальных», «темничиих» и «окованных» в княжение благочестивого и милосердного князя Всеволода. И всё же князь — пускай и руками своей ещё более благочестивой и милосердной супруги — находил возможность хоть как-то облегчать их участь. «С добрым бо думцею думая, князь высока стола добудеть, а с лихим думцею думая, меншего лишён будеть» — эти слова того же Даниила были актуальны для Ярослава Владимировича, не раз терявшего и новгородский, и другие княжеские столы. К Всеволоду Юрьевичу это явно не относилось. Он так прочно сидел на «высоком столе» града Владимира, что не нуждался в подсказках — тем более от доморощенного философа-стихоплёта. Но окружать себя «думцами» ему приходилось в любом случае, и принимать решения после совета с ними — тоже. К боярам и «думцам», которые находились рядом с ним, Всеволод, по-видимому, относился с известной осторожностью — может быть, памятуя о трагической участи своего старшего брата Андрея. Летописи называют по именам многих его бояр, но — за единственным исключением — все они упомянуты по одному разу; да и единственный названный дважды — тысяцкий Михаил Борисович — в обоих случаях исполнял дипломатические функции, общаясь не столько со Всеволодом, сколько с чужими князьями. Людей, подобных, например, воеводе Борису Жидиславичу при Андрее Боголюбе ком145, у Всеволода не было, тем более что он, в отличие от того же Андрея, сам водил войско в поход. Но не было и таких, как ясин Анбал или братья Кучковичи, которым всецело доверял его старший брат. Иными словами, летописи не дают оснований полагать, что Всеволод Юрьевич кого-то особенно приближал к себе. Но тем тяжелее давило на него бремя столь долгого пребывания у власти. Ибо он один отвечал за судьбы вверенной ему державы, и разделить эту ношу ему было не с кем. Отвечать же за всё князю предстояло не перед людьми, но перед Богом — именно так понимали существо своей власти все Рюриковичи без исключения. И князь правил своей землёй так, как считал нужным, по-своему заботясь о слабых и ограничивая произвол сильных, удерживая в темницах тех, кто, по его мнению, заслуживал того, представляя угрозу его земле и его власти. И, конечно же, строил церкви. Мы уже достаточно говорили о церковно-строительной деятельности князя Всеволода Юрьевича, которая составляла важнейшую, может быть даже главнейшую, сторону его княжения. И в этом отношении он тоже явился прямым продолжателем своих великих предшественников — и деда Владимира, и отца Юрия, и брата Андрея, чьими усилиями Владимир-Залесский был украшен как, может быть, никакой другой город Руси, включая даже древний Киев, с которым прямо сопоставлялся город на Клязьме. Но Всеволоду приходилось труднее, чем его предшественникам, и груз ответственности за судьбы Православия давил на него сильнее, чем на них. Ибо не будем забывать о том, что именно в годы его княжения произойдёт событие, коренным образом изменившее историю Восточного христианства. В 1204 году под ударами западных крестоносцев падёт и будет безжалостно разграблен Константинополь — столица Ромейской державы и всего восточнохристианского мира. На Руси это будет воспринято очень близко к сердцу — как трагедия, но вместе с тем и как свидетельство отступления греков от идеалов Православия146. А это накладывало ещё большую ответственность на правителей русских земель. А на правителя Владимиро-Суздальской Руси — тем более. Претензии Владимира на первенствующее положение среди прочих городов Русской земли приобретали при Всеволоде Юрьевиче всё более отчётливые черты, находя отражение и в архитектурных формах строящихся при нём великолепных белокаменных храмов, и в пафосе литературных памятников, выходивших из-под пера его книжников. Отчасти мы тоже говорили об этом. И реликвии святого Димитрия, принесённые по воле самого Всеволода из греческой Солуни, должны были превратить Владимир в «новый Солунь», укоренить на берегах Клязьмы накопленную веками святость одного из признанных центров православного мира. Да и сам Владимир находился под покровительством Пресвятой Богородицы. Всеволод лично убедился в этом ещё в самом начале своего княжения, узрев небесный образ Владимирской Божией Матери накануне решающей схватки с врагами летом 1176 года. А ведь раньше покровительство это простиралось прежде всего на стольный Киев. Но Киев был разгромлен войсками враждебных ратей, и не раз. А это значило, что покровительство свыше покидает его. В отличие от стольного Владимира, который процветал под мудрым водительством благочестивого и христолюбивого князя.Поход на Дон
Единственный свой поход на половцев князь Всеволод Юрьевич совершил весной 1198 года. Он «всел на коня» вместе с сыном Константином 30 апреля, а возвратился во Владимир 6 июня, то есть провёл в походе месяц с небольшим147. Что стало причиной похода, летописи не сообщают; только совсем уж в поздних и малодостоверных исторических сочинениях XVII–XVIII веков приведены какие-то объяснения на сей счёт: то ли Всеволод действовал «по просьбе князей рязанских» (так у Татищева); то ли «в сие лето пришли половцы на Русскую землю», в ответ на что и «пойде на них Всеволод Московский» (так в Густынской летописи)148. Впрочем, одна из причин похода кажется очевидной: у Всеволода подрастал сын; ему шёл тринадцатый год — а это время считалось самым подходящим для начала военной карьеры и совершения первых ратных подвигов. Наверное, отец хотел помочь ему в овладении главным княжеским ремеслом, а главное, продемонстрировать всем, что сын его окончательно перешёл ту черту, которая отделяет княжича от князя, и способен совершать дальние и опасные военные походы. Судя по тому, что князья воевали «возле Дона» (а под этим именем в древней Руси, как правило, понимали Северский Донец, считая его верхним течением реки Дон), а также по отсутствию каких-либо упоминаний об участии в походе рязанских князей, можно предположить, что Всеволодовы дружины выступили из Переяславля-Русского — самого близкого к границе со Степью русского города, находившегося под властью владимирского князя. Примечательно, что в той же статье Лаврентьевской летописи далее, без даты, сообщается о смерти в Русском Переяславле Всеволодова племянника Ярослава Мстиславича (Ярослава Красного). Своего третьего сына, тоже Ярослава, Всеволод отправит княжить в Переяславль лишь два года спустя, в августе 1200-го149. Так может быть, до этого в течение двух лет в городе на Трубеже княжил старший Всеволодович[27] и поход на половцев (уже после смерти дяди?) стал первым его деянием в новом качестве? Во всяком случае, для переяславского князя война с половцами была делом обычным и даже обязательным. И когда Всеволод восстановил свою власть над этим городом, он должен был принять на себя ответственность за его оборону со стороны Степи, а для этого требовались в том числе и превентивные меры. Время для похода было выбрано не самое удачное. Наступление на половецкие становища весной, когда кочевники были ослаблены после долгой зимы, стало обычной практикой русских князей со времён Владимира Мономаха. Но Мономах предпочитал выступать раньше, в феврале-марте, хотя это было труднее и требовало более тщательной подготовки. Многое зависело от того, какой была зима, сошёл ли снег и способно ли конное войско продвигаться по бездорожью Степи. В конце апреля пути делались проезжими и удобными, что для Всеволода и его юного сына было, по-видимому, важнее. Но и кони половцев к концу апреля набирали силу, и застать врага врасплох было практически невозможно. Вот и на этот раз выступление русского войска не осталось незамеченным. «Половцы же слышавше поход его, бежаша и с вежами к морю, — свидетельствует летописец, имея в виду побережье Сурожского (Азовского) моря. — Князь же великий ходив по зимовищам их (в другом списке: «становищам их». — А. К.) и прочее возле Дона; онем безбожным пробегшим прочь». Это тоже была обычная тактика кочевников — отступать, избегая столкновения с сильным врагом. Всеволоду и его сыну почти ничего не досталось. В течение трёх-четырёх недель они рыскали по пустым половецким «зимовищам», после чего вынуждены были вернуться домой. Ни о каких «сайгатах» — трофеях: ни о пленниках, ни вообще о какой-либо добыче летопись не сообщает, ограничиваясь обычными, так сказать, трафаретными фразами: «Князьже великий возвратился вспять в град свой во Владимир и вниде месяца июня в 6 день, на память святого мученика Дорофея епископа, в день субботний, и бысть радость велика в граде Владимире». А вот другой сын Всеволода, Ярослав, когдастанет переяславским князем, примет участие уже в общерусском походе на половцев — в 1204 году. Поход этот будет организован великим князем Рюриком Ростиславичем с участием многих князей (которые на короткое время окажутся в мире друг с другом), и четырнаднатилетний «Ерослав переяславьский, великого князя Всеволожь сын», будет назван среди участников похода вторым, сразу вслед за самим Рюриком и впереди Романа Мстиславича, сильнейшего из тогдашних южнорусских князей. Время для похода — самое начало весны — будет выбрано тогда более удачно («бысть же тогда зима люта, и половцем бысть тягота велика») — а потому и итоги похода окажутся не в пример Всеволодовым: «…и взяли русские князья полона много, и стада их захватили, и возвратились восвояси с полоном многим»151. И всё же поход 1198 года, несмотря на свои скромные результаты, лишний раз показал силу владимирского «самодержца». В конце концов, половцы бежали «к морю» при одном лишь известии о его выступлении в Степь — а ведь именно это будут ставить в заслугу князю Всеволоду Юрьевичу древнерусские книжники. «От одного только имени его трепетали все страны», — восклицал владимирский летописец, автор посмертной похвалы князю (повторяя слова из летописной же похвалы Владимиру Мономаху), и, конечно же, имел на то основания. Когда мы читаем строки «Слова о полку Игореве» о могуществе «великого Всеволода», который способен был «Волгу вёслы раскропити, а Дон шеломы выльяти», то может сложиться впечатление, что автор подразумевал как раз поход 1198 года — единственный, повторюсь, в биографии Всеволода Юрьевича поход на Дон152. Но вот дальнейшие его слова, обращённые к Всеволоду: «…Аже бы ты был, то была бы чага по ногате, а кощей по резане», — может быть, и относятся к волжскому походу 1183 года, но к донскому — вряд ли. «Чага» — это пленница, рабыня; «кощей» — пленник, раб. Мы уже говорили о том, что захват полона во времена, о которых идёт речь, был едва ли не главной целью любой войны. Понятно, что после успешных походов, когда на Русь приводили толпы половецких и прочих невольников-«кощеев», цена на них падала; по мысли автора «Слова…», участвуй Всеволод в других военных предприятиях русских князей — и пленников и пленниц можно было бы покупать за бесценок («ногата» и «резана» — это мелкие денежные единицы: ногату, например, по нормам «Русской Правды», платили за кражу барана или порося, резана же стоила почти вдвое дешевле). Та же «Русская Правда» подтверждает, что «роба» ценилась дороже пленника, холопа. Но обычная сумма, которую платили за них, составляла 6 и 5 гривен соответственно153, — а это более чем в сто раз (!) выше, нежели те смешные цены, которые называл автор «Слова…». Противопоставление могущественного князя Всеволода черниговским князьям-неудачникам, участникам похода в Степь 1185 года, — одна из ключевых идей «Слова о полку Игореве». И особенно многозначным оказывается тут образ «шелома» (шлема) — одного из символов воинской победы. Игорь и брат его «буй-тур» Всеволод, «два сокола», слетевшие «с отня стола злата», грозились, начиная поход, «испити шеломом Дону»154 — подобно тому, как некогда сделал это великий и славный Владимир Мономах, который, одержав свою знаменитую победу над половцами, «пил золотом шеломом Дон, и приемшю землю их всю, и загнавшю оканьныя агаряны», как образно выразился автор Галицко-Волынской летописи155. Внук же его великий князь Всеволод Юрьевич со своими полками способен был на большее — не только «испити», но «выльяти» — «вычерпать» — шеломами Дон. Так казалось автору «Слова…» — но получилось ли так на деле, он, как видим, не знал. Совершив свой донской поход, Всеволод тоже прогнал «окаянных агарян» к морю, подобно своему великому деду, — но затем половцы вернулись на свои привычные места кочевий, ничуть не менее грозные для русских, чем прежде, и «кощеи» и «чаги» остались в прежней цене, а синий Дон всё так же нёс свои воды к Сурожскому морю……Итак, Всеволод Юрьевич возвратился во Владимир в июне 1198 года. А полтора месяца спустя, 25 июля, во Владимире случился очередной «пожар велик»: «…во время литургии загорелось, и горело до вечера; церквей сгорело 16, а города мало не половина». И вновь приходилось отстраивать сгоревшие дома и церкви, восстанавливать город, раздавать погорельцам милостыню… Приходившие с юга известия иной раз огорчали, а иной раз радовали Всеволода Юрьевича. О смерти сначала Давыда Смоленского (в 1197-м), затем Ярослава Черниговского (в 1198-м), а затем и его племянника Владимира Святославича (в 1200-м) и двоюродного брата Игоря (в 1201-м) он узнавал почти без задержки (известия об этом внесены в Лаврентьевскую летопись). Своего племянника Ярослава Мстиславича Всеволод, возможно, хоронил сам — в Переяславле-Русском. Ну а зимой 1198/99 года из Киева пришло радостное для него известие: у него родилась внучка, дочь Верхуславы-Анастасии и Ростислава Рюриковича. Девочку назвали Евфросинией, а «прозванием Изморагд, еже наречеться дорогый камень», — редкое, особенное имя, не встречающееся более среди имён русских княгинь. Это имя-прозвище отсылало к Житию святой Евфросинии Александрийской, в честь которой и была крещена княжна: мужское (!) имя Смарагд — по-гречески изумруд, или просто драгоценный камень, — приняла святая, скрывая свой пол и подвизаясь в мужском монастыре; на Руси же имя сделалось женским. В Вышгороде, где дочь Верхуславы Всеволодовны, видимо, и появилась на свет, пышно отпраздновали это событие. Восприемниками новорождённой стали князь Мстислав Мстиславич и княгиня Предслава Рюриковна — бывшая жена Романа Мстиславича. Времена изменились — и Всеволоду Юрьевичу показывать внучку никто не спешил. «И взяли её к деду и бабе, и так воспитана была в Киеве, на Горах», — свидетельствует летописец156. 3 августа 1200 года Всеволод Юрьевич вместе с сыновьями Константином и Юрием провожал на княжение в Русский Переяславль десятилетнего сына Ярослава — событие, о котором мы уже говорили. Посланцы «из Руси», как и положено, явились к самому Всеволоду в Переяславль-Залесский, где тот пребывал с семьёй (в «полюдье», как уточняют отдельные летописи). Отсюда князь-отрок и отправился «на стол прадеда и деда своего». «Переяславци же поимше князя своего Ярослава от Святаго Спаса, поидоша с радостью великою, хваляще Бога и Святую Богородицю и святаго Михаила, давшаго им князя, его же желаша (Архангелу Михаилу посвящён главный собор Южного Переяславля. — А. К.). Братья же проводиша и с честью Костянтин, Юрги, и бысть радость велика в граде Переяславли». А в самом конце того же 1200 года случилось «знамение в луне» — полное лунное затмение. Подобным явлениям всегда уделяли особое внимание, видя в них, как правило, дурной знак небес. И действительно, «наутрия» (а в действительности пару дней спустя), 24 или 25 декабря157, преставилась «княгиня Ярославляя, свесть великого князя Всеволода», сестра его жены Марии Шварновны. Эта женщина, по-видимому, была очень близка к княжеской семье. После смерти двух её сыновей в Новгороде и Великих Луках жизнь княгини круто переменилась. Надо полагать, что тогда же она рассталась с мужем, приняв иночество. В тот самый год, когда Всеволод «вывел» из Новгорода её мужа, князя Ярослава Владимировича, княгиня основала в Новгороде, на «Михалице», монастырь Рождества Богородицы, которому суждена была долгая жизнь (он просуществует до середины XVIII столетия)158. Свояченица Всеволода была похоронена с почестями во Владимире, в незавершённом ещё соборе Успенского Княгинина монастыря, основанного её сестрой, великой княгиней Марией. Этот монастырь Мария строила для себя. Она тяжело болела последние годы и готовилась тоже принять здесь иноческий образ, а потом и найти последнее пристанище. Так и случится — но ещё до неё в основанном ею монастыре, в соборе Успения Пресвятой Богородицы, будут похоронены близкие ей люди, представительницы женской части княжеского семейства: сначала её сестра, а затем, 30 декабря 1204 года, одна из дочерей, Елена.
Киевская трагедия
Получилось так, что Киевская летопись, которая велась непрерывно на протяжении более чем двух столетий, оказалась незаконченной. Она обрывается рассказом о киевских событиях 1198/99 года: зимой у великого князя Рюрика Ростиславича родилась внучка Евфросиния; в том же году Рюрик выдал замуж свою дочь Всеславу — в Рязань, за князя Ярослава Глебовича; 10 июля заложил каменную стену киевского Выдубицкого монастыря, дабы защитить главную монастырскую церковь во имя Архангела Михаила от подмывания водами Днепра; 24 сентября того же 1199 года стену освятили, и было устроено пышное празднество, по случаю чего выдубицкий игумен Моисей сочинил торжественную кантату, которая и была исполнена монастырским хором159. Текстом этой кантаты, или торжественным Словом игумена Моисея, летопись и завершается: далее и в Ипатьевском, и в Хлебниковском списках Ипатьевской летописи следует другой памятник — так называемая Галицко-Волынская летопись, посвящённая событиям в Галицкой и Волынской Руси уже после смерти князя Романа Мстиславича. Продолжить рассказ о княжении Рюрика Ростиславича летописец (а им в этой части Киевской летописи признаётся тот же игумен Моисей) не смог — ибо княжение это оборвалось тоже внезапно. А потому обо всём, что происходило тогда в Киеве и соседних землях, мы узнаём из северорусских летописей, довольствуясь приведённой в них и вряд ли вполне объективной версией. «Того же лета вста Рюрик на Романа» — так начинается в Суздальской (Лаврентьевской) летописи рассказ о возобновлении войны между двумя сильнейшими князьями Южной Руси — бывшими тестем и зятем: Рюриком Ростиславичем Киевским и Романом Мстиславичем, объединившим к тому времени под своей властью Волынское и Галицкое княжества. Чрезмерное усиление бывшего зятя напугало Рюрика; потому-то он и решил начать против него войну. Рассказ этот датируется 1201/02 годом — скорее всего, зимой, судя по тому, что о следующем событии года говорится как о случившемся «тое же зимы»160. Расстановка сил, состав княжеских коалиций в этой войне кардинально поменялись. Рюрик привлёк на свою сторону черниговских Ольговичей. Главой черниговского клана к тому времени стал Всеволод Чермный, сын бывшего великого князя Киевского Святослава Всеволодовича. Рюрик много лет совместно правил Русской землёй с его отцом — а потому мог рассчитывать и на союз с сыном. А вот со Всеволодом Суздальским он свои действия, кажется, не согласовал. Всеволод наблюдал за происходящим со стороны. Роль старшего среди всех русских князей позволяла ему оставаться над схваткой и в решающий момент принять сторону того, чья победа казалась ему выгоднее. В состав огромного Рюрикова войска вошли также «чёрные клобуки» и дружины из ближних к Киеву городов. Но действовал Рюрик Ростиславич очень медленно. И Роман сумел опередить его. Каким-то образом он заранее узнал о планах тестя (вероятно, у него нашлись осведомители в ближайшем окружении Рюрика). И пока враждебное ему войско только готовилось к выступлению из Киева, он, собрав галицкие и волынские полки, совершил стремительный бросок на Киев. Тогда-то и выяснилось, насколько слабым и ненадёжным было войско, собранное киевским князем. Наверное, Роман не скупился на посулы союзникам Рюрика. И большинство из них предпочло перейти на его сторону ещё до начала военных действий. Первыми это сделали «Владимиричи» — сыновья князя Владимира «Матешича», находившиеся в подчинении у Рюрика. Их судьбы давно разошлись с судьбой их брата Ярослава, свояка Всеволода Большое Гнездо, который выбрал себе другого покровителя. Но к 1201 году, после смерти сначала сыновей, а потом и жены, Ярослав лишился поддержки владимирского князя и тоже обосновался на юге. Здесь он, по-видимому, и сблизился с братьями и их покровителем Рюриком Ростиславичем, а потом — опять-таки вместе с братьями — перешёл на сторону другого, более сильного князя (несколькими годами позже мы встретим его в Вышгороде, одном из главных городов Киевской земли, который он, по-видимому, получил уже от Романа). За Владимировичами последовали «чёрные клобуки», некогда воевавшие под началом Романова отца, Мстислава Изяславича, а затем и остальные: все они, «совкупившеся, ехаша к Роману, и что городов русских, и из тех людье ехаша к Роману…». Рюрик и его союзники Ольговичи не успели даже покинуть Киев. Они надеялись отсидеться в городе, но Роман вступил в переговоры с киевлянами, и те отворили ему городские ворота. Роман занял Подол — низменную часть Киева, блокировав Верхний город — Гору. И Рюрику ничего не оставалось, как принять условия капитуляции, продиктованные ему бывшим зятем: «…и послал (Роман. — А. К.) на Гору к Рюрику и ко Ольговичам, и водил Рюрика к кресту и Ольговичей, а сам к ним [крест] целовал же, и отпустил Рюрика во Вручий, а Ольговичей за Днепр, к Чернигову…» Так Рюрик потерпел жестокое поражение. Из его обширных владений ему был оставлен лишь Вручий — город, давно уже ставший его резиденцией. Черниговские же князья довольствовались тем, что отказались от союза с ним, сохранив за собой свои волости: на их земли никто из киевских князей не покушался. Занимать киевский стол Роман не хотел. Подобно суздальским князьям, он предпочитал ведать киевскими делами издалека, оставаясь в своём княжестве. Для Киева же у него нашёлся подходящий князь — его младший двоюродный брат Ингварь Ярославич, князь Луцкий и Дорогобужский, сын Ярослава Изяславича. Последний некогда занимал киевский стол, и это делало княжение его сына вполне легитимным: Киев был для Ингваря «отчиной» и «дединой». Едва ли и Роман Мстиславич мог согласовать свои действия со Всеволодом Юрьевичем — слишком уж стремительный оборот приняли события161. В Лаврентьевской летописи, однако, всё представлено так, будто решения принимались ими совместно: «…и посадил великий князь Всеволод и Роман Ингваря Ярославича в Киеве». Это известие, как правило, признаётся недостоверным — и именно из-за скоротечности событий и невозможности для Романа послать гонца во Владимир и получить ответ от Всеволода (тем более что в Московском летописном своде конца XV века и некоторых других имени Всеволода нет: распоряжается всем и сажает Ингваря на киевский стол один Роман Мстиславич)162. Но мы недостаточно хорошо знаем механизмы межкняжеских отношений того времени. Вполне возможно, что в Киеве пребывали особые, доверенные люди князя Всеволода Юрьевича — как раз на такой или подобный ему случаи, — и они обладали необходимыми полномочиями для того, чтобы представлять своего князя, в том числе в церемонии интронизации нового правителя. Так или иначе, но Всеволод Юрьевич признал Ингваря Ярославича в качестве киевского князя. Наверное, он, так же как и Роман, смотрел на Ингваря как на временную, проходную фигуру, понимая, что у того не хватит ни сил, ни возможностей править Киевом самостоятельно. И в этом качестве Ингварь устраивал обоих князей, неожиданно сделавшихся союзниками. Но княжение Ингваря Ярославича в Киеве продлилось очень недолго. Рюрик нарушил крестное целование и вновь объединился с Ольговичами. Под следующим годом летопись сообщает о взятии Киева войсками Рюрика Ростиславича и черниговских князей в союзе с половцами, которых в огромном количестве привели с собой Ольговичи. Летописец говорит в этой связи о «всей Половецкой земле», пришедшей к Киеву. Во главе этих бесчисленных орд стояли всё тот же Кончак (напомню, тесть новгород-северского князя Владимира Игоревича) и сын другого давнего врага Руси — Данила Кобякович (к тому времени половцы охотно использовали христианские, русские имена). Трагедия случилась 1 или 2 января 1203 года163. Роман Мстиславич пребывал тогда в Галиче. Он недавно вернулся из большого похода на половцев — не донских, но дунайских — и оказать помощь двоюродному брату не мог. Судьба Киева оказалась ужасной. Описывая происходящее, летописец вспоминал и о прежних разорениях Киева — вероятно, имея в виду события 1169 и 1174 годов, — но то, что случилось в январские дни 1203 года, не шло, по его мнению, ни в какое сравнение даже с этими бедствиями. Хотя в описании киевской трагедии он пользуется теми же выражениями, что и в рассказе о взятии Киева ратью одиннадцати князей в 1169 году: «…И сотворилось великое зло в Русской земле, какого же зла не было от Крещения над Киевом: напасти были и взятия, [но| не такие, как ныне зло это случилось. Не только одно Подолье взяли и пожгли, но и Гору взяли, и митрополью Святую Софию разграбили, и Десятинную Святую Богородицу разграбили, и монастыри все, и иконы ободрали, а иные забрали, и кресты честные, и сосуды священные, и книги, и порты (драгоценные одеяния, покрывала. — А. К.) блаженных первых князей, которые те повесили в церквах святых на память себе, — то всё забрали себе в полон… Чернецов и черниц старых перебили, и попов старых, и слепых, и хромых, и горбатых, и трудоватых (больных. — А. К.) — тех всех перебили, а что до других чернецов и черниц, и попов, и попадей, и киян, и дочерей их, и сыновей их, — тех всех повели иноплеменники в вежи к себе…» Ингварь Ярославич сумел бежать из Киева, а вот старший из князей «Владимиричей», Мстислав, попал в плен — правда, не к половцам, а к черниговской дружине: его захватил не кто иной, как князь Ростислав Ярославич, зять Всеволода Большое Гнездо, и увёл к себе в Сновск. Уцелели лишь купцы-иноземцы «всякого языка», оказавшиеся в Киеве по торговым делам: они сумели выкупить жизни ценой половины своих товаров: «и сохранили им жизнь, а товар с ними розделили на полы (то есть пополам. — А. К.)». Напоследок город — или, вернее, то, что от него осталось, — был сожжён. Вот так князь Рюрик Ростиславич отомстил киевлянам, предавшим его годом ранее в руки Романа, и так отметил день своих именин, 1 января (в этот день праздновалась память святителя Василия Великого, чьё имя он носил в крещении). И это тот самый князь Рюрик, которого всего несколькими годами раньше прославлял в своём торжественном Слове выдубицкий игумен Моисей — и не за что иное, как за труды по украшению града Киева, за «любовь несытну» к церковному и прочему «зданию»! Теперь и эти Рюриковы строения, и дворцы и храмы, возведённые его предшественниками, были преданы огню и разграблению. Что ж, и такое случается в истории! Ненависть и злоба к ближнему до неузнаваемости меняют человека всего за несколько лет. Рюрик не остался в разорённом им Киеве, но ушёл в свой Вручий. В Черниговскую землю вернулись князья Ольговичи; половцы, обременённые громадной добычей и бесчисленным полоном, потянулись в свои вежи. Киев остался пустым, без князя, и лишь постепенно уцелевшие жители стали возвращаться на пепелище… Спустя полтора месяца, 16 февраля, Роман Мстиславич подступил к Вручему. Но Рюрик Ростиславич успел к тому времени сослаться со Всеволодом Юрьевичем. Как оказалось, и для Всеволода, и для Романа важнее всего было отвратить Рюрика от союза с Ольговичами и половцами. Рюрик целовал в том крест не только Всеволоду, но и его сыновьям: прежде всего старшему Константину, чьё имя выделено в летописи особо. И этого оказалось достаточно, чтобы предотвратить новую войну. Известие о крестоцеловании Всеволоду заставило Романа примириться со своим врагом: «И рече Роман к Рюрику: — Ты уже еси крест целовал. Пошли ты мужа своего ко свату своему, а я шлю своего мужа ко отцу и господину великому князю Всеволоду. И ты ся моли, и я ся молю, абы ти дал Киев опять». Так изложен ход переговоров в Суздальской (здесь: Радзивиловской) летописи, где, конечно же, всё описывается с позиции владимирского «самодержца». Но в общем-то не так важно, действительно ли князь Роман Мстиславич проявлял заинтересованность в том, чтобы вернуть Киев Рюрику (ближайшее будущее покажет, что его ненависть к бывшему тестю лишь усилилась после киевского погрома). Важнее его признание Всеволода «отцом и господином» — подобно тому, как признавал это его предшественник на галицком столе Владимир Ярославич. Взаимная вражда южнорусских князей, взаимное истребление сил друг друга ещё ярче обозначили роль Всеволода Юрьевича как верховного арбитра в их спорах. Судьба Киева зависела теперь от него. И Всеволод вынес своё решение: «Боголюбивый и милосердый великий князь Всеволод не помянул зла Рюрикова, что есть сотворил в Русской земле, но дал ему опять Киев». Предположительно весной или летом был заключён мир и с Ольговичами. Инициатором примирения суздальский летописец опять называет князя Романа Мстиславича: «Прислал Роман мужа своего к великому князю ко Всеволоду, моляся о Ольговичах: дабы его приял в мир и ко кресту водил. Великий князь Всеволод послал мужа своего Михаила Борисовича и водил Ольговичей ко кресту. А Ольговичи послали мужей своих и водили великого князя Всеволода ко кресту, а Романа в Руси. И бысть мир». Но и этот хрупкий мир оказался недолговечным. Зимой 1204 года русские князья — Рюрик Ростиславич, Роман Мстиславич, Всеволодов сын Ярослав и другие — совершили успешный поход на половцев (мы упоминали о нём в предыдущей главе). Казалось бы, итоги похода дали понять, сколь многого можно добиться, действуя совместно, а не истребляя друг друга в междоусобной войне. Но не тут-то было! В городе Треполе на Стугне собрались главные действующие лица и этого похода, и предыдущей войны: Рюрик Киевский, его сын Ростислав (приехавший сюда из Переяславля, куда он заезжал по приглашению своего шурина, юного Ярослава Всеволодовича) и Роман Галицко-Волынский. Собрались они для того, чтобы договориться друг с другом относительно своих владений: «ту было мироположение в волостех, кто како терпел за Рускую землю», по выражению летописца. То есть намерения были самыми мирными, но… «един же дьявол печален бысть, иже не хощет роду хрестьяньскому добра», — сетует летописец, привычно находя единственно возможное объяснение случившемуся: именно он, диавол, «положи смятение великое» в Русской земле. Сколько уже было таких «смятений великих» за последние несколько лет! И вот новая трагедия — на этот раз, кажется, без пролития крови. Там же, в Треполе, в ходе ожидавшегося «мироположения», между Рюриком и Романом вспыхнула ссора. Вся накопившаяся злоба галицко-волынского князя к своему бывшему тестю, а заодно и к бывшей тёще и бывшей жене, вырвалась наружу. Роман схватил Рюрика и отправил его вместе с семейством в Киев. А там повелел насильно постричь в монахи, что в представлении людей того времени было равносильно физической смерти для мира164. Вместе с Рюриком принудительному постригу были подвергнуты его жена Анна и дочь Предслава, с которой Роман развёлся несколькими годами раньше. Сыновей же Рюрика Ростислава и Владимира (причём первого с женой и детьми!) Роман отослал в Галич — и можно было опасаться, что и их ждёт участь родителей и сестры165. А ведь речь шла о зяте князя Всеволода Юрьевича, его любимой дочери и внуках! В древней Руси случаи насильственного пострижения князей бывали — и всегда заканчивались печально. Для Всеволода Юрьевича произошедшее, несомненно, стало потрясением. «И услышав то великий князь Всеволод, еже сотворил у Руской земли, и печален бысть велми, зане всякыи хресть[я]ныи радуется о добрем, печалуется же о злем, — объясняет суздальский летописец. — Великый же князь Всеволод сватом своим Рюриком печален бысть, и зятем своим, и детми его» (как видим, у Ростислава и Анастасии-Верхуславы появился на свет по крайней мере ещё один ребёнок, внук или внучка Всеволода Большое Гнездо). Что было делать Всеволоду? Роман нарушил неписаные законы межкняжеских отношений — а значит, у Всеволода были все основания начать войну с ним, отомстить за свата и зятя. Но он решил по-другому и, «хрестьян деля», по выражению суздальского летописца (то есть ради сохранения жизней христианских), вступил в переговоры с Романом: «и посла мужи свои к Романови в Галичь. Роман же послуша великого князя, и зятя его пусти… и брата его (Владимира Рюриковича. — А. К.) пусти». Более того, по условиям мира, заключённого князьями, Ростислав Рюрикович, зять Всеволода, становился новым киевским князем — вместо отца. В изменившихся условиях — Рюрик Ростиславич выбыл из числа действующих князей — пришлось подтверждать и договор с Ольговичами. 6 февраля 1205 года черниговские князья вновь целовали крест великому князю Всеволоду и его сыновьям, а также Роману Мстиславичу. Заметим, что о крестоцеловании новому киевскому князю в летописи ничего не говорится. Княжение Ростислава всецело определялось договором между Всеволодом и Романом и гарантировалось ими же. Своих посланников к Всеволоду направил и его сват Мстислав Романович Смоленский, племянник Рюрика; это были смоленский епископ Игнатий и Михаил, игумен смоленского Отроча монастыря (они оказались во Владимире в марте 1205 года, в траурные дни прощания с княгиней Марией, супругой Всеволода)166. Из летописей следует, что Мстислав послал их «молиться о мире… зане же приложился бяше к Ольговичем» (в некоторых списках: «молиться о извиненьи его»). Теперь, после пострижения дяди и примирения с Ольговичами самого Всеволода, смоленскому князю не оставалось ничего другого, как признать свои «вины» и искать покровительства свата. Всеволод, надо полагать, вины «отдал», приняв свата в число своих союзников. По сути, вся огромная Русь, за исключением черниговских владений князей Ольговичей и некоторых других территорий, была поделена на сферы влияния между двумя могущественными правителями — великим князем Романом, «приснопамятным самодержцем всея Руси» и даже «царём» (как будет назван он в Галицко-Волынской летописи), и владимирским властелином великим князем Всеволодом Юрьевичем. Это время можно назвать вершиной, высшим пиком политического могущества Всеволода Юрьевича. Но вершина потому так и называется, что за ней с неизбежностью следует спад. Так случится и со Всеволодом — но об этом мы будем говорить уже в следующей части книги.…Трудно сказать, как повернулись бы судьбы Южной Руси, не случись внезапной смерти князя Романа Мстиславича в Польше. Что привело его туда и что заставило воевать с польскими князьями Лешко Белым и Конрадом Мазовецким — его прежними союзниками, неизвестно (историки предлагают несколько версий, связывая поход русского князя с общегерманской войной Штауфенов и Вельфов за корону Священной Римской империи). Известно только, что 19 июня 1205 года в сражении над Вислой у польского города Завихвост князь Роман Мстиславич был убит: по свидетельству русской летописи, он «отьеха в мале дружине от полку своего»; польские же хронисты рисуют картину «неслыханной резни», в результате которой Висла переполнилась кровью, «и было в ней бесчисленное множество трупов погибших от победоносной руки поляков»167. Известие об этой смерти воодушевило престарелого Рюрика Ростиславича, уже монаха, а не князя. Как известно, тщеславие и жажда власти не ослабевают, но лишь усиливаются с годами, и примеров тому в истории немало. По меркам древней Руси к 1205 году князь-инок был уже глубоким стариком (он родился в конце 1130-х, то есть ему было под семьдесят). Тем не менее он совершил шаг, беспрецедентный в истории домонгольской Руси: сбросил с себя иноческое платье и объявил своё насильственное пострижение недействительным. Князь попытался расстричь и жену Анну, но та воспротивилась мужу и, дабы не подчиняться ему, приняла схиму — высшую степень монашеского пострига. Сам же князь поспешил к Киеву и заключил здесь новый союз с Ольговичами, которых смерть Романа освободила от прежнего крестоцелования. Все вместе: Рюрик с сыновьями Ростиславом и Владимиром и Ольговичи с приведёнными ими половцами двинулись к Галичу, считая этот город своей добычей (ибо после Романа остались лишь двое малолетних сыновей, Даниил и Василько, четырёх и двух лет; воевать за наследство отца они не могли). Первый приступ, однако, оказался неудачным, галичане крепко стояли за князей-младенцев, и Ольговичам пришлось отступить «со срамом великим». Ушёл в Киев и Рюрик Ростиславич. Старший же его сын Ростислав занял Вышгород, выгнав оттуда не кого иного, как князя Ярослава Владимировича, бывшего свояка Всеволода Большое Гнездо. (Ярослав, по всей вероятности, вскоре умер, а вот некий его не названный в летописи сын получил в качестве наместника киевского князя город Треполь.) Свою долю в «Русской земле» вытребовали и Ольговичи: по договору с Рюриком к ним отошёл город Белгород, куда сел на княжение Глеб Святославич168. Война за Галич на этом не закончилась, но, напротив, разгорелась с новой силой. Помимо русских князей, в неё оказались втянуты и венгерский король Андрей (Эндре) II, и польский князь Лешко Белый. В этой войне будет сконцентрировано всё самое страшное, что могло быть в войнах того времени: и бесчинства иноплеменников, и жестокие репрессии в отношении местных бояр со стороны русских князей (по летописи, в городе будут казнены до пятисот бояр!), и жестокое и публичное убийство самих князей горожанами, и единственная в истории древней Руси попытка боярина (не Рюриковича!) вступить на княжеский стол. Лишь по прошествии многих лет ценой колоссального напряжения сил старшему из сыновей Романа Мстиславича, Даниилу, удастся воссоздать Галицко-Волынское княжество в прежних границах и превратить его в сильное и процветающее государство (в конце жизни, уже после монгольского разорения Руси, Даниил примет даже королевский титул). Здесь не место рассказывать о всех перипетиях этой войны. Скажем лишь о том, что свои интересы в Галиче преследовал и князь Всеволод Юрьевич. После вынужденного бегства из княжества вдовы Романа с двумя малолетними детьми (один из которых оказался в Польше, а другой — в Венгрии) местное боярство решило передать власть родичам последнего «законного» Галицкого князя — Владимира Ярославича, на котором, как мы уже говорили, пресеклась династия галицких князей. В первую очередь речь могла идти о новгород-северском князе Владимире Игоревиче и его братьях — племянниках Владимира Ярославича по матери (сыновьях знаменитой Ярославны, сестры галицкого князя), и сыновьях Всеволода Большое Гнездо, двоюродных братьях того же Владимира (матерью которого была их тётка, Ольга Юрьевна). Галич оказался расколот. Горожане в равной степени боялись и своих, русских князей, и чужих. В своё время, завоевав город, князь Роман Мстиславич с крайней жестокостью расправился с видными галицкими боярами. Многие бежали — и лишь теперь получили возможность вернуться обратно. Наследников Романа они видеть своими князьями не желали. Опасаясь безвластия, бояре сделали ставку на разные политические силы как внутри Руси, так и за её пределами. Когда на Галич двинулась объединённая рать из Чернигова во главе со Всеволодом Чермным и Владимиром Игоревичем, а также Рюрик Ростиславич с сыновьями из Киева и Мстислав Романович из Смоленска, а с ними ещё и половцы, и «чёрные клобуки», и союзные «ляхи», галичане обратились за помощью к венгерскому королю Андрею. Король переправился через Карпаты и заключил договор с поляками о разделе (в будущем) галицких и волынских земель. Ольговичи «убоялись» и подступать к Галичу не посмели. Однако и возвращаться домой не стали, и «устояли» (остановились) «от Галича за 2 дни». Король тоже вернулся восвояси, но прежде обсудил с галичанами судьбу престола. По соглашению с королём было решено пригласить в Галич шестнадцатилетнего Ярослава Всеволодовича, сына Всеволода Большое Гнездо; посольство за ним было отправлено в Южный Переяславль169. Напомню, что за семнадцать лет до этого отец Андрея король Бела заключил договор с князем Всеволодом Юрьевичем, скреплённый крестным целованием, по которому обязался поддерживать галицкого князя Владимира Ярославича, «сестричича» Всеволода. Всеволодов сын Ярослав, очевидно, рассматривался в Венгрии как законный наследник последнего галицкого князя. Можно думать, что король Андрей рассчитывал на какие-то уступки со стороны Всеволода; не исключено также, что на этот счёт между ними существовали вполне определённые, хотя и оставшиеся нам неизвестными договорённости. Во всяком случае, едва ли шестнадцатилетний Ярослав, принимая предложение галичан, действовал на свой страх и риск. Он должен был посоветоваться с отцом. Но на это потребовалось время. По свидетельству летописца, галичане ждали Ярослава Всеволодовича две недели. (Обычный путь из Южного Переяславля до Галича занимал четыре-пять дней, не больше.) А за эти две недели ситуация кардинально поменялась. Когда венгерское войско ушло за Карпаты, галичане «убояшася полков русских — еда возвратятся на них опять, а князя у них нету», и решили «отаи» (тайно) послать за старшим из князей Игоревичей Владимиром — приглашая теперь уже его на княжеский стол, благо черниговское войско стояло недалеко от Галича. Инициаторами этого приглашения стали вернувшиеся в Галич из изгнания и очень влиятельные в городе бояре «Кормильчичи»170 — судя по отчеству, сыновья бывшего «кормильца», «дядьки»-воспитателя князя Владимира Ярославича (именно глава этого клана, Владислав Кормильчич, спустя несколько лет и будет самочинно претендовать на княжеский стол). Игоревич ни с кем советоваться не стал. Утаившись от других черниговских князей, он «погнал» в Галич и успел вступить в город раньше юного Ярослава. По словам суздальского летописца, Всеволодов сын тоже «гнал» из Переяславля к Галичу (после того, как получил добро от отца?), но, узнав, что Владимир Игоревич въехал в город за три дня до него, раздосадованный возвратился обратно в свой Переяславль. Кто знает, может быть, и к лучшему. Ибо Ярослав оказался избавлен от многих ужасов Галицкой войны — в отличие от его более удачливых — как казалось тогда! — соперников, князей Игоревичей (а за Владимиром в Галицкую землю проследуют и его братья). Однако неудачная попытка Ярослава вмешаться в галицкие дела и занять галицкий стол не пройдёт бесследно и будет иметь весьма негативные последствия — как для него самого, так и для его отца, великого князя Всеволода Юрьевича.
Часть четвёртая ВЕЛИКОЕ ГНЕЗДО 1205–1212
Прощание с Марией
Долголетие правителя во все времена было фактором, существенно влияющим на политическую жизнь страны. Длительное нахождение у власти одного и того же лица — это прежде всего стабильность, отсутствие крутых поворотов в жизни общества, а если говорить об обществе средневековом, то в первую очередь отсутствие войн и междоусобиц, которыми чревата борьба за власть между наследниками усопшего государя. Если не считать короткого периода смуты 1174–1176 годов, то за сто с лишним лет существования Суздальского, а затем Владимиро-Суздальского княжества, с 1108 по 1212 год, в нём находились у власти лишь три правителя: Юрий Долгорукий и двое его сыновей — Андрей Боголюбский и Всеволод Большое Гнездо. Не в последнюю очередь благодаря этому обстоятельству княжество развивалось столь поступательно и динамично. Дольше всех из троих находился у власти Юрий. Но Суздальская земля была для него лишь базой, необходимой для борьбы за киевский стол, и он относился к ней соответственно, будучи готов отказаться от неё и передать — сначала кому-то из других князей, а потом младшим своим сыновьям. В отличие от Андрея и Всеволода, связавших с княжеством все свои помыслы и всю свою жизнь. Андрей княжил здесь семнадцать лет без нескольких дней. Всеволод же — почти тридцать шесть лет. И именно годы его княжения с полным на то основанием называют «золотым веком» Владимиро-Суздальской Руси. Конечно же, в длительном пребывании у власти одного и того же лица есть и отрицательные стороны — то, что в новейшие времена получило название застоя. С годами накапливается усталость, а чувство реальности и то, что называется политическим чутьём, напротив, притупляются. Приобретённый правителем колоссальный опыт оборачивается косностью, нежеланием принимать меняющиеся правила игры, уверенностью в том, что всё, что делалось прежде и делается теперь, — единственно возможный алгоритм действий. На политической сцене появляются новые игроки, новые политики; маститый же лидер привык к старым, и перестроиться ему сложно… Нечто подобное мы увидим и в биографии князя Всеволода Юрьевича. Пожалуй, можно даже назвать некий условный рубеж, за которым биография князя начинает идти «по нисходящей». Рубеж этот — смерть его первой жены, княгини Марии.1 марта 1205 года пятидесятилетний Всеволод провожал на княжение в Новгород своего старшего, двадцатилетнего сына Константина. А уже на следующий день, 2-го числа, в среду второй недели Великого поста, во Владимире состоялось пострижение в монахини жены Всеволода, княгини Марии Шварновны1. Мы уже говорили об этой необыкновенной женщине. Не считая дочерей, она принесла мужу восьмерых сыновей, шестеро из которых выжили и стали взрослыми. Но после рождения восьмого, Ивана, в августе 1197 года, княгиня заболела; очевидно, это стало следствием тяжёлых или неудачных родов. По словам летописца, княгиня лежала в немощи восемь лет (или, по-другому, семь лет), до самой смерти2. Но — удивительное дело: даже прикованная к постели, она сохранила свой громадный авторитет в княжеском семействе, осталась верной помощницей для мужа и незаменимой наставницей для своих взрослеющих сыновей, а потом и их юных жён, своих невесток[28]. За всё отведённое ей в болезни время княгиня «ничто же хулна слова изъглагола», — свидетельствовал о ней летописец. На собственные средства она выкупила часть земли в граде Владимире и «притяжа и церкви на строение гробу своему» — то есть предназначила для создания монастыря и церкви, в которой желала быть похороненной. Монастырь, основанный ею, так и стали называть: Княгининым. 15 июля 1199 года, «на память святаго мученика Кюрика и Улиты» (а мы ещё добавим от себя: и святого Владимира, Крестителя Руси), князь Всеволод Юрьевич, исполняя волю супруги, заложил каменную церковь во имя Успения Богородицы «в манастыри княгиниине». Строили храм более двух лет: 9 сентября 1201 года епископ Иоанн в присутствии самого Всеволода и его сыновей Константина, Юрия и Владимира освятил Успенскую церковь, «юже созда любовью правоверная княгини великая в своём манастыри». Украшена церковь была иконами и росписями («писанием доброизвестно», по выражению одного из летописцев) — опять-таки на личные средства княгини5. О монастыре и о церкви, ставшей усыпальницей для женской части княжеского семейства, мы тоже уже говорили на страницах книги. И церковь, и монастырь — обновлённые в XVI веке — существуют и по сей день, являясь одним из центров притяжения для многочисленных гостей города Владимира. В этом-то «своём» монастыре княгиня и приняла монашеский постриг — с именем Мария, тем же, что носила в миру6. Её провожали в монастырь, как провожают в последний путь, навсегда прощаясь с близким и дорогим человеком. И более других плакал и сокрушался о своей «подружии» князь Всеволод Юрьевич: «И проводил ю великий князь Всеволод сам со слезами многими до монастыря Святыя Богородица, и сын его Георгий, и дши его Всеслава Ростиславляя (жена черниговского князя Ростислава Ярославича. — А. К.), иже бе приехала ко отцю и матери своей… («яже бе приехала немощи ея видети, матере своей», — разъясняет один из летописцев. — А. К.). И бысть епископ Иоанн, и Симон игумен, отець е[й] духовный, и инии игумени, и черници вси, и бояре вси, и боярыни, и черници изо всех монастырев, и горожане вси; проводиша ю со слезами многими до монастыря, зане бяше до всех пре[и]злиха добра благоверная княгини Всеволожая…»7 А далее — восторженная похвала княгине — её несравненным душевным качествам и милосердию, сравнимому с милосердием и нищелюбием прежних русских князей: «…бяше бо и нищелюбица и страннолюбица: печалныа, и нужныя, и больныя — тех всех утешаше и подаваше им требование». На проводах княгини в монастырь отсутствовал старший сын Константин, которого летописи называют любимым её сыном. Очевидно, он попрощался с матерью днём раньше, накануне своего отъезда в Новгород. Из летописей известно, что братья провожали его «с честью великою до рекы Шедашкы», или Содышки, как теперь называется эта речка, правый приток реки Рпень, притока Клязьмы (ныне она протекает по северо-западной окраине города Владимира). Как полагали в XIX веке, именно здесь, на Шедашке, находился загородный дворец княгини Марии Шварновны, где она и провела последние годы жизни и откуда отправилась в свой последний путь в Успенский монастырь (свидетельством тому являются будто бы названия деревни Марьино, существовавшей ещё в XVII столетии, и расположенной рядом с ней Марьиной рощи — аргументы, впрочем, довольно слабые)8. Если так, то, возможно, здесь же княгиня и произнесла своё последнее «наказание» — наставление сыновьям, текст которого был включён в некоторые летописи, в том числе в ныне утраченную пергаменную Троицкую начала XV века, выдержки из которой приведены в «Истории государства Российского» первого нашего историографа Николая Михайловича Карамзина, а полный текст реконструирован историком Михаилом Дмитриевичем Присёлковым. «Наказание» это, очевидно, имеет литературное происхождение — достаточно сказать, что в своей основной части оно дословно воспроизводит знаменитое завещание Ярослава Мудрого своим сыновьям (аналогия тем более уместная, что сыновья Всеволода и Марии, подобно сыновьям Ярослава Мудрого, родились все в одном браке). «Се аз хощу отъити света сего, сынове мои! — приводит летописец слова княгини. — Имейте межи собою любовь, понеже вы есте единого отца и единоя матери, да пребудете в любви межу собою, и да будеть Бог в вас и побореть противныа под ногы и да будете мирно живуще; [если же будете] в распрях и которающеся (враждуя между собой. — А. К.), то погыбнете сами и землю отець своих и дед попортите, иже приобретоша трудом своим великим, но пребывайте мирно, послушающе брат брата…»9 А далее — подобно тому, как Ярослав поручал «старейшинство» в братии своему старшему на тот момент сыну Изяславу («сего послушайте, якоже послушаете мене, да то вы будеть в мене место»), — княгиня обращалась к «старейшему» Константину, поручая ему братию, — но обращалась именно как мать, родительница: «…Имейте же собе брата старейшего, аки отца. А ты, сыну мой Костянтине, имей братьюсвою аки сыны, занеже ты первый сын мой еси, ты изшед ис чресл моих…» И вслед за этим — поучение матери сыновьям, содержащее самые общие христианские заповеди: «Бога бойтеся всею душею своею; епископом, и попом, и диаконам, и всякому чину священническому не стыдися главы покланяти… паче же всякого черноризца не мините без поклона; больныа присещайте, алчныя и жадныя накормите и напоите, нагыя одежите… пост и молитву любите, паче же милостыню…»; и т. д. Княгиня обращается ко всем своим сыновьям (хотя в её «наказании» множественное число чередуется с единственным), но Константин — в изложении летописца — воспринимает её слова как адресованные ему одному: он сидит, «сладце ея послушая, аки губа воды напояема, внимая от уст ея и на сердци си полагая словеса те». Когда же Константин по воле отца отправляется в Новгород, он вновь приходит к матери, «прося благословенна от нея». И княгиня — в самый канун своего отшествия в монастырь — «въздвигшися», то есть приподнялась со своего одра, и благословила сына, отпустив его «с миром»[29]. В наиболее ранних версиях Суздальской летописи — Лаврентьевской, Радзивиловской и других — этого «наказания» матери сыновьям нет. Очевидно, оно принадлежит более позднему книжнику, трудившемуся в годы княжения Константина Всеволодовича, — отсюда и особая роль Константина, и особое отношение к нему матери и отца. Но более всего примечательно то, что «наказание», образцом для которого послужило завещание князя Ярослава Мудрого, даёт сыновьям не отец, не князь Всеволод, что выглядело бы более уместно, а мать, княгиня. Это необычно для княжеской семьи древней Руси. Получается, что княгиня «замещает» мужа не только в проявлениях милосердия и благотворительности, но и в воспитании сыновей — чисто мужском, «княжеском» деле? Или всё объясняется проще: тем, что Всеволод не имел возможности собрать вокруг себя всех своих сыновей и «поручить» их старшему — ибо незадолго до смерти рассорился с Константином? А потому слова о братской любви и мире в его устах звучали бы злой насмешкой. …Марии суждено было пробыть в монастыре всего восемнадцать дней. 2 марта она приняла постриг, а 19-го, в субботу четвёртой недели Великого поста, в день, именуемый в народе родительской субботой, преставилась с миром. Это стало сильным потрясением для всех, и прежде всего, конечно, для Всеволода Юрьевича и его детей. И хотя Всеволод, как и остальные, уже простился с княгиней за две с половиной недели до её смерти, когда провожал её в монастырь, смерть любимой супруги он пережил очень тяжело. Вновь летописец говорит о рыданиях и слезах, сопровождавших чин погребения «княгини Всеволожей»: «…И положена бысть в манастыри своемь, в церкви Святыя Богородица, юже созда… И погребоша ю с рыданьем и плачем великим. Ту сущю над нею князю великому и з детми своими, и епископ, и игумени, и черньци, и черници, и множество народу…»11 «…И бысть плачь велик и годка (вопли. — А. К.), яко до небесе», — добавляет автор Троицкой летописи. А в той версии летописного рассказа, которая, вероятно, создана была при великом князе Владимирском Юрии Всеволодовиче, преемнике Константина, названы по именам и сам Юрий (тоже ставший любимым её сыном), и другие, бывшие при её отпевании и погребении: «…И великому князю ту плачющюся над нею и не хотящю утешитися, и Юрию, сыну ея, тако же плачющю и не хотящю утешитися, зане бе любим ею; и Всеслава ту же бе, и епископ Иоанн… и Симону игумену ту же сущю, отцю ея духовному, и инем игуменом, и попом… певшим обычнаа песни, опрятавше тело ея, вложиша ю в гроб камен и положиша ю у церкви (в другом списке точнее: «в церкви». — А. К.) Святыя Богородица в монастыри, юже бе сама създала и украсила иконами и писанием всю церковь»12. Другие летописи называют по именам ещё двух бывших при погребении сыновей — Владимира и Ивана. Остальные её сыновья в то время отсутствовали во Владимире: Константин уехал в Новгород, Ярослав, вероятно, пребывал в Южном Переяславле, а Святослав ещё не вернулся из Новгорода. На отпевании и погребении княгини присутствовали ещё два иерарха, оказавшиеся тогда во Владимире, — смоленский епископ Игнатий и игумен смоленского Отроча монастыря Михаил (как мы помним, они прибыли к Всеволоду от смоленского князя Мстислава Романовича — просить «о мире»); это делало церемонию прощания ещё более торжественной. Константин узнал о смерти матери в Новгороде. Он прибыл в город 20 марта — как оказалось, на следующий день после её смерти. «И се вестник прииде к нему, сказал ему материю смерть, како преставися мати его; бяше бо любим матерью своею по велику», — читалось в той же Троицкой летописи. Услышав трагическое известие, князь «нача телом утерпати, и лице его всё слёз наполнися, и слезами разливался, и не могии глаголати». Летописец вкладывает в уста князя горестное слово, идущий «от сердца» плач, выписанный в лучших традициях древнерусской литературы, но уникальный тем, что обращён не к погибшему на поле брани князю, не к «подружию», но к матери: — Увы мне, свете очию моею, сиание заре лица моего, браздо юности моея, наказание неразумию моему! Увы и мати моя, госпоже моя! К кому възрю или к кому прибегну и где ли насыщуся такова благаго учениа твоего и наказаниа разума твоего? Увы и мне, како заиде свете мои, не сущу ми ту, да бых понесл сам честное твоё тело, своима рукама спрятал и гробу предал… И не вем, к кому обратитися или к кому сию горкую печаль простёрта: к брату ли которому? но далече мене суть! «И слезами разлиашеся, хотя удержатися и не можаше»13. Сцена, конечно, также имеет чисто литературное происхождение, хотя горе Константина не вьщумано и слова его не лицемерны. Но более всего поражает то, что Константин как будто напрочь забывает о собственном родителе, князе Всеволоде Юрьевиче. Даже о своих братьях, к которым можно «простёрта» «сию горькую печаль», Константин помнит — но они «далече»; отец же в число тех, к кому он мог бы обратиться со своим горем, не входит! Если считать, что рассказ этот создан в годы владимирского княжения Константина Всеволодовича, то получается, что он свидетельствует о неприязненных отношениях между отцом и сыном, сохранившихся даже после смерти отца. Но ведь в других местах той же летописи, напротив, рассказывается об исключительной любви, которую питал к своему старшему сыну отец, князь Всеволод Юрьевич, и об ответной сыновней любви, которую питал к отцу Константин. Или, может быть, здесь нашли отражение какие-то реальные черты взаимоотношений внутри княжеской семьи, когда обратиться со своими печалями и горестями сыновья могли прежде всего (или даже исключительно) к матери? Спустя несколько лет после смерти Марии, в 1209-м или 1210 году, Всеволод женился во второй раз — на дочери витебского князя Василька14. Это было в порядке вещей, ибо князю не подобало в течение долгого времени оставаться вдовцом. Но четыре или даже пять лет — совсем не маленький срок. И он тоже свидетельствует о том, что князь далеко не сразу смог отойти от постигшего его горя. Имя второй жены князя — София — приводит единственный источник — Летописец Переяславля Суздальского. По-другому — Анной — княгиня названа в надписи на надгробии в Успенском соборе Княгинина монастыря; можно предположить, что это имя она приняла при пострижении после смерти супруга. Детей Всеволоду — во всяком случае, сыновей — княгиня не родила. А ещё раньше, почти через год после смерти Марии, зимой 1205/06 года в семье великого князя был заключён другой брак. Всеволод «ожени сына своего Ярослава, и приведоша за него Юрьевну Кончаковича», — читаем в летописи. Пятнадцати- или шестнадцатилетний Ярослав княжил в Южном Переяславле, и брак с внучкой бывшего ярого врага Руси должен был обезопасить его от половецких нападений и обеспечить союз с той ордой, которую после смерти Кончака возглавил его сын, носивший, как видим, русское имя. Напомню, что на Кончаковне был женат князь Владимир Игоревич, ставший одним из главных политических противников юного Всеволодова сына, — возможно, это обстоятельство также принималось в расчёт. Среди дочерей русских князей достойной невесты для сына Всеволод не нашёл. Брак этот, однако, оказался неудачным. Он не увенчался рождением наследника, да и продлился недолго. Не получил Ярослав и поддержку от половецкого тестя, столь необходимую ему в трудную минуту. А минута эта наступила для него очень скоро.
Неудачная попытка занять Галич дорого стоила юному Ярославу Всеволодовичу. После того как Владимир Игоревич «мимо него» вступил на галицкий стол, ситуация на юге в очередной раз перевернулась. Успешное завершение Галицкой войны развязало руки главе Черниговского дома князю Всеволоду Чермному. И когда участники похода на Галич вернулись в Киев, он, «надеяся на свою силу», занял киевский стол. Ещё недавно его дядя Ярослав Черниговский от имени всех Ольговичей обещал не претендовать на Киев — по крайней мере при жизни Рюрика Ростиславича и Всеволода Юрьевича. Но Ярослав умер, и его племянник посчитал, что никакими обязательствами не связан. Рюрику Ростиславичу пришлось уступить. «Видев своё непогодье» (выражение летописца), он в очередной раз оставил Киев и удалился к себе во Вручий. Правда, сын Рюрика Ростислав занял Вышгород, а племянник Мстислав Романович — Белгород. Казалось, в Южной Руси вновь установилось равновесие между Ольговичами и Мономашичами. И в этой политической конструкции, повторяющей своими очертаниями прежний дуумвират Рюрика Ростиславича и Святослава Всеволодовича (отца Всеволода Чермного), не нашлось места для присутствия в «Русской земле» суздальских князей. Всеволод Юрьевич на этом этапе в борьбу южнорусских князей вмешиваться не стал — может быть, просто не успел, а может быть, не захотел, удручённый смертью любимой жены. Так и сбылось сказанное автором «Слова о полку Игореве»: «великий Всеволод» не помыслил «прелетети издалеча отня злата стола поблюсти» — и златой киевский стол снова уплыл из рук Мономашичей в руки Ольговичей — пусть и на время. Это немедленно отразилось на судьбе переяславского князя. Именно на него Всеволод Чермный направил свой следующий удар. Поводом стали недавние претензии Ярослава на Галич. «…И потом Всеволод Чермный послал в Переяславль к Ярославу Всеволодичу», — рассказывает летописец и приводит слова, с которыми киевский князь обратился к шестнадцатилетнему князю: — Поеди ис Переяславля к отцю своему в Суждаль, а Галича не ищи под моею братьею. Пакы ли не пойдёшь добром, иду на тя ратью15. И Ярослав вынужден был подчиниться ультиматуму. «Ярославу же не бысть помочи ни от кого же», — продолжает летописец, и слова его свидетельствуют о том, что помощи князю не было в том числе и от отца. То ли вконец напуганный Ярослав вообще не успел сослаться с отцом, то ли Всеволод Юрьевич не нашёл возможности помочь сыну — но факт остаётся фактом: юный переяславский князь остался один на один с грозным и значительно превосходящим его силами противником. Не помог ему и тесть Юрий Кончакович со своими половцами — и это несмотря на то, что в угрожающем положении оказалась его дочь. С черниговскими князьями Кончаковича связывали союзнические отношения, и портить их он не захотел. Ярослав начал «просить путь» у Всеволода Святославича, то есть выразил готовность покинуть Переяславль при условии, что киевский князь не станет препятствовать его уходу с людьми и оружием и не нападёт на него по дороге. Всеволод такое обещание дал: «целова крест и да ему путь. Ярослав же выде ис Переяславля, иде к отцю своему». 22 сентября 1206 года он вместе с женой-половчанкой явился во Владимир; «и сретоша и братья его у Ясенья, и целоваше и». Ясенье (так в Троицкой летописи; в Лаврентьевской: Сеянье) — по всей вероятности, не что иное как село Ясиновское близ Москвы — нынешнее Ясенево, один из районов столицы16. Если так, то домой Ярослав добирался кратчайшим путём, через «Лесную» землю, а братья встречали его у самых границ княжества17. Всеволод не стал укорять сына. Кажется, он даже поручил ему вместо Южного Переяславля другой, Залесский (спустя немного времени мы увидим Ярослава во главе переяславской дружины). Что же касается Южного Переяславля, то в этот город новый хозяин Киева посадил на княжение своего сына Михаила — в будущем почитаемого русского святого и мученика за веру, а пока только-только выходящего из отцовской тени молодого князя. Война в Южной Руси продолжалась, набирая новые обороты и переворачивая с ног на голову и обратно ситуацию вокруг Киева. В том же году престарелый Рюрик изгнал Всеволода Чермного из Киева, а его сына — из Переяславля, и опять занял киевский стол, а в Переяславле посадил собственного сына Владимира. Всеволод Чермный предпринял попытку вернуть себе стольный город Руси, в течение трёх недель осаждал Рюрика, но пока что безуспешно. На следующий год, однако, он подготовился основательнее и, собрав всю свою братию — младших князей Ольговичей, а также союзников из Турова и Пинска, заручившись поддержкой Владимира Игоревича — теперь уже галицкого князя, а главное, призвав половцев, отвоевал-таки у Рюрика Киев. Рюрик вновь бежал во Вручий, его племянник Мстислав Романович оставил Белгород и, «испросив пути», ушёл в «отчий» Смоленск; покинуть свои города вынуждены были и Мстислав Мстиславич, княживший в Торческе (он перебрался в Торопец, ставший семейным гнездом для этой ветви смоленских Ростиславичей), и не названный по имени сын Ярослава Владимировича, сидевший в Треполе. «Всеволод же Чермный, пришед, седе в Кыеве, много зла створив земле Рустей», — заключает летописец. Смысл последних слов ясен: приведённые князем половцы, как всегда, бесчинствовали в завоёванных ими русских городах и весях. Потеря Переяславля, несомненно, стала тяжёлым ударом для Всеволода Юрьевича. Повторялась ситуация, уже случавшаяся в истории Суздальского княжеского дома — а именно после жестокого поражения Юрия Долгорукого в 1151 году, когда он тоже лишился Переяславля. Но ведь Всеволод никакого поражения не потерпел! И даже если причиной потери Переяславля стала излишняя робость или даже трусость его сына Ярослава, то ведь это он, Всеволод, посадил своего сына княжить здесь, и это он не предусмотрел такого развития событий, при котором его сын остался один на один с грозным противником! Впрочем, борьба за Переяславль была ещё далека от завершения, и Всеволод, несомненно, рассчитывал вернуть себе город. Правда, о совместных действиях с Рюриком Ростиславичем речи уже не шло. Ни Рюрик не озаботился тем, чтобы вернуть Переяславль Всеволоду в короткий срок своего возвращения на киевский стол, но, напротив, отдал его собственному сыну, ни Всеволод Юрьевич не поддержал свата в противостоянии с Ольговичами. И это при том, что оба князя объективно оставались союзниками друг друга в борьбе с черниговскими князьями… А вот на «восточном фронте» дела у Всеволода Юрьевича в эти годы обстояли более или менее благополучно. В 1205 году он отправил очередную речную рать на волжских болгар. Войско двигалось в насадах «до Хомол»: «и множьство полона взяша, а другия исъсекоша, и учаны многы разбиша, и товар мног взяша, и потом придоша въсвояси». К сожалению, точное направление похода остаётся неизвестным, как неизвестно и местоположение летописных «Хомол»18.
Новгородский переворот
Новгородским князем Константин Всеволодович стал по воле отца. Зимой 1205 года Всеволод Юрьевич решил заменить в Новгороде малолетнего Святослава. Он заранее известил о том новгородцев, ссылаясь на неизбежность скорой войны: — В земле вашей рать ходит, а князь ваш, сын мой Святослав, мал; а даю вам сына своего старейшего Константина19. Новгородцам постоянно приходилось воевать — то на западе с полоцкими князьями и воинственной литвой, а потом и с немецкими рыцарскими орденами, то на севере с югорскими племенами, то с кем-нибудь ещё. Только в первый год княжения отрока Святослава сначала Новгородская земля подверглась нашествию литовцев: в кровопролитной битве у Чернян в низовьях Ловати пало тогда 15 новгородцев (но и литовцев — 80 человек, а полон весь отбит), а затем войско из Великих Лук ходило на латыголу — предков нынешних латышей. Но Всеволод имел в виду другое. Он обращался к новгородцам, когда был ещё жив Роман Мстиславич, а Рюрик Ростиславич насильно пострижен в монахи. Неизбежность войны на юге отчётливо ощущалась — и новгородское войско было Всеволоду в этой войне необходимо. Проводы Константина в Новгород, как они изображены в летописи, превратились в торжества государственного масштаба, апофеоз величия владимирского князя, передающего часть своих полномочий старшему сыну. «И бысть радость велика того дни в граде Володимере!» — восклицает летописец, цитируя далее и псалмопевца Давида, и евангелиста Иоанна Богослова. Князь Всеволод Юрьевич вручил своему сыну крест и меч — символы власти, сделавшиеся особенно актуальными в эпоху крестоносного наступления и на севере, и на юге христианского мира. Сопровождалось же это прочувственной и возвышенной речью: — Се ти буди схранник и помощник (это о кресте. — А. К.), а меч — прещение и опасение (наказание и защита. — А. К.), иже ныне даю ти пасти люди своя от противных! И далее в том же выспреннем духе — о правах Константина на новгородский стол и, больше того, — на «старейшинство» во всей Русской земле: — Сыну мой Константине! На тебе Бог положил прежде старейшинство во всей братьи твоей! А Новгород Великий старейшинство имеет княженью во всей Русской земле. По имени твоему — тако и хвала твоя! (Ибо имя Константина отсылало к равноапостольному царю Константину Великому, первому среди всех христианских государей. — А. К.) Не токмо Бог положил на тебе старейшинство в братии твоей, но и во всей Русской земле. И яз ти даю старейшинство — поеди в свой город! Что и говорить, речь программная во всех отношениях! Вновь Всеволод называет Новгород «своим» городом — но теперь, по его воле, Новгород становится «своим» и для его старшего сына, то есть превращается в наследственное владение суздальских князей. Но если Великий Новгород — «старейшее» княжение во всей «Русской земле» (понимаемой здесь в самом широком смысле), а его, Всеволода, сын назван «старейшим» для всех прочих русских князей, то получается, что и вся Русская земля может быть названа достоянием и «отчиной» владимирского «самодержца», которой он волен распоряжаться по своему усмотрению и которую тоже может передавать по наследству. Никогда ранее — даже во времена Андрея Боголюбского, самовольно распоряжавшегося киевским престолом, — притязания владимирских князей не были сформулированы с такой ясностью! Целование сына тоже имело символическое значение, почему и было отмечено в летописи. «И целовав и, отпусти, — продолжает летописец. — И проводиша и вся братья его с честью великою до реки Шедашкы: Георгий, Володимер, Иоанн, и вси бояре отца его, и вси купци, и вси поели братия его; и бысть говор велик, акы до небеси от множства людии от радости их великия… И… поклонишася ему, и похвалу ему давше велику, възвратишася кождо их в своя си, жалостьныя и радостныя слёзы испущающе…» А далее — восторженная похвала князю Константину Всеволодовичу — защитнику сирых и обездоленных и покровителю церкви; похвала, впрочем, вполне трафаретная, в значительной части восходящая к похвале князю Андрею Боголюбскому из его летописного некролога («на весь бо бяше церковный чин отверзл ему Бог сердечней очи… мужство же и ум в нём живяше, правда же и истина с ним ходяста…»; и т. д.)20 — но обращённая при этом к живому и полному сил князю. В Новгороде, куда Константин прибыл 20 марта 1205 года, его тоже встречали с ликованием: «…И изидоша со кресты противу ему с честью великою множство народа с епископом Митрофаном от мала и до велика, и бысть радость велика Новеграде… И пришедшю ему в церковь Святыя Софья, и посадиша и на столе, и поклонишеся и целоваша и с честью». Однако ликование ликованием, а приезд Константина привёл к существенным изменениям в политическом строе вольнолюбивого города, и это не всем должно было прийтись по нраву. Под тем же 1205 годом Новгородская летопись сообщает об очередной смене посадников: от своей должности был отстранён престарелый Михалко Степанович (который спустя пару месяцев и умер, приняв перед смертью монашеский постриг), а его место занял Дмитр Мирошкинич — сын бывшего посадника Мирошки Несдинича — того самого, который почти два года провёл во владимирском плену, страдая, по словам летописца, «за Новгород». Понятно, что новый посадник едва ли мог питать добрые чувства к Всеволоду Юрьевичу и его сыновьям. Тем не менее Всеволод поддержал его. Взойдя на новгородский стол, Константин, по словам летописца, «учредил» новгородских «мужей», после чего «отпусти их с честью, и потом поча ряды правити». В чём заключались эти «ряды» и как «правил» их Константин Всеволодович, летопись не сообщает. Позднее князь Мстислав Мстиславич, претендуя на новгородский стол, будет сетовать на то, что новгородцы терпят «насилье от князь (князей. — А. К.)»21, и в его устах «князья» — во множественном числе! — это сыновья Всеволода Большое Гнездо, в том числе, получается, и Константин. Впрочем, Константина более занимала военная сторона дела, и он сосредоточился на организации войска. Зато в короткий срок его княжения огромную власть забрал в свои руки посадник Дмитр. Доставшейся же ему властью он стал распоряжаться исключительно в интересах своего обширного и разветвлённого семейного клана. Пройдёт немного времени — и новгородцы обвинят братьев Мирошкиничей в тягчайших финансовых злоупотреблениях и поборах, которые тяжким бременем ложились на весь Новгород и Новгородскую волость. Это не могло не привести к обострению противоречий внутри верхушки новгородского общества. Зимой 1207 года Всеволод Юрьевич вызвал сына к себе — вероятно, для того, чтобы обсудить с ним план совместных действий в предстоящем походе на Чернигов. 28 февраля Константин прибыл во Владимир. Близ города, на всё той же Шедашке, его встречали братья — здесь были все пятеро: Юрий, Ярослав, Владимир, Святослав, Иван, «и вси мужи отца его, и горожане вси от мала и до велика». Летописец особо отметил эту дату — 28 февраля, среда Сырной недели (Масленицы), — потому что в этот день случилось солнечное затмение22. Сколько времени провёл Константин во Владимире, в общении с отцом (который, по словам летописца, «обуим и целова» его «любезно и с радостию великою, яко Ияков патриарх Иосифа Прекраснаго»), мы не знаем — но вряд ли князь покинул Владимир в ближайшие день-два. Между тем в его отсутствие в Новгороде произошло злодеяние, о котором поведал новгородский летописец. Причём поведал так, что у читателя летописи не могло остаться сомнений в том, что всё было сделано с ведома или даже по прямому указанию владимирского князя. Как выясняется, Всеволод Юрьевич и в отсутствие сына не оставил Новгород без присмотра. Он прислал сюда своего боярина, некоего Лазаря. И сразу после известия об этом («Приде Лазорь, Всеволожь муж, из Володимиря») в Новгородской летописи сообщается об убийстве некоего Олексы Сбыславича, совершённом по приказу Бориса Мирошкинича, брата новгородского посадника, на «Ярославле дворе» — обычном месте вечевых собраний. «И убиша и без вины», — констатирует летописец23. Совершено же убийство было 17 марта, в субботу, «на святого Алексия». Мало того, что Олекса был убит «без вины»; тяжесть преступления усугублялась тем, что он был убит в Великий пост и к тому же в день своих именин! Преступление это не могло остаться без последствий. Уже на следующий день, по словам того же летописца, «плакала Святая Богородица у Святого Якова в Неревском конце». Сигнал, вполне внятный для человека Средневековья! Слёзы, выступившие на иконе, не сулили ничего хорошего ни убийцам, ни тем, кто стоял за ними. А ещё знамение это не сулило ничего хорошего пришлым в город вместе с князем и боярином владимирским «мужам». Примерно за сорок лет до описываемых событий Богородица уже плакала сразу на трёх иконах в трёх новгородских церквах — и это стало предвестием жестокого поражения, которое владимирское войско потерпело под стенами Новгорода24. Тогда исполнения знамения пришлось ждать три года. Вот и на этот раз слёзы Богородицы отлились убийцам не сразу, хотя ждать расплаты пришлось куда меньше. Пока же Константин вернулся в Новгород и уже летом во главе собранного им войска двинулся на соединение с отцом. Помимо новгородцев, в войско вошли псковичи, ладожане и новоторжцы. Об участии этой объединённой рати в походе на Чернигов — походе, который с самого начала обернулся войной с Рязанью, — речь пойдёт в следующей главе. Новгородцы тогда хорошо проявили себя и заслужили похвалу владимирского «самодержца». В ноябре 1207 года, после завершения кампании, Всеволод отпустил их домой, богато наградив («одарив бещисла») и пойдя на какие-то существенные уступки в управлении городом. Оказывается, новгородские «мужи» добивались от Всеволода восстановления прежних норм в отношениях с князем. И Всеволод согласился с этим: «вда им волю всю и уставы старых князь, его же хотеху новгородьци». Как считают историки, под «уставами старых князь» надо понимать прежде всего «Русскую Правду», которую некогда даровал новгородцам Ярослав Мудрый и которая впоследствии многажды дополнялась другими князьями, но постоянно нарушалась, в том числе самим Всеволодом и его сыновьями. Последующие же слова Всеволода, приведённые летописцем, звучали особенно веско. Отпуская новгородское войско, Всеволод напутствовал его так: — Кто вы добр, того любите, а злых казните! Это означало, что он даёт добро на расправу над «злыми». Дальнейшие события не оставляют сомнений в том, что под «злыми» понимались Мирошкиничи, которые к тому времени сумели вызвать к себе всеобщую ненависть новгородцев. Поворот в отношении к Мирошкиничам самого князя произошёл, очевидно, в ходе Рязанской войны. Во время осады города Пронска посадник Дмитр получил тяжёлое ранение. Влиять на новгородские дела он уже не мог, а значит, сделался бесполезен для князя. Выдавать его новгородцам «головой» Всеволод не стал. Он забрал умирающего посадника с собой. Кроме него во Владимире были оставлены семь «вятших» новгородских «мужей» — надо полагать, в качестве заложников25. Не стал возвращаться в Новгород и князь Константин Всеволодович. Возглавив в походе на Рязань новгородскую рать, он исполнил предписанное ему отцом — и, вероятно, посчитал свой долг перед ним выполненным. Подобно тому, как когда-то старший сын Юрия Долгорукого Андрей не пожелал княжить в Южной Руси и ушёл из Вышгорода во Владимир, старший Всеволодов сын не захотел оставаться в Новгороде. Слова отца о «старейшинстве» в братии он понимал по-своему — и вытребовал себе «старейший» город в Суздальской земле — Ростов. Всеволод согласился и с этим. «…А Костянтина остави у собе, — читаем в Лаврентьевской летописи, — и да ему Ростов и инех 5 городов да ему к Ростову». В числе этих «иных» городов историки называют Ярославль, Углич, Мологу, Белоозеро и Устюг26. О княжении в Ростове Константин договорился с отцом задолго до завершения войны — вероятно, ещё в свой приезд во Владимир в феврале 1207 года, если не раньше. К тому времени он уже распоряжался в Ростове как в собственном городе. 25 ноября 1207 года Константин освятил «на своём дворе» в Ростове церковь Святого Михаила, «юже бе сам создал, и украсил иконами честными», и в тот же день «створи пир на священье церкве своея и учреди люди, и благословиша людье Костянтина»27. Так Ростов вернул себе статус стольного города — оставшись при этом в составе Владимиро-Суздальского княжества. Новгородским же князем по воле Всеволода опять становился его сын Святослав, теперь уже двенадцатилетний. Как показали дальнейшие события, это был не лучший выбор. Всеволод явно переоценил степень своего влияния в Новгороде и степень лояльности новгородцев по отношению к нему лично и к его сыновьям. Тем более что ещё до приезда его сына в Новгороде произошли бурные события, существенно повлиявшие как на судьбу города, так и на взаимоотношения между новгородцами и владимирским князем.В самом конце ноября или начале декабря 1207 года участники Рязанского похода возвратились в Новгород и устроили вече «на посадника Дмитра и на братью его»28. Общее возмущение произволом Мирошкиничей подкреплялось своего рода «карт-бланшем», полученным новгородцами от владимирского «самодержца». В вину посаднику и его братьям был поставлен целый набор преступлений, не все из которых могут быть правильно истолкованы нами сегодня. Во-первых, речь шла о каких-то сверхординарных поборах со всего населения города: «яко ти повелеша на новгородьцих сребро имати», как сказано в летописи. Во-вторых, о поборах с жителей Новгородской волости продуктами, или, точнее, живностью: «а по волости куры брата» (в отдельных списках: «куны брата», то есть деньги, но это, вероятно, вторичное чтение). В-третьих, так называемая «дикая вира» — денежный штраф, взимаемый за преступление, совершённое на территории общины, при отсутствии конкретного преступника, — распространялась не только на всех членов общины, как было прежде, но ещё и «по купцем», то есть на купеческие корпорации, что ломало традицию и больно било по самым привилегированным слоям населения города. В-четвёртых, устанавливалась некая особая повинность — «повозы возити» (то есть свозить дани в Новгород?). Но и это ещё не всё: в летописи упомянуто и «всё зло» — то есть прочие злоупотребления, которые обогащали Мирошкиничей и их приспешников за счёт остальных. Историки давно обратили внимание на то, что нормы, введённые Дмитром, шли вразрез с установлениями «Русской Правды» — то есть теми самыми «уставами старых князь», которые новгородцы вытребовали у Всеволода29. Но стоит отметить ещё одно обстоятельство. Сразу несколько введённых посадником новых повинностей относились к сфере княжеской власти — по крайней мере по своей внешней форме. Таков, например, «повоз» — напоминающий одну из древнейших форм княжеской дани с зависимого населения (а новгородцы отнюдь не были зависимы — тем более от избранного ими же посадника!); такова попытка вмешательства в правила взимания «дикой виры»; на княжеское «кормление» походит и повеление посадника «по волости куры брати» (правда, непонятно, к кому обращённое). Между прочим, схожую ситуацию мы видим в те же годы в Галиче, где один из местных бояр попытался даже занять княжеский стол. Получалось, что и Мирошкинич примеривал на себя роль князя — будучи всего лишь посадником, главой одного из новгородских боярских кланов! Стерпеть подобное новгородцы не могли. Расправа оказалась жестокой. Самого посадника в городе не было, зато его братьям не поздоровилось. До убийств, кажется, не дошло (во всяком случае, летописи об этом не сообщают), однако всё имущество Мирошкиничей было поставлено «на поток», то есть подверглось санкционированному разграблению: «Идоша на дворы их грабежьм, а Мирошкин двор и Дмитров (возможно чтение: «Мирошкин двор Дмитров», то есть речь может идти об одном посадничьем дворе. — А. К.) зажьгоша, а житие их (имущество. — А. К.) поимаша, а сёла их распродаша и челядь, а скровища их изискаша и поимаша бещисла, а избытък розделиша по зубу (на всех. — А. К.) — по 3 гривне по всему городу, и на щит (видимо, дополнительно ещё и между участниками Рязанского похода. — А. К.)» — Многое было разграблено и без санкции веча, втихую: «…Аще кто потаи похватил, а того един Бог ведает, — продолжает летописец, — и от того мнози разбогатеша». На посадничьем дворе были изъяты также «доски», игравшие в Новгороде роль финансовых документов, — с росписью то ли долговых обязательств, то ли недоимок, то ли всех незаконно полученных посадником доходов; а писано было на них «бещисла», уточняет летописец чуть ниже. Их не сожгли, но постановили передать князю, когда тот появится в городе, — вероятно, в качестве доказательства лихоимства посадника10. Новым посадником был избран глава соперничавшего с Мирошкиничами боярского клана — сын бывшего посадника Михалки Степановича Твердислав. За него прокричали охотно, ибо раздача только что отнятого добра, внезапное обогащение — едва ли не лучший способ предвыборной агитации.

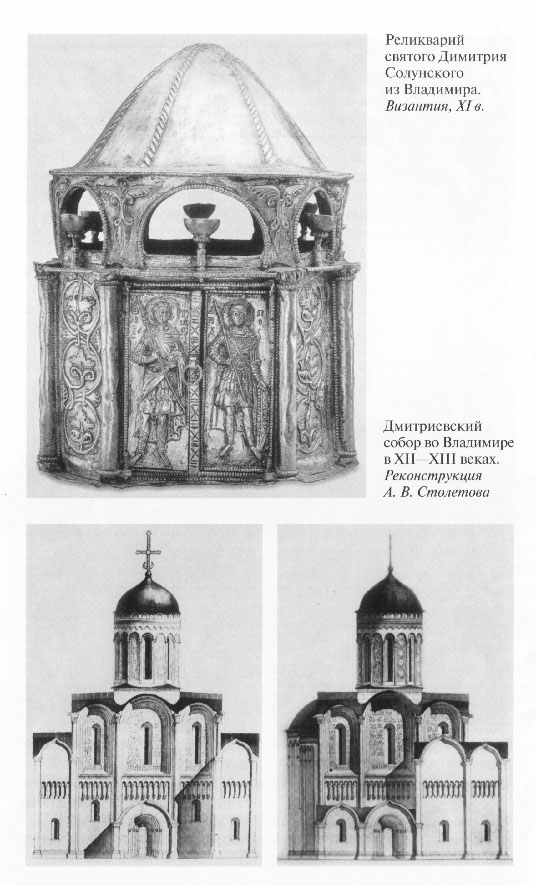


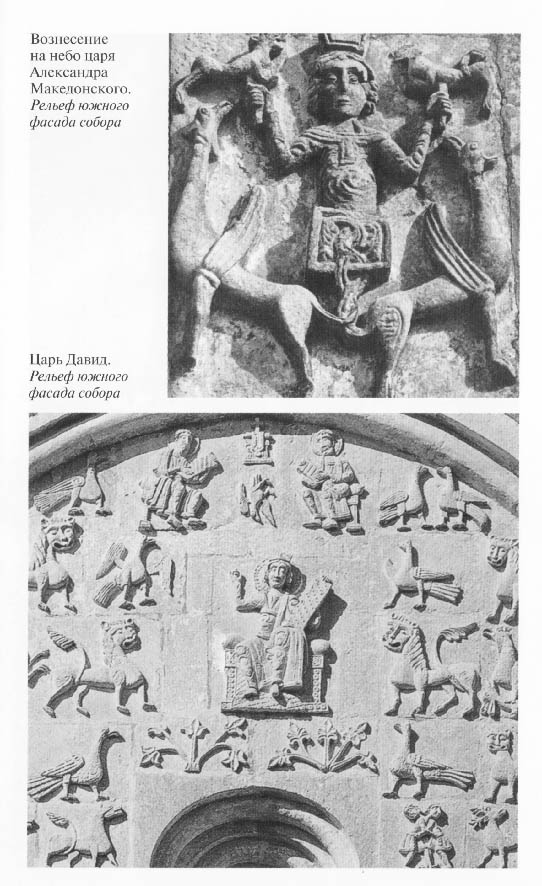










 Дмитр Мирошкинич так и не оправился от полученной раны и умер во Владимире. Той же зимой его тело привезли в Новгород для погребения, и это вызвало новый взрыв возмущения. Новгородцы хотели даже сбросить тело с моста в Волхов, то есть поступить с покойным так, как поступали с изобличённым злодеем, совершившим преступление против всего города. И лишь вмешательство архиепископа Митрофана (занявшего новгородскую кафедру в 1199 году и рукоположенного в сан в 1201-м) предотвратило расправу. Дмитра похоронили хоть и без почестей, но в родовой усыпальнице в Юрьевом монастыре, рядом с отцом.
Святослав Всеволодович вступил в город 10 февраля 1208 года, в неделю мясопустную, предшествующую Масленице. Двенадцатилетнему князю пришлось принять на себя ответственность за результаты новгородского мятежа. Именно ему были переданы «доски Дмитровы», изъятые на посадничьем дворе, и он же должен был решить судьбу оставшихся в живых Мирошкиничей и их близких. Новгородцы целовали крест в том, что не хотят держать у себя «детей Дмитровых». По именам были названы четверо, из которых один или двое и в самом деле были сыновьями покойного посадника, а двое или трое принадлежали к числу его «племенников», то есть родичей или свойственников: Володислав (Дмитрович?), Борис (сын покойного? или же его брат, упомянутый в летописи раньше?), а также некие Твердислав Станилович и Овстрат (Евстрат) Домажирович. Надо думать, что они уже находились под стражей; теперь же всех их юный Святослав, а вернее, люди Всеволода Юрьевича, распоряжавшиеся от его имени в городе, отправили в заточение во Владимир. В Новгороде оставались и другие сторонники свергнутых Мирошкиничей; «а на инех, — свидетельствует летописец, — серебро поимаша бещисла».
Так был разгромлен один из могущественных боярских кланов Новгорода. Но усилило ли это позиции Всеволода и его сына? Как показали ближайшие события, нет.
Прежде всего, юный Святослав по молодости лет или, может быть, по нежеланию самих новгородцев оказался не в состоянии возглавить войско — а это всегда было первейшей обязанностью князя. В том же 1208 году новгородские земли подверглись нападению литовцев, и во главе посланной вслед за ними рати встали посадник Твердислав и… князь Владимир, сын Мстислава Ростиславича Храброго31, кажется, уже тогда княживший в Пскове — «младшем брате», а заодно и сопернике Новгорода. Это был плохой знак для Всеволодова сына. Дорога в новгородские владения оказалась протоптана для потомков Мстислава Храброго — едва ли не самого популярного князя в истории Великого Новгорода. И действительно, «на ту же зиму» 1208/09 года младший, но ещё более предприимчивый брат Владимира, князь Мстислав Мстиславич, вступил в пределы Новгородской земли и занял Новый Торг (Торжок). Здешний посадник был схвачен и закован, схвачены были и «дворяне» Святослава Всеволодовича, а «товары их — кого рука доидеть», по выражению летописца.
В предшествующие десятилетия Торжок неоднократно выходил из подчинения Новгороду и получал своего князя, отличного от новгородского. Надо сказать, что Всеволод Юрьевич в немалой степени способствовал этому, и теперь Мстислав воспользовался его же оружием. Но удовлетвориться одним Торжком Мстислав не захотел. Этот князь недаром вошёл в историю с прозвищем Удатный (удачливый, удалой) — начиная с этого времени, удача сопутствовала ему почти во всех начинаниях.
Из Торжка Мстислав Мстиславич послал в Новгород с такими словами:
— Кланяюсь Святой Софии и гробу отца моего и всем новгородцам! Пришёл есмь к вам, слышав насилие от князь. И жаль мне своей отчины!32
Обращение Мстислава к авторитету отца, чей гроб пребывал на самом почётном месте в Софийском соборе, именование Новгорода своей «отчиной» воодушевили новгородских «мужей». Их настроение поменялось мгновенно. Новгородцы тут же послали в Торжок за Мстиславом «с великою честью»:
— Поиде, княже, на стол!
И Мстислав, конечно же, не заставил себя ждать.
Юный Святослав вместе с «мужами» его отца был схвачен и посажен во «владычне дворе», то есть в резиденции новгородского архиепископа. Теперь он становился заложником и должен был находиться в новгородском плену, «дондеже будет управленье с отцом». Князь же Мстислав Мстиславич торжественно вступил в город, «и посадиша и (его. — А. К.) на столе отни, и ради быша новгородци».
Так почти в одночасье Новгород ушёл из-под власти Всеволода Юрьевича. Это было уже третье — вслед за неудачной попыткой занять Галич и потерей Южного Переяславля — крупное поражение владимирского «самодержца» за последние несколько лет. Сфера его политического влияния стремительно сужалась.
Конечно, Всеволод Юрьевич начал военные действия против своего троюродного внучатого племянника. «Тое же зимы» он «послал сынов своих, Константина с братьею его, на Мстислава Мстиславича на Торжок», — читаем в Лаврентьевской летописи. Как обычно, аресту подверглись все новгородцы, оказавшиеся по торговым и иным делам во Владимиро-Суздальском княжестве, введена торговая блокада Новгорода. Мстислав с новгородским полком — недавними союзниками Всеволода по Рязанскому походу — выступил навстречу Всеволодовичам. Но Всеволод Юрьевич с самого начала готов был к примирению, ибо в руках у Мстислава находился его сын. Он направил своему противнику послание, которое тот получил «на Плоскей» (что это за местность или река, неизвестно).
— Ты ми еси сын, — напоминал ему Всеволод. — А яз тебе отец. Пусти Святослава с мужи и все, еже заседел (захватил. — А. К.), исправи; [а] яз гость пускаю и товар[30].
Мстислава Мстиславича это устроило. Обмен состоялся: он отпустил юного Святослава и Всеволодовых «мужей», а Всеволод — новгородских «гостей» с их «товаром». Князья целовали друг другу крест, «и мир взяста». Новгород остался за Мстиславом.
Так излагает ход событий Новгородская летопись. В Суздальской же акценты расставлены иначе. О потере Новгорода здесь вообще не говорится. Сказано лишь о том, что Константин с братьями Юрием и Ярославом во главе многочисленного войска выступил к Торжку; «Мстислав же слышав, оже идёт на нь рать, изиде ис Торжку Новугороду, а оттуда иде в Торопець в свою волость». Дело представлено так, будто князь Мстислав Мстиславич оставил Новгород. И это при том, что в пределы собственно Новгородской земли Всеволодовичи даже не вступили; мир был заключён, когда они находились на своей территории, в Твери: «Костянтин же с своею братьею възвратишася со Тьфери, и Святослав приде к ним из Новагорода, и ехаша вси к отцю своему в Володимерь»34. В более поздней версии того же рассказа имя Мстислава вообще исчезает, и мир со Всеволодом заключают новгородцы: это они, узнав о выступлении суздальской рати, «убоявшеся, пустиша Святослава на Тферь к братии своей, и взяша мир с великим князем Всеволодом и с сынъми его»35.
Всеволод Юрьевич уже не будет предпринимать попыток вернуть себе Новгород. Мстислав же Мстиславич останется одним из самых ярких правителей в истории города. «Великий король Новгорода» (как называл его современник)36, он совершит несколько блестящих походов в землю эстов, которые как раз в эти годы стали объектом притязаний немецких рыцарей-крестоносцев: на эстонский город Оденпе (или, по-русски, Медвежью Голову, ныне Отепя), на Гервен в центральной Эстонии и «сквозе землю Чюдскую к морю», и всюду ему будет сопутствовать успех. Летом 1212 года, уже после смерти Всеволода Большое Гнездо, он по призыву своих родичей, «Ростиславлих внуков», выступит вместе с новгородцами к Киеву против Всеволода Чермного и одержит над ним победу, в результате которой Киев перейдёт к его двоюродному брату Мстиславу Романовичу. А в 1215 году Мстислав Мстиславич добровольно оставит Новгород. Тогда-то новгородцы вновь пригласят на княжение Всеволодова сына — на этот раз Ярослава, ставшего к тому времени зятем Мстислава Мстиславича; впрочем, вскоре между зятем и тестем вспыхнет вражда и Ярослава в Новгороде вновь сменит Мстислав. Впоследствии Ярослава Всеволодовича, а потом и его сына Александра «Храброго», или Невского, и их потомков новгородцы будут то приглашать на свой стол, то изгонять с него — но это случится уже совсем в другую эпоху русской истории.
Дмитр Мирошкинич так и не оправился от полученной раны и умер во Владимире. Той же зимой его тело привезли в Новгород для погребения, и это вызвало новый взрыв возмущения. Новгородцы хотели даже сбросить тело с моста в Волхов, то есть поступить с покойным так, как поступали с изобличённым злодеем, совершившим преступление против всего города. И лишь вмешательство архиепископа Митрофана (занявшего новгородскую кафедру в 1199 году и рукоположенного в сан в 1201-м) предотвратило расправу. Дмитра похоронили хоть и без почестей, но в родовой усыпальнице в Юрьевом монастыре, рядом с отцом.
Святослав Всеволодович вступил в город 10 февраля 1208 года, в неделю мясопустную, предшествующую Масленице. Двенадцатилетнему князю пришлось принять на себя ответственность за результаты новгородского мятежа. Именно ему были переданы «доски Дмитровы», изъятые на посадничьем дворе, и он же должен был решить судьбу оставшихся в живых Мирошкиничей и их близких. Новгородцы целовали крест в том, что не хотят держать у себя «детей Дмитровых». По именам были названы четверо, из которых один или двое и в самом деле были сыновьями покойного посадника, а двое или трое принадлежали к числу его «племенников», то есть родичей или свойственников: Володислав (Дмитрович?), Борис (сын покойного? или же его брат, упомянутый в летописи раньше?), а также некие Твердислав Станилович и Овстрат (Евстрат) Домажирович. Надо думать, что они уже находились под стражей; теперь же всех их юный Святослав, а вернее, люди Всеволода Юрьевича, распоряжавшиеся от его имени в городе, отправили в заточение во Владимир. В Новгороде оставались и другие сторонники свергнутых Мирошкиничей; «а на инех, — свидетельствует летописец, — серебро поимаша бещисла».
Так был разгромлен один из могущественных боярских кланов Новгорода. Но усилило ли это позиции Всеволода и его сына? Как показали ближайшие события, нет.
Прежде всего, юный Святослав по молодости лет или, может быть, по нежеланию самих новгородцев оказался не в состоянии возглавить войско — а это всегда было первейшей обязанностью князя. В том же 1208 году новгородские земли подверглись нападению литовцев, и во главе посланной вслед за ними рати встали посадник Твердислав и… князь Владимир, сын Мстислава Ростиславича Храброго31, кажется, уже тогда княживший в Пскове — «младшем брате», а заодно и сопернике Новгорода. Это был плохой знак для Всеволодова сына. Дорога в новгородские владения оказалась протоптана для потомков Мстислава Храброго — едва ли не самого популярного князя в истории Великого Новгорода. И действительно, «на ту же зиму» 1208/09 года младший, но ещё более предприимчивый брат Владимира, князь Мстислав Мстиславич, вступил в пределы Новгородской земли и занял Новый Торг (Торжок). Здешний посадник был схвачен и закован, схвачены были и «дворяне» Святослава Всеволодовича, а «товары их — кого рука доидеть», по выражению летописца.
В предшествующие десятилетия Торжок неоднократно выходил из подчинения Новгороду и получал своего князя, отличного от новгородского. Надо сказать, что Всеволод Юрьевич в немалой степени способствовал этому, и теперь Мстислав воспользовался его же оружием. Но удовлетвориться одним Торжком Мстислав не захотел. Этот князь недаром вошёл в историю с прозвищем Удатный (удачливый, удалой) — начиная с этого времени, удача сопутствовала ему почти во всех начинаниях.
Из Торжка Мстислав Мстиславич послал в Новгород с такими словами:
— Кланяюсь Святой Софии и гробу отца моего и всем новгородцам! Пришёл есмь к вам, слышав насилие от князь. И жаль мне своей отчины!32
Обращение Мстислава к авторитету отца, чей гроб пребывал на самом почётном месте в Софийском соборе, именование Новгорода своей «отчиной» воодушевили новгородских «мужей». Их настроение поменялось мгновенно. Новгородцы тут же послали в Торжок за Мстиславом «с великою честью»:
— Поиде, княже, на стол!
И Мстислав, конечно же, не заставил себя ждать.
Юный Святослав вместе с «мужами» его отца был схвачен и посажен во «владычне дворе», то есть в резиденции новгородского архиепископа. Теперь он становился заложником и должен был находиться в новгородском плену, «дондеже будет управленье с отцом». Князь же Мстислав Мстиславич торжественно вступил в город, «и посадиша и (его. — А. К.) на столе отни, и ради быша новгородци».
Так почти в одночасье Новгород ушёл из-под власти Всеволода Юрьевича. Это было уже третье — вслед за неудачной попыткой занять Галич и потерей Южного Переяславля — крупное поражение владимирского «самодержца» за последние несколько лет. Сфера его политического влияния стремительно сужалась.
Конечно, Всеволод Юрьевич начал военные действия против своего троюродного внучатого племянника. «Тое же зимы» он «послал сынов своих, Константина с братьею его, на Мстислава Мстиславича на Торжок», — читаем в Лаврентьевской летописи. Как обычно, аресту подверглись все новгородцы, оказавшиеся по торговым и иным делам во Владимиро-Суздальском княжестве, введена торговая блокада Новгорода. Мстислав с новгородским полком — недавними союзниками Всеволода по Рязанскому походу — выступил навстречу Всеволодовичам. Но Всеволод Юрьевич с самого начала готов был к примирению, ибо в руках у Мстислава находился его сын. Он направил своему противнику послание, которое тот получил «на Плоскей» (что это за местность или река, неизвестно).
— Ты ми еси сын, — напоминал ему Всеволод. — А яз тебе отец. Пусти Святослава с мужи и все, еже заседел (захватил. — А. К.), исправи; [а] яз гость пускаю и товар[30].
Мстислава Мстиславича это устроило. Обмен состоялся: он отпустил юного Святослава и Всеволодовых «мужей», а Всеволод — новгородских «гостей» с их «товаром». Князья целовали друг другу крест, «и мир взяста». Новгород остался за Мстиславом.
Так излагает ход событий Новгородская летопись. В Суздальской же акценты расставлены иначе. О потере Новгорода здесь вообще не говорится. Сказано лишь о том, что Константин с братьями Юрием и Ярославом во главе многочисленного войска выступил к Торжку; «Мстислав же слышав, оже идёт на нь рать, изиде ис Торжку Новугороду, а оттуда иде в Торопець в свою волость». Дело представлено так, будто князь Мстислав Мстиславич оставил Новгород. И это при том, что в пределы собственно Новгородской земли Всеволодовичи даже не вступили; мир был заключён, когда они находились на своей территории, в Твери: «Костянтин же с своею братьею възвратишася со Тьфери, и Святослав приде к ним из Новагорода, и ехаша вси к отцю своему в Володимерь»34. В более поздней версии того же рассказа имя Мстислава вообще исчезает, и мир со Всеволодом заключают новгородцы: это они, узнав о выступлении суздальской рати, «убоявшеся, пустиша Святослава на Тферь к братии своей, и взяша мир с великим князем Всеволодом и с сынъми его»35.
Всеволод Юрьевич уже не будет предпринимать попыток вернуть себе Новгород. Мстислав же Мстиславич останется одним из самых ярких правителей в истории города. «Великий король Новгорода» (как называл его современник)36, он совершит несколько блестящих походов в землю эстов, которые как раз в эти годы стали объектом притязаний немецких рыцарей-крестоносцев: на эстонский город Оденпе (или, по-русски, Медвежью Голову, ныне Отепя), на Гервен в центральной Эстонии и «сквозе землю Чюдскую к морю», и всюду ему будет сопутствовать успех. Летом 1212 года, уже после смерти Всеволода Большое Гнездо, он по призыву своих родичей, «Ростиславлих внуков», выступит вместе с новгородцами к Киеву против Всеволода Чермного и одержит над ним победу, в результате которой Киев перейдёт к его двоюродному брату Мстиславу Романовичу. А в 1215 году Мстислав Мстиславич добровольно оставит Новгород. Тогда-то новгородцы вновь пригласят на княжение Всеволодова сына — на этот раз Ярослава, ставшего к тому времени зятем Мстислава Мстиславича; впрочем, вскоре между зятем и тестем вспыхнет вражда и Ярослава в Новгороде вновь сменит Мстислав. Впоследствии Ярослава Всеволодовича, а потом и его сына Александра «Храброго», или Невского, и их потомков новгородцы будут то приглашать на свой стол, то изгонять с него — но это случится уже совсем в другую эпоху русской истории.
Третья Рязанская война
Мы же вернёмся во времена Всеволода Большое Гнездо. Поход на Чернигов князь готовил долго и тщательно. Может быть, даже слишком долго и слишком тщательно, ибо он до последнего оттягивал военные действия и начал их уже после того, как Рюрик Ростиславич в очередной раз был разбит и покинул Киев. Только тогда Всеволод, наконец, объявил о своих отчинных и дедних правах на южнорусские земли — и не только на потерянный им Переяславль, но и на всю Русь. Как внук Владимира Мономаха он такими правами, несомненно, обладал. «Того же лета, — сообщает летописец под 1207 годом, — слышав великыи князь Всеволод Гюргевичь, внук Володимерь Мономаха, оже Олговичи воюют с погаными землю Рускую, и сжалиси о томь, и рече: — То ци тем отчина однем Руская земля? А нам не отчина ли? И рече: — Како мя с ними Бог управить. Хочю поити к Чернигову!»37 Так всё вернулось на круги своя: вновь война с черниговскими князьями — только в новых для Всеволода условиях, с участием новых действующих лиц, нового поколения князей. Всеволод же действовал по старинке, как привык. Первым, ещё до выступления основных сил, он отправил своего воеводу Степана Здиловича к Серенску — одному из «вятичских» городов на северо-востоке Черниговской земли, на реке Серене, притоке Жиздры (в нынешнем Мещовском районе Калужской области). Удар этот стал неожиданным для местных князей: воевода «пожьже город весь»38. Тем временем Всеволод Юрьевич собирал силы. Помимо его собственных полков и дружин его сыновей, в войне должны были принять участие новгородские, рязанские и муромские полки, за которыми князь послал заблаговременно. Местом сбора объединённой рати стала Москва. Раньше других подошли новгородцы во главе с Константином Всеволодовичем. Как мы уже знаем, Константин привёл многочисленное войско, в которое вошли также псковичи, ладожане и новоторжцы. Он стал дожидаться отца «на Москве», то есть не в самом городе, но близ него, на берегах одноимённой реки. Всеволод с остальными своими сыновьями выступил из Владимира 19 августа 1207 года. У Москвы он встретился со старшим сыном. Тут, по выражению новгородского летописца, и «скопились» все «вои». Ждали рязанских и муромских князей, которые со своими полками двигались на соединение со Всеволодом правым, возвышенным берегом Оки. Помимо муромского князя Давыда Юрьевича, здесь были старший из рязанских князей Роман Глебович, его брат Святослав с сыновьями Мстиславом и Ростиславом, племянники Ингварь и Юрий Игоревичи (третий их брат Роман остался в Рязани) и Глеб и Олег Владимировичи39. Должен был выступить в поход и княживший в Пронске Всеволод Глебович — в прошлом наиболее последовательный союзник Всеволода Большое Гнездо. Однако как раз накануне выступления он внезапно скончался. Его смерть сильно повлияла на ход событий и на настроение его родни. Во всех предыдущих рязанских междоусобицах Пронск был главным раздражителем и главным лакомым куском для рязанских князей. Вот и на этот раз смерть пронского князя немедленно привела к сваре между его родственниками, и в эту свару опять оказался втянут Всеволод Юрьевич. «И пребывшю ему ту неколико дни, — сообщает о Всеволоде суздальский летописец, — бысть ему весть, оже рязаньстии князи свещалися суть со Олговичи на нь (на него. — А. К.), а идуть на льстех к нему». Откуда великому князю стало известно о «льстех» рязанских князей и об их сговоре с черниговскими, летописец не сообщает. Но из последующего его рассказа становится ясно, что «обличили» рязанских их собственные родичи — Глеб и Олег, сыновья покойного князя Владимира Глебовича. Новгородский книжник прямо именует их клеветниками: они «обадиста», то есть оболгали, оклеветали, свою «братью». — Не имей, княже, веры братьи нашей, — с такими словами Владимировичи обратились к Всеволоду Юрьевичу. — Суть на тя съветали (сговорились. — А. К.) с черниговьскыми князи!40 Черниговских и рязанских князей связывали особые узы родства. Те и другие принадлежали к потомству Святослава Ярославича, третьего сына Ярослава Мудрого, — в отличие от Мономашичей, потомков Всеволода Ярославича, четвёртого сына Ярослава Мудрого. Напомню также, что старший из рязанских князей, Роман Глебович, был женат на сестре Всеволода Чермного, главного врага Всеволода Большое Гнездо. Сын же только что умершего Всеволода Пронского Михаил приходился тому же Всеволоду Чермному зятем. Получается, что у рязанских князей действительно не было оснований для вражды с Ольговичами, но, напротив, имелись основания для заключения с ними союза. Но был ли такой союз заключён на самом деле? Или же Глеб и Олег оклеветали своих дядьёв и двоюродных братьев? Мы не можем с уверенностью дать ни утвердительный, ни отрицательный ответ на этот вопрос. Однако, зная последующую историю одного из двух братьев Владимировичей, Глеба — князя-злодея и братоубийцы, можно, пожалуй, предположить, что новгородский книжник был прав и навет Всеволоду был от начала и до конца лживым. Так или иначе, но Всеволод Юрьевич поверил ему: «Всеволод же великий князь рече слово Давыдово: “Ядый хлеб мой възвеличил есть на мя лесть” (ср. Пс. 40: 10), и пакы рече: “Не убоюся зла, яко Ты еси со мною, Господи” (Пс. 22: 4), и поиде с Москвы, совкупяся с сынми своими с Костянтином, и Юргем, и Ярославом, и с Володимером». (Святослав, по всей вероятности, остался во Владимире «для управления».) Полки вышли к Оке в районе Коломны и встали на левом, пологом берегу реки в шатрах. В тот же день к противоположному берегу подошла рязанская рать. Всеволод, по обычаю, устроил обед для своих союзников. (То был совет Всеволодовых бояр, разъясняет позднейший московский книжник: узнав об измене, князь начал «со единомыслеными своими домышлятися, како и что сотворити». «Домыслишася» же они следующее. «Раз они к тебе лесть сотворили, — убедили Всеволода советники, — то и ты к ним лесть сотвори, и устрой обед, и призови их с честию многою на пир, и тако обнажи лукавство их, и сотвори им по делом их, и пускай никто же не узнает об этом, дондеже время будет»41.) И когда рязанские князья переправились через реку и явились к Всеволоду, он встретил их любезно, «целованием», но повелел сесть в отдельном шатре, а сам уселся в отдельном, «в полъстници» (как назвал этот полог летописец). Пирование в разных шатрах уже само по себе не предвещало ничего хорошего рязанцам. А затем начались обвинения. Всеволод отправил к рязанским князьям «на обличенье их» Давыда Юрьевича — человека, которому он всецело доверял, особенно в рязанских делах, а также тысяцкого Михаила Борисовича, тоже успевшего проявить себя на дипломатическом поприще. Можно предположить, что у Давыда Юрьевича во всей этой истории имелся особый интерес, ибо ему, в дополнение к Мурому, была, по-видимому, обещана ещё и часть Рязанской земли, а именно многострадальный Пронск. «И ходящим им долго время межи ими», — свидетельствует летописец. Рязанские князья все обвинения отвергли. Они готовы были принести «роту» — клятву, что измены не замышляли и что все обвинения в их адрес — наговор. Тут-то, по версии Лаврентьевской летописи, и выступили на сцену братья Глеб и Олег — «братанича им своя, пришедше, обличиста их». Автор Новгородской летописи чуть более конкретен. Когда Всеволод устроил обед на берегу Оки, пишет он, шесть рязанских князей остались в своём шатре, а Глеб и Олег с самого начала пировали вместе со Всеволодом. В этом шатре находились и новгородцы, а потому новгородский книжник мог знать обо всём со слов непосредственных участников событий. Когда истина (или то, что выдавалось за неё) открылась, великий князь повелел схватить шестерых находящихся в «рязанском» шатре князей. Всех их вместе с их «думцами» (боярами) отправили в оковах во Владимир[31]. Случилось это 22 сентября. На следующий день, 23 сентября 1207 года, в воскресенье, Всеволод со всем войском переправился через Оку. Вектор войны был решительно изменён. Всеволод как будто забыл о Чернигове, и то, что начиналось как Черниговская война, обернулось новой Рязанской войной, уже третьей по счёту за годы его княжения. «И нача Рязанскую землю жещи, и пленити, и сещи», — читаем в Никоновской летописи. Главный удар был направлен на Пронск. Сюда двинулось всё войско, включая новгородцев, а также полки рязанских князей Глеба и Олега Владимировичей. Отдельная «судовая рать» была послана князем вниз по Оке к Рязани. В Пронске к тому времени обосновался сын Всеволода Глебовича Кир-Михаил («кир», по-гречески, означает «господин»; почему это прозвище-титул пристало к князю, неизвестно, но летописи называют его только так: «Кир-Михаилом», или в искажённом русском произношении «Чюр-Михаилом»), Однако, узнав о том, что Всеволод схватил его дядьёв и двоюродных братьев, «а отец ему мёртв, а се на него рать идёт», Кир-Михаил бежал в Чернигов к тестю Всеволоду Святославичу Чермному, — причём бежал, оставив свою княгиню в городе. Проняне же, не желая подчиняться ни Всеволоду Суздальскому, ни его ставленникам, призвали на княжение Изяслава, «третьего Владимировича», родного брата Глеба и Олега, находившихся в войске Всеволода Большое Гнездо. Война в Рязанском княжестве приобретала в полном смысле слова братоубийственный характер. 29 сентября войско подступило к Пронску и остановилось на противоположном берегу реки Прони. Великий князь отправил в город Михаила Борисовича с предложением сдаться («не хотя видети крови пролитья» — не забывает подчеркнуть суздальский летописец). Проняне ответили решительным отказом. Как оказалось, они готовы были стоять насмерть за свой город. «Слышав же князь великый речь их буюю, и повеле приступите ко граду со все страны (со всех сторон. — А. К.)». Однако первый приступ успеха не принёс: «они же бьяхутся крепко из града, и мнози от обоих уязвляеми бяху».
Пришлось начинать правильную осаду города.
Летописец подробно описывает ход осады. Как и принято было в древней Руси, Всеволод разделил войско: полки были расставлены по отдельным участкам крепостных стен. Константин Всеволодович с новгородцами и присоединившимися к ним белозёрцами встал напротив главных ворот «на горе»; Ярославу Всеволодовичу с переяславцами были поручены вторые ворота, а Давыду Юрьевичу с муромским полком — третьи. «А сам князь великий встал за рекою с поля Половецкого с сыновьями своими Юрием и Владимиром, и с ним Глеб и Олег Владимиричи».
Пронск не имел собственных источников воды. Это обстоятельство и прежде подрывало обороноспособность крепости. Вот и на этот раз Всеволодовы воеводы «переяли» воду и расставили повсюду отряды «стеречь» берег реки, ибо осаждённые по ночам выходили из крепости, «крадяху воду». Проняне, однако, продолжали биться, совершая вылазки из города уже днём и с оружием в руках — «не брани деля, но жажды ради водныя, измираху бо мнози людье в граде».
Трудности испытывали и осаждавшие: войско было велико, и пропитания не хватало. Всеволод вынужден был отправить князя Олега Владимировича на Оку — «по корм». И именно Олегу пришлось выдержать наиболее кровопролитное сражение в ходе этой войны.
Занимавший в то время Рязань князь Роман Игоревич атаковал «судовую рать», оставленную Всеволодом на Оке. Когда князь Олег Владимирович был у Ужеска[32], он получил известие о том, что его двоюродный брат бьётся с «лодейниками» у Ольгова (вероятнее всего, нынешнее село Льгово, близ Старой Рязани). Олег поспешил на помощь «лодейникам». Подход подкреплений и одновременный удар с двух сторон решили исход сражения: Роман с потерями отступил к Рязани, а часть его людей разбежалась44.
Осада Пронска продолжалась почти три недели. После разгрома Романа Игоревича надежд на спасение у пронян не осталось. «А сами уже безводием умирающе бяху», — свидетельствует летописец. Изяслав запросил мир, и 18 октября 1207 года город сдался: проняне «выидоша из града вси со князем Изяславом… и поклонишяся великому князю Всеволоду».
Но это не было полной капитуляцией. Всеволод привёл жителей к кресту, но не увёл их в полон и не разрушил город, хотя и не ушёл от него с пустыми руками, но взял большой выкуп («товары пойма бещисла», по выражению новгородского летописца). С собой великий князь забрал также жену Кир-Михаила Всеволодовича — очевидно, он намеревался использовать её как средство давления не столько на её мужа, сколько на отца, Всеволода Чермного. Даже с Изяславом Владимировичем Всеволод заключил вполне почётный мир. «Отчина» рязанских Владимировичей, пока что не затронутая войной, должна была быть поделена между тремя князьями, включая в их число и Изяслава. Но это вряд ли пришлось по душе братьям Изяслава Глебу и Олегу, союзникам Всеволода Большое Гнездо. Да и Изяслава, как оказалось, такое решение не слишком устраивало.
29 сентября войско подступило к Пронску и остановилось на противоположном берегу реки Прони. Великий князь отправил в город Михаила Борисовича с предложением сдаться («не хотя видети крови пролитья» — не забывает подчеркнуть суздальский летописец). Проняне ответили решительным отказом. Как оказалось, они готовы были стоять насмерть за свой город. «Слышав же князь великый речь их буюю, и повеле приступите ко граду со все страны (со всех сторон. — А. К.)». Однако первый приступ успеха не принёс: «они же бьяхутся крепко из града, и мнози от обоих уязвляеми бяху».
Пришлось начинать правильную осаду города.
Летописец подробно описывает ход осады. Как и принято было в древней Руси, Всеволод разделил войско: полки были расставлены по отдельным участкам крепостных стен. Константин Всеволодович с новгородцами и присоединившимися к ним белозёрцами встал напротив главных ворот «на горе»; Ярославу Всеволодовичу с переяславцами были поручены вторые ворота, а Давыду Юрьевичу с муромским полком — третьи. «А сам князь великий встал за рекою с поля Половецкого с сыновьями своими Юрием и Владимиром, и с ним Глеб и Олег Владимиричи».
Пронск не имел собственных источников воды. Это обстоятельство и прежде подрывало обороноспособность крепости. Вот и на этот раз Всеволодовы воеводы «переяли» воду и расставили повсюду отряды «стеречь» берег реки, ибо осаждённые по ночам выходили из крепости, «крадяху воду». Проняне, однако, продолжали биться, совершая вылазки из города уже днём и с оружием в руках — «не брани деля, но жажды ради водныя, измираху бо мнози людье в граде».
Трудности испытывали и осаждавшие: войско было велико, и пропитания не хватало. Всеволод вынужден был отправить князя Олега Владимировича на Оку — «по корм». И именно Олегу пришлось выдержать наиболее кровопролитное сражение в ходе этой войны.
Занимавший в то время Рязань князь Роман Игоревич атаковал «судовую рать», оставленную Всеволодом на Оке. Когда князь Олег Владимирович был у Ужеска[32], он получил известие о том, что его двоюродный брат бьётся с «лодейниками» у Ольгова (вероятнее всего, нынешнее село Льгово, близ Старой Рязани). Олег поспешил на помощь «лодейникам». Подход подкреплений и одновременный удар с двух сторон решили исход сражения: Роман с потерями отступил к Рязани, а часть его людей разбежалась44.
Осада Пронска продолжалась почти три недели. После разгрома Романа Игоревича надежд на спасение у пронян не осталось. «А сами уже безводием умирающе бяху», — свидетельствует летописец. Изяслав запросил мир, и 18 октября 1207 года город сдался: проняне «выидоша из града вси со князем Изяславом… и поклонишяся великому князю Всеволоду».
Но это не было полной капитуляцией. Всеволод привёл жителей к кресту, но не увёл их в полон и не разрушил город, хотя и не ушёл от него с пустыми руками, но взял большой выкуп («товары пойма бещисла», по выражению новгородского летописца). С собой великий князь забрал также жену Кир-Михаила Всеволодовича — очевидно, он намеревался использовать её как средство давления не столько на её мужа, сколько на отца, Всеволода Чермного. Даже с Изяславом Владимировичем Всеволод заключил вполне почётный мир. «Отчина» рязанских Владимировичей, пока что не затронутая войной, должна была быть поделена между тремя князьями, включая в их число и Изяслава. Но это вряд ли пришлось по душе братьям Изяслава Глебу и Олегу, союзникам Всеволода Большое Гнездо. Да и Изяслава, как оказалось, такое решение не слишком устраивало.
 О последующей судьбе Пронска летописи пишут по-разному. «И посади у них Олга Володимерича, а сам поиде к Рязаню, посадникы посажав своё по всем городом их» — читаем в Лаврентьевской летописи.
Возможно, что Олег Владимирович и должен был стать пронским князем. Не исключено даже, что именно ради Пронска он и его брат затеяли всю интригу с огульным обвинением родичей. Но когда именно случилось его вокняжение? И случилось ли вообще?
Другие летописцы о княжении Олега в Пронске не знают. Наиболее подробные сведения о судьбе города приведены в Летописце Переяславля Суздальского. Оказывается, заключив мир с Изяславом и отпустив его «в свою волость», Всеволод посадил в Пронске муромского князя Давыда Юрьевича, приставив к нему своего посадника Ослядюка45.
Но и княжение Давыда в Пронске продолжалось недолго. В следующем, 1208 году князья Олег, Глеб и Изяслав Владимировичи и примкнувший к ним Кир-Михаил Всеволодович в сопровождении половцев подступили к Пронску и вынудили Давыда покинуть город. «Сему ли отчина Пронск, а не нам?» — приводит их слова переяславский летописец. Давыд оправдывался тем, что не по своей воле сел на княжение в Пронске, «но посадил мя был в нём Всеволод. А ныне ваш город, а яз иду в свою волость!». В Пронск же, по версии автора, сел на княжение совсем не Олег, а враг Всеволода Большое Гнездо Кир-Михаил. Олег же, судя по всему, ушёл в Белгород-Рязанский (город на Оке, чуть ниже Рязани; он-то, вероятно, и был уделом Владимировичей46); в том же году он умер здесь «и положен бысть у Святого Спаса». Времени для княжения в Пронске при таком развитии событий у Олега не остаётся.
Между тем война продолжалась и после падения Пронска. Всеволод Юрьевич двинулся к Рязани. Войско шло левым берегом реки Прони. У села Доброго, или Добрый Сот (существующего и по сей день), великий князь остановился, намереваясь наутро переправиться через Проню. Здесь его и встретило рязанское посольство. «Рязанци же прислашася к нему с поклоном, моляшеся, дабы не приходил к городу». В роли ходатая выступил рязанский епископ Арсений[33], который несколько раз обращался со словами мольбы к великому князю:
— Князь великый! Не опусти (не опустошай. — А. К.) мест честных! Не пожжи церквий святых, в них же жертва Богу и молба стваряется за тя! А ноне всю волю твою стваряем, чего то хощеши!
Всеволод Юрьевич и прежде старался избегать кровопролития, если это было возможно. Вот и на этот раз он внял мольбам епископа и рязанских послов. Летописец привычно объясняет всё милосердием князя, но дело было не только в этом. Всеволод добился всего, чего хотел. Он выставил очень жёсткие условия мира, и рязанцы вынуждены были принять их.
Рязанское княжество как таковое по сути прекращало своё существование. Города княжества переходили под управление посадников Всеволода. Рязанские «мужи» обязались отослать во Владимир к великому князю «остаток» князей «и со княгинями». Правда, о каких именно князьях шла речь, сказать трудно. Наверное, был выслан Роман Игоревич, сидевший в Рязани и воевавший против Всеволода; может быть, дети схваченных прежде князей. Братья же Владимировичи, и не только Олег и Глеб, но и Изяслав, как мы уже имели случай заметить, остались в Рязанской земле. (Ещё один их брат, Константин, в связи с Рязанской войной в летописях не упоминается — видимо, из-за молодости или из-за того, что он находился вне пределов Рязанского княжества.) Новым же рязанским князем должен был стать сын Всеволода Ярослав — а это означало полное подчинение Рязани владимирскому «самодержцу».
Конечно же, это пришлось не по душе братьям Владимировичам, недавним союзникам Всеволода. Не для того они затевали свою интригу, чтобы лишиться Рязани и других главных городов княжества. Об их враждебных действиях против Всеволодовых ставленников в Пронске речь уже шла. Владимировичи легко пошли на союз со своим двоюродным братом Кир-Михаилом, и этот союз сохранился и после смерти одного из братьев в Белгороде-Рязанском.
Всеволод же, по-видимому, счёл, что война с Рязанью завершена. От Доброго он повернул войско назад, к Коломне. Обратный путь тоже оказался не без приключений. Стоял ноябрь, и на реке начался ледостав. Однако морозы были такими, что ждать пришлось только два дня; на третий лёд встал и войско перешло Оку по льду. А ещё на следующий день пошёл сильный дождь, началась буря, и лёд на реке взломало, так что епископ Арсений и сопровождавшие его люди переправлялись через Оку уже в «лодьях» — с немалым риском для жизни.
Епископ Арсений догнал князя у устья реки Нерской, примерно в 30 верстах от Коломны на пути к Москве. Он явился «с мольбою от людей и от княгинь» — но тщетно, своего решения Всеволод не отменил, и рязанцам пришлось исполнять его волю и отсылать княгинь во Владимир. Епископа Всеволод тоже увёл с собой. Как и рязанские князья и бояре, он проведёт во Владимире в неволе почти пять лет.
В Коломне Всеволод распрощался с новгородцами, «одарив бещисла и вда им волю всю и уставы старых князь». Впрочем, об этом мы уже говорили.
21 ноября 1207 года, в праздник Введения Богородицы, Всеволод вернулся во Владимир — «и бысть радость велья в граде Володимери».
О последующей судьбе Пронска летописи пишут по-разному. «И посади у них Олга Володимерича, а сам поиде к Рязаню, посадникы посажав своё по всем городом их» — читаем в Лаврентьевской летописи.
Возможно, что Олег Владимирович и должен был стать пронским князем. Не исключено даже, что именно ради Пронска он и его брат затеяли всю интригу с огульным обвинением родичей. Но когда именно случилось его вокняжение? И случилось ли вообще?
Другие летописцы о княжении Олега в Пронске не знают. Наиболее подробные сведения о судьбе города приведены в Летописце Переяславля Суздальского. Оказывается, заключив мир с Изяславом и отпустив его «в свою волость», Всеволод посадил в Пронске муромского князя Давыда Юрьевича, приставив к нему своего посадника Ослядюка45.
Но и княжение Давыда в Пронске продолжалось недолго. В следующем, 1208 году князья Олег, Глеб и Изяслав Владимировичи и примкнувший к ним Кир-Михаил Всеволодович в сопровождении половцев подступили к Пронску и вынудили Давыда покинуть город. «Сему ли отчина Пронск, а не нам?» — приводит их слова переяславский летописец. Давыд оправдывался тем, что не по своей воле сел на княжение в Пронске, «но посадил мя был в нём Всеволод. А ныне ваш город, а яз иду в свою волость!». В Пронск же, по версии автора, сел на княжение совсем не Олег, а враг Всеволода Большое Гнездо Кир-Михаил. Олег же, судя по всему, ушёл в Белгород-Рязанский (город на Оке, чуть ниже Рязани; он-то, вероятно, и был уделом Владимировичей46); в том же году он умер здесь «и положен бысть у Святого Спаса». Времени для княжения в Пронске при таком развитии событий у Олега не остаётся.
Между тем война продолжалась и после падения Пронска. Всеволод Юрьевич двинулся к Рязани. Войско шло левым берегом реки Прони. У села Доброго, или Добрый Сот (существующего и по сей день), великий князь остановился, намереваясь наутро переправиться через Проню. Здесь его и встретило рязанское посольство. «Рязанци же прислашася к нему с поклоном, моляшеся, дабы не приходил к городу». В роли ходатая выступил рязанский епископ Арсений[33], который несколько раз обращался со словами мольбы к великому князю:
— Князь великый! Не опусти (не опустошай. — А. К.) мест честных! Не пожжи церквий святых, в них же жертва Богу и молба стваряется за тя! А ноне всю волю твою стваряем, чего то хощеши!
Всеволод Юрьевич и прежде старался избегать кровопролития, если это было возможно. Вот и на этот раз он внял мольбам епископа и рязанских послов. Летописец привычно объясняет всё милосердием князя, но дело было не только в этом. Всеволод добился всего, чего хотел. Он выставил очень жёсткие условия мира, и рязанцы вынуждены были принять их.
Рязанское княжество как таковое по сути прекращало своё существование. Города княжества переходили под управление посадников Всеволода. Рязанские «мужи» обязались отослать во Владимир к великому князю «остаток» князей «и со княгинями». Правда, о каких именно князьях шла речь, сказать трудно. Наверное, был выслан Роман Игоревич, сидевший в Рязани и воевавший против Всеволода; может быть, дети схваченных прежде князей. Братья же Владимировичи, и не только Олег и Глеб, но и Изяслав, как мы уже имели случай заметить, остались в Рязанской земле. (Ещё один их брат, Константин, в связи с Рязанской войной в летописях не упоминается — видимо, из-за молодости или из-за того, что он находился вне пределов Рязанского княжества.) Новым же рязанским князем должен был стать сын Всеволода Ярослав — а это означало полное подчинение Рязани владимирскому «самодержцу».
Конечно же, это пришлось не по душе братьям Владимировичам, недавним союзникам Всеволода. Не для того они затевали свою интригу, чтобы лишиться Рязани и других главных городов княжества. Об их враждебных действиях против Всеволодовых ставленников в Пронске речь уже шла. Владимировичи легко пошли на союз со своим двоюродным братом Кир-Михаилом, и этот союз сохранился и после смерти одного из братьев в Белгороде-Рязанском.
Всеволод же, по-видимому, счёл, что война с Рязанью завершена. От Доброго он повернул войско назад, к Коломне. Обратный путь тоже оказался не без приключений. Стоял ноябрь, и на реке начался ледостав. Однако морозы были такими, что ждать пришлось только два дня; на третий лёд встал и войско перешло Оку по льду. А ещё на следующий день пошёл сильный дождь, началась буря, и лёд на реке взломало, так что епископ Арсений и сопровождавшие его люди переправлялись через Оку уже в «лодьях» — с немалым риском для жизни.
Епископ Арсений догнал князя у устья реки Нерской, примерно в 30 верстах от Коломны на пути к Москве. Он явился «с мольбою от людей и от княгинь» — но тщетно, своего решения Всеволод не отменил, и рязанцам пришлось исполнять его волю и отсылать княгинь во Владимир. Епископа Всеволод тоже увёл с собой. Как и рязанские князья и бояре, он проведёт во Владимире в неволе почти пять лет.
В Коломне Всеволод распрощался с новгородцами, «одарив бещисла и вда им волю всю и уставы старых князь». Впрочем, об этом мы уже говорили.
21 ноября 1207 года, в праздник Введения Богородицы, Всеволод вернулся во Владимир — «и бысть радость велья в граде Володимери».
Успехи Всеволода Юрьевича в Рязанской войне немедленно отразились на судьбе его главного противника Всеволода Чермного. «То же слышав Рюрик князь, оже Всеволод великый князь стоить у Рязани и князи их изимав, — читаем в Суздальской летописи, — он же совокупней и гна изъездом к Кыеву, и выгна Всеволода Чермнаго ис Кыева, а сам седе в немь»47. Так «отчина» Мономашичей, Киев, вернулась в их руки. Правда, Всеволод Юрьевич ничуть от этого не выиграл. Напротив, успехи Ростиславичей негативным образом отразятся на его собственных делах. Спустя год с небольшим почувствовавший силу князь Мстислав Мстиславич отберёт у Всеволода Новгород — и это можно рассматривать как отдалённое последствие столь успешной для Всеволода Рязанской войны. Да и сама Рязанская война была далеко не завершена. Решение отправить Ярослава в Рязань было для Всеволода Юрьевича во многом вынужденным. Его третий сын отличался завидным честолюбием (в отличие, видимо, от второго сына Юрия) и претендовал на обладание каким-либо княжеским уделом даже после своего бегства из Южного Переяславля. Обеспечить его уделом внутри княжества Всеволод не хотел — это значило бы подвергнуть княжество дальнейшему дроблению, разрушить то, что создавалось десятилетиями его собственных трудов и трудов его предшественников. Всеволод и так уже пошёл на уступку старшему из своих сыновей, Константину, передав тому Ростов. И теперь он не нашёл ничего лучшего, как наделить Ярослава только что завоёванной Рязанью. Точно так же за полвека до него, в 1154 году, поступил его отец Юрий Долгорукий, пославший на княжение в Рязань своего сына Андрея. Чем это закончилось, известно: тогдашний рязанский князь Ростислав Ярославич (дед рязанских князей Глебовичей), «совокупя половцы», напал ночью на свой город, и Андрею пришлось бежать из Рязани «об одном сапоге», а дружину его Ростислав «овех изби, а другиа засув во яму, а иные истопоша в реце»48. Всеволод, несомненно, знал об этой истории. Однако уроков из неё не извлёк. И Ярослав оказался в Рязани почти в том же положении, что и его знаменитый дядя. «Послал великий князь Всеволод сына своего Ярослава в Рязань на стол» — такими словами начинается в Лаврентьевской летописи статья под 1208 годом, рассказывающая о последствиях вокняжения Всеволодова сына49. Как видно из неё, ненависть рязанцев и жителей других городов княжества была направлена не столько против Ярослава, сколько против Всеволодовых «мужей», которые от имени молодого князя начали распоряжаться в городе. На этот раз рязанцы действовали сами, хотя связей со своими оставшимися на воле князьями они, конечно же, не теряли. Как рассказывает суздальский летописец, рязанцы «сольстили» Всеволоду: целовали ему крест и «не управиша» того, то есть нарушили крестное целование и «изимаша» его людей: одних «исковаша, а инех в погребех засыпавше, измориша». Самого Ярослава Всеволодовича рязанцы не тронули. Но судьба его оставалась неопределённой. Кажется, в Рязани готовы были по-прежнему признавать Ярослава своим князем, противопоставив его отцу. А вот вступившие в открытое противостояние со Всеволодом рязанские князья Глеб и Изяслав Владимировичи настаивали на том, чтобы Всеволодов сын был передан им — очевидно, рассчитывая использовать его в будущей войне с владимирским «самодержцем». Всеволоду вновь пришлось собирать войско, благо оно было у него наготове. Поход на Рязань получился скоротечным, а расправа — короткой. «Всеволод же, слышав се, иде на Рязань с сынми своими и, пришед, ста у града Рязани». Войско остановилось на левом, низменном берегу Оки, против города. В Новгородской летописи приведены слова, с которыми Всеволод обратился к рязанцам: — Пойдите ко мне с сыном моим Ярославом за Оку на ряд!50 И рязанцам не оставалось ничего другого, как подчиниться. Суздальский летописец ничего не сообщает о предложении «ряда», то есть договора, рязанцам. Рассказ его вообще краток и, несомненно, тенденциозен. Получается, что после того, как владимирский «самодержец» подступил к городу, «Ярослав изиде противу отца своего и целова и с радостью». Другая версия приведена в Летописце Переяславля Суздальского. Если учесть, что памятник этот составлялся при дворе самого Ярослава Всеволодовича (конечно же, спустя много лет после описываемых событий), то к версии переяславского книжника стоит прислушаться более внимательно. Однако свидетельствует она в первую очередь о том, какой видел свою роль в происходивших событиях сам Ярослав Всеволодович. А он видел или хотел видеть себя отнюдь не пассивной жертвой рязанского мятежа, а активным участником его подавления: «Того же лета седящю Ярославу Всеволодичю в Рязани, и бысть ему весть, яко хотять и иняти (схватить его. — А. К.) рязанци. Слышав же се Ярослав, и посла к великому князю Всеволоду, к отцю своему, в Володимирь, поведаа беду свою. Слышав же се великый князь Всеволод, поиде въскоре к Рязаню с дружиною своею, а полком по собе повеле поити…»51 Итак, рязанцы всё же выпустили Всеволодова сына из города. Но выпустили не без колебаний — ибо в городе, как всегда в таких случаях, кипели страсти и шли бурные дебаты: по свидетельству ещё одного, владимирского летописца, рязанцы пересылались с князьями Глебом и Изяславом Владимировичами, «хотяще выдати им Ярослава Всеволодича»52. До этого не дошло. Но и попытка примириться со Всеволодом была изначально обречена на неуспех. К князю вместе с Ярославом отправились переговорщики — рязанские «мужи», лучшие люди города. Очевидно, они надеялись оправдаться, в красках изобразив «вины» схваченных ими и засыпанных в «погребах» Всеволодовых людей. Князь слушать их не стал, как не стал обсуждать и обещанные «ряды». Речь посланцев он воспринял как заведомо «буюю» — дерзкую, непотребную; она ещё больше распалила его. «И прислаша рязанци буюю речь по своему обычаю и непокорьству, — записывал суздальский летописец. — И повеле великый князь всем людем изити из града, и с товаром, и яко изидоша вси, повеле зажещи град». По Новгородской летописи, первыми были схвачены те самые рязанские «мужи», которые явились к Всеволоду «за Оку на ряд», и уже затем князь «посла полкы, и изыма жёны и дети, а град их зажьже; и тако расточи их по градом». Столица княжества была сожжена полностью — заметим, почти за тридцать лет до Батыева погрома. От Рязани Всеволод двинулся к Белгороду-Рязанскому — и этот город, претендовавший на роль второй столицы княжества и бывший стольным для князей Владимировичей, постигла та же участь: он был тоже сожжён. Судя по отсутствию упоминаний о нём в летописи, город так и не возродился к прежней жизни. «…И иных городов много пожгошя, и сёла вся повоеваша, и сътворив землю их пусту, поймав люди вси…» — а это уже слова Летописца Переяславля Суздальского. От Белгорода Всеволод повернул домой. «И возвратился во Владимир великий князь Всеволод со всеми своими полками и с сыном своим Ярославом…» Во Владимирскую землю были приведены и пленники из Рязани, Белгорода и других городов; всех их с жёнами и детьми князь разослал «по градом своим жити». Экономическая сторона военных действий, как всегда, имела первостепенное значение: для дальнейшего поступательного развития Владимиро-Суздальского княжества требовались новые рабочие руки, а их могла дать только (или прежде всего) война.
В эти осенние и зимние месяцы 1208/09 года Всеволоду Юрьевичу приходилось воевать на два и даже на три фронта: и с рязанскими князьями, и с черниговскими Ольговичами, и с князем Мстиславом Удатным. И надо признать, что в целом ему хватало для этого и сил, и ресурсов. К тому же у него под рукой находились взрослые сыновья, способные при необходимости возглавить войско. Весть о том, что ставший новгородским князем Мстислав Удатной начал войну с владимирским «самодержцем», воодушевила оставшихся на свободе рязанских князей. Двое из них, Изяслав Владимирович и Кир-Михаил Всеволодович, наняв половцев, напали на юго-западную окраину Владимиро-Суздальского княжества и «начаста воевати волость Всеволожю великаго князя около Москвы». Глеб от участия в этой авантюре предпочёл уклониться. В Средневековье достоверные известия распространялись медленно и чаще всего приходили с большим опозданием. Новгородская война закончилась быстрым миром, а этого рязанские князья не учли. Приходили они к Москве, «потому что слышали, что сыновья Всеволожи ушли к Твери против новгородцев, — разъяснял позднее летописец князя Юрия Всеволодовича. — А того не ведали, что, урядившись с новгородцами, пришли с Твери во Владимир к отцу своему». Именно в Московском летописном своде конца XV века и содержится наиболее подробный рассказ о военных действиях, ставших заключительным аккордом третьей Рязанской войны. Это понятно, потому что главным действующим лицом этих событий, победителем рязанских князей оказался второй сын Всеволода Юрий. Именно его, только что вернувшегося из-под Твери, отец «вборзе» послал во главе своих дружин против рязанских князей и половцев, разорявших окрестности Москвы. Ярослава же привлекать для этого отец не стал — возможно, потому что Ярослав лишился своей дружины, перебитой во время рязанского мятежа, а может быть, опасаясь, что у недавнего правителя Рязани могли сложиться какие-то особые отношения с участниками набега. «Пришедшу же ему на Голубино вечер и посла сторожи пытати рати», — рассказывает о Юрии Всеволодовиче летописец53. В его рассказе приведены точные географические названия, которые позволяют проследить весь победный путь владимирского войска. Историки предполагают, что летописец, автор соответствующей летописной статьи, входил в окружение князя Юрия Всеволодовича и либо сам участвовал в походе, либо писал со слов его непосредственных участников54. Так, под названием Голубино, скорее всего, надо понимать местность (деревню) на реке Шередари, левом притоке реки Киржач (впадающей, в свою очередь, в Клязьму), на западе нынешней Владимирской области55. Именно здесь должен был остановиться князь Юрий, дабы разведать силы и местоположение противника. Высланная им «сторожа» показала, что рязанские рати, разорив окрестности Москвы, отступили от неё и разделились. «И бысть ему весть, оже Изяслав стоит на Мерьске, а Кюр Михаил на Литове, а люди своя распустиша воевати», — продолжает летописец. Половцы, составлявшие основу войска рязанских князей, были союзниками крайне ненадёжными, ибо слишком увлекались грабежом захваченных сёл и погостов. Этим и воспользовался Юрий Всеволодович. Занимавший позиции на реке Нерской (Мерьской) Изяслав оказался к нему ближе, нежели Кир-Михаил, стоявший на Летовке. (Эта река, левый. приток Цны, протекает на востоке Московской области, в Егорьевском районе.) Оба князя нападения не ждали («люди своя распустиша»), хотя и выставили охранение. Ночью войско Юрия совершило скрытый марш «противу Изяславу». Добравшись до Волочка, Юрий переправился через Клязьму и отрядил вперёд сторожевой полк, а вслед за ним двинулся и сам с основными силами. Упомянутый в летописи Волочёк — это позднейшее село Волочок-Зуев, левобережная часть нынешнего города Орехово-Зуево Московской области. Здесь начинался волок («Волочёк»), связывавший бассейн Клязьмы через реку Нерскую с Москвой и далее с Окой. На рассвете («в раньню зорю») передовые части Юрия столкнулись с охранением противника. «И погнаша Юрьевы сторбжи Изяславлих, и гнаша их лесом секугце». Юрий же «поиде за ними вборзе с полком своим». Половцев и рязанцев гнали до реки Дрезны (в летописи «Дрозьдны»), притока Клязьмы56. Здесь и был нанесён решающий удар: «…и приде к реце Дрозьдне, и ту удари на Изяслава; он же побеже, а дружину его избиша, а другыя изъимаша, а сам утече чрес реку, и многа дружина истопоша около его»[34]. Эта победа случилась 26 марта 1209 года, в Великий четверг. Услышав о разгроме двоюродного брата, бежал за Оку и Кир-Михаил со своими половцами. Причём бежал настолько стремительно, что и в его войске многие утонули при переправе (если это не очередное преувеличение владимирского летописца). Князь же Юрий «возвратился с победою к отцу своему в Володимирь с великою честью». Тем же 1209 годом поздняя Никоновская летопись датирует смерть рязанского тысяцкого Матфея Андреевича, случившуюся в Кадоме, на реке Мокше, в мордовских землях. (Этот населённый пункт расположен на самом востоке нынешней Рязанской области). Что занесло туда рязанского боярина, кем он был послан и кем убит, летопись не сообщает. Может быть, прав был Василий Никитич Татищев, исходивший из того, что и река Мокша, и сам Кадом находились на пути в Волжскую Болгарию: по его версии, рязанские волости подверглись тогда нападению волжских болгар, против которых Всеволод Юрьевич и отправил тысяцкого; тот нагнал болгар в Кадоме, «и был междо ими жестокой бой. И едва болгор победили, но тысецкий резанский сам убит»58. В следующем, 1210 году Всеволод отправил в Рязанскую землю своего «меченошу» Кузьму Ратшича «с полком» — и тот «взя Тепру», то есть захватил какие-то волости, лежащие по реке Тепре (Пре), левому притоку Оки, «и возвратился со многим полоном в Володимерь»59. О цели похода в летописи опять-таки ничего не сообщается. Возможно, что и этот поход был связан с противостоянием с волжскими болгарами (как считал тот же Татищев), но нельзя исключать и того, что за Оку отступили рязанские противники Всеволода, князья Владимировичи или Кир-Михаил, против которых и был послан воевода60. Об оставшихся на свободе рязанских князьях в летописи вообще ничего не сказано. Между тем самый деятельный из них, Кир-Михаил Всеволодович, по-видимому, вынужден был на какое-то время покинуть рязанские пределы и обосноваться на территории, контролируемой прежде половцами (с которыми рязанские князья то воевали, то заключали взаимовыгодные союзы). Известно, что где-то в верховьях Дона в домонгольское время существовал город Чур-Михайлов, название которого очевидным образом связано с именем рязанского князя. Город этот не пережил монгольское нашествие. Много позже, в 1389 году, московский митрополит Пимен и сопровождавшие его лица, направлявшиеся в Царьград, нашли на месте бывшего города лишь пустыню. «…Приидохом до Чюр Михайловых… некогда бо тамо и град был бяше, — записывал смольнянин Игнатий, автор «Хожения Пименова в Царьград». — …Не бе бо видети тамо ничтоже: ни града, ни села». Само существование этих «Чур-Михайловых» обросло к тому времени преданием, легендой: «…аще бо и быша древле грады красны и нарочиты зело видением места, точно пусто же всё и не населено…»61
Судьба большинства рязанских князей, участников войны со Всеволодом, оказалась трагической. Некоторые так и умерли во владимирском плену — например, старший из князей, Роман Глебович и, вероятно, его брат Святослав. Остальным пришлось дожидаться смерти самого Всеволода Юрьевича. В конце 1210 года во Владимир на Клязьме явился киевский митрополит Матфей. Надо полагать, что он просил князя за пленников и пленниц и, конечно же, за епископа Арсения — но Всеволод согласился отпустить лишь двух рязанских княгинь. Преемник Всеволода Юрьевича на владимирском престоле Юрий даровал свободу и рязанскому епископу, и рязанским князьям — очевидно, понимая, что пребывание их во Владимире становится ему в тягость: «одарив их золотом, и сребром, и коньми и дружину их такоже одари, утвердився с ним[и] крестным целованием, пусти их въсвояси»62. Однако и после этого свары и раздоры в княжеском семействе не прекратились, но, напротив, только усилились. И спустя пять лет, 20 июля 1217 года, наступила развязка. Один из главных «антигероев» третьей Рязанской войны, князь Глеб Владимирович, сговорившись с братом Константином, зазвал других братьев на «снем» для заключения «поряда» — договора, а на деле подготовив хладнокровное убийство. Совершено было это злодеяние в существующем и ныне селе Исады на Оке, в семи километрах от Старой Рязани; здесь были убиты шестеро князей: родной брат Глеба и Константина Изяслав, а также двоюродные их братья Кир-Михаил Всеволодович, Ростислав и Святослав (или Мстислав?) Святославичи, Глеб и Роман Игоревичи и их бояре и «слуг без числа». Ещё один Игоревич, Ингварь, не успел приехать к сроку, и это спасло ему жизнь; он и стал новым рязанским князем. Братоубийца же Глеб с братом бежал «в Половцы» (уж не в Чур-Михайлове ли обосновались они?) и два года спустя приходил войной на Рязань, но был отбит Ингварем и «вмале утече»; следы его теряются в Половецкой степи, где, по сказанию позднего рязанского источника, Глеб «обезуме, тамо и скончася»63.
Два Всеволода
Победа над Рязанью ещё больше укрепила авторитет Всеволода Юрьевича и упрочила его положение старшего во всём разветвлённом семействе Рюриковичей. Даже Мстислав Удатной хотя и удержал за собой Новгород, но согласился с тем, что Всеволод обращался к нему как к «сыну» (а не как к «брату» и даже не как к «сыну и брату»). Это был своего рода компромисс, вполне устроивший Мстислава и несколько подсластивший горечь поражения для Всеволода. Формально Мстислав оставался на положении «младшего» князя (будучи таковым и по возрасту, и по принадлежности к поколению внуков владимирского «самодержца») — и это при том, что в действительности он вышел победителем в войне с самим Всеволодом и его сыновьями. Вражда с Мстиславом дала повод искать мир со Всеволодом Великим князю Всеволоду Чёрмному, старшему в клане князей Ольговичей. Черниговский князь тоже готов был признать «старейшинство» своего тёзки (что опять-таки соответствовало действительному его положению в княжеской иерархии). Но из этого признания он рассчитывал извлечь для себя вполне ощутимые выгоды. Надо сказать, что после потери Киева в 1207 году дела Всеволода Чёрмного шли неважно. «Ходили Ольговичи на Киев, на Рюрика, и, ничего не добившись, возвратились», — сообщает летописец под 1207/08 годом64. Ольговичи и прежде были готовы к войне — ибо ждали нападения объединённой владимиро-новгородской рати. Всеволод Юрьевич, как мы знаем, отказался от похода на Чернигов, развернул свои полки и начал войну с рязанскими князьями — мнимыми или действительными союзниками черниговских. Тогда промежуточными результатами Рязанской войны воспользовался князь Рюрик Ростиславич, вернувший себе Киев. Теперь Ольговичи попытались взять реванш — но неудачно: Киев остался в руках князя-расстриги. Два года спустя Ольговичей постиг новый удар — они на время потеряли Галич. Галицким князем к тому времени был Роман Игоревич, изгнавший из Галича своего старшего брата Владимира. Роман опирался исключительно на венгерскую помощь, что и привело его к конфликту с Галицкими боярами. И в 1210 году его, в свою очередь, изгнал из Галича сын Рюрика (и, напомню, зять Всеволода Большое Гнездо) Ростислав65. Впрочем, и Ростислав недолго продержался на галицком столе: «осени тоя же» теперь уже его выгнали из Галича, «а Романа Игоревича посадиша с братом». А вскоре в войну за Галич вновь вмешались венгры, отказавшиеся от поддержки Игоревичей и сделавшие ставку на юного Даниила Романовича. Для князей Игоревичей это обернулось трагедией: осенью 1211 года трое из них — Роман, Ростислав и Святослав — попали в плен к венграм, были выкуплены у них галицкими боярами и после поношения и избиения публично повешены «мести ради» (да ещё с жёнами и детьми, как уточняет автор поздней Никоновской летописи). Спастись удалось только старшему Игоревичу, Владимиру, с сыном Изяславом. Конечно, в 1210 году подобное, развитие событий не могло привидеться Всеволоду Чёрмному и в самом страшном сне. Но то, что черниговские князья теряют свои позиции и на юге, и на юго-западе Руси и терпят поражения в противоборстве со своими соперниками, он хорошо понимал. И Всеволод решился на шаг весьма неординарный, свидетельствующий о его недюжинной дипломатической изворотливости. Он предложил союз самому, казалось бы, непримиримому из своих врагов — Всеволоду Владимирскому. Для этого черниговский князь обратился за посредничеством к киевскому митрополиту греку Матфею, незадолго до того прибывшему из Царьграда. В конце 1210 года, как сообщает летопись, Всеволод Чёрмный прислал митрополита во Владимир, «прося мира»66. Во Владимире это было расценено как признание Ольговичами поражения в так и не начавшейся войне. «Того же лета, — записывал суздальский летописец, — прислали с мольбою к великому князю Всеволоду митрополита Матфея Всеволод Чёрмный и все Ольговичи, прося мира и во всём покоряющеся. Великий же князь, видя покоренье их к себе, не помянул злобы их, целовал к ним крест…»67 На Рождество, 25 декабря, митрополит отслужил литургию во владимирском Успенском соборе, «и быша в веселии у великого князя Всеволода» (в тот день и были отпущены две упомянутые рязанские княгини, одной из которых наверняка стала дочь Всеволода Чёрмного, княгиня Кир-Михайлова). Святки, как и положено, праздновались торжественно и с размахом. С тем же размахом праздновался и мир с Ольговичами. «Митрополит же пребысть неколико дний в чести и славе от великого князя и от детей его, — сообщает летописец, — и отьиде в Киев с миром и радостью»68. Скрепить мир между двумя Всеволодами должен был новый династический брак: сын Всеволода Большое Гнездо Юрий брал в жёны дочь Всеволода Чёрмного Агафью. Свадьбу сыграли уже весной, 10 апреля, во Владимире — как всегда, с пышностью и великолепием: «…И венчан был (Юрий. — А. К.) в Святой Богородице во Владимире епископом Иоанном, и были тут великий князь Всеволод, и все благородные дети его, и все вельможи, и бысть радость велика во Владимире граде»[35]. (Точная дата венчания приведена в Московском летописном своде конца XV века; имя же Юрьевой жены известно нам из летописного рассказа о взятии Владимира татарами 7 февраля 1238 года. Как и другие владимирские княгини и боярыни, Агафья Всеволодовна приняла в этот день мученическую смерть в подожжённом татарами Успенском соборе). Мирный договор с владимирским «самодержцем» позволил Всеволоду Чёрмному приступить к решению главной своей задачи. В том же 1210-м или в следующем 1211 году он вновь занял Киев. Произошло это при не вполне ясных для нас обстоятельствах. Киев не был завоёван им — он договорился со своим врагом Рюриком Ростиславичем об… обмене волостями: как сообщает летописец, «седе в Киеве Всеволод Черниговский Чёрмной, а Рюрик в Чернигове». О судьбе старшего Рюрикова сына Ростислава летописи при этом ничего не сообщают. Есть некоторые основания полагать, что ему был предложен Курск — давняя «разменная карта» в колоде черниговских владений, однако князь благоразумно отказался от этого города, то ли оставшись в Южной Руси, то ли уехав во Владимиро-Суздальскую землю к тестю[36]. Если так, то Ростислав проявил лучшее понимание ситуации, нежели его престарелый и вконец потерявший всякое чувство реальности отец. В Чернигове, в чужом, откровенно враждебном окружении, Рюрик Ростиславич мог ощущать себя только как пленник, но отнюдь не как полновластный князь. Не случайно у историков сложилось мнение, что Рюрик и в самом деле находился в Чернигове на положении пленника71. Во всяком случае, его сидение здесь не ознаменовалось ничем хоть сколько-нибудь примечательным: летописи называют его имя единственный раз — когда сообщают о его смерти в 1215 году; причём преставился он, по словам летописца, опять-таки «княжа в Чернигове»72. А ведь в Чернигове в то же время пребывали и другие князья — например, брат Всеволода Чёрмного Глеб Святославич, упомянутый в качестве черниговского же князя под 1212 годом. Что делал там Рюрик и как мог он осуществлять свои функции князя в присутствии других черниговских князей — загадка. Всеволод же Чёрмный обладал Киевом до самой смерти своего могущественного тёзки. Удивительное дело: авторитет владимирского «самодержца» — даже после потрясений последних лет, утраты Новгорода и Южного Переяславля — оказался достаточным для того, чтобы обеспечить своему союзнику устойчивое правление в стольном городе Руси. К слову Всеволода Великого по-прежнему прислушивались другие князья и правители сопредельных стран — и сам Всеволод Чёрмный, и глава Мономашичей Мстислав Удатной, и даже венгерский король Андрей II. А вот после смерти Всеволода Юрьевича положение «второго Всеволода» в Киеве сразу же пошатнулось. Да и обстоятельства складывались против него. Известие о расправе в Галиче над его двоюродными братьями потрясло киевского князя. Причём потрясло настолько, что он обвинил в случившемся Ростиславичей, которые вряд ли имели к галицкой трагедии прямое отношение. — Братью мою повесили вы в Галиче, яко злодеев, и положили укор на всех. И нету вам части в Русской земле! Когда-то с похожим требованием обратился к князьям Ростиславичам Андрей Боголюбский — и это привело к войне, закончившейся жестоким поражением владимирского «самодержца». В той давнейвойне Ольговичи выступали его союзниками. Теперь глава Ольговичей сам начинал войну с «Ростиславлими внуками», изгоняя их из «Русской», то есть в данном случае Киевской, земли. Слова его прозвучали либо ещё при жизни Всеволода Большое Гнездо — и тогда киевский князь мог опираться на авторитет и моральную поддержку своего тёзки, либо в ближайшие недели после его смерти — и тогда он крупно просчитался. Впрочем, просчитался Всеволод Чёрмный в любом случае. Отбирая у «Ростиславлих внуков» принадлежавшие им ближние к Киеву города (Вышгород, Белгород и другие), он ломал ту политическую конструкцию, которая худо-бедно обеспечивала его собственное положение в качестве киевского князя. Самым сильным в поколении «Ростиславлих внуков» был князь Мстислав Удатной, княживший в Новгороде. К нему и обратились его родичи. «Того же лета, — читаем в летописи, — прислали внуки Ростилавли в Новгород к Мстиславу Мстиславичу: “Се не творит нам Всеволод Святославич части в Русской земле. А поиди, поищем своей отчины!”»73. Этот призыв нашёл отклик у новгородского князя. 8 июня 1212 года, то есть уже после смерти Всеволода Большое Гнездо, Мстислав Мстиславич во главе новгородской рати выступил к Смоленску, а из Смоленска вместе с другими «Ростиславлими внуками» — Мстиславом Романовичем, Владимиром Рюриковичем, братьями Константином и Мстиславом Давыдовичами, а также примкнувшим к ним Ингварём Ярославичем Луцким — двинулся к Киеву. У Вышгорода войско Ольговичей было разбито; Всеволод Святославич, «не утерпя», бежал за Днепр «с братьею своею», причём и здесь при переправе многие из его людей «истопоша». Войско Ростиславичей осадило Чернигов, «и много зла створиша, и пригород пожгоша, и села», но «потом управишяся и целовавши крест межи собою, разидошяся»74. Заметим, что о недавнем киевском князе Рюрике Ростиславиче, волею судеб оказавшемся в черниговском лагере, ни «Ростиславли внуки», ни Ольговичи даже не вспоминали. Равно как не упоминается при описании этой войны и один из старших «Ростиславлих внуков» князь Ростислав Рюрикович. К тому времени Всеволода Святославича уже не было в живых. Он ненамного пережил своего владимирского тёзку и умер в Чернигове во время осады города летом или в начале осени 1212 года. Киевский же стол занял после него сначала Ингварь Ярославич — на время, а затем — уже надолго, до своей трагической гибели на реке Калке в 1223 году, — князь Мстислав Романович Старый.Старший сын
Своё прозвище князь Всеволод Юрьевич получил, как известно, по многочисленности потомства. Впервые — в форме «Великое Гнездо» — прозвище это появляется в памятнике новгородского происхождения — «Родословии великих князей русских», которое помещено в той же рукописи середины XV века, что и Новгородская Первая летопись младшего извода75. Подобные прозвища редко возникают при жизни. Чтобы понять, насколько могуч тот ствол, от которого суждено разрастись родословному древу русских государей, нужно немалое время, исчисляемое веками. Отец Всеволода Юрий Долгорукий имел ещё больше сыновей — одиннадцать против восьми у сына. Однако его «Великим Гнездом» не называли, ибо прочие ветви его рода — идущие и от его старшего сына Ростислава, и от Андрея Боголюбского, и от других — со временем пресеклись, и лишь потомство Всеволода дало обильные всходы. «Сей есть Всеволод всем русским нынешним князьям отец, зовомый Великое Гнездо» — так напишет о Всеволоде Юрьевиче в XVI веке тверской летописец76. И это будет правда, ибо именно Всеволода почитали своим прародителем и московские, и тверские, и суздальские, и нижегородские князья (потомки его сына Ярослава), и ростовские и белозёрские (потомки старшего сына Константина), и юрьевские (потомки Святослава), и стародубские (потомки младшего, Ивана). Почти все сыновья Всеволода оставили заметный след в истории Северо-Восточной Руси. Но даже на их фоне выделяется старший, Константин. Этот князь привлёк к себе повышенное внимание не только летописцев, но и историков. Его идеализированный образ — христолюбивого и благоверного князя, «второго Соломона», мудрейшего среди всех князей — настолько ярко предстаёт на страницах летописей (прежде всего Лаврентьевской), что у историков не вызывает сомнений тот факт, что значительная часть летописи за первые десятилетия XIII века напрямую восходит к летописному своду, который составлялся в Ростове при дворе самого Константина Всеволодовича, а затем его сыновей, княживших после него77. «Отец сирым и кормитель отходящим, и печальным утешение великое, омрачённым звезда светоносная заходящая, ибо на весь церковный чин отверз ему Бог сердечные очи… Правда и истина с ним ходили, второй Соломон был мудростью» — таким предстаёт князь перед читателями летописи78. Образ премудрого Константина, можно сказать, «загипнотизировал» последующих историописателей, удостоивших Константина Всеволодовича прозвищем Мудрый — вторым в истории древней Руси после знаменитого Ярослава Мудрого79 (хотя собственно древнерусские летописцы нигде так Константина не именуют). Надо признать, что основания для этого имеются. Летописцы ставят в заслугу старшему сыну Всеволода не только милосердие и нищелюбие и не только попечение о церкви и церковных людях — привычные качества идеального правителя, но и особенную любовь к книжному слову: Константин Всеволодович правил, «всех умудряя духовными и телесными беседами, часто бо чтяше книгы с прилежаньем, и творяше всё по писаному»80. Это действительно не вполне обычно для княжеской похвалы, не входит в стандартный набор княжеских добродетелей. Развивая мысль ростовского книжника, знаменитый русский историк XVIII века Василий Никитич Татищев превратил Константина не просто в книгочея, но в выдающегося организатора книжного дела, создателя не имеющей себе равных библиотеки, состоящей из оригинальных и переводных с греческого (причём переведённых именно по княжескому заказу!) книг, более того — в писателя и знатока истории и права. «Великий был охотник к питанию книг и научен был многим наукам, — писал о Константине Татищев. — Того ради имел при себе людей учёных, многие древние книги греческие ценою высокою купил и велел переводить на руский язык. Многие дела древних князей собрал и сам писал, також и другие с ним трудилися. Он имел одних греческих книг более 1000, которые частию покупал, частию патриархи, ведая его любомудрие, в дар присылали сего ради». А чуть выше историк говорит о создании князем училища в Ростове, в которое Константин перед смертью передал «дом же свой и книги все… и к тому на содержание немалые волости дал»81. Это, конечно, не более чем домысел, или, лучше сказать, преувеличение историка XVIII века и очевидное перенесение им идеалов просвещённой монархии и просвещённого монарха на реалии домонгольской Руси. Но даже если отвлечься от «гипнотического» воздействия летописных и более поздних оценок, нельзя не признать, что Константин был личностью незаурядной. Одно то, что он добился-таки у отца княжения в Ростове, говорит о многом. И именно при нём Ростов начал возвращать свою былую славу и вновь превращаться в культурную, а вместе с тем и политическую столицу Северо-Восточной Руси, соперничающую со стольным Владимиром. Ростовский летописец сосредоточивает внимание на биографии князя Константина Всеволодовича, а потому об обстоятельствах его жизни мы знаем чуть больше, чем об обстоятельствах жизни его братьев. 7 декабря 1208 года у князя Константина родился старший сын — старший внук Всеволода, получивший в крещении имя Василий (Василько); «и бысть радость велика в граде Ростове» — не забывает отметить летописец. А полтора года спустя, 18 июня 1210 года, на свет появился и второй сын Константина, наречённый именем деда — Всеволодом, а в крещении — Иоанном. («Постриги» обоих сыновей будут совершены в один день — 23 мая 1212 года). Весной следующего года Константин пребывал во Владимире: 10 апреля 1211 года женился его брат Юрий — в присутствии самого Всеволода и «всех благородных детей» его, а значит, и Константина. Подобные празднества продолжались не один день и не одну неделю, и можно думать, что Всеволод Юрьевич решил воспользоваться ими для того, чтобы обсудить с сыновьями тот главный вопрос, который встаёт перед любым человеком, а уж правителем особенно, в конце жизни. Всеволод уже довольно пожил на свете. По меркам того далёкого века его возраст вполне можно было назвать преклонным: ему исполнилось 56 лет. «Того же лета князь великий Всеволод Юрьевич начал изнемогать», — прибавляет позднейший московский книжник82. Но обсудить и решить всё так, как хотелось бы князю, не получилось. 15 мая того же 1211 года в Ростове случился грандиозный пожар, и Константину пришлось спешно возвращаться в свой город. Летописец живописует ростовскую трагедию во всех красках: «Того же лета месяца мая в 15-й день, на память святого отца Пахомия, в день воскресения Господня, в Собор святых отец, 7-ю неделю по Пасхе, после литургии загорелся град Ростов и погорел мало не весь. И церквей сгорело 15, и много зла створилось: Богу попущающу за умножение грехов наших и неправды…» Но случилось и чудо, о котором тоже поведал летописец: «…Се же есть дивно: церковь в Ростове во имя святого Иоанна Предтечи на дворе в епископии у Святой Богородицы; и сгорела церковь та вся от верха и до земли, и иконы, что не успели вынести, и гробы в земле у основания. И была в церкви той икона, на ней же написан святой мученик Феодор Тирон, и вощаница с вином, о ней же некие думали, что была Леонова, епископа, прежде бывшего в Ростове[37]; пришедше же на пожарище места церковного, и видели: всё огнём взято — только икона та святого мученика Феодора с вощаницею цела посреди огня». Константин Всеволодович, как и подобало князю, возложил на себя бремя забот о погорельцах. Ростовский книжник недаром называл Ростов его городом: «Константин же христолюбивый благоверный князь, сын Всеволож, тогда был во Владимире у отца; слышав беду, сотворившуюся на граде его и на святых церквах, и ехал скоро к Ростову, и видев печаль, бывшую мужам ростовским, утешил их, глаголя: “Бог дал, Бог взял. Яко Господеви изволися, тако и бысть. Буди имя Господне благословено отныне и до века”»84. Как некогда великий владимирский пожар расчистил место для строительства нового Владимира — города Всеволода Большое Гнездо, так и ростовский пожар 1211 года позволил Константину Всеволодовичу с ещё большим тщанием приступить к украшению своего города. Главный храм Ростова, каменный Успенский собор, возведённый зодчими Андрея Боголюбского, обрушился ещё в 1204 году по неизвестным причинам85. Ни Всеволод Юрьевич, ни поначалу Константин, по-видимому, не озаботились приступить к его восстановлению — для этого требовались слишком большие средства. И лишь после ростовского пожара, в апреле 1213 года (то есть уже после смерти отца), «христолюбивый князь Константин заложил церковь Святую Богородицу на первом месте падшая церкве». К тому времени положение Константина Всеволодовича осложнилось начавшейся войной с братом Юрием за великое княжение Владимирское. Юрию удалось посадить на кафедру во Владимире, вместо смещённого им епископа Иоанна, своего ставленника, бывшего игумена владимирского Рождественского монастыря Симона, и это означало разделение Ростовской епархии и создание в её границах новой Владимирской. Новым же ростовским епископом стал духовник Константина Пахомий, бывший игумен ростовского Петропавловского монастыря. Сей «избранник Божий», исполненный, по словам летописца, «книжного учения», и стал соратником князя в строительстве Успенского собора, равно как и в других церковных делах. Успенский собор строился долго. Он простоял неосвящённым почти двадцать лет, и лишь в августе 1231 года, при сыне Константина, ростовском князе Васильке Константиновиче, был освящён «великим священием» новым ростовским епископом Кириллом. Но ещё в 1216 году в «Святой Богородице» хоронили самого епископа Пахомия — а это значит, что Успенский собор был возведён в основном при Константине. Это тот самый собор, который — пускай и частично, после многочисленных поновлений и переделок, — дошёл до нашего времени и поныне украшает собой Ростов Великий. «Святая Богородица» — не единственный каменный храм в Ростове, возведённый в годы княжения Константина Всеволодовича. Так, заново отстроена была сгоревшая церковь Святого Иоанна Предтечи на епископском дворе. Именно сюда после разрушения Успенского собора были положены мощи ростовского святителя Леонтия, спасённые во время великого ростовского пожара; в феврале 1231 года мощи будут торжественно возвращены в Успенский собор. В 1214 году была заложена церковь Бориса и Глеба на княжеском дворе (освящена в 1218-м). А ещё, став великим князем Владимирским, Константин будет строить храмы и монастыри в других городах княжества: таковы церковь и монастырь Спаса Преображения в Ярославле, Крестовоздвиженская церковь во Владимире на Торговище и некоторые другие. «…И вельми печаловался о создании прекрасных церквей Божиих, и много церквей создал по своей волости, украшая чудными изображениями святых икон, исполняя книгами и всякими украшениями», — свидетельствует летописец86. В благочестии и христианских добродетелях Константин не уступал отцу. Так, в годы его великого княжения во Владимир из Константинополя неким полоцким епископом будут принесены почитаемые во всём христианском мире святыни — частица Страстей Господних и мощи святого Логгина Сотника («руце обе») и святой Марии Магдалины; принёс же их епископ (заметим, не своему, а чужому князю), «ведый его любовь и желанье до всего божественного церковного строенья, до святых икон и мощей святых и до всего душеполезного пути, ведущего в жизнь вечную»87. Ярким свидетельством духовного подъёма Ростова при Константине и его сыновьях следует признать расцвет книжного дела, которое велось в монастырском и владычном скриптории (но не в княжеском, вопреки уверениям Татищева!). Исследователи выявляют рукописные книги, которые несут на себе признаки ростовского происхождения и относятся к первым десятилетиям XIII века. К настоящему времени таковых насчитывают девять88, хотя лишь две из них имеют записи, сообщающие о том, что они переписаны «в граде Ростове» — правда, не при самом Константине, а при его сыне: «при князе при Васильке при сыне Константинове, а внуке Всеволожи», и обе по заказу ростовского епископа Кирилла. Это роскошное Житие святого Нифонта, епископа Констанцского (завершено 21 мая 1219 года; писцы Феофан и Олексий сами назвали себя в приписке к рукописи) и Толковый Апостол, переписанный годом позже, в 1220 году, возможно, в ростовском Петропавловском монастыре (работа над ним была начата в августе, а завершена 22 октября — как видим, переписчики трудились неспешно, со всем усердием отнесясь к порученной им работе)89. Всего же в переписке выявленных девяти кодексов, по наблюдениям учёных, принимали участие не менее двадцати четырёх писцов; а отсюда следует вывод: «в Ростове конца XII — первой трети XIII века действовал едва ли не самый мощный в Древней Руси штат обученных переписчиков, в количественном отношении едва ли сопоставимый даже с Новгородом этого же времени»90. Стольный Владимир похвастаться такими скрипториями (книгописными мастерскими) не мог. Культурный «ренессанс» Ростова начала XIII века явился другой стороной политического «ренессанса» старейшего города Северо-Восточной Руси. А это, в свою очередь, стало следствием политических амбиций ростовского князя. Город, в котором некогда княжили и родоначальник русских князей Ярослав Мудрый, и святой Борис, и Юрий Долгорукий, был для Константина Всеволодовича не просто ступенью на пути к великокняжескому престолу. Старший сын Всеволода связывал с этим городом и своё будущее, и будущее своих сыновей, и будущее всей Ростово-Суздальской Руси. В этом его всецело поддерживало ростовское боярство, которое необыкновенно усилилось в годы его княжения[38]. Именно здесь надо искать причину его ссоры с отцом — ссоры, которая омрачила последние месяцы жизни князя Всеволода Юрьевича.В те самые дни, когда в Ростове бушевал пожар и люди справлялись с его разрушительными последствиями, во Владимире решалась судьба княжества. Князь Всеволод Юрьевич собрал сыновей для того, чтобы объявить им свою волю. Воля же его была такова. Великое княжение и стольный Владимир Всеволод завещал после себя старшему сыну Константину. Такой порядок издавна существовал в древней Руси, и Всеволод следовал ему. Юрию же, второму своему сыну, он отдавал Ростов — второй по значению город княжества. С тем великий князь и послал «по сына своего Костянтина в Ростов». Константин, однако, возвращаться во Владимир не спешил. Ростовский пожар, заботы о восстановлении города служили хорошим поводом для того, чтобы задержаться в городе. Однако истинная причина отказа старшего Всеволодовича ехать к отцу заключалась в ином. Константин, как сообщает летопись, «не еха к отцу своему в Володимер, хотя взяти Володимер к Ростову». Отец вторично послал за сыном — и тот вновь отказался ехать к нему92. Как оказалось, отец и сын по-разному представляли себе будущее Владимиро-Суздальской Руси. Решение Всеволода было вынужденным. Оно означало фактическое разделение княжества после его смерти. Но поступить по-другому Всеволод был уже не в силах. Наделить сыновей княжескими столами за пределами Владимиро-Суздальской Руси у него не получилось: и Галич, и Новгород, и Рязань, и даже Южный Переяславль ускользнули из-под его власти. Оставлять же сыновей ни с чем, полностью в воле старшего брата, тоже казалось ему плохим решением — оно могло привести либо к братоубийственной войне, либо к изгнанию младших сыновей за пределы княжества. И тот и другой сценарий были хорошо знакомы Всеволоду Юрьевичу, и повторения их для собственных сыновей он, конечно же, не хотел. Другое дело, что после его смерти случится как раз то, чего он боялся и чего так старательно избегал: в княжестве разразится жестокая война между его сыновьями. Так, к несчастью, часто бывает в истории: благие намерения приводят к удручающим результатам. Желая в равной степени удовлетворить обоих старших сыновей, Всеволод Юрьевич лишь посеял вражду и ненависть между ними. Что же касается Константина, то он отказываться от Ростова не собирался. Константин предполагал сохранить единство княжества — разумеется, оставляя его в собственных руках. Хотя сделать это было непросто — ибо он сам приложил руку к тому, чтобы вывести Ростов из прямого подчинения Владимиру и вернуть ему статус стольного города. Теперь, по замыслу отца, плодами его усилий должен был воспользоваться его брат Юрий. Но вовсе не для Юрия Константин украшал и возвышал свой город. Причём поначалу Константин видел именно «старейший» Ростов главным, стольным городом всего княжества: он хотел «взяти Володимер к Ростову», а не наоборот. Эти слова повторены в летописи дважды, что исключает какую-либо ошибку или неточность летописца. Когда отец во второй раз послал за Константином, старший Всеволодович почти дословно повторил прежнее требование: «…и тако пакы не иде к отцю своему, но хотяше Володимиря к Ростову»[39]. Всеволод отверг притязания старшего сына — и в первый, и во второй раз. Шаг, на который он решился, дался ему, вероятно, очень нелегко. Константин был лишён «старейшинства» в братии. Таковым, по воле Всеволода, становился его следующий сын, Юрий. Подобное случалось уже в русской истории. Так, святой Владимир ещё до своего крещения лишил «старейшинства» сына от Рогнеды Изяслава, выделив ему новопостроенный город в Полоцкой земле. Но то было следствием преступления Рогнеды, хотевшей убить Владимира; да и сам младенец Изяслав по научению матери поднял меч на отца. Тогда Владимир принял решение после совета с боярами94. Вот и сейчас Всеволод Юрьевич не стал самолично объявлять о судьбе старшего сына. «Князь же великий Всеволод созвал всех бояр своих с городов и с волостей, епископа Иоанна, и игуменов, и попов, и купцов, и дворян, и всех людей, — свидетельствует летописец. — И дал сыну своему Юрию Владимир по себе, и водил всех к кресту, и целовали все люди [крест] на Юрии; приказал же ему и братию свою». Такое исключительное по представительству собрание во Владимире историки оценивали по-разному. Одни видели в нём «нечто вроде земского собора»95, другие — вече, но не рядовое, а «общеволостное», или «общеземское», которое и могло принимать судьбоносные решения относительно замещения княжеского стола96. Но, судя по всему, Всеволод Юрьевич нуждался лишь в одобрении принятого им решения (принятого, может быть, после совета с боярами, но не со «всей землёй»); для него было важно лишь то, что «вся земля» целовала при нём крест его второму сыну. Всеволод опять-таки имел опыт нарушения подобной присяги: когда его отец Юрий привёл своих подданных к крестному целованию своим меньшим сыновьям — ему, Всеволоду, и его старшему брату Михаилу, оно было с лёгкостью забыто, и князем стал старший из братьев, Андрей. На этот раз, стремясь не допустить такого развития событий, Всеволод и проводил крестное целование с особой торжественностью, собрав «всю землю» и надеясь, что в этом случае нарушить клятву будет не так просто. Озаботился Всеволод и судьбой остальных своих сыновей. Правда, сведения об этом сохранились в единственном источнике — Летописце Переяславля Суздальского. Именно в интересах князя Ярослава Всеволодовича было озвучить те отцовские решения, которые касались в том числе и его лично: по словам переяславского книжника, «тогда же, в животе своём», то есть ещё при жизни, Всеволод «раздал волости детям своим: большему, Константину, — Ростов, а потом Юрию Владимир, а Ярославу Переяславль, Владимиру Юрьев; а меньших, Святослава и Иоанна, отдал Юрию на руки»97. Здесь же приведены слова отцовского наставления, обращённые прежде всего к Юрию, но вместе с тем и к другим сыновьям. В передаче переяславского книжника слова эти звучат так, будто подразумевают события начавшейся после смерти Всеволода Юрьевича войны между его сыновьями, осуждая её как противную Богу и воле отца: «Ты им будь в отца место, и имей их, как и я имел их» — это обращено к Юрию. А далее — ко всем сыновьям: «И не можете ратиться сами между собою, но если на вас восстанет кто от иных князей, то вы, все соединившись, на них будьте. И будет вам Господь помощник и Святая Богородица, и молитва деда вашего Георгия и прадеда Владимира, и потом и я благословлю вас». …Константин узнал об отцовской воле в Ростове. Конечно же, она пришлась ему не по нраву. Открыто противиться отцу он не мог, а потому и гнев его был направлен по большей части против отцовских «думцев» — бояр, а также против братьев, в первую очередь против Юрия. Не потому ли, что тот согласился с отцовским решением? Или же Константин подозревал, что Юрий подучил отца передать ему Ростов, а затем и Владимир? Летописец нашёл удивительно точные слова, чтобы передать гнев старшего Всеволодовича — так, будто мы, вслед за ним самим, воочию видим пришедшего в крайнее раздражение князя: «Константин же слышев то, и воздвиже брови собе со гневом на братию свою, паче же на Георгия». Ощущение тревоги и неотвратимости грядущих бедствий охватило тогда всех людей. Поздний московский книжник так выразил всеобщее настроение: «И много волнение и смущение бысть о сём, и многи людие сюду и сюду отъезжаху, мятущеся»98.
Уход
Съезд во Владимире стал последним событием в жизни князя Всеволода Юрьевича. По словам летописца, он ушёл из жизни «тихо и безмолвно»99. Удивительно, но точная дата его смерти по-разному приведена в разных летописях. И это при том, что речь идёт о событии, без преувеличения, судьбоносном в истории Северо-Восточной Руси. Наиболее надёжное свидетельство о кончине великого князя содержится в Московском летописном своде конца XV века. Напомню, что в этом памятнике отразилось летописание Всеволодова сына Юрия, а ведь именно Юрий оказался ближе других к отцу в последние дни и месяцы его жизни. Сведения, приводимые здесь, отличаются точными хронологическими ориентирами: «В лето 6720 (1212). Преставился благоверный и христолюбивый великий князь Всеволод, нареченный в святом крещении Дмитрий, сын великого князя Георгия, внук Владимира Мономаха, апреля в 15 день, когда заканчивают литургию, в день недельный»100. Этот день, четвёртое воскресенье по Пасхе, называется в церковном календаре Неделей о расслабленном — в воспоминание чуда, совершённого Христом. По евангельскому рассказу (Ин. 5: 1—19), некий расслабленный (парализованный) лежал в немощи до своего исцеления 38 лет — и почти столько же, 36 лет (или даже 37, согласно «включённому» счёту, принятому в древней Руси), продолжалось бурное и наполненное самыми разными событиями княжение Всеволода Юрьевича. В конце жизни его тоже мучил недуг. Но физического исцеления — в отличие от евангельского больного — князю не было дано. Зато, освободив его от бренности самой жизни, Господь даровал ему освобождение от греха, неизбежно сопряжённого с властью. И слова, произносимые в тот день на утрени в церкви (то есть перед самой кончиной князя): «Душу мою, Господи, от грехов всяческих и от дел недолжных тяжко расслабленную, воздвигни божественным Твоим попечением, как и расслабленного воздвиг Ты некогда, дабы я, спасённый, взывал Тебе: “Слава, Христе Милостивый, могуществу Твоему!”» (из кондака на праздник)101 — звучали особенно весомо, приобретая новый, не заложенный в них изначально смысл. На следующий день («на утреи же в понедельник»),16-го числа, «сынове его, Юрий, Владимир, Святослав, Иоанн, и епископ Иоанн, и весь чин священнический, и все люди, отпев над ним обычные песни, положили его в церкви Пресвятой Богородицы во Владимире…» «И плакались по нему сыновья его плачем великим, и все бояре, и мужи, и вся земля власти его» — а это уже слова из Лаврентьевской летописи. Всё было сделано быстро — так, словно братья (и прежде всего, конечно, Юрий) торопились предать тело земле, дабы избежать ненужных кривотолков и исполнить отцовскую волю. На погребении великого князя отсутствовали его третий сын Ярослав — видимо, не успевший приехать во Владимир из Переяславля[40], и старший Константин — оставшийся в Ростове. Наверное, поэтому в Лаврентьевской летописи (отразившей летописание Константина Всеволодовича) и Летописце Переяславля Суздальского (отразившем летописание Ярослава Всеволодовича) дата смерти владимирского «самодержца» приведена иначе: «месяца апреля в 13 день, на память святаго Мартина, папы Римскаго», — в Лаврентьевской102, или «месяца априля в 16 день» — в «Летописце русских царей» (Летописце Переяславля Суздальского)103. В несохранившейся Троицкой летописи (и сохранившейся Симеоновской) значилась ещё одна дата: «месяца априля в 18 день», и тоже «в память святого Мартына, папы Римскаго» (явная ошибка)104. Наконец, в Никоновском своде смерть Всеволода Юрьевича датируется 14 апреля105. Пять разных дат смерти великого князя — случай беспрецедентный в истории русского летописания! Год смерти Всеволода Юрьевича по эре от Сотворения мира также показан в разных летописях по-разному: 6720-й (в Лаврентьевской, Московском летописном своде) и 6721-й (в Троицкой, Переяславля Суздальского и др.). Но здесь как раз разночтение объяснимо. Обе даты имеют в виду 1212 год по нашей эре от Рождества Христова, только в одних случаях использован так называемый «мартовский», а в других — так называемый «ультрамартовский» стиль (по-разному начинающий русский год — за полгода до или через полгода после византийского «сентябрьского»). Отсюда — и разное число лет княжения Всеволода Юрьевича во Владимире: одни летописцы насчитали таковых 36, другие — 37. Ещё удивительнее то, что за пределами Владимиро-Суздальской Руси смерть Всеволода Юрьевича как будто вообще не заметили. О ней не нашлось упоминаний ни в Новгородской Первой летописи, ни в Галицко-Волынской. А ведь ушёл из жизни правитель, который без малого четыре десятилетия занимал владимирский стол и от слова которого не раз зависели судьбы княжеских столов и в Киеве, и в том же Новгороде, и в Галиче, и в других городах древней Руси. Книжники же Северо-Восточной Руси, как это было принято, сопроводили известие о смерти князя пышными, хотя и вполне традиционными некрологами. «…Преставился благоверный и христолюбивый великий князь Всеволод, сын Юрьев, внук Владимира Мономаха, сына Всеволожа… миродержец всей Суздальской земли. Княжил во Владимире лет 30 и 6, а всех лет 60 и 6 (ещё одна ошибка, в целых 10 лет! — А. К.)106. И бысть плач и рыдание велико не токмо во Владимире едином, но и по всей земле Суздальской. Ибо был заступник твёрд и непобедим во всех местех силою честного креста. И не токмо единой Суздальской земли заступник был, но и всем странам земли Русской, и Новгородской, и Муромской». Так выразился о смерти владимирского «самодержца» переяславский книжник. В Лаврентьевскую же летопись включён более многословный и витиеватый панегирик: «Преставился великий князь Всеволод, именованный в святом крещении Дмитрий, сын Юрьев, благочестивого князя всея Руси, внук Владимира Мономаха; княжив в Суздальской земле лет 30 и 7, много мужества и дерзости на бранях явив, украшен всеми добрыми нравами: злых казня, а добросмысленныя милуя, — ибо князь не втуне меч носит, [но] в месть злодеям, а в похвалу добро творящим. Только от имени его трепетали все страны, и по всей земле прошёл слух о нём, и всех злоумышляющих на него дал Бог в руки его, потому что не возносился, не величался о себе, но на Бога все свои надежды возлагал, и Бог покорил под ноги его всех врагов его…» Что и говорить, написано сильно, с чувством. Но, создавая идеальный портрет могущественного и непобедимого князя, автор — книжник из круга Константина Всеволодовича — использовал в качестве образца посмертную же похвалу деду Всеволода, великому князю Киевскому Владимиру Мономаху, заимствуя оттуда целые фразы и выражения («…украшенный добрыми нравы… Его имене трепетаху вся страны, и по всем землям изиде слух его… вся бо зломыслы его вда Бог под руце его…», и т. д.)107. А далее в Лаврентьевской летописи следует столь же трафаретная похвала несравненным душевным качествам и христианским добродетелям усопшего (частично мы уже цитировали её в книге): «…Имея всегда страх Божий в сердце своём, подавая нуждающимся милостыню, судя суд истинен и нелицемерен, не обинуяся лица сильных своих бояр, обидящих меньших, и порабощающих сирот, и насилье творящих; любя же весьма черноризческий и священнический чины. Потому и даровал ему Бог чад благоразумных, которых и воспитал в наказании и свершённом разуме, даже и до возмужания их. И когда приспел конец ему временного сего и многомятежного жития, тихо и безмолвно преставился и приложился к отцам и дедам своим. И плакались по нему сыновья его плачем великим, и все бояре, и мужи, и вся земля власти его. И отпели над ним положенные песнопения епископ Иоанн, и все игумены, и черноризцы, и все священники града Владимира, и положили в церкви Святой Богородицы Златоверхой, которую создал и украсил брат его Андрей». Тело великого князя Всеволода Юрьевича было положено в каменную гробницу (которую он, скорее всего, подготовил для себя ещё при жизни). Заранее определено было и место погребения — на северной стороне храма, в приделе Благовещения Пресвятой Богородицы (или, по-другому, Пресвятой Богородицы Знамения), напротив гробницы Андрея Боголюбского108. Ныне белокаменный саркофаг великого князя Всеволода Юрьевича находится в алтарной части собора, в Андреевском приделе. В отличие от саркофага князя Андрея Боголюбского и большинства других гробниц, он не доступен для посетителей собора. Останки же великого правителя Владимиро-Суздальской Руси покоятся под спудом; в отличие от останков Андрея Боголюбского, они не доступны и для исследования специалистов-антропологов.После смерти Всеволода Юрьевича в княжестве началась долгая и кровопролитная война между его сыновьями. Таков, к сожалению, итог правления многих великих мира сего. Особенно тех из них, кто надолго засиживался на престоле. В русской истории и смерть Крестителя Руси Владимира, и смерть Андрея Боголюбского (при участии уже самого Всеволода Юрьевича), и многие другие оборачивались такими же кровавыми войнами. Лишь в редких случаях кровопролития удавалось избежать, или, вернее, оно откладывалось на неопределённое время: либо благодаря особым, заранее принятым мерам — как это было после смерти Ярослава Мудрого; либо благодаря тому, что один из наследников усопшего государя обладал неоспоримым превосходством над остальными — как это было, например, после смерти Владимира Мономаха или Юрия Долгорукого. Всеволоду предотвратить войну между своими наследниками не удалось. Более того, его предсмертное завещание лишь усилило ненависть его старших сыновей друг к другу. Мы не будем сейчас раскрывать все обстоятельства войны, начавшейся вскоре после того, как тело великого князя было предано земле. Тем более что многое по-прежнему остаётся неясным, ибо летописи заведомо тенденциозны в изложении событий, освещая их в свете, выгодном тому или иному князю. Неясно даже, кто первым открыл военные действия: Юрий, который, объединившись с Ярославом и другими своими братьями, подступил к Ростову; или же Константин, начавший «рать замышляти на Георгия, хотя под ним взяти Володимерь» («То сему ли подобаеть седети на отни столе, меншему, а не мне, болшему?» — приводит его слова автор Летописца Переяславля Суздальского). И кто первым предложил мир: тот же Юрий, призывавший Константина вернуться к первоначальному отцовскому решению («Брате Костянтине! Оже хочешь Володимиря, иди сяди в нём, а мне дай Ростов»); или Константин (по словам того же переяславского летописца, он отказался от своего первоначального намерения перенести великокняжеский стол в Ростов и хотел теперь взять себе Владимир, в Ростове посадить старшего сына, совсем ещё юного Василька, а Юрию предлагал Суздаль). Поначалу военные действия шли вяло109. В том же году Юрий с Ярославом в течение четырёх недель стояли у Ростова, за рекой Ишней, — но река была «грязка велми», к тому же Константин сторожил броды, и переправиться через реку союзники не смогли. Но прежде, чем заключить мир с братом и вернуться домой, они сотворили «много пакости» Ростовской земле: «сёла пожгошя, скот поимашя, жито пасошя». В то же лето начался «глад велик» по всей Суздальской земле, и это, конечно, тоже не способствовало продолжению войны. И на тот, и на следующий год жито не уродилось, и люди ели дубовую кору, а иные мох, и солому, «а иные конину ели в Великий пост», как с укоризной замечал летописец, «и многие люди тогда померли от голода». Воссев на отцовский стол, Юрий во многом изменил политику отца. Проявлялось это по-разному. Одним из первых его деяний в качестве владимирского князя было, например, освобождение рязанских пленников: в отличие от отца, Юрий понимал, что мир с Рязанской землёй выгоднее ему, нежели удержание её в повиновении столь жестоким и затратным способом. Заручившись поддержкой владимирских «мужей», Юрий изгнал с кафедры ростовского епископа Иоанна — «зане неправо творяше», как сказано об этом в Летописце Переяславля Суздальского, а в действительности, наверное, подозревая владыку в том, что он поддерживает старшего брата. Взамен Юрий добился поставления в епископы игумена владимирского Рождественского монастыря Симона — но в епископы уже не ростовские, а владимирские, что означало разделение единой прежде Ростовской епархии. Сложными и неустойчивыми оставались отношения Юрия с младшими братьями. В самом начале конфликта на сторону Константина перебежал один из младших, Святослав. Затем Святослав вернулся к Юрию, зато сторону Константина принял Владимир, которого не устроило княжение в завещанном ему отцом Юрьеве. При этом, несмотря на все перипетии междоусобной войны, Юрию удалось то, чего так долго добивался отец: около 1213-го или 1214 года он вернул под свою власть Южный Переяславль — важнейший город для суздальских Мономашичей. Сюда и был переведён Владимир, примирившийся с братом, а затем, в 1215 году, удачно женившийся на дочери черниговского князя Глеба Святославича. (Увы, княжение Владимира Юрьевича в Переяславле продлилось недолго: вскоре после женитьбы он попал в плен к половцам, провёл в плену несколько лет и только зимой 1217/18 года вернулся к братьям. Константин, ставший к тому времени великим князем Владимирским, отдал ему Стародуб, в котором Владимир и княжил до самой своей смерти в 1228 году). Военные действия между братьями возобновились в 1213 году, когда Юрий вместе с Ярославом, Святославом и Иваном, а также присоединившимся к ним Давыдом Муромским вновь ходил к Ростову — и вновь «много сёл пожгоша около Ростова», и вновь без ощутимого результата. Константин же отправил свой полк на Кострому и тоже «пожже» город весь, а ещё отнял Соль Великую у Юрия, а у Ярослава Нерехту. И снова князья заключили мир и целовали крест друг другу. Установившийся между братьями мир рухнул зимой 1215/16 года. Ссора между занявшим к тому времени новгородский стол Ярославом Всеволодовичем и его тестем Мстиславом Мстиславичем (в 1214 году Ярослав женился на его дочери Ростиславе) привела к большой войне, в которую оказались втянуты и смоленские князья, «Ростиславли внуки», и братья Ярослава. Причём Константин принял в этой войне сторону Мстислава, а Юрий и Святослав — Ярослава. 21 апреля 1216 года в битве на Липиде, на «Юрьевском поле» — том самом, где когда-то их отец Всеволод наголову разбил своих врагов и утвердил свою власть над всей Суздальской землёй, — Юрий и Ярослав потерпели сокрушительное поражение. Летописная повесть об этой битве, сохранившаяся в новгородских летописях, называет ужасающее число убитых в их войске — 9233 человека, при том, что в новгородских и смоленских полках погибли всего пятеро110. Юрий прискакал во Владимир к полудню, загнав трёх коней, в одной сорочке, и умолял жителей не выдавать его брату Константину; Ярослав тоже прискакал в Переяславль один, «на пятом коне, а четырёх загнав», однако и после того, по словам летописца, «не насытился крови человеческой», но повелел схватить оказавшихся в его городе новгородцев и смолян и запереть их в тесной избе, где от удушья умерли 150 человек. Вообще, в описании этой войны третий сын Всеволода Большое Гнездо изображён отъявленным негодяем, клятвопреступником и трусом. (Что же касается точки зрения самого Ярослава Всеволодовича на происходившие события, то о ней нам ничего не известно, ибо Летописец Переяславля Суздальского обрывается на событиях 1214 года). В результате войны Константин занял Владимир. Юрий, выйдя из города с двумя своими малыми сыновьями, бил челом смоленским князьям, предводителям рати — Мстиславу Мстиславичу и Владимиру Рюриковичу («Вам, братие, кланяюсь, а Константин, брат мой, в вашей воле», — приводит его слова летописец). По решению союзников он вынужден был довольствоваться Городцом Радиловым — ничтожным уделом на востоке Владимиро-Суздальской земли. Как свидетельствует летописец, перед тем, как покинуть Владимир, Юрий пришёл в Успенский собор и преклонил колени пред отцовским гробом: — Суди Бог брату моему Ярославу, оже мя сего довёл! «И так поиде в Городець вмале». Ярославу же, которого автор повести о Липицкой битве называет главным виновником войны, был оставлен Переяславль — как видно, на этот город никто из союзников не претендовал. Он тоже вышел из города — но кланялся, напротив, брату Константину, умоляя того об одном: не выдавать его тестю Мстиславу. Князья взяли мир, однако уходя от города, Мстислав забрал с собой дочь Ростиславу. «Ярослав же многажды посылал с мольбою к князю Мстиславу, прося своей княгини. Князь же Мстислав не дал ему». Вернулась ли Ростислава к мужу? Вопрос этот волнует историков, ибо речь идёт о том, кто была мать Александра Невского и других сыновей Ярослава — Ростислава Мстиславна или новая, третья жена Ярослава Всеволодовича. Увы, дать ответ на этот вопрос мы пока не в состоянии. Княжение Юрия Всеволодовича в Городце продлилось недолго. Владыка Симон покинул Владимир вместе с князем и последовал за ним в Городец. Это вынудило Константина Всеволодовича искать примирения с братом. Летом 1217 года князья целовали крест на том, что Юрий получает от брата Суздаль, а после его смерти наследует и владимирский стол. За сыновьями же Константина закреплялись города, на которые великий князь уже не мог претендовать: старший, Василько, был посажен отцом в Ростове, а второй, Всеволод, — в Ярославле; ещё один их брат, Владимир, позднее получил Углич. Это означало окончательное дробление Владимиро-Суздальского княжества на уделы. То, чего страшился князь Всеволод Юрьевич при жизни, свершилось после его смерти. И это, пожалуй, тоже можно назвать одним из итогов его правления. Впрочем, верховную власть великого князя Владимирского — сначала Константина, а затем Юрия — другие князья пока что признавали. Константин Всеволодович умер 2 февраля 1218 года во Владимире и был похоронен в Успенском соборе — рядом с отцом. С этого времени начинается второе владимирское княжение Юрия Всеволодовича. Он оставался великим князем до своей трагической гибели в несчастной для русских битве на реке Сити с полчищами татар 7 марта 1238 года. Ещё раньше, 7 февраля, при взятии стольного Владимира погибли его сыновья Всеволод, Мстислав и Владимир, а также владимирские княгини — жена Юрия Агафья с дочерью Феодорой, его невестки и «внучата»… Судьбы остальных сыновей Всеволода Большое Гнездо сложились по-разному. Ярослав избежал ужасов Батыева погрома Руси. Он не оказал помощи брату и не участвовал в битве на Сити, хотя Юрий и ждал его. Где пребывал князь в то время, в точности неизвестно — скорее всего, в Новгороде, где княжил его сын Александр, хотя Новгородская летопись, рассказывая о событиях 1237/38 года, не упоминает его имя. Заняв после смерти брата великокняжеский стол, Ярослав раздал княжения своимоставшимся в живых братьям: Святослав получил Суздаль, а Иван — Стародуб; сын Ярослава Александр сохранил за собой Новгород, а за племянниками Константиновичами (включая сыновей погибших от рук татар Василька и Всеволода Константиновичей) остались принадлежавшие им уделы — Ростов, Ярославль, Углич и Белоозеро. Первым среди русских князей в 1243 году Ярослав Всеволодович отправился на поклон к Батыю, и тот признал его «старейшинство» над прочими русскими князьями. Кажется, князь и женился «в Татарах» — третьим или четвёртым браком. Одного из своих сыновей, Константина, он отправил «к Кановичам» — в Монголию. Два года спустя туда же вынужден был отправиться и он сам — в числе правителей покорённых монголами стран, посланных Батыем для участия в курултае, выбиравшем нового хана. В ставке Туракины-хатун, матери великого хана Гуюка, Ярослав и был отравлен «зелием» — как считали, оклеветанный перед «царём». Он умер близ Каракорума 30 сентября 1246 года. Четвёртый сын Всеволода Святослав вошёл в историю прежде всего как строитель великолепного белокаменного Георгиевского собора в Юрьеве-Польском — городе, который он получил от брата Юрия ещё в 1213 году. Этот собор, возведённый в самый канун нашествия, в 1230–1234 годах, по праву признаётся одним из шедевров древнерусского зодчества. «Благоверный князь Святослав Всеволодич свершил церковь в Юрьеве святого великомученика Георгия и украсил её паче иных церквей, ибо снаружи, вокруг всей церкви, по камени резаны святые чудно вельми…» — не скрывает своего восхищения московский летописец. А тверской добавляет к этому: «…а сам бе мастер» — и это заставляет историков искусства видеть в князе Святославе «выдающегося художника своего времени»"1. Святослав принимал участие и в битве на Липице, и в походах на волжских болгар и мордву, и в походе на немецкую крепость Венден в Прибалтике, а затем и в несчастной битве на Сити, но смерти избежал. Вместе с братьями Ярославом и Иваном он тоже ездил в 1245 году к Батыю, но, в отличие от Ярослава, они с Иваном вернулись оттуда на следующий год благополучно. После того как весной 1247 года тело Ярослава Всеволодовича привезли из Монголии на Русь и похоронили во владимирском Успенском соборе, Святослав занял великокняжеский стол. Однако его княжение во Владимире продолжалось недолго, и вскоре он был изгнан кем-то из своих племянников: по одной версии, московским князем Михаилом Ярославичем (год спустя погибшим в битве с литовцами на реке Протве), по другой — энергичным и решительным Андреем Ярославичем. Осенью 1250 года Святослав с сыном Дмитрием во второй раз отправился в Орду — очевидно, жалуясь на племянников, — однако добиться желаемого ему не удалось. Князь умер 3 февраля 1253 года в Юрьеве. Меньше всего мы знаем о младшем сыне Всеволода Иване Стародубском (Иване Кротком, как назвал его один из древнерусских книжников112). Известие о его возвращении «ис Татар во свою отчину» под 1246 годом — последнее в летописи. Более князь в письменных источниках не упоминается. То ли он умер вскоре после возвращения, то ли мирно княжил в своём Стародубе, не претендуя на большее и не привлекая к себе внимание летописцев.
* * *
Князь Юрий Всеволодович не случайно молился у гробницы отца после поражения на Липице. Почитание усопших государей — одна из особенностей древнерусской религиозности. Увы, разорение Владимира и сожжение Успенского собора не позволили хоть как-то проявиться этой традиции. Если где и теплилась память о великом князе, то только во Владимире, в Успенском соборе. Так продолжалось до середины XVI столетия. Именно тогда внимание к памяти владимирских князей, своих «сродников», проявил царь Иван Васильевич Грозный. Указ царя (сохранившийся в «выписи» XVII века) требовал от владимирских клириков совершать по ним панихиды и заупокойные службы. Были установлены и дни памяти владимирских князей. Днём памяти князя Всеволода Юрьевича стал день его именин, 26 октября, празднование великомученику Димитрию Солунскому. В указе царя Всеволод Юрьевич был выделен особо. Указ предписывал совершать «панихиды большие с ужином» лишь по двум из похороненных во владимирском соборе князьям — Всеволоду и его сыну Ярославу, то есть прямым предкам царя113. И только «по великом князе Димитрее Всеволоде Юрьевиче на его память» предписывались не одна, а две большие панихиды в год: «в первые на преставление его — апреля в 15 день, а в другие на память его — октября в 26 день». Участвовать же в них надлежало архимандриту (владимирского Рождественского монастыря), а также протопопу (настоятелю Успенского собора), «и протодьякону, и попом, и дьяконом, и игуменом, всем 84 человеком петь понахиды и заупокойные обедни служить соборне же». Тогда же были установлены дни поминания и других владимирских князей и княгинь, в том числе «по Всеволожей великой княгине Марье, во иноцех Марфе», — марта в 19-й день (день её смерти), и «по Всеволодове же великой княгине Анне» — февраля в 3-й день (память Симеона Богоприимца и Анны пророчицы)"4. О почитании Всеволода Юрьевича во Владимире свидетельствует и одна из редакций Жития Александра Невского, составленная в 1591 году бывшим архимандритом владимирского Рождественского монастыря (а в будущем — митрополитом Ростовским) Ионой Думиным. Со слов монаха того же Рождественского монастыря Антония автор Жития записал рассказ о чудесном видении, случившемся двумя десятилетиями раньше: Всеволод вместе с другими русскими святыми — Борисом и Глебом, Александром Невским (мощи которого лежали тогда в Рождественском соборе), а также похороненными во владимирском же Успенском соборе братом Андреем Боголюбским и сыновьями Юрием (Георгием) и Ярославом и ростовским святым Петром, царевичем Ордынским, — восстав из гроба, отправился на помощь русскому воинству, вступившему у подмосковного села Молоди в жестокую битву с рвавшимися к Москве крымскими татарами (30 июля 1572 года). Причём Всеволод в видении рождественского инока оказывается первым среди князей, похороненных в Успенском соборе: «И увидел сей инок (Антоний. — А. К.) Всеволода, поспешно вставшего из гроба… И вышли они все семеро из великого святилища церковного, и нашли у церковного притвора семь быстрых коней, изготовленных для битвы… Они же, скорые помощники во бранях отечеству своему, воссели на коней, и… вскоре все семеро воспарили по воздуху через крепостную стену…» («воспарили» они пока что к Ростову, где их ждал восьмой небесный споспешник, Пётр, царевич Ордынский, похороненный в ростовском Петровском монастыре, и уже оттуда направились к Москве)"5. А вот за пределами Владимира личность великого князя Всеволода Юрьевича была известна не так хорошо — во всяком случае, в монашеской и вообще церковной среде. Свидетельством тому легендарное «Сказание о граде Китеже» — памятник, бытовавший в XVIII веке в среде старообрядцев, но сложившийся гораздо раньше (не позднее XVII столетия). Главным героем «Сказания» является сын Всеволода, святой и благоверный князь Георгий Всеволодович, погибший от рук татар и почитавшийся как мученик и святой. Но об отце его авторы «Сказания» имели самое смутное представление, почему и перепутали его с другим Всеволодом — почитаемым русским святым Всеволодом (Гавриилом) Мстиславичем, князем Псковским, умершим за 14 лет до рождения нашего Всеволода. Именно его сыном и оказался в «Сказании…» князь Георгий Владимирский116. А новгородский книжник XV века, один из авторов так называемой Новгородской Карамзинской летописи, перепутал Всеволода Юрьевича с другим его тёзкой — Всеволодом Святославичем Чёрмным: сообщив под 1203 годом о вступлении последнего на престол (киевский!), он через несколько строк, под правильным 1212 годом, поместил известие о том, что «преставися Всеволод Юрьевич, княжив в Суздале лет 10»117. Плохо представлял себе личность князя Всеволода Юрьевича и составитель ещё одной редакции Жития Александра Невского — знаменитый псковский агиограф XVI века Василий (в иноках Варлаам). Дед Александра назван у него Всеволодом Владимировичем, сыном того самого Владимира, «иже просвети… Русскую землю святым крещением»118, хотя реальный Всеволод был не сыном, а внуком Владимира — и, конечно же, не Владимира Святого, а Владимира Мономаха. Та же ошибка была повторена и в кратком Житии святого Александра, включённом в Пролог (сборник кратких житий, памятей святых, слов на различные праздники церковного года, расположенных в соответствии с церковным календарём), а потому получившем широкое распространение в русской книжности119. Во Владимире на Клязьме таких ошибок, кажется, не допускали. Здесь память одного из своих великих князей продолжали чтить и в XVI, и в XVII веке, и позже. Так, в XVII веке над погребением князя Всеволода Юрьевича был помещён «надгробный лист», написанный вполне в традициях житийной литературы и прославляющий «благоверного и христолюбивого великого князя», украсившего своими трудами град Владимир («и оттоле наречеся Богородичен град» — как сказано в «надгробном листе»)120. Во время восстановительных работ в Успенском соборе в 1882 году в числе прочих была осмотрена и расчищена гробница князя Всеволода Юрьевича[41]. Тогда же над нею повешено было пять лампад. Имя князя Всеволода-Димитрия Георгиевича (Юрьевича) включалось и в святцы — правда, далеко не во все; так, оно имелось в рукописных ростовских святцах конца XVII века (известных лишь в выписках), где значилось под 15 апреля, днём кончины князя122. (Ныне имя князя Всеволода (Дмитрия) Юрьевича включено в Православный церковный календарь, издаваемый Московской Патриархией. Память его празднуется 23 июня (6 июля по новому стилю) в Соборе Владимирских святых). Но в памяти большинства людей — как живших до нас, так и наших современников — князь Всеволод Юрьевич остался прежде всего великим правителем, одним из создателей могучего Владимирского государства и родоначальником «Великого гнезда» русских государей. Мы уже приводили слова тверского летописца XVI века о Всеволоде Великое Гнездо как об отце «всем русским нынешним князьям». Тем более «отцом всем нынешним московским князьям» считали его в Москве. А понимать слова средневекового книжника можно и в том смысле, что многие черты будущей российской государственности и политической жизни Московского царства были заложены в правление самого могущественного из владимирских князей. Всеволод Юрьевич не был последним великим князем Владимирским, умершим своей смертью в почёте и славе в стольном Владимире. Той же смерти удостоился и его старший сын Константин. Но Константин занимал великокняжеский стол слишком малый срок — менее двух лет; его княжение почти не запомнилось потомкам. И потому именно Всеволод Юрьевич стал тем князем, который олицетворял собой могущество великих князей Владимирских. В страшную эпоху татарского засилья, равно как и в последующую эпоху войн с «татарскими царствами» — осколками Великой Орды, его правление в сознании русских людей приобретало поистине эпические масштабы. «И бысть имя его славно в многых землях; болгары победи, и орды его трепетаху, на татарех дани имаше; и владея болгары Волгою и до моря; и град Суздаль заложи» — такими словами подвёл итоги княжения Всеволода Великого один из книжников XVI века123. И хотя реальный Всеволод Юрьевич никогда не взимал даней с татар (да и не мог этого сделать), равно как и не владел землями волжских болгар «до моря», в процитированных словах отражены не одни только фантазии московского книгописца, но, так сказать, взгляд на роль Владимирской Руси и владимирского «самодержца» в исторической перспективе. Ибо Владимирская Русь, достигшая своего расцвета именно в княжение Всеволода Большое Гнездо, и в самом деле стала ядром будущей Московской Руси, из которой и суждено было вырасти Великороссии, поглотившей и «татарские царства», и другие государственные и полугосударственные образования Восточной Европы.ПРИМЕЧАНИЯ
Часть первая
БРЕМЯ СКИТАНИЙ. 1154—1174
1 Тихомиров М. Н. Древнерусские города. М., 1956. С. 410–411. 2 Полное собрание русских летописей (далее: ПСРЛ). Т. 25. М., 2004. С. 58, под 6662 (1154) г. То же в Воскресенской летописи XVI в.: ПСРЛ. Т. 7. М., 2001. С. 60. «В полюдии»: ПСРЛ. Т. 4. Ч. 1. М., 2000. С. 153 (Новгородская Четвёртая); Т. 7. С. 60, прим, ж (один из списков Воскресенской); Т. 42. СПб., 2002. С. 102 (Новгородская Карамзинская); Т. 24. Пг., 1921. С. 77 (Типографская); и др. В Ермолинской летописи конца XV в. и Львовской XVI в. сказано лишь о рождении Всеволода «тоя же осени»: ПСРЛ. Т. 23. СПб., 1910. С. 40; Т. 20. М., 2005. С. 117. В кратком летописце первой трети XVI в., принадлежащем перу известного книгописца того времени Михаила Яковлевича Медоварцева, известие развёрнуто: «…и заложи ту град в имя сына своего, и нарече и Дмитров, и в нём постави церковь Успение Святыя Богородица» (Сиренов А. В. Летописцы в рукописях Михаила Медоварцева // Летописи и хроники. Новые исследования. 2013–2014. М.; СПб., 2015. С. 276). В некоторых летописях рождение Всеволода, равно как и основание города Дмитрова датируются иначе: 6663 (1155) г. (в Никоновской: ПСРЛ. Т. 9. М., 2000. С. 198; Тверской: ПСРЛ. Т. 15. [Вып. 2.] М., 2000. Стб. 221) или даже 6665 (1157) г. (Софийская Первая старшего извода: ПСРЛ. Т. 6. Вып. 1. М., 2000. Стб. 229–230). Но обе эти даты ошибочны: в первом случае хронология сдвинута на год и об интересующих нас событиях всё равно говорится раньше, чем о кончине «тоя же осени» киевского князя Изяслава Мстиславича (ум. 13 ноября 1154), а во втором известие явно поставлено не на место, уже после сообщения о смерти самого Юрия. В отдельных списках Степенной книги царского родословия (XVI в.) сочетание «в полюдии» не было понято, и получилось: «в полудни», то есть «в полдень» (Степенная книга царского родословия по древнейшим спискам: Тексты и комментарии. В 3 т. Т. 1: Житие св. княгини Ольги. Степени I–X / Подг. под рук. Н. Н. Покровского. М., 2007. С. 449, прим. 66; ср.: Библиотека литературы Древней Руси (далее: БЛДР). Т. 12: XVI век. СПб., 2003. С. 436–437). 3 ПСРЛ. Т. 15. [Вып. 2.] Стб. 221 (под 6663 г., см. пред. прим.). Современные исследователи княжеской антропонимики критически отнеслись к этому известию позднего тверского летописца, обратив внимание на то, что наречение «именем, выпадавшим на восьмой день по рождении», соответствует «обычаю, свойственному XV–XVI вв., но никак не зафиксированному у Рюриковичей домонгольской поры» (Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б. Выбор имени у русских князей в X–XYI вв. Династическая история сквозь призму антропонимики. М., 2006. С. 506). Однако, как следует из фундаментального исследования названных авторов, мы всё же недостаточно знакомы с обычаями имянаречения в домонгольской Руси. Автор же Тверского летописца обнаруживает хорошую осведомлённость относительно истории Суздальской Руси эпохи Юрия Долгорукого (напомню, что только из этого источника нам известно о строительстве Московской крепости в 1156 г.), а потому прямых оснований не доверять его показаниям у нас нет. Добавлю к этому, что с конца 1140-х — начала 1150-х гг. в летописях появляются сведения об обстоятельствах рождения княжичей и княжон с точными датами (см.: ПСРЛ. Т. 2. Ипатьевская летопись. М., 1998. Стб. 376: о рождении у союзника Юрия Долгорукого князя Святослава Ольговича дочери Марии; стб. 422: о рождении у того же Святослава Ольговича сына Игоря, в крещении Георгия), так что и в этом отношении известие о рождении Всеволода Юрьевича не стоит особняком. 4 Об обстоятельствах жизни князя Юрия Владимировича, составе его семьи, войнах за Киев и т. п. см. в моей ранее вышедшей книге: Карпов А. Ю. Юрий Долгорукий. М., 2006 (2-е изд.: М., 2007) (серия «ЖЗЛ»). 5 Имена Ольга и Евфросиния приводят историки XVIII в.; см.: Записки касательно российской истории (Екатерины II). Ч. 5. СПб., 1793. С. 96; Мальгин Т. С. Зерцало российских государей. СПб., 1794. С. 183–184; и др. Эта ошибка имеет своим источником смешение супруги Юрия и его дочери Ольги, в иночестве Евфросинии, и восходит ещё к Никоновской летописи XVI в., где Ольга (Евфросиния) Юрьевна, умершая в 1182 г. и погребённая во владимирском Успенском соборе, неверно названа «княгиней великого князя Юрья Долгорукаго», то есть его супругой (ПСРЛ. Т. 10. М., 2000. С. 8). Вероятно, к тому же ошибочному чтению Никоновской летописи восходит и ещё одно встречающееся в литературе имя второй супруги Юрия — Елена; см.: Карамзин Н. М. История государства Российского. Т. 2–3. М., 1991. С. 345, прим. 405. 6 Автор украинской Густынской летописи (XVII в.) прямо назвал императора Мануила дедом Всеволода и его братьев (ПСРЛ. Т. 40. СПб., 2003. С. 90). Ещё об одном, косвенном свидетельстве в пользу родства второй супруги Юрия Долгорукого с правящей в Византии династией Комнинов см. ниже, прим. 24. 7 Об этом говорится в рассказе о событиях, последовавших за гибелью Андрея Боголюбского, когда суздальцы, ростовцы и жители других городов призвали на княжение внуков Юрия, сыновей его старшего сына Ростислава, «а хрестьнаго целованья забывше: целовавше к Юргю князю на менших детех…» (ПСРЛ. Т. 1: Лаврентьевская летопись. М., 1997. Стб. 372; ПСРЛ. Т. 2. Стб. 595, под 6683/1174 г.). 8 В 1179/80 г. дочь Михалка Юрьевича была выдана Всеволодом замуж (см.: ПСРЛ. Т. 2. Стб. 612). Даже принимая во внимание то, что Всеволод выдавал девочек замуж в очень раннем возрасте, трудно предполагать, что Михалковне было к тому времени меньше одиннадцати-двенадцати лет; а значит, родилась она не позднее 1167/68 г. На этом основании можно сделать вывод о том, что Михалко родился, самое позднее, в начале 1150-х гг. 9 ПСРЛ. Т. 2. Стб. 480. Ряд более поздних летописей сообщает иначе: по сведениям их авторов, «княгиня Юрьева» явилась в Киев из Новосиля — города на реке Зуше (в нынешней Орловской области), то есть совершала путь именно через Вятичскую землю; см.: ПСРЛ. Т. 25. С. 391 (Эрмитажный список Московского летописного свода конца XV в.); Т. 7. С. 63 (Воскресенская летопись); Т. 9. С. 203 (Никоновская); и др. Но это известие явно противоречит указанию Ипатьевской летописи, а потому должно быть признано недостоверным. По мнению А. Н. Насонова, слова «из Новосиля» могут представлять собой испорченное чтение «у весельи» («пребыша у весельи») (Насонов А. Н. «Русская земля» и образование территории Древнерусского государства. М., 1951. С. 228). 10 Статья «А се князи русьстии»: Новгородская Первая летопись старшего и младшего изводов / Изд. подг. А. Н. Насонов. М.; Л., 1950 (далее: НПЛ). С. 467. 11 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 348. Дата 4 июля приведена в Радзивиловской летописи (ПСРЛ. Т. 38. Л., 1989. С. 129). В Московско-Академической (Там же, прим. 21) и Летописце Переяславля Суздальского (ПСРЛ. Т. 41: Летописец Переславля Суздальского (Летописец русских царей). М., 1995. С. 88) — 4 июня. Подробнее см.: Карпов А. Ю. Андрей Боголюбский. М., 2014 (серия «ЖЗЛ»). С. 94–97. 12 См. выше, прим. 7. 13 ПСРЛ. Т. 9. С. 220 (Никоновская летопись). 14 ПСРЛ. Т. 2. Стб. 520–521. Год обозначен по ультрамартовскому стилю, то есть соответствует 1161/62 г.; см.: Бережков Н. Г. Хронология русского летописания. М., 1963 (далее: Бережков). С. 174–175. 15 См. в Московском летописном своде конца XV в. (где рассказу этому предпослан отдельный заголовок: «О изгнаньи Юрьевичев от брата Андрея»: ПСРЛ. Т. 25. С. 72), Ермолинской (ПСРЛ. Т. 23. С. 45), Тверской (ПСРЛ. Т. 15. [Вып. 2.] Стб. 234–235), Воскресенской (ПСРЛ. Т. 7. С. 76) и др. О «чадах» Мстислава и Василька: в Львовской (ПСРЛ. Т. 20. С. 122), Ермолинской и Тверской. 16 ПСРЛ. Т. 9. С. 221. 17 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 372. 18 Кучкин В. А., Сумникова Т. А. Древнейшая редакция Сказания об иконе Владимирской Богоматери // Чудотворная икона в Византии и Древней Руси / Ред. — сост. А. М. Лидов. М., 1996. С. 501 (Слово об установлении празднования 1 августа, входит в цикл статей, окружающих Сказание о чудесах Владимирской иконы Божией Матери). 19ПСРЛ. Т. 2. Стб. 521. 20 Бибиков М. В. BYZANTINOROSSICA: Свод византийских свидетельств о Руси. Нарративные памятники. Т. 2. М., 2009. С. 479–481. Ср.: Иоанн Киннам. Краткое обозрение царствования Иоанна и Мануила Комнинов. Георгий Акрополит. Летопись великого логофета Георгия Акрополита. Рязань, 2003. С. 186–187 (с некоторой грамматической неточностью в переводе). 21 См.: Степаненко В. П. «Города на Дунае» в контексте русско-византийских отношений X–XII вв. // Руь и Византия: Место стран византийского круга во взаимоотношениях Востока и Запада. Тезисы докладов XVIII Всероссийской научной сессии византинистов. М., 2008. С. 131. 22 Три еврейских путешественника. Иерусалим; М., 2004. С. 114 (перев. П. В. Марголина). 23 См.: Васильев А. А. История Византийской империи. Т. 2: От начала Крестовых походов до падения Константинополя. М., 1998. С. 71. 24 Современные исследователи средневекового Новгорода находят косвенные свидетельства пребывания членов семьи князя Мстислава Юрьевича (напомню, женатого на новгородке) в Святой Земле; см.: Гиппиус А. А. К биографии Олисея Гречина // Церковь Спаса на Нередице: От Византии к Руси. К 800-летию памятника / Отв. ред. О. Е. Этингоф. М., 2005. С. 99–114; Этингоф О. Е. Заметки о греко-русской иконописной мастерской в Новгороде и росписях в Спасо-Преображенской церкви на Нередице // Там же. С. 115–143. О следах византийского присутствия в Аскалоне (что гипотетически может быть связано с пребыванием здесь Мстислава Юрьевича) см.: Майоров А. В. Русь, Византия и Западная Европа: Из истории внешнеполитических и культурных связей XII–XIII вв. СПб., 2011. С. 496–510. Ещё одно, и опять-таки косвенное свидетельство пребывания Мстислава Юрьевича в Святой Земле видят в упоминании в одной византийской рукописи XIII в. некоего «Феодора Роса из рода василевсов» и принадлежавшего ему драгоценного энколпиона с частицей камня от Гроба Господня, который хранился где-то в Византии во времена правления Иоанна или Мануила Комнинов (Бибиков М. В. BYZANTINOROSSICA… Т. 1. С. 212, 650; Граля И. «Феодор Рос» византийского кодекса середины XIII в. // Спорные вопросы отечественной истории XI–XVIII вв. Тезисы и доклады I Чтений, посвящённых памяти А. А. Зимина. М., 1990. Ч. 1). Имя Фёдор носил в крещении князь Мстислав Юрьевич (см.: Янин В. Л. Актовые печати Древней Руси X–XV вв. Т. 1: Печати X — начала XIII вв. М., 1970. С. 121, 131 и др.), и если допустить, что священная реликвия принадлежала ему, то это могло бы свидетельствовать о том, что князь действительно побывал на Святой Земле, а его мать и в самом деле принадлежала к «роду василевсов», то есть находилась в родстве с Комнинами. Впрочем, всё это не более чем догадки историков. 25 Сиренов А. В. Летописцы в рукописях Михаила Медоварцева. С. 277, 312. 26 См., напр.: Бибиков М. В. BYZANTINOROSSICA… Т. 2. С. 479, прим. 6; и др. 27 НПЛ. С. 468. Правда, возвращение Всеволода «из замория» датировано здесь «третьим годом» после смерти Андрея Боголюбското, то есть временем его вступления на владимирский стол в 1176 г. Слова же о «приходе» князя «из Селуня» могут объясняться указанием летописей на перенесение Всеволодом (но отнюдь не им лично) во Владимир реликвий святого Димитрия Солунского в январе 1197 г. (см. ниже). 28 Древняя Русь в свете зарубежных источников: Хрестоматия. Т. 4: Западноевропейские источники / Сост., перев. и коммент. А. В. Назаренко. М., 2010. С. 251–252 (из Прибавления к «Деяниям императора Фридриха»). 29 Там же. С. 252, прим. 113. См. об отождествлении этого не названного по имени «мелкого» «короля» со Всеволодом: Грот К. Я. Из истории Угрии и славянства в XII в. (1141–1173). Варшава, 1889. С. 352–353; Флоровский А. В. Чехи и восточные славяне: Очерки по истории чешско-русских отношений (X–XVIII вв.). Т. 1. Прага, 1935. С. 88–89. Впрочем, по мнению, например, В. Т. Пашуто (Внешняя политика Древней Руси. М., 1968. С. 185), речь может идти о ком-то из вассалов галицкого князя Ярослава Осмомысла. 30 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 354. В Лаврентьевском списке вместо правильного: Дмитр Гюргевич (Юрьевич) ошибочно указано два имени: Дмитр и Гюрги. В более поздних летописях путаница продолжилась; так, в Никоновской упоминаются и Всеволод, и «князь Дмитрей», и «князь Юрьи», «и иных множество князей» (ПСРЛ. Т. 9. С. 237). 31 ПСРЛ. Т. 38. С. 132 и прим. 1. 32 ПСРЛ. Т. 2. Стб. 543. 33 Там же. Стб. 545. 34 Вопреки историку XVIII в. В. Н. Татищеву, который полагал, что Всеволоду Юрьевичу принадлежал Городец Остёрский: в связи со Всеволодом он упоминает этот город ещё в рассказе о походе рати одиннадцати князей на Киев (Татищев В. Н. История Российская // Собрание сочинений: В 8 т. (далее: Татищев). Т. 3. М., 1995. С. 89–90) и ниже определённо пишет о принадлежности Городца Всеволоду в связи с событиями, последовавшими за смертью Андрея Боголюбского (Там же. С. 108). 35 Путешествие Абу Хамида ал-Гарнати в Восточную и Центральную Европу (1131–1153 гг.) / Публ. О. Г. Большакова и А. Л. Монгайта. М., 1971. С. 25 (перевод О. Г. Большакова). 36 Там же. С. 71, прим. 101 (коммент. А. Л. Монгайта): здесь «город страны славян» (Гуркуман) отождествлён с Киевом как искажение от «Куйав», что, однако, представляется маловероятным. Название «Гуркуман» отождествляется также с топонимом «Манкерман» («Великим городом русов», то есть тем же Киевом), используемым Рашидом ад-Дином в описании нашествия на Русь монголов в 1240 г. (Мишин Д. Е. Ас-Сакалиба (славяне) в исламском мире. М., 2002. С. 40–41). См. также: Древняя Русь в свете зарубежных источников: Хрестоматия. Т. 3: Восточные источники / Сост. Т. М. Калинина, И. Г. Коновалова, В. Я. Петрухин. М., 2009. С. 145, прим. 90 (коммент. И. Г. Коноваловой). 37 См.: Добродомов И. Г., Кучкин В. А. [Рец. на: ] Путешествие Абу Хамида ал-Гарнати… // Вопросы истории. 1972. № 10. С. 142–145; Добродомов И. Г. Город ТОРЧЕСКЪ у Абу Хамида ал-Гарнати // Восточная Европа в древности и средневековье. XX Чтения памяти В. Т. Пашуто. Тезисы докладов. М., 2008. С. 62–64. 38 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 362–363; ПСРЛ. Т. 2. Стб. 562–563. 39 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 359; ПСРЛ. Т. 2. Стб. 557. Летописные рассказы об этих двух военных предприятиях с участием князя Михаила Юрьевича и воеводы Володислава очень похожи и, очевидно, находятся в зависимости друг от друга. Думаю, однако, что речь в них идёт о двух разных походах на половцев, а не о дублировании в двух разных летописных статьях одного и того же известия. О датах обоих походов: Бережков. С. 68–69, 76–77, 187. 40 День недели назван в Радзивиловской и Московско-Академической летописях (ПСРЛ. Т. 38. С. 135) и Летописце Переяславля Суздальского (ПСРЛ. Т. 41. С. 97). 41 Правильная дата в Хлебниковском и Погодинском списках Ипатьевской летописи: ПСРЛ. Т. 2. Стб. 567, прим. 18 (Хлебниковский издан отдельно: The Old Rus’ Kievan and Galician-Volhynian Chronicles: The Ostroz’kyj (Xlebnikov) and Cetvertyns’kyj (Pogodin) Codices / Introduction by O. Pritsak (Harvard Library of Early Ukrainian Literature. Texts: Vol. VIII). Harvard, 1991). В Ипатьевском списке ошибочно: 30 мая. Ср.: Бережков. С. 338, прим. 138. 42 Татищев. Т. 3. С. 98; ср.: Т. 4. М., 1995. С. 281 (первая редакция «Истории Российской»). 43 Татищев. Т. 3. С. 99, 248–249, прим. 508; Т. 4. С. 281–282. 44 ПСРЛ. Т. 2. Стб. 569 и след. О датировке: Бережков. С. 188–191. 45 Всеволод и Ярополк будут захвачены в плен в Киеве «на Похвалу Святей Богородици» — очевидно, 1173 г., то есть 24 марта (в субботу пятой недели Великого поста), а княжение Всеволодово продолжалось пять недель (см. ниже). Это надо понимать так, что началось оно в первую неделю Великого поста (19–25 февраля 1173 г.). 46 ПСРЛ. Т. 2. Стб. 570 47 НПЛ. С. 34, 222. 48 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 365 (под 6682 г.). 49 См.: Булычёв П. В. Что значит эпитет «осмомыслъ» в «Слове о полку Игореве»? // Русский исторический журнал. Кн. 8. Пг., 1922. С. 3–7. 50 ПСРЛ. Т. 2. Стб. 572. 51 Описание войны: ПСРЛ. Т. 2. Стб. 573–578; ПСРЛ. Т. 1. Стб. 365 (в Лаврентьевской рассказ сокращён до минимума); НПЛ. С. 34, 223. 52 См.: Вилкул Т. Л. Летопись и хронограф: Текстология домонгольского киевского летописания. М., 2019. С. 268, 279–280. 53 ПСРЛ. Т. 2. Стб. 602: под 6684 ультрамартовским годом, соответствующим 1175/76 г. (см.: Бережков. С. 193–194). Вокняжение Михалка Юрьевича во Владимире состоялось 15 июня 1175 г. Старшая (?) дочь Всеволода Всеслава в июле 1186 г. будет выдана замуж (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 405). Если учесть, что обычно девочек отдавали замуж самое раннее в возрасте одиннадцати-двенадцати лет, то можно прийти к выводу, что Всеслава родилась не позднее 1174/75 г., а значит, брак Всеволода относится к ещё более раннему времени. (Впрочем, Всеволод мог отдать свою дочь замуж и в более раннем возрасте; см. далее о княжне Анастасии-Верхуславе.) 54 НПЛ. С. 468. Те же сведения повторены в ряде летописей XV–XVI вв.: так называемой Летописи Авраамки (ПСРЛ. Т. 16. М., 2000. Стб. 311), Тверской (ПСРЛ. Т. 15. [Вып. 2.] Стб. 301), Погодинской № 1596 (Новикова О. Л. Материалы для изучения русского летописания конца XV — первой половины XVI в.: Летописные подборки рукописи Погод. 1596 // Очерки феодальной России. Вып. 11. М.; СПб., 2007. С. 216, 217), Никифоровской (ПСРЛ. Т. 35: Летописи белорусско-литовские. М., 1980. С. 19), Супрасльской (Там же. С. 36; здесь всему летописному отрывку предпослан заголовок: «Сказание о верных святых князей руських»), а также в «Степенной книге царского родословия» (Степенная книга… Т. 1. С. 456, 459); и др. 55 ПСРЛ. Т. 2. Стб. 625. 56 «Ясыней» супругу Всеволода называл ещё В. Н. Татищев (Татищев. Т. 1. М., 1994. С. 375), а затем, хотя и с оговоркой, Н. М. Карамзин (История… Т. 2–3. С. 429, 535, прим. 62); впоследствии это мнение получило широкое распространение и сделалось едва ли не общепринятым. Из недавних работ, в которых обосновывается «ясская» (аланская) версия: Морозова Л. Е. Русские княгини. Женщины и власть. М., 2004. С. 156–184 (правда, совершенно непонятно, откуда автор взяла, что имя Ясыня имелось в надписи на гробнице Марии. С. 157); Кузнецов А. А. Жена Всеволода Большое Гнездо: Ясское (аланское) или чешское происхождение? // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2016. № 2. С. 17–27 (автор склонен считать, что «преображение ясыни в чехиню» в позднем источнике, вероятно, «носило палеографический характер», то есть, надо понимать, объяснялось простой опиской); см. также выложенную в Интернете работу Д. Г. Машенцева «Православные святые в христианской истории осетинского народа (К 1100-летию Крещения Алании-Осетии)». Владимир: Владимирская Свято-Феофановская духовная семинария, 2018. Гл. 3. С. 48–60 (http://vlpds.ru/graduates/baza-dannykh-vkr/BKP%20Maшeнцeв%20Д. pdf). Обоснование «чешской» версии, прежде всего: Кишкин Л. С. Мария Всеволожая — ясыня или чехиня? // Исследования по истории славянских и балканских народов. Эпоха Средневековья. Киевская Русь и её славянские соседи. М., 1972. С. 253–269; он же. Чешско-русские литературные и культурно-исторические контакты. М., 1983. С. 25–49. Подробный разбор сюжета: Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б. Кем была «Мария Всеволожая»: Отчества и происхождение трёх русских княгинь XII в. // Древнейшие государства Восточной Европы. 2004. М., 2006. С. 334–347 (тоже в: они же. Выбор имени… Экскурс 5. С. 368–381): авторы сосредотачиваются на происхождении Марии Всеволожей и её сестёр от русского боярина Шварна, по существу оставляя в стороне вопрос о его происхождении (подробнее см. ниже). Тема «ясского» происхождения княгини Марии в последнее время сделалась более чем актуальной. Владикавказская и Аланская епархия Русской Православной Церкви продвигает идею общецерковного прославления святой Марии — именно как Ясыни; идея эта активно поддерживается и общественностью Республики Северная Осетия — Алания; о «Ясыне» снимают фильмы, она превратилась едва ли не в культовую фигуру, символизирующую духовную и историческую близость двух народов — русского и осетинского. В 2014 г. в храме Христа Спасителя в рамках XVIII Всемирного русского народного собора прошли Общественно-научные чтения, посвящённые «Марии Ясыне»: «От аланской княжны до святой русской княгини» (http://www.pravoslavie.ru/75115.html). О нынешнем этапе подготовительного процесса к канонизации святой княгини Марии Шварновны (Марии «Ясыни») см. названную выше работу Д. Г. Машенцева. Таким образом, вопрос вышел далеко за пределы научной дискуссии, что, однако, не должно влиять на наше к нему отношение. 57 См.: Новикова О. Л. Материалы для изучения русского летописания конца XV — первой половины XVI в. С. 145–149 (со ссылкой на: Шахматов А. А. Разбор сочинения И. А. Тихомирова: «Обозрение летописных сводов Руси северо-восточной // Записки Имп. Академии наук по историко-филологическому отделению. Т. 4. СПб., 1899. № 2. С. 202). 58 Напр.: Летописец Владимирского собора: Шилов А. А. Описание рукописей, содержащих летописные тексты (Материалы для полного собрания русских летописей). Вып. 1 //Летопись занятий Имп. Археографической комиссии за 1909 г. Вып. 22. СПб., 1910. С. 64. 59 См.: Карамзин Н. М. История… Т. 2–3. С. 535, прим. 62. 60 Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б. Кем была «Мария Всеволожая». С. 341 (со ссылкой на: Marek V. Etymologicky slovnlk yazyka ceskeho a slovenskeho. Praha, 1957. S. 519). Исследователи, впрочем, подчёркивают, что у чехов это имя не зафиксировано и, более того, «у нас нет никаких данных для того, чтобы утверждать, что это имя в средневековой или хотя бы современной практике используется западными славянами в качестве собственного». 61 Разумеется, если не принимать во внимание свидетельство позднего Тверского летописного сборника, где этот Шварн, взятый в плен половцами в 1166 г., назван «ч[еиг]ьским князем» (ПСРЛ. Т. 15. |Вып. 2.] Стб. 237) — вне всяких сомнений, под влиянием статьи «А се князи русьстии». Такими же неудачными догадками тверского составителя летописи должны быть признаны и другие его «избыточные» известия: о том, что княгиня Мария Шварновна крещена была лишь во Владимире, а «приведена ис Чех не крещена» (Там же. Стб. 301), или именование Шварна (отца в данном случае сестры Марии, супруги новгородского князя Ярослава Владимировича) «чешским королём» (Там же. Стб. 290). Едва ли большего доверия заслуживают сведения Никоновской летописи о брате и племяннике названного Шварна: здесь под 6672 (1164?) г. читаем о том, как половцы «за Переславлем» «убиша дву богатырей, Андреа Жирославича и брата его Шварня… сестричичя же их, такоже Шварня нарицаемого, плениша» (ПСРЛ. Т. 9. С. 233). Похожие подробности о русских «богатырях», включая их мнимые имена и отчества, нередки в этой летописи и, как можно думать, также представляют собой плод сочинительства книжника XVI в., частично использовавшего народные предания. А потому излишними выглядят попытки на основании данных Никоновской летописи разобраться в родственных связях указанных Шварнов (см.: Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б. Кем была «Мария Всеволожая»? С. 342–345) и, соответственно, в родословии княгини Марии. Здесь же скажем ещё об одном, уже историографическом повороте темы. В литературе высказывалось предположение, что жена Всеволода «ясыня» могла быть сестрой или по крайней мере родственницей предполагаемой второй жены князя Андрея Юрьевича Боголюбского (о которой как о «княжне ясской» также писал в своей «Истории…» В. Н. Татищев: Т. 1. С. 375; Т. 3. С. 250, прим. 520; Т. 4. С. 105). Ю. А. Лимонов, в частности, обращает внимание на появление в ближнем кругу Андрея некоего ясина Анбала — одного из убийц князя, возможно, находившегося в родстве с супругой Андрея и, соответственно, с супругой Всеволода (Лимонов Ю. А. Владимиро-Суздальская Русь: Очерки социально-политической истории. М., 1987. С. 95); из этого следуют далекоидущие предположения — в частности, о том, что Всеволод и его жена могли знать о заговоре против Андрея, и т. д. Но опираться в данном случае на показания Татищева нельзя: он сам оговаривает, что «чья дочь была» последняя жена Андрея, ему неизвестно (Т. 4. С. 450, прим. 368), «ясское» же её происхождение — не более чем догадка, основанная на пребывании указанного «ясина» в окружении Андрея. Что же касается появления этого последнего, то едва ли оно могло быть связано с гипотетическим «ясским» окружением Всеволода. Ещё раз подчеркну, что брак Всеволода был заключён в Южной Руси, в то время, когда сам он не мог находиться в пределах Владимиро-Суздальского княжества и, очевидно, сознательно был устранён братом Андреем от какого-либо общения с владимирским и суздальским боярством, включая и собственное окружение владимирского «самовластца». 62 См. об этом специально: Домбровский Д. Генеалогия Мстиславичей: Первые поколения (до начала XIV в.). СПб., 2015. С. 395–397. 63 Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б. Кем была «Мария Всеволожая»? С. 340. 64 ПСРЛ. Т. 2. Стб. 527, под 6675 ультрамартовским годом (Бережков. С. 177). 65 Там же. Стб. 624, 625, под 6688 и 6690 гг. 66 Мария Ясыня. Комплексное исследование останков (судебно-медицинское, антропологическое, генетическое) / Никитин С. А., Васильев С. В., Боруцкая С. Б., Лореил О., Фризен С. Ю., Панова Т. Д. Выражаю глубокую благодарность Сергею Алексеевичу Никитину за возможность ознакомиться с этим документом до его публикации. 67 ПСРЛ. Т. 38. С. 161 (Радзивиловская; в Лаврентьевской этот фрагмент отсутствует). 68 Летописец Владимирского собора. С. 64. В более ранней описи владимирских гробниц, первой трети XVII в., эти мощи не были ещё определены как принадлежащие второй жене Всеволода, но наблюдение то же: «А с великою княгинею Марией Шварловною (так. — А. К.) лежали в одном гробе другия мощи невелики, великой княгине Марье Шварловне по плеча, а неведомо чьи» (Сиренов А. В. Описание древнерусских некрополей в рукописях XVI–XVII вв. // Российская археология. 2011. № 1. С. 107).Часть вторая
ВОЙ НА ЗА ВЛАДИМИР. 1174—1178
1 Кобрин В. Б., Юрганов А. Л. Становление деспотического самодержавия в средневековой Руси (К постановке проблемы) // История СССР. 1991. № 4. С. 57. 2 Рассказ об убийстве Андрея Боголюбского сохранился в двух версиях (редакциях): пространной, в составе Ипатьевской летописи: ПСРЛ. Т. 2. Стб. 580–595; параллельно, с переводом на современный русский язык: БЛДР. Т. 4: XII век. СПб., 1997. С. 206–217 (подг. текста, перев. и коммент. В. В. Колесова), и краткой, в составе Лаврентьевской и Радзивиловской летописей: ПСРЛ. Т. 1. Стб. 367–371; Т. 38. С. 137–139; в переводе на современный русский язык: Се повести временных лет: Лаврентьевская летопись/ Перев. А. Г. Кузьмина. Арзамас, 1993. С. 226–228. Некоторые дополнительные подробности убийства князя содержатся в кратком известии Новгородской Первой летописи: НПЛ. С. 34, 223. 3 Останки князя Андрея Юрьевича подвергались антропологическому исследованию неоднократно. См.: Рохлин Д. Г., Майкова-Строганова В. С. Рентгено-антропологическое исследование скелета Андрея Боголюбского // Проблемы истории докапиталистических обществ. М.; Л., 1935. № 9—10. С. 155–161; Рохлин Д. Г. Болезни древних людей (Кости людей различных эпох — нормальные и патологически изменённые). М.; Л., 1965. С. 268–269; Васильев С. В., Герасимова М. М., Боруцкая С. Б., Халдеева Н. И. Антропологическое исследование костных останков великого князя Андрея Боголюбского: спустя 70 лет // Вестник Московского университета. Серия XXIII. Антропология. 2012. № 4. С. 54–69; Звягин В. Н. Великий князь Андрей Боголюбский: медико-криминалистическое исследование останков // http://kanonkom.ru/dokumenty-publicatcii/rozhdestvenskie-chteniya/rozhdestvenskie-chteniya-2013/121-professor-v-n-zvyagin-velikij-knyaz-andrej-bogolyubskij-mediko-kriminalisticheskoe-issledovanie-ostankov. 4 Гиппиус А. А., Михеев С. М. Надпись об убийстве Андрея Боголюбского из Спасо-Преображенского собора в Переславле-Залесском // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2017. № 3 (69). С. 31–32. 5 Бойцов М. А. Ограбление мёртвых государей как всеобщее увлечение // Казус: Индивидуальное и уникальное в истории. Вып.4. М., 2002. С. 137–201. 6 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 371–374; ПСРЛ. Т. 2. Стб. 595–598; ПСРЛ. Т. 38. С. 139–140. По Татищеву, вече собралось в Суздале (Татищев. Т. 3. С. 106). 7 ПСРЛ. Т. 2. Стб. 366–367. 8 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 371–372; ПСРЛ. Т. 2. Стб. 595–596. 9 Иначе излагает ход веча В. Н. Татищев (Татищев. Т. 3. С. 106–107), по версии которого «старые вельможи всё согласовали» об избрании на княжеский стол Андреева сына Юрия и Михалка — с тем, чтобы «доколе Юрий в совершенство придёт, Михалко имеет всем управлять»; Всеволода же предполагалось «посадить в Ростове». Этому будто бы и воспротивились убийцы Андрея со своими сообщниками: опасаясь мщения, они настояли на избрании на престол племянников Андрея, «ведая, что сии мстить кровь Андрееву по многой от него обиде причины не имеют». Ещё один повод для разногласий возник, по Татищеву, в связи с тем, что «суздальцы усильно домогались, что князю жить в Суздали… а ростовцы по старшинству требовали в Ростов, но протчие грады оставили то на волю княжую». Все эти подробности присутствуют лишь во второй редакции «Истории Российской» В. Н. Татищева; достоверность их вызывает большие сомнения — вполне вероятно, что здесь (как и во многих других местах «Истории…») мы имеем дело с собственными домыслами историка XVIII в. Примечательно, что в первой редакции «Истории…» Татищев считал Мстислава и Ярополка сыновьями князя Мстислава Юрьевича (Там же. Т. 4. С. 286 и след., 450, прим. 369); во второй же определённо «принял сих за детей Ростиславлих» (Т. 3. С. 249–250, прим. 514). 10 ПСРЛ. Т. I. Стб. 372; ПСРЛ. Т. 2. Стб. 596; ПСРЛ. Т. 38. С. 140. В Ипатьевской — видимо, по оплошности: «…отца моего», хотя выше речь, как и в Лаврентьевской, идёт об обоих князьях: «И рекоста (двойственное число! — А. К.) Мстислав и Ярополк…» 11 В. Н. Татищев и здесь дополнял и распространял летописный текст. Так, он приводит условия заключённого между князьями договора: Михалко должен был получить Суздаль и Владимир; Всеволод — Ростов и Переяславль-Залесский, а их племянники Мстислав и Ярополк — волости на юге, то есть Русский (Южный) Переяславль (которым будто бы владел к этому времени Михалко) и Городец Остёрский (бывший якобы владением Всеволода) (Татищев. Т. 3. С. 107–108; Т. 4. С. 286). В сохранившихся летописях все эти сведения подтверждения не находят. Примечательно, что Татищев полагал, что и после победы братьев над Ростиславичами и утверждения Михалка во Владимире Всеволод получил от него Ростов, а не Переяславль; в Переяславль же Михалко послал «наместников верных» (Татищев. Т.З. С. 113). 12 Позднее трудившийся в Переяславле-Залесском летописец, горячий патриот своего города, обрабатывая летописный текст, счёл нужным сопроводить его фразой, задним числом обеляющей переяславцев, которые приняли явно «нелегитимного» Ярополка: «…а переяславцем не хотящим его, но хотеша Михалка с братом его Всеволодом» (ПСРЛ. Т. 41. С. 102). И ниже ещё несколько раз: когда речь идёт о выступлении объединённой рати на Владимир, против Михалка: «Переяславци же не от сердца идяхуть, но принужением ростовскым»; о злых намерениях ростовцев против владимирцев: «А с переяславци имяхуть володимирци едино сердце»; о посольстве владимирцев в Чернигов за Михалком и Всеволодом: «Володимирци же с переяславци укрепившеся…» (Там же. С. 103). 13 Исключение составляет авторТверского летописного сборника, по словам которого Михаил поехал «к Володимеру с Всеволодом» (ПСРЛ. Т. 15. [Вып. 2.] Стб. 255). Но это, скорее всего, домысел летописца XVI в. 14 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 373–374; ПСРЛ. Т. 2. Стб. 596–597. В. Н. Татищев во второй редакции «Истории Российской» приводит подробности осады — но едва ли достоверные. Михалко Юрьевич вступил в переговоры с племянниками: не видя себе ниоткуда помощи, он готов был удовольствоваться частью княжения, но убийцы Андрея (по Татищеву, по-прежнему игравшие ведущие роли в войске) не допустили мира между князьями. Здесь же помещены пространное послание Михаила племянникам и ответная речь Мстислава послам дяди; то и другое, несомненно, принадлежит перу историка XVIII в. См.: Татищев. Т. 3. С. 108–109 (отметим, что в этом месте своего рассказа Татищев вновь, как и в первой редакции, ошибочно именует младших князей Мстиславичами, хотя в других случаях внёс исправление); Т. 4. С. 287. 15 ПСРЛ. Т. 20. С. 130 (Львовская); и др. 16 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 374; ПСРЛ. Т. 2. Стб. 598. В обеих летописях, Лаврентьевской и Ипатьевской, сказано, что Ярополк венчался со своей женой «месяца генваря в 3-й день, мясопустной недели во вторник». В дате — несомненная ошибка, так как вторник мясопустной недели (недели, предшествующей Масленице) не бывает раньше 19 января. В Летописце Переяславля Суздальского значится 3 февраля (ПСРЛ. Т. 41. С. 103), что соответствует вторнику мясопустной недели 6683-го мартовского, то есть 1176 г.; в Тверской, Львовской — 23 января (ПСРЛ. Т. 15. | Вып. 2.] Стб. 256; Т. 20. С. 130). В действительности в 6683-м ультрамартовском году (1174/75) вторник мясопустной недели пришёлся на 11 февраля 1175 г., что, скорее всего, и было днём свадьбы (см: Бережков. С. 79). 17 См.: Домбровский Д. Генеалогия Мстиславичей. С. 454–455. 18 НПЛ. С. 34. 19 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 374–375 и след.; под 6684 ультрамартовским годом, соответствующим 1175/76 г. В Ипатьевской летописи (ПСРЛ. Т. 2. Стб. 598–599) начало рассказа о Ростиславичах оставлено в конце предыдущей статьи, под 6683 г. (также ультрамартовским). 20 Летописец не говорит об этом прямо, но сообщает о возвращении иконы Глебом Ростиславичем в 1175 г. (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 379). 21 Дата приведена в Ипатьевской летописи: ПСРЛ. Т. 2. Стб. 600. 22 См.: Насонов А. Н. «Русская земля»… С. 230. Это не известная река Свень (Свинь) в Брянской области, а нынешняя речка Замглай (Свинь) в Черниговской области Украины, правый приток Десны. Она неоднократно упоминается в летописи в связи с войнами, которые вели за Чернигов разные русские князья. 23 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 375–377; ПСРЛ. Т. 2. Стб. 600–602; ПСРЛ. Т. 38. С 141–142. 24 В Львовской летописи и Тверском летописном своде (XVI в.) иначе (искажённо?): «Си же бысть победа на Дубровине у Яхробола» (ПСРЛ. Т. 20. С. 131; Т. 15. [Вып. 2.] Стб. 258). Последнее название, конечно же, не может обозначать деревню и озеро на востоке нынешней Ярославской области, но что имел в виду летописец, непонятно. 25 В обоих летописных рассказах о сражении на Колокше значатся «Мстиславичи». Можно было бы подумать, что это ошибка, вместо «Ростиславичи», и, значит, речь идёт о бегстве обоих братьев — и Мстислава, и Ярополка. Вероятнее, однако, понимать под «Мстиславичами» воинов Мстислава (как, например, в Воскресенской летописи, где вместо «Мстиславичей» стоит: «Мстиславли же полки»: ПСРЛ. Т. 7. С. 91). 26 ПСРЛ. Т. 9. С. 254–255 (Никоновская). 27 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 377–378; ПСРЛ. Т. 38. С. 142–143. Добавления о Всеволоде в квадратных скобках — из Радзивиловской летописи. 28 БЛДР. Т. 1: XI–XII вв. СПб., 1997. С. 39 (перев. диакона Андрея Юрченко). 29 Клосс Б. М. Избранные труды. Т. 2: Очерки по истории русской агиографии XIV–XVI вв. М., 1998. С. 381 (Житие преподобной Евфросинии Суздальской). 30 Именно «от града Суждаля» тысяцкий Георгий в 1129/30 г. посылал «единаго от боляр своих, сущих под ним» в Киево-Печерский монастырь для украшения гробницы преподобного Феодосия Печерского (Абрамович Д. И. Киево-Печерський патерик. У Киевi, 1930 (Пам’ятки мови та письменства давньоi Украiни. Т. 4). С. 84–86). Свидетельством пребывания в Суздале «князя Мины Иоанновича» признавали находящееся в трёх верстах от Суздаля по пути к Владимиру «место, называемое Минино селище», где якобы находился загородный двор упомянутого Мины (Историческое собрание о богоспасаемом граде Суждале. Ключаря тамошнего Собора Анании Фёдорова / Изд. Я. А. Соловьёв // Временник Имп. Московского общества истории и древностей российских. Кн. 22. М., 1855. С. 17). Согласно позднейшим родословным книгам, к потомкам Георгия Шимоновича и его сына Ивана (отца Мины) причисляли себя московские тысяцкие, начиная с первого московского тысяцкого Протасия (Воронцов-Вельяминов Б. А. К истории ростово-суздальских и московских тысяцких // История и генеалогия. М., 1977. С. 124–139). 31 ПСРЛ. Т. 15. (Вып. 2.) Стб. 336 (Повесть о битве на Калке в составе Тверского летописного сборника). 32 ПСРЛ. Т. 2. Стб. 602–603. См.: Насонов А. Н. «Русская земля»… С. 230; Зайцев А. К. Черниговское княжество X–XIII вв. Избранные труды. М., 2009. С. 164. 33 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 379. В Радзивиловской и Московско-Академической летописях вместо реки Мерьской значится Москва. 34 ПСРЛ. Т. 24. С. 77 (Типографская летопись). 35 ПСРЛ. Т. 41. С. 130 (Летописец Переяславля Суздальского). 36 ПСРЛ. Т. 9. С. 256 (Никоновская). 37 Макаров Н. А., Гайдуков П. Г. Печать князя Михалки Юрьевича из Суздальского Ополья // Краткие сообщения Института археологии РАН. Вып. 231. М., 2013. С. 224–231. 38 НПЛ. С. 468; тоже в: ПСРЛ. Т. 16. Стб. 310 (Летопись Авраамки); ПСРЛ. Т. 35. С. 36 (Супрасльская); Новикова О. Л. Материалы для изучения русского летописания конца XV — первой половины XVI в. С. 216, 217; Степенная книга… С. 450–451. 39 Степенная книга… С. 473. Впрочем, в «надгробном листе», помещённом в 40-е гг. XVII в. над гробницей князя Михалка Юрьевича во владимирском Успенском соборе (лист этот дошёл до нас в рукописной копии), эти казни приписаны Михалку, который «отмсти кровь окаянным Кучковичем, всех смерти предав, овых в коробы зашивая и во езере истопити повеле, а иных различным смертям предав» (Сиренов А. В. Путь к граду Китежу: Князь Георгий Владимирский в истории, житиях, легендах. СПб., 2003. С. 75). 40 См.: Кривошеев Ю. В. Гибель Андрея Боголюбского: Историческое расследование. СПб., 2003. С. 148–155. 41 Повести о начале Москвы / Исслед. и подг. текстов М.А. Салминой. М.;Л., 1964. С. 179–180, 191. 42 Татищев. Т. 4. С. 449, прим. 368. О возможных источниках этого примечания и его соотнесении с текстом второй редакции см.: Толочко А. «История Российская» Василия Татищева: источники и известия. М.; Киев, 2005. С. 181–185. 43 Татищев. Т. 3. С. 106, 113. В Воронцовском списке второй редакции указанный текст написан на вклейке (Там же. С. 284, прим. 20–20). 44 См. выше, прим. 4. 45 В Лаврентьевской под 6685-м ультрамартовским годом: «в суботу, заходящю солнцю, июня месяця в 20 день, на память святаго отца Мефодья» (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 379; в Ипатьевской текст утрачен). В дате ошибка: 20 июня приходилось в 1176 г. на воскресенье (в 6685-м мартовском, то есть 1177-м, — на понедельник). Н. Г. Бережков предполагает, что князь умер на заходе солнца в субботу 19-го, а слова «на память святаго отца Мефодья» обозначали канун памяти святого; впоследствии они были неверно истолкованы как указание на самый день памяти, что и повлекло изменение даты смерти с 19-го на 20-е (Бережков. С. 79–80). 46 Татищев. Т. 3. С. 115 (вторая редакция). 47 ПСРЛ. Т. 25. С. 87 (Московский летописный свод конца XV в.). 48 Мне не кажется удачной попытка С. М. Михеева установить дату вокняжения Всеволода во Владимире — 24 июня — на основании изображения святого Иоанна Предтечи на печати с княжеским знаком, который он предположительно атрубутирует Всеволоду Юрьевичу (Михеев С. М. Княжеские печати с тамгами и атрибуция знаков Рюриковичей XI–XII вв. // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2017. № 4 (70). С. 24). Равно как и сама гипотеза, согласно которой князь помещал на своей печати изображение не только своего небесного покровителя (или небесного покровителя своего отца), но и святого, выбранного «по дате церковного календаря, в том числе, по-видимому, по дате интронизации князя» (Там же. С. 35). Представленный автором материал как будто не даёт для этого оснований. (Так, появление святого Мины на печати с княжеским знаком Ростислава Мстиславича (или схожим с ним?) вряд ли можно объяснять тем, что князь этот вторично воссел на киевский стол 12 апреля 1159 г. (Там же. С. 27): память преподобномучеников Мины, Давида и Иоанна в этот день действительно отмечается, но в древней Руси она не была известна и в месяцесловах отсутствовала (ср.: Лосева О. В. Русские месяцесловы XI–XIV вв. М., 2001. С. 315); главное же, это была Пасха, что специально отметил летописец (ПСРЛ. Т. 2. 504).) Как представляется, летописный материал скорее позволяет говорить о другом: князья сами старались — если, это, конечно, было возможно — приурочить значимые для себя события церковной и политической жизни к дням памяти соименных им святых. Так, например, князь Андрей Боголюбский воссел на ростовский стол 4 июля, в день святого Андрея Критского (ПСРЛ. Т. 38. С. 129), а князь Изяслав Мстиславич (в крещении Пантелеймон) приурочил поставление митрополита Климента Смолятича к 27 июля (памяти святого Пантелеймона) (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 315). 49 Как полагали ещё В. О. Ключевский и А. Е. Пресняков (Ключевский В. О. Сочинения: В 9 т. Т. 1: Курс русской истории. Ч. 1. М., 1987. С. 331; Пресняков А. Е. Княжое право в древней Руси. Лекции по русской истории. Киевская Русь. М., 1993. С. 129). 50 ПСРЛ. Т. 35. С. 19 (Никифоровская), 36 (Супрасльская; о самом памятнике см.: Сиренов А. В. Сказание о верных святых князьях русских и внелетописная статья «А се князи русстии» // «Вертоград многоцветный». Сборник к 80-летию Б. Н. Флори. М., 2018. С. 162–172). В летописной подборке из Погодинской рукописи 80-х гг. XVI в. (Погод. 1596) схожий текст читается без имени князя: «А Кидешскую церковь постави Бориса и Глеба сын брата Андреева Всеволожа и ссыпа город Кидекшу, той же Городец на Волзе» (Новикова О. Л. Материалы для изучения русского летописания конца XV — первой половины XVI в. С. 217). То, что речь идёт о сыне князя Михаила Юрьевича, допускал ещё А. А. Шахматов (правда, со знаком вопроса: Шахматов А. А. Обозрение летописей и летописных сводов XI–XVI вв. // он же. История русского летописания. Т. 2. СПб., 2011. С. 550). Напротив, А. А. Кузнецов счёл княжича фигурой полностью мифической (Кузнецов А. А. Борис Михалкович — мнимый основатель Городца // Городецкие чтения: Материалы научной конференции VII Городецкие чтения. Городец, 2012. С. 24–35 (http://radilov.ru/biblioteka/gorchtenya2012/877-boris-mihalkovich-osnovatelj-gorodtsa.html)). Однако автора, кажется, больше интересовал вопрос об основании Городца на Волге, к чему указанный Борис, разумеется, не мог иметь никакого отношения. Не является аргументом против существования князя и полное молчание о нём других источников (что, кстати, не вполне точно; см. прим. 21 к части 3). 51 НПЛ. С. 35. См.: Янин В. Л. Новгородские посадники. 2-е изд. М., 2013. С. 151. 52 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 380–381. 53 ПСРЛ. Т. 41. С. 106 (в Лаврентьевской здесь текст немного испорчен). Есть и перевод: Инков А. А. Летописец Переяславля Суздальского: Предисловие, перевод, комментарий. М., 2016. С. 135. 54 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 381–382. 55 Астайкин А. А. Что означает Липицы? (Об определении места Липицких битв 1176и1216 гг. и критическом разборе версии А. С. Уварова) // Средневековая Русь. Вып. 10. М., 2012. С. 217–218. О точном месте сражения и значении названия «Липицы»: Там же. С. 197–228. Современный автор подтверждает вывод своего предшественника о том, что поля сражений 1176 и 1216 гг. были разные, хотя и находились недалеко друг от друга (Уваров А. С. Две битвы 1177 и 1216 гг. по летописям и по археологическим изысканиям // Древности. Труды Московского Имп. Археологического общества. Т. 2. Вып. 2. М., 1870. С. 120–131), и уточняет по карте конкретное место битвы. 56 ПСРЛ. Т. 10. С. 3; то же: Т. 15. [Вып. 2.] Стб. 261 (Тверская), и др. 57 Н. Г. Бережков видит и здесь ошибку или противоречие в дате, полагая, что, по летописи, победа Всеволода одержана «в суботу… месяца июня в 27 день…». Но это не вполне точно. В Лаврентьевской летописи сказано, что «в суботу рано» Всеволод лишь переправился через Гзу и «поеха к нему (к Мстиславу. — А. К), полкы нарядив». Но это ещё не битва: полки могли стоять друг против друга до наступления следующего дня. В указании же даты победы Всеволода день недели не обозначен. Так что принимаю (без поправок) летописную дату победы на «Юрьевском поле» — 27 июня. 58 Татищев. Т. 3. С. 116–117. 59 НПЛ. С. 35 (старший извод, Ярослав ошибочно назван сыном Всеволода), 224 (младший извод), 162 (статья «А се в Новегороде»), 60 ПСРЛ. Т. I. Стб. 382–383; ПСРЛ. Т. 38. С. 144–145. 61 ПСРЛ. Т. 25. С. 88. 62 См.: Тихомиров М. Н. Древнерусские города. С. 412. 63 Современный автор видит явные следы знакомства Всеволода с военным искусством Византии того времени — следствие его долгого жительства в Империи (Вершинский А. Н. Всеволод Юрьевич из рода Мономаха. Византийские уроки русского князя. СПб., 2014); это, в частности, могло проявиться и в намеренном разделении войска накануне решающей битвы. Правда, из того, что летописец не называет по имени ни одного из Всеволодовых воевод, не обязательно следует, что все решения принимал лично Всеволод; нельзя забывать о том, что рядом с ним находились опытные в военном отношении князья из Черниговского и Переяславского княжеств. 64 ПСРЛ. Т. 10. С. 3. 65 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 384–385. В Лаврентьевской летописи в числе пленников, приведённых во Владимир, ошибочно значится Ярополк (вместо действительно захваченного в плен Мстислава). В. Н. Татищев (Т. 3. С. 117) датировал битву 20 февраля (высчитывая канун Великого поста для 1178 г.). Эту ошибку повторяют и некоторые современные авторы. 66 ПСРЛ. Т. 25. С. 88. 67 ПСРЛ. Т. 10. С. 5. 68 Из слов рязанцев, как они переданы в Лаврентьевской летописи, можно, казалось бы, сделать вывод, что обращение Всеволода и выдача Ярополка состоялись уже после смерти Глеба {«князь нашь и братья наша погибли…»). Это, однако, противоречит рассказу Ипатьевской летописи (см. ниже), согласно которой Мстислав Ростиславич Смоленский настаивал на освобождении Мстислава и Ярополка, а к его просьбе присоединилась и княгиня Глебовая, молящая в том числе «и о муже своём». Думаю, что слово «погыбли» в речи рязанцев имеет отношение к «братии», но не к «князю». 69 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 385–386. 70 ПСРЛ. Т. 38. С. 146; ПСРЛ. Т. 41. С. 109. 71 См.: Насонов А. Н. История русского летописания XI — начала XVIII в. М., 1969. 72 ПСРЛ. Т. 25. С. 89. 73 НПЛ. С. 35, 224. 74 См.: Рыбаков Б. А. «Слово о полку Игореве» и его современники. М„1971. С. 150. 75 ПСРЛ. Т. 2. Стб. 606. В Ипатьевской летописи пропущена большая часть рассказа о суздальских делах (после известия о победе Олега Святославича-младшего над рязанцами у Свирельска); рассказ возобновляется под 6685 (1 177) г. с середины фразы — сообщения о возвращении Всеволода во Владимир после победы на Колокше. Здесь воспроизведён владимирский источник (текст совпадает с соответствующим рассказом Лаврентьевской летописи) — но не до конца. Вместо рассказа о втором владимирском восстании («по мале же дни всташа опять людье вси и бояре…») в Ипатьевской приведён рассказ о дипломатических переговорах между Святославом Всеволодовичем и Всеволодом Юрьевичем, после чего кратко говорится о смерти Глеба и ослеплении Ростиславичей. 76 Дата («июня в 30») приведена в Ипатьевском, основном, списке Ипатьевской летописи. В Хлебниковском иначе: «июля 31». Ясно, что одна из дат — результат ошибки. Склоняюсь к тому, чтобы признать верной дату Ипатьевского списка. Цифра «31» могла получиться из-за того, что переписчик принял следующий за кириллической цифрой «30» («л») союз «а» («…а Романа сына его…») за часть цифры «31» («ла»); соответственно изменив месяц июнь, в котором не бывает 31-го числа, на июль. Обратное предположение требует более сложного объяснения. 77 ПСРЛ. Т. 7. С. 242. Прямо о том, что Всеволод «приказал рязанского князя Глеба в темнице убить», сообщает польский хронист XV в. Ян Длугош, пользовавшийся в данном случае русскими источниками (очевидно, слегка переосмысливая их) (Щавелева Н. И. Древняя Русь в «Польской истории» Яна Длугоша (Книги I–VI): Текст, перевод, комментарий / Под ред. и с доп. А. В. Назаренко. М., 2004. С. 330). 78 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 262. 79 Там же. Стб. 226–227. 80 См.: Никита Хониат. История со времени царствования Иоанна Комнина. Рязань, 2003. Т. 1. С. 124, 160, 272, 277, 299, 300, 357 и др.; Т. 2. С. 7, 8 и далее. 81 ПСРЛ. Т. 2. Стб. 552–553; ПСРЛ. Т. 1. Стб. 356. См. о случаях такого рода на Руси: Плахонiн А. «Сего не бывало в Руськеи земьли»: Вплив вiзантiйського права та пережитки кровноi помети в князiвському середовищi // Соцiум. Альманах соцiальноi icтopii'. 2003. Вип. 3. С. 197–208. 82 Напр.: Янин В. Л. Новгородские посадники. С. 152; Алексеев Л. В. Смоленская земля в IX–XIII вв. Очерки истории Смоленщины и Восточной Белоруссии. М., 1980. С. 220. 83 НПЛ. С. 35, 224–225. 84 ПСРЛ. Т. 25. С. 89. 85 Милютенко Н. И. Рассказ о прозрении Ростиславичей на Смядыни (К истории смоленской литературы XII в.) // Труды Отдела древнерусской литературы. Т. 48. СПб., 1993. С. 123. Прежде этот рассказ был известен по Минеям Четьим святителя Димитрия Ростовского, конца XVII в.; см.: Абрамович Д. И. Жития св. мучеников Бориса и Глеба и службы им. Пг., 1916. С. XIV). Очевидно, что именно на эту редакцию Сказания («…о нём же чти пространнее в Чудах святых мученик Глеба и Бориса», так!) ссылался автор украинской Густынской летописи XVII в. (ПСРЛ. Т. 40. С. 98–99). Близок к «Чуду 7-му» рассказ Тверской летописи XVI в. (ПСРЛ. Т. 15. [Вып. 2.] Стб. 264), и можно думать, что тверской автор пользовался именно житийным текстом. 86 Татищев. Т. 4. С. 292. 87 Там же. Т. 3. С. 119 (в первой редакции это высказано в качестве предположения в примечании к основному тексту: Т. 4. С. 451, прим. 375), 250, прим. 522. 88 См., напр.: Кузьмин А. Г. История России с древнейших времён до 1618 г. Кн. 1. М., 2003. С. 244; Морозова Л. Е. Всеволод Большое Гнездо (Правители России. Т. 6). М.: ИД «Комсомольская правда», 2015. С. 47. 89 Никифор Вриеннии. Исторические записки (976—1087). М.: Посев, 1997. С. 99, 101–102 (переводчик не указан). Рассказ этот почти дословно был повторен в «Алексиаде» — истории жизни императора Алексея Комнина, написанной его дочерью (и женой Никифора Вриенния), знаменитой писательницей Анной Комниной (Анна Комнина. Алексиада / Перев. Я. Н. Любарского. СПб., 1996. С. 60–61), причём с прямой ссылкой на труд Никифора. На эту параллель к татищевскому рассказу о судьбе Ростиславичей указал А. Плахонин (ссылавшийся на «Алексиаду» Анны Комнины); см.: Плахошн А. «Сего не бывало в Руськеи земьли»… С. 201. 90 Фроянов И. Я. Древняя Русь. Опыт исследования истории социальной и политической борьбы. М.; СПб., 1995. С. 676, прим. 554. 91 НПЛ. С. 162 (статья «А се в Новегороде»), 471 («А се князи Великого Новагорода»). Младший брат Мстислава Ярополк похожего прозвища в новгородских источниках не имел, но само по себе это ни о чём не говорит: просто другого Ярополка, от которого его следовало отличать, в Новгороде не было; прозвище же Мстислава отличало его от полного тёзки — Мстислава Ростиславича Храброго, из рода смоленских князей, который тоже был новгородским князем и почти в одно время с Мстиславом Безоким. 92 Дата названа только в старшем изводе Новгородской Первой летописи (НПЛ. С. 35), но отсутствует в младшем. В Лаврентьевской летописи о смерти Мстислава Ростиславича, «внука Юрьева», сообщается под 6687 г. (ультрамартовским), и притом сказано, что князь умер «пороздное недели» (то есть в пасхальную неделю) (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 387; в Радзивиловской и Московско-Академической этого уточнения нет). Между тем, в 1178 г. пасхальная неделя длилась с 9 по 15 апреля, в 1179-м — с 1 по 7 апреля. Н. Г. Бережков (Указ. соч. С. 81) полагает, что «описка вкралась в текст Новгородской летописи в обозначение числа месяца». 93 НПЛ. С. 36, 225. 94 ПСРЛ. Т. 2. Стб. 618. В «Истории» В. Н. Татищева сообщается, что Ярополк (но уже после взятия Торжка!) ушёл «на Волок», к «брату Ярославу» (в одном из списков и в издании 1774 г.: «к братаничу Ярославу Мстиславичу») (Татищев. Т. 2. С. 120, 284, прим. 51–51). Но едва ли этому указанию можно доверять. 95 НПЛ. С. 43 (под 1196 г., о княжении в Новом Торге Всеволодова сына Ярослава). 96 ПСРЛ. Г. 1. Стб. 386–387; см. также: ПСРЛ. Т. 25. С. 89. Примечательно, что в Лаврентьевской летописи о смерти князя Мстислава Ростиславича (Безокого) сообщается в следующей статье, под 6687 г. (ультрамартовским), то есть последовательность событий явно нарушена. 97 НПЛ. С. 36. Имя его сына Бориса: Там же. С. 162, 471 (в списке новгородских князей; в самой летописи под соответствующим годом о княжении Бориса-Мстислава не упоминается). В Ипатьевской летописи есть известие, что Борис княжил в Пскове, но псковичи «не хотяхуть» его (ПСРЛ. Т. 2. Стб. 608).Часть третья
БРЕМЯ ВЛАСТИ. 1179—1205
1 ПСРЛ. Т. 2. Стб. 612, под 6686 г. О дате: Бережков. С. 199–200. В. Н. Татищев называет имя Всеволодовой племянницы — Пребрана (Т. 3. С. 121). Но это имя, очевидно, принадлежит к большой группе вымышленных имён, которые так любили историописатели XVII–XVIII вв. (равно как, например, и имя жены Владимира Глебовича — Забава, также присутствующее только у Татищева). 2 ПСРЛ. Т. 2. Стб. 613. Год этого события, как и других, о которых идёт речь в данной летописной статье, определить трудно, поскольку под 6686 г. в Ипатьевской летописи объединены события по меньшей мере двух лет — 1179/80 и 1180/81, и расположены они не в календарном порядке. Некоторую ясность даёт известие летописей под 1188 г. о свадьбе 30 июля восьмилетней (!) дочери Всеволода Верхуславы-Анастасии (Там же. Стб. 658; ПСРЛ. Т. 1. Стб. 407; ср.: Бережков. С. 83–84). Была ли Верхуслава третьей или пятой дочерью Всеволода, то есть родилась ли она до или после Сбыславы? Учитывая имя княжны — Анастасия, можно предположить, что она родилась в декабре (около 22-го числа, дня памяти Анастасии Узорешительницы). А это позволяет отнести её рождение к 1179 г. (если бы она родилась в декабре 1180 г., то ей ко времени свадьбы было бы семь лет). Значит, Анастасия появилась на свет до Пелагеи, а рождение последней в таком случае следует датировать октябрём 1180 г. (вопреки расчётам Д. Домбровского: Дочери Всеволода Юрьевича Большое Гнездо // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2011. № 3 (45). С. 45). 3 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 387. 4 ПСРЛ. Т. 2. Стб. 614. 5 ПСРЛ. Т. 10. С. 7. 6 Рассказ об этой войне: ПСРЛ. Т. 1. Стб. 388 (Лаврентьевская); ПСРЛ. Т. 2. Стб. 618–620 (Ипатьевская); НПЛ. С. 36, 226 (Новгородская Первая). 7 См.: Тихомиров М. Н. Древнерусские города. С. 410–411. «На Вели»: ПСРЛ. Т. 20. С. 134 (Львовская); ПСРЛ. Т. 15. [Вып. 2.] Стб. 266 (Тверская). 8 Цит. по: БЛДР. Т. 5: XIII век. СПб., 2005. С. 79 (Повесть о битве на Липице / Подг. текста, перев., коммент. Я. С. Лурье (из Новгородской Карамзинской летописи; см.: ПСРЛ. Т. 42. СПб., 2002. С. 108). См. также: ПСРЛ. Т. 4. Ч. 1: Новгородская четвёртая летопись. С. 189; ПСРЛ. Т. 6. Вып. 1: Софийская первая старшего извода. М., 2000. Стб. 267. 9 ПСРЛ. Т. 2. Стб. 643; в переводе на современный русский язык: БЛДР. Т. 4. С. 240–241 (подг. текста, перев. О. В. Творогова). 10 Эту цифру называет новгородский летописец (НПЛ. С. 37). В Лаврентьевской летописи: месяц (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 388). 11 ПСРЛ. Т. 2. Стб. 624–625. 12 Древнерусские княжеские уставы XI–XV вв. / Изд. подг. Я. Н. Щапов. М., 1976. С. 88, 87 (из Церковного устава князя Ярослава Мудрого). 13 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 405. 14 Там же. Стб. 417. 15 Янин В. Л., Гайдуков П. Г. Актовые печати Древней Руси. Т. 3. М., 1998. С. 46–47. 16 История и восхваление венценосцев / Перев., предисл. и прим. К. С. Кекелидзе. Тбилиси, 1954. С. 39. 17 Еремян С. Т. Юрий Боголюбский в армянских и грузинских источниках // Научные труды Ереванского Государственного университета им. Молотова. Т. 23. Ереван, 1946. С. 396. 18 Жизнь царицы цариц Тамар / Перев. В. Д. Дондуа. Тбилиси, 1985. С. 31. 19 Еремян С. Т. Указ. соч. С. 396 (свидетельство Степаноса Орбеляна). 20 См. прим. 50 к части 2. 21 Летописец Владимирского собора. С. 63, ср. прим. 7. См. также: Порфирий (Богданов), архим. Древние гробницы во Владимирском кафедральном Успенском соборе и Успенском Княгинином девическом монастыре и погребённые в них князья, княгини и святители. Владимир, 1903. С. 62. 22 Историко-филологический сборник Коми филиала АН СССР. Вып. 4. Сыктывкар, 1958. С. 257 (текст подг. П. Г. Дорониным). Событие датировано 6636 (?) г., что, как указывает В. А. Кучкин, вероятно, представляет собой ошибку (опечатку?) вместо 6686 г. (Кучкин В. А. Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X–XIV вв. М., 1984. С. 93, прим. 290). 23 Татищев. Т. 3. С. 128; ср. Т. 4. С. 298. В «Истории…» Татищева приведены речи, которыми обменялись Всеволод Юрьевич и Святослав Всеволодович, причём Всеволод, прося помощи у киевского князя (и обращаясь к нему: «Отче и брате»), объяснял: «…Половцов же призывать не хочу, ибо они с болгары язык и род един (ошибка, свойственная историкам XVIII в. — А. К.), опасался от них измены, ниже хочу, чтобы они, за моею саблею пленников набрав, ко вреду Руской земли усиливались»; он просил у Святослава прислать «в помочь достаточное войско, сколько сам заблагоразсудишь», и обещал: «…а когда тебе на иноверных помочь потребна, я не обленюся сам придти или все мои войска тебе послать». В описании войны у Татищева (Т. 3. С. 128–130) множество дополнительных подробностей, не известных дошедшим до нас летописям; в частности, сообщается, что свои полки с воеводами по призыву Святослава Киевского прислали также Ярослав Черниговский и Игорь Новгород-Северский; что князья расположили войска по Оке в Коломне, Ростиславле и Борисове; что в походе впереди двигались князья Изяслав Глебович и Владимир Святославич, в середине — Всеволод, а сзади — рязанские, муромские и смоленские; что мордва сначала держала мир с великим князем Всеволодом и привозила для продажи его войску всякие припасы, однако затем принялась вредить русским, «и людей побили», за что Всеволод на обратном пути и пустил против них свою конницу, которая разорила их земли от реки Суры до Цны, «и со многим полоном возвратились»; что после десятидневной осады города князь болгарский выслал вельмож просить о мире и Всеволод принял от них «дары многие», а главное, добился освобождения всех русских пленников, «а которые в даль развезены, обесчали всех отпустить»; и т. д. 24 О Болгарской войне: ПСРЛ. Т. 1. Стб. 389–390 (о дате: Бережков. С. 82); Т. 2. Стб. 625–626; Т. 38. С. 147–148. Краткое известие помещено также в Новгородской Первой летописи: НПЛ. С. 37, 227. 25 См.: Кучкин В. А. О маршрутах походов древнерусских князей на государство волжских булгар в XII — первой трети XIII в. // Историческая география XII — начала XX вв. Сб. статей к 70-летию проф. Л. Г. Бескровного. М., 1975. С. 39. 26 Поход на Биляр (http://spas-rt.ru/ra/about/item/6914-pohod-na-bilyar.html). 27 Так в Ипатьевской летописи. По Лаврентьевской, Всеволод «отряди» белозерцев к ладьям уже после того, как войско двинулось к Великому городу, с пути, после двухдневного стояния у Тухчина городка. 28 Относительно летописного наименования болгар «серебряными» (встречающегося ещё в «Памяти похвале князю Владимиру» Иакова мниха, XI в.) подтверждено старое мнение С. М. Шпилевского, согласно которому сама местность вокруг города Биляра носила название «Серебряной»; см.: Добродомов И. Г. К вопросу о «серебряных булгарах» // Древнейшие государства Восточной Европы. Материалы и исследования. 1992–1993 гг. М., 1995. С. 149–154. 29 См.: Смирнов А. П. Волжские Булгары. М., 1955. С. 39. 30 ПСРЛ. Т. 10. С. 10. 31 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 238, 254. 32 ПСРЛ. Т. 25. С. 90; см. также: ПСРЛ. Т. 7. С. 97; и др. 33 Слово о полку Игореве / Подг. текста Л. А. Дмитриева. Л., 1952 (Библиотека поэта. Большая серия). С. 60. См. также: БЛДР. Т. 4. С. 262 (подг. текста, перев., коммент. О. В. Творогова). 34 Впервые в известии о рождении у Всеволода сына Константина 18 мая 1185 г. (ПСРЛ. Т. I. Стб. 396; ср.: Присёлков М. Д. История русского летописания XI–XV вв. СПб., 1996. С. 129). 35 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 400. О том, что войско двигалось «водою», сказано в Львовской летописи: ПСРЛ. Т. 20. С. 137. 36 ПСРЛ. Т. 2. Стб. 652. 37 Там же. Стб. 630–636; ПСРЛ. Т. 1. Стб. 394–396. 38 ПСРЛ. Т. 2. Стб. 646–649; ПСРЛ. Т. 1. Стб. 399. 39 Точная дата приведена в Лаврентьевской летописи (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 406, под 6696-м ультрамартовским годом); в Ипатьевской в дате ошибка: 18 апреля (ПСРЛ. Т. 2. Стб. 653, под 6695-м мартовским). 40 См.: Ляскоронский В. Г. История Переяславльской земли с древнейших времён до половины XIII столетия. Киев, 1897. С. 431–432. 41 Сведения на этот счёт приводит В. Н. Татищев: он сообщает, что Всеволод получил Переяславль в 1196 г., после того, как Рюрик отнял у него пять переданных ранее городов в Южной Руси (см. об этом далее), и Всеволод тогда же прислал сюда сына Константина; тот, однако, «не терпя многих безпокойств», отказался от княжения, «и зане Юрий, другий сын, тогда был болен, а Ярослав младости ради не мог править», Всеволод в 1201 г. послал в Переяславль сыновца Ярослава Мстиславича (Татищев. Т. 3. С. 164, 167). Информация эта содержится лишь во второй редакции «Истории…», в приписке к Воронцовскому списку; достоверность её вызывает сомнения. 42 См.: Янин В. Л. Моливдовул ростовского архиепископа Леонтия // Вспомогательные исторические дисциплины. Т. 25. М., 1994. С. 5–18; Янин В. Л., Гайдуков П. Г. Актовые печати Древней Руси. Т. 3. С. 29–36. (Впрочем, принадлежность этой печати ростовскому епископу может и оспариваться; см.: Успенский Б. А., Успенский Ф. Б. Иноческие имена на Руси. М., 2017. С. 171–173.) 43 ПСРЛ. Т. 2. Стб. 629–630. 44 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 390–391. Эти слова есть только в Лаврентьевском списке Суздальской летописи, но отсутствуют в Радзивиловском и Московско-Академическом. 45 ПСРЛ. Т. 2. Стб. 627–628 (под 6690 г., соответствующим 6691-му мартовскому, 1183/84); Абрамович Д. И. Киево-Печерський патерик. С. 193 (близкое к рассказу Ипатьевской летописи Слово о преставлении преподобного отца нашего Поликарпа, архимандрита Печерского, и Василии попе, из Кассиановской 2-й редакции Патерика, 1462 г.). Н. Г. Бережков, разбирая хронологию статьи 6690 г. Ипатьевской летописи, полагал, что Николай назван здесь полоцким епископом в смысле «будущий полоцкий епископ», ибо он мог получить полоцкую кафедру лишь в следующем году, по смерти епископа Дионисия (Бережков. С. 339, прим. 156). Мне кажется, что возможно и иное объяснение, а именно то, которое дано в тексте. 46 Татищев. Т. 3. С. 131. Схожий текст и в первой редакции «Истории…» (Т. 4. С. 300). 47 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 394; ср.: Там же. Стб. 225. 48 ПСРЛ. Т. 6: Софийская Вторая летопись. СПб., 1853. С. 199. 49 См. ПСРЛ. Т. 1. Стб. 411: здесь говорится о ростовском епископе Иоанне, который, напротив (в отличие от князя?), «не ища мастеров от Немець, но… от клеврет Святое Богородици и своих». 50 Степенная книга… С. 455. О том, что Андрей Боголюбский заложил храм «о едином верее», а Всеволод «приставил» к ней «4 верхы и позлати», прямо писали новгородский книжник XV в., автор статьи «А се князи русьстии» (НПЛ. С. 467–468), и другие летописцы XV–XVI вв.; см., напр.: ПСРЛ. Т. 25. С. 109; Т. 7. С. 118; и др. Термин «верх» (в единственном числе) употребляет по отношению к церкви, построенной Андреем, и автор Лаврентьевской летописи. В Ипатьевской же, напротив, применительно к Андреевой церкви упоминаются «пять верхов», причём трижды, в том числе и в рассказе о «великом пожаре» во Владимире («…и вся 5 верхов златая сгоре…»: ПСРЛ. Т. 2. Стб. 630, 491, 582). Современные исследователи архитектуры Владимиро-Суздальской Руси, в том числе на основании этого чтения, приходят к выводу об изначальном пятиглавии Успенского собора (см.: Тимофеева Т. П. К вопросу о пятиглавии Успенского собора Андрея Боголюбского во Владимире // Памяти Андрея Боголюбского. Сб. статей / Сост. С. В. Заграевский, Т. П. Тимофеева. М.; Владимир, 2009. С. 83–94; Заграевский С. В. Успенский собор во Владимире: некоторые вопросы архитектурной истории // Там же. С. 100–104). Думаю, однако, что в Ипатьевской летописи мы имеем дело с более поздней правкой, принадлежащей редактору, знавшему о пятиглавии Владимирского собора, перестроенного Всеволодом Большое Гнездо. Примеры такой правки здесь встречаются; например, таково добавление «владимирцев» в перечень жителей тех городов, которые избрали Андрея Боголюбского на ростовское княжение, или добавление имени Всеволода к имени его брата Михалка в повествовании о противостоянии братьев племянникам. 51 Виноградов A., npom. История кафедрального Успенского собора в губернском городе Владимире. Владимир, 1905. С. 18. 52 Воронин Н. Н. Зодчество Северо-Восточной Руси. XII–XV вв. Т. 1: XII столетие. М., 1961. С. 360, 366. 53 Заграевский С. В. Успенский собор во Владимире… С. 104–114. 54 Воронин Н. Н. Зодчество… Т. 1. С. 375–376. 55 Послание владимирского епископа местному князю // Русская историческая библиотека. Т. 6. Изд. 2-е. СПб., 1908: Памятники древнерусского канонического права. Ч. 1: Памятники XI–XV вв. / Изд. А. С. Павлов. 4.1. Стб. 117. 56 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 400–404; Т. 38. С. 152–154; о дате: Бережков. С. 83. В Лаврентьевской летописи говорится о том, что дьявол «подоостри Романа, Игоря и Володимера на Всеволода и Святослава, на меншею брату». В Радзивиловской же имеется нюанс: «Подостри Роман Игоря и Володимера на Всеволода и Святослава», то есть виновником распри выставлен старший, Роман. (То же мы видим и в Львовской, и в Никоновской, и в других летописях: ПСРЛ. Т. 20. С. 137; Т. 10. С. 15; и др.) Не исключено, однако, что это неточность в передаче текста. 57 В Суздальской летописи (причём во всех её списках: и в Лаврентьевском, и в Радзивиловском, и в Московско-Академическом) среди князей, к которым явился епископ Порфирий, упомянут некий Ростислав («…он же пришед в Рязань к Роману, и Игорю, Володимеру, Святославу и Ростиславу…»: ПСРЛ. Т. 1. Стб. 404; Т. 38. С. 156). Издатели Лаврентьевской летописи вместо «Ростиславу» предлагают читать: «Ярославу» (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 404, прим. ж). Возможно, однако, что речь идёт о каком-то не известном из других источников князе — либо ещё одном Глебовиче, либо представителе боковой ветви рязанских князей. 58 Кузьмин А. Г. Рязанское летописание. М., 1965. С. 120 (город или село Опаков упомянут в правой грамоте 1535 г., в которой цитируется грамота первой половины XIV в.). Именно так — Опаков — значится у Татищева (Т. 3. С. 145); в Радзивиловской: «к Понову» — но это чтение надо признать испорченным. 59 ПСРЛ. Т. 10. С. 18. 60 ПСРЛ. Т. 2. Стб. 633–634. 61 Летописец называет Святослава Игоревича «зятем Рюриковым», а в брак с дочерью великого князя Рюрика Ростиславича двенадцатилетний Святослав вступил в 1188 г.; известие об этом браке помещено в летописи уже после известия о смерти Ярослава Осмомысла (Там же. Стб. 659). 62 См.: Щавелева Н. И. Польские латиноязычные средневековые источники. Тексты, перевод, комментарий. М., 1990. С. 106 (из «Польской хроники» магистра Винцентия Кадлубека, конец XII — начало XIII в.); «Великая хроника» о Польше, Руси и их соседях XI–XIII вв. / Перев. Л. М. Поповой, коммент. Н. И. Щавелевой. М., 1987. С. 123–124. Украинская Густынская летопись XVII в. сообщает, что Казимир посадил на княжение Олега (якобы называемого также Мстиславом), однако галичане, не любя «Настасьича», «умориша его отравою», после чего и пригласили Романа (ПСРЛ. Т. 40. С. 103). Известие это восходит к названным польским хроникам, которые, однако, явно путаются при описании галицких событий. См.: Грушевський М. С. Iсторiя Украiнi-Руси. Т. 2: XI–XIII вiк. Киiв, 1992. С. 574–577. 63 ПСРЛ. Т. 2. Стб. 666. 64 Щавелева Н. И. Польские латиноязычные средневековые источники… С. 107; см. также: Древняя Русь в свете зарубежных источников. Хрестоматия. Т. 4. С. 314–315. 65 По В. Н. Татищеву, 1 августа (тоже Спасов день) (Татищев. Т. 3. С. 150). Но празднование Святому Спасу 1 августа в XII в. ещё не получило широкого распространения. Обычный Спасов день — именно 6 августа. Ср.: Лосева О. В. Русские месяцесловы XI–XIV bb. С. 397, 401. 66 ПСРЛ. Т. 2. Стб. 667. 67 Год смерти епископа Луки вызывает споры. В Лаврентьевской летописи о его кончине говорится под 6697 г. (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 407), причём в статье этой речь идёт о событиях 1188/89 г., то есть использован ультрамартовский стиль (Бережков. С. 83–84, 315, прим. 76); в конце той же летописной статьи сообщается о рождении сына Всеволода Юрия, без точной даты. Однако в Ипатьевской летописи под 6695 г. (среди событий того же 1188/89 г.; ср.: Там же. С. 203) сообщается о том, что епископ Лука по просьбе Всеволода «нарёк» имя его новорождённому княжичу Юрию, появившемуся на свет 26 ноября (ПСРЛ. Т. 2. Стб. 659). Получается, что к 26 ноября 1188 г. Лука был жив? В таком случае надо полагать, что в состав указанной статьи Лаврентьевской летописи запись о смерти епископа Луки попала ошибочно. Возможно и другое предположение: что в Ипатьевской летописи неправильно показана дата рождения Юрия (день святого Георгия), княжич родился до этого дня, и более того, до 10 ноября, и Лука успел крестить его незадолго до своей кончины; в преддверии приближающегося дня святого Георгия княжич — по воле отца — и получил «дедне» имя. 68 См.: Титов А. А. Житие св. Леонтия, епископа Ростовского. М., 1893 (так называемая Четвёртая редакция; в ранних редакциях Жития даты отсутствуют). В Тверском летописном сборнике установление праздника святому Леонтию датировано 1194 г.: ПСРЛ. Т. 15. [Вып. 2.] Стб. 281–282. 69 Семёнченко Г. В. Древнейшие редакции Жития Леонтия Ростовского // Труды Отдела древнерусской литературы. Т. 42. Л., 1989. С. 252–253 (Вторая редакция Жития). Ср. в Проложном Житии Владимира: «Хвалить убо Римьская земля Петра и Павла, Асья Иоана Богословьца, Егюпьтьская Марка, Антиохииская Луку, а Грецкая Андрея. Вся же Русьская земля тебе, Володимире…» (цит. по: Карпов А. Ю. Владимир Святой. М., 1997. С. 428). 70 Ключевский В. О. Древнерусские жития святых как исторический источник. М., 1988 (репринт изд. 1871 г.). С. 11; Голубинский Е. Е. История Русской Церкви. Т. 1: Период первый, киевский или домонгольский. Вторая половина тома. М., 1997 (репринт изд. 1904 г.). С. 517. 71 Опубликовано: Бычков И. А. Каталог собрания рукописей Ф. И. Буслаева, ныне принадлежащих Имп. Публичной библиотеке. СПб., 1897. С. 338–342 (Приложение 1). На роль автора Поучения претендует также ростовский епископ Иоанн II, занимавший кафедру в 1346–1356 гг.; см.: Каган М.Д. Иоанн епископ Ростовский // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 1 (XI — первая половина XIV в.). Л., 1987. С. 211–213. Как мне кажется, совпадение темы Поучения с хронологией появления епископа Иоанна I в Суздальской земле является аргументом в пользу принадлежности ему этого текста. Соответственно, Поучение можно точно датировать 18 марта 1190 г. 72 ПСРЛ. Т. 2. Стб. 658–659; ПСРЛ. Т. 1. Стб. 407. 73 Абрамович Д. И. Киево-Печерський патерик. С. 102 (Послание Симона Поликарпу). В переводе на современный русский язык: БЛДР. Т. 4. С. 358–361 (подг. текста Л. А. Ольшевской, перев. Л. А. Дмитриева). 74 В летописи (во всех трёх списках: Лаврентьевском, Радзивиловском и Академическом): 23 июня. Но это описка вместо правильного: июля, что явствует из уточнения: «в канун святою мученику Бориса и Глеба, в четверг» (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 409, ср. прим. г). 75 ПСРЛ. Т. 2. Стб. 674–675; ПСРЛ. Т. 1. Стб. 411–412. О дате: Бережков. С. 206. 76 ПСРЛ. Т. 41. С. 121. О дате: Бережков. С. 349, таблица. Летопись называет лишь иноческое имя вдовы Константина — Агафья (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 445; Т. 10. С. 81). Крестильное имя супруги Константина Всеволодовича стало известно совсем недавно по изображению святой Марии на принадлежащей ей печати {Бутырский М. Н. Подвесная печать великой княгини Марии-Агафии Мстиславны // История и культура Ростовской земли. 2016. Ростов, 2017. С. 15–20). 77 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 414; Т. 41. С. 122. В Ипатьевской летописи дата рождения указана ошибочно: 1 августа (в Ипатьевском списке) или 8-е (в Хлебниковском) (ПСРЛ. Т. 2. Стб. 707). 78 В Радзивиловской летописи название церкви дано иначе: во имя Зачатия Святой Богородицы (ПСРЛ. Т. 38. С. 158). В дате же закладки церкви очевидная ошибка: «месяца майя в 30 день, на память святаго пророка Еремея» (память пророка Иеремии празднуется 1 мая). 79 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 411. 80 Татищев. Т. 3. С. 165. Это известие, равно как и неверная дата рождения княжича Ивана (8 апреля, вместо правильного 28 августа 1197 г.), присутствуют только в Воронцовском списке второй редакции Татищева. 81 Рыбаков Б. А. «Слово о полку Игореве» и его современники. С. 286. 82 ПСРЛ. Т. 2. Стб. 683, 686. 83 Там же. Стб. 678–679. 84 Там же. Стб. 679. 85 Н. Г. Бережков датирует смерть Святослава Всеволодовича 25 июля, следующим днём после праздника Бориса и Глеба {Бережков. С. 207; так же: Baumgarten N. Genealogies et manages occidentaux des Rurikides russes du X au XIII s. // Orientalia Christiana. T. IX/1. Roma, 1927. P. 20); эта дата сделалась едва ли не общепринятой. Но из летописного текста она не вытекает; сообщается лишь, что со следующего после 24 июля дня князь «болми охудевающи». Скорее можно говорить о приближении дня Маккавеев — понедельника 1 августа; около этого дня, то есть на неделе между 25 и 31 июля, ближе к 31-му, и случилась смерть. В. Н. Татищев датирует смерть Святослава Всеволодовича 27 июля (Татищев. Т. 3. С. 156; Т. 4. С. 317); эта дата тоже используется в литературе; напр.: Яценко Б. И. Святослав Всеволодович // Энциклопедия «Слова о полку Иореве». В 5 т. / Отв. ред. О. В. Творогов. Т. 4. СПб., 1995 (http://feb-web.ru/feb/slovenc/es/). В Густынской летописи смерть Святослава Всеволодовича датируется 8 июля (ПСРЛ. Т. 40. С. 105), но это результат ошибочного прочтения в оригинале (Киевской летописи) фразы: «…и преставися месяца нуля, и положиша и…», где предлог «и» был прочитан как кириллическая цифра «8». 86 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 412; ср. ПСРЛ. Т. 2. Стб. 681. 87 ПСРЛ. Т. 2. Стб. 683 и след. 88 См. прежде всего: Грушевський М. С. Iсторiя Украiнi-Руси. Т. 2. С. 217–222; и др. 89 Татищев. Т. 3. С. 156–157, 254–256, прим. 558 (показательно присутствующее в рассуждениях Татищева сопоставление с отношениями между патриархом Никоном и царём Алексеем Михайловичем). 90 Так, например, для своих врагов, непокорных бояр, он якобы изобретал самые изощрённые и мучительные казни: одних закапывая живьём в землю, других разрывая на части, с третьих сдирая кожу (Щавелева Н. И. Польские латиноязычные средневековые источники… С. 112). 91 ПСРЛ. Т. 2. Стб. 715–716. См. также: Галицко-Волынская летопись. Текст. Комментарий. Исследование / Сост. Н. Ф.Котляр, В. Я. Франчук, А. Г. Плахонин; под ред. Н. Ф. Котляра. СПб., 2005. С. 78 (по Хлебниковскому списку). В переводе на современный русский язык: БЛДР. Т. 5. С. 185 (подг. текста, перев., коммент. О. П. Лихачёвой). 92 ПСРЛ. Т. 2. Стб. 686 и след.; ПСРЛ. Т. 1. Стб. 412–413 и след. 93 ПСРЛ. Т. 40. С. 105. 94 Щавелева Н. И. Польские латиноязычные средневековые источники… С. 109; см. также: Древняя Русь в свете зарубежных источников. Хрестоматия. Т. 4. С. 318–319 («Хроника» Винцентия Кадлубека). 95 Дата указана в чешско-силезском некрологе — как дата гибели в этом сражении князя Болеслава, сына Мешка Старого {Щавелева Н. И. Польские латиноязычные средневековые источники… С. 138, прим. 5). 96 ПСРЛ. Т. 2. Стб. 578. 97 Там же. Стб. 694 (письмо Рюрика Ростиславича Всеволоду с кратким изложением событий предшествующего года). О датировке: Бережков. С. 207. 98 НПЛ. С. 42, 234. 99 ПСРЛ. Т. 2. Стб. 689 и след. 100 Там же. Стб. 693. 101 В Ипатьевской летописи без титла: Ярослав «посла ко Витебьску… на зятя на Давыда» (Там же. Стб. 691); в более поздних летописях определённее: «…на зятя своего на Давыда» (ПСРЛ. Т. 25. С. 98; Т. 10. С. 27). Из этого можно было бы сделать вывод о том, что Давыд Ростиславич приходился зятем Ярославу Всеволодовичу (именно так: Домбровский Д. Генеалогия Мстиславичей. С. 448–453). В Лаврентьевской летописи об этих событиях говорится иначе: Давыд «тое же зимы» послал племянника Мстислава «в помочь зятю своему» на Витебск (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 413); то же в Ипатьевской летописи ниже, в речи Ярослава Всеволодовича, который обвинял Давыда «про Витебьск, аже помогаеть зяти своему» (ПСРЛ. Т. 2. Стб. 693); то есть речь идёт о Давыдовом, а не Ярославовом, зяте. Под этим зятем можно понимать рязанского княжича Глеба Владимировича (действительно зятя Давыда Ростиславича), но тот к моменту войны находился в Смоленске, и ему был поручен смоленский полк (см. ниже). Нельзя ли предположить, что Давыд всё же успел передать Глебу Витебск, что и вызвало возмущение черниговских князей? Высказано и другое предположение: зятем Давыда был князь Василько Брячиславич, из витебской ветви полоцких князей; он и княжил к тому времени в Витебске (Пятнов А. П. Полоцкая земля в последней четверти XII в. // Rossica antiqua. 2010. № 1. C. 138–141). 102 Автор Лаврентьевской летописи именно этого Василька называет предводителем всего войска («…и победи его (Мстислава Романовича. — А. К.) Василко с черниговци»: ПСРЛ. Т. 1. Стб. 413). О битве смолян с черниговцами и пленении князя Мстислава Романовича сообщает и Новгородская Первая летопись, но её автор, как и в других случаях, называет Мстислава крестильным, а не княжеским именем — Борис (НПЛ. С. 42, 235). В Никоновской летописи (в большинстве списков) перечень князей, участвовавших в военных действиях на стороне Давыда Смоленского, дополнен — помимо Мстислава Романовича, упомянуты: Давыдов зять (?) Ростислав Святославич, внук Глебов (?); Ростислав Владимирович Рязанский (?); Глеб Владимирович; Ярослав Всеволодович (?); «и иных князей много, и воинства без числа». Упомянут также и тысяцкий Давыда Смоленского Михалко Яковлич, который и бежал, не выдержав удара полочан и половцев, в чьи руки попал Мстислав Романович (ПСРЛ. Т. 10. С. 27–28). Имя тысяцкого Михалка (без отчества) приведено и в Ермолинской и Львовской летописях (ПСРЛ. Т. 23. С. 57; Т. 20. С. 141). 103 ПСРЛ. Т. 2. Стб. 695. 104 Слово о полку Игореве. С. 59. 105 О войне: ПСРЛ. Т. 1. Стб. 413; Т. 2. Стб. 697–702; НПЛ. С. 42–43, 235–236. 106 НПЛ. С. 42–43, 235–236; ПСРЛ. Т. 4. С. 176–177 (Новгородская Четвёртая). В тексте, во всех случаях, далее: «…и възворотишася в Новъгород». Но к большинству из названных по имени членов посольства это не относится: из последующего рассказа следует, что они были задержаны во Владимире: «И прия Всеволод Мирошку, и Бориса, и Иванка, и Фому, и не пусти их в Новъгород». Возможно, были отпущены сотский Никифор и, позднее, Борис Жирославич (см. далее)? 107 ПСРЛ. Т. 38. С. 159 (в Лаврентьевской этих слов нет). 108 Как всегда, массу дополнительных подробностей приводит B. Н. Татищев. Под 1197 г. он пишет, что Всеволод, ещё заключая мир с Ярославом Черниговским, договорился о выводе из Новгорода его сына Ярополка (которого он путает с Ярополком Ростиславичем), но этому воспрепятствовали сами новгородцы. Всеволод послал с угрозами в Новгород, давая новгородцам срок в два месяца; в городе начались «споры великие», которые закончились тем, что в Суздаль отправилось посольство «с годовою данью по уставу Ярославлю и со многоценными дарами»; они «и принуждены были предаться в совершенную волю великого князя Всеволода»; прибытие Ярослава Владимировича в Новгород историк датировал 12 января 1198 г. (Татищев. Т. 3. С. 164–165; Т. 4. C. 325). Явные неточности, в том числе и в датах, присутствуют и в последующем рассказе Татищева о поставлении на новгородский стол Всеволодова сына Святослава. Этому будто бы предшествовало следующее: исполняя требование Всеволода Юрьевича, новгородские послы «учинили» «роту» и грамоту написали, «что впредь, кроме наследия (потомков. — А. К.) его, никого в князи не избирать», после чего «послали оную в Новград. И новогородцы, утвердя оную обсчею ротою, прислали за подписанием и печатню» (Т. 3. С. 166). 109 Даты смерти сыновей князя Ярослава Владимировича (20 июня для Ростислава и июнь или июль для Изяслава) приведены в недавно открытой поминальной надписи в алтаре Георгиевского собора новгородского Юрьева монастыря (Гиппиус А. А., Седов Вл. В. Надпись-граффито 1198 г. из Георгиевского собора Юрьева монастыря // Города и веси средневековой Руси: археология, история, культура. К 60-летию Н. А. Макарова. М.; Вологда, 2015. С. 462–474). 110 Там же. С. 471–474; Гиппиус А. А. Князь Ярослав Владимирович и новгородское общество конца XII в. // Церковь Спаса на Нередице: от Византии к Руси. К 800-летию памятника. М., 2005. С. 21–23. «Князем великим» Ярослав Владимирович назван в летописном известии о создании им церкви Спаса Преображения на Нередице в 1198 г. (НПЛ. С. 44). 111 ПСРЛ. Т. 2. Стб. 370; см.: Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б. Траектория традиции: Главы из истории династии и церкви на Руси конца ХI — начала XIII в. М., 2010. С. 153–154, прим. 5. 112 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 415–416; Т. 38. С. 160; Т. 41. С. 123. См. также: НПЛ. С. 44–45. 113 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 414 (под 6705-м ультрамартовским годом), 436–437 (посмертная похвала князю Всеволоду Юрьевичу); ПСРЛ. Т. 41. С. 122 (Летописец Переяславля Суздальского). В Радзивиловской и Московско-Академической летописях дата названа ошибочно: 2 января, хотя ниже (как и в Лаврентьевской) указана память святого Григория Нисского, празднуемая 10 января (ПСРЛ. Т. 38. С. 159). В некоторых более поздних летописях событие датировано 11 января; см., напр.: ПСРЛ. Т. 23. С. 57 (Ермолинская); Т. 15. [Вып. 2.] Стб. 285 (Тверская). 114 Слово «О церкви святаго мученика Христова Димитрия», вошедшее в Великие минеи четьи митрополита Макария (XVI в.): Великие Минеи четьи, собранные Всероссийским митрополитом Макарием. Октябрь. Дни 19–31 / Изд. Археографической комиссии. СПб., 1880. Стб. 1912–1913. 115 В литературе было высказано мнение о том, что реликвии святого Димитрия попали во Владимир именно из Болгарии, которая в конце XII в. вступила в жестокую войну с Византийской империей (см.: Майоров А. В. Русь, Византия и Западная Европа… С. 278–279). Однако это противоречит указанию летописи. О присутствии русских паломников в Солуни (и притом паломников из Северо-Восточной Руси) свидетельствует не только слово «О церкви святаго мученика Христова Димитрия» (см. пред, прим.), но и автобиографическая приписка к статье «О диване», относящаяся ко времени княжения Всеволодова сына Юрия (Каштанов Д. В. Русь и Фессалоника в XII–XIII вв.: люди, идеи, пути // Византийский временник. Т. 65 (90). М., 2006. С. 94–106). 116 Об этом сообщают памятники XVI в.; см.: Степенная книга. Т. 1. С. 456; ПСРЛ. Т. 15. [Вып. 2.) Стб. 285–286. Впрочем, считали так преимущественно в Москве. Во Владимире придерживались другого мнения. В XIX в. некий читатель рукописного сборника, содержащего Летописец Владимирского собора (сочинения последней четверти XVII в.) пометил на полях относительно «доски» святого мученика Димитрия: «Сия доска и до ныне находится в Дмитровском соборе» (Летописец Владимирского собора. С. 58, прим. II). 117 Христианские реликвии в Московском Кремле / Ред. — сост. А. М. Лидов. М., 2000. С. 118–121 (№ 28: Икона «Димитрий Солунский», автор Т. В. Толстая). См.: Смирнова Э. С. Храмовая икона Димитриевского собора. Святость солунской базилики во владимирском храме // Дмитриевский собор во Владимире. К 800-летию создания. М., 1997. С. 220–254. 118 Христианские реликвии в Московском Кремле. С. 115–118 (№ 27: Реликварий св. Димитрия Солунского, автор И. А. Стерлигова). 119 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 436–437; Т. 25. С. 109. 120 Запись о возведении Дмитриевской церкви имеется в Летописце Владимирского собора, где она читается под 6699 (1191) г. (Летописец Владимирского собора. С. 58). Эту дату принимает и обосновывает Т. П. Тимофеева, по мнению которой Дмитриевский собор действительно был освящён в этом году, а заложен ещё раньше, в конце 1180-х гг., и стал вторым возведённым зодчими Всеволода Юрьевича во Владимире, сразу после Успенского (Тимофеева Т. П. К уточнению даты Дмитриевского собора // Дмитриевский собор во Владимире. К 800-летию создания. С. 38–41; эта же дата принята и в современной Православной энциклопедии: Т. 15. М., 2007. С. 207–218, статья «Димитрия Солунского великомученика собор во Владимире», автор этой части статьи Т. П. Тимофеева). Летописец Владимирского собора — памятник, безусловно, вторичный. Что касается названной даты, то я думаю, что она в своём первоначальном виде («Того же лета…», см.: Летописец… С. 58, прим. 5) была сориентирована не на 6699-й год, а на дату «В лето 6705-го», которая читается в конце предыдущей статьи как дата освящения церкви Рождества Пресвятой Богородицы во Владимире (см. там же), то есть на 1197 г. — год перенесения во Владимир солунских реликвий, о чём идёт речь в следующей статье летописца (ср. также: Аверьянов К. А. К трактовке рельефов Дмитриевского собора во Владимире // Историческое обозрение. Вып. 19. М., 2018. С. 58). Примечательно, что Т. П. Тимофеева признаёт в рельефе на северном фасаде Дмитриевского собора изображения князя Всеволода с сыновьями (см. ниже), хотя к 1191 г. у князя было в живых лишь трое сыновей — Константин, Юрий и Ярослав. По мнению исследовательницы, в состав композиции были включены умершие в младенчестве Борис и Глеб (припадающие к стопам отца?) — что мне кажется маловероятным. 121 Православная энциклопедия. Т. 15. С. 207–218. См. также: Вагнер Г. К. Скульптура Древней Руси: Владимир. Боголюбове. М., 1969 (несмотря на то, что многие атрибуции автора ныне существенно уточнены); Новаковская-Бухман С. М. Царь Давид в рельефах Дмитриевского собора во Владимире // Древнерусское искусство: Византия, Русь, Западная Европа: Искусство и культура. СПб., 2002. С. 172–186; и др. 122 Доброхотов В. Памятники древности во Владимире Кляземском. М., 1849. С. 140–141. 123 Воронин Н. Н. Зодчество Северо-Восточной Руси. Т. 1. С. 435. 124 Там же. С. 436 и след. 125 См.: Лидов А. М. О символическом замысле скульптурной декорации владимиро-суздальских храмов XII–XIII вв. // Древнерусское искусство: Русь, Византия, Балканы, XIII в… СПб., 1997. С. 172–184. Обзор разных мнений см.: Гладкая М. С. Композиция северо-восточной закомары Дмитриевского собора во Владимире с властителем на троне // Макариевские чтения. Вып. 10. Можайск, 2003. С. 266–278. 126 Пресняков А. Е. Образование Великорусского государства. Очерки по истории XIII–XV столетий. Пг., 1918. С. 35 (со ссылкой на Н. П. Кондакова). 127 См.: Попов Г. В. Из истории древнейшего памятника города Дмитрова // Древнерусское искусство: Художественная культура домонгольской Руси. М., 1972. С. 198–216. 128 Рыбаков Б. А. Знаки собственности в княжеском хозяйстве Киевской Руси X–XII вв. // Советская археология. Т. 6. М., 1940. С. 235; Лихачёв Д. С. Слово о походе Игоря Святославича // Слово о полку Игореве. Л., 1967. С. 38; и др. 129 Попов Г. В. Указ. соч. 130 См.: Седова М. В. Актовая княжеская печать из Суздаля // «Слово о полку Игореве» и его время. М., 1985. С. 357–362. 131 Янин В. Л. Актовые печати Древней Руси… Т. 1. С. 99, 208; Янин В. Л., Гайдуков П. Г. Актовые печати Древней Руси. Т. 3. С. 47–48, 142–143. 132 Янин В. Л., Гайдуков П. Г. Актовые печати Древней Руси. Т. 3. С. 46–47, 138. 133 ПСРЛ. Т.41.С. 129. 134 Цит. по: БЛДР. Т. 5. С. 90 (подг. текста, пер., коммент. Л. А. Дмитриева). В обоих сохранившихся списках (XV и XVI вв.) «Слово…» дошло до нас как предисловие к Житию Александра Невского; см.: Бегунов Ю. К. Памятник русской литературы XIII в. «Слово о погибели Русской земли». М.; Л., 1965. 135 Пиотровская Е. К. Византийские хроники IX в. и их отражение в памятниках славяно-русской письменности («Летописец вскоре» константинопольского патриарха Никифора) // Православный палестинский сборник. Вып. 97 (34). СПб., 1998. С. 132 (русские прибавления доходят до смерти ростовского князя Глеба Васильковича, то есть до 1278 г.). 136 См.: Кучкин В. А. Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси… С. 93–94. 137 Стефанович П. С. Полюдье по летописным данным 1154–1200 г. // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2015. № 4 (62). С. 97–103. 138 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 437. 139 Федотова М. А. Житие Никиты столпника Переяславского (Рукописная традиция Жития) // Русская агиография: Исследования, публикации, полемика. СПб, 2005. С. 323. 140 В тексте: «в лето 6694, месяца мая 16, индикта 8» (Там же. С. 327). Номер индикта указан неверно; должно быть: «4». В некоторых поздних списках названа и дата кончины святого, но по-разному: тот же 1186-й (Там же. С. 316) или 6701 (1193) г. (Ключевский В. О. Древнерусские жития святых… С. 47, прим. 1); достоверность обеих дат сомнительна). Исследовано захоронение преподобного; оно относится ко второй половине XII — первой половине XIII в. и подтверждает приведённые в Житии обстоятельства его гибели (Станюкович А. К. Гробница прел. Никиты Столпника Переславского // Археологические открытия. 2000. М., 2001. С. 108–111; он же. Гробница преп. Никиты Столпника, Переславского чудотворца. Церковно-археологический очерк. Звенигород, 2001. С. 21). 141 Здесь и ниже цит. по изданию Н. Н. Зарубина: Слово Даниила Заточника по редакциям XII и XIII вв. и их переделкам / Пригот. к печати Н. Н. Зарубин. Л., 1932. С. 4–35; то же: БЛДР. Т. 4. С. 268–283 (подг. текста, перев., коммент. Л. В. Соколовой). Есть некоторые основания (впрочем, довольно шаткие и гипотетические) датировать «Слово» Даниила временем вскоре после 1210 г. (см. прим. 70 к части 4). 142 См. об этой стороне сочинения Даниила Заточника: Данилевский И. Н. Счастье и несчастье Даниила Заточника // он же. Русские земли глазами современников и потомков (XII–XIV вв.): Курс лекций. М., 2001. С. 314–325. 143 ПСРЛ. Т. 25. С. 88. 144 ПСРЛ. Т. 20. С. 144 (Львовская). 145 По предположению В. А. Кучкина, тысяцкий Михаил Борисович был сыном упомянутого Бориса Жидиславича (Жирославича), ибо должность тысяцкого была наследственной (Кучкин В. А. Первые тысяцкие Северо-Восточной Руси // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2015. № 4 (62). С. 60–62). Думаю, однако, что совпадения имени и отчества двух этих мужей недостаточно, чтобы с уверенностью утверждать, что речь идёт об отце и сыне, хотя это, конечно, не исключено. 146 В русской письменности получила широкое распространение Повесть о взятии Царьграда крестоносцами в 1204 г., вошедшая во многие летописи. См.: БЛДР. Т. 5. С. 66–73 (подг. текста, пер., коммент. О. В. Творогова; по старшему изводу Новгородской Первой летописи). 147ПСРЛ. Т. 1. Стб. 414–415; Т. 38. С. 159 (под 6707-мультрамартовским; см.: Бережков. С. 86). Возвращение Всеволода во Владимир датировано в Лаврентьевской летописи субботой 6 июня, «на память святаго мученика Дорофея епископа». Это вызвало затруднение у последующих историков и заставило, например, B. Н. Татищева исправить дату на 5 июня — память святого Дорофея епископа, принятую в последующее время; к тому же Татищев относил поход к 1199 г., а в том году 6 июня падало на воскресенье, а не субботу (Татищев. Т. 3. С. 166). Однако память святого Дорофея, епископа Тирского, праздновалась в древней Руси по Студийскому уставу, а именно 6 июня; см.: Лосева О. В. Русские месяцесловы XI–XIV вв. С. 356. 148 ПСРЛ. Т. 40. С. 107. А. В. Майоров объяснял поход Всеволода 1198 г. мольбами о помощи, прозвучавшими из Константинополя. Но при этом сам поход, по мнению автора, имел вид «имитации» союзнических действий, ибо Всеволод вступил в союз с правителями Болгарии (от которых и получил реликвии святого Димитрия Солунского; см. выше, прим. 115), а те были враждебны Византии (Майоров А. В. Русь, Византия и Западная Европа… C. 279–281). Однако остаётся непонятным, зачем Всеволод всё-таки выступил в поход, если он не собирался помогать Империи, и не проще ли было просто остаться дома. 149 ПСРЛ. Т. 41. С. 123: «месяця августа в 3 день»; ср.: ПСРЛ. Т. 1. Стб. 416 (в Лаврентьевской: 10 августа, хотя далее: «на паметь святых отець Далмата, Фауста и Исакии», а их память празднуется 3 августа). 150 См. выше, прим. 41. 151 ПСРЛ. Т. 38. С. 161 (под 6713-м ультрамартовским). 152 Слово о полку Игореве. С. 60. Эта фраза, между прочим, позволяет предположить, что и само «Слово о полку Игореве» написано после 1198 г. — что противоречит общепринятой его датировке 80-ми гг. XII в.; см.: Ужанков А. Н. «Слово о полку Игореве» и его эпоха. М., 2015. С. 268 и др. О том, что этот аргумент является не бесспорным см., в частности, рецензию А. М. Ранчина: О новой книге А. Н. Ужанкова и о проблемах изучения «Слова о полку Игореве» // Литературный факт. 2017. № 4. С. 366–368. 153 БЛДР. Т. 4. С. 502, 514 (подг. текста, пер., коммент. М. Б. Свердлова). 154 «Слово о полку Игореве». С. 54, 59. 155 ПСРЛ. Т. 2. Стб. 716. 156 Там же. Стб. 708. Об имени княжны см.: Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б. Выбор имени у русских князей в X–XVI вв. С. 179–180. 157 Летопись датирует лунное знамение 24 декабря: ПСРЛ. Т. 1. Стб. 416–417 (в Летописце Переяславля Суздальского — 29 декабря: ПСРЛ. Т. 41. С. 123). Но это неверно: полное лунное затмение, наблюдавшееся в Северо-Восточной Руси, имело место 22 декабря 1200 г.; см.: Святский Д. О. Астрономические явления в русских летописях с научно-критической точки зрения // Известия Отделения русского языка и словесности Имп. Академии наук. 1915. Т. 20. Кн. 1. С. 186–190; Бережков. С. 86. Названные авторы по-разному объясняли причины ошибки летописца. На мой взгляд, вероятнее всего, летописец зафиксировал дату кончины княгини Ярославлей, запомнив, что этому предшествовало лунное знамение, и привёл его дату — хотя в действительности между двумя событиями прошли не один, а пара дней. 158 НПЛ. С. 44. 159 ПСРЛ. Т. 2. Стб. 707–715. В Ипатьевском списке летописи текст разбит на три годовые статьи: 6706-го, 6707-го и 6708-го годов; в Хлебниковском, в данном случае, более исправном, читается под одним, 6706-м, годом. О датировке см.: Бережков. С. 209–211. 160 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 417–418; Т. 38. С. 154 (под 6710-м ультрамартовским; ср.: Бережков. С. 86–87). 161 Из рассказа Никоновской летописи следует обратное: по словам её автора, Роман, выступая в поход на Киев, «посла к великому князю Всеволоду, Юрьеву сыну Долгорукаго» (ПСРЛ. Т. 10. С. 34; развивает эту версию и В. Н. Татищев: Т. 3. С. 167). Думаю, однако, что на составителя Никоновской летописи, помимо соображений общего характера, повлияло упоминание далее «володимерцев» (так и в Лаврентьевской летописи), которые перешли на сторону Романа Галицкого. Но слово это стоит здесь вместо правильного «Володимеричи», то есть имеются в виду сыновья покойного князя Владимира «Матешича» — Мстислав и кто-то из его братьев, находившиеся до того в подчинении у Рюрика Ростиславича. 162 «…И посади Роман Инъгвара Ярославича в Кыеве, внука Изяславля Мъстиславича» (ПСРЛ. Т. 25. С. 100; ПСРЛ. Т. 7. С. 107; и др.). См., напр.: Котляр Н. Ф. Удельная раздробленность Руси. СПб., 2017. С. 209. 163 Первая дата присутствует в Новгородской Первой летописи: «…възаша град Кыев на щит в 1 день генваря, на святого Василия» (НПЛ. С. 45, 240); вторая — в Лаврентьевской, Радзивиловской и др.: «…месяца генваря в 2 день, на память святаго Силивестра папы Римьскаго» (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 418–419, под 6711-м ультрамартовским годом; в Лаврентьевском списке бо́льшая часть статьи 6711 г., статья 6712 г. целиком и бо́льшая часть статьи 6713 г. пропущены; восстанавливаются по Радзивиловской); ПСРЛ. Т. 38. С. 154–155. В Московском летописном своде конца XV в. и ряде других — под 6710 г. (ПСРЛ. Т. 25. С. 100). 164 По новгородскому источнику, Роман послал некоего Вячеслава (своего боярина?), веля ему постричь Рюрика (это известие читается только в младшем изводе Новгородской Первой летописи: НПЛ. С. 240). 165 Именно в связи с известием о пострижении Рюрика и взятием под стражу его сыновей В. Н. Татищев приводит текст послания Романа ко Всеволоду Юрьевичу и «ко всем местным князем» «о разпорядках в Руской земли, чтоб пресечь междоусобна», — так называемый «конституционный проект» Романа Мстиславича, отвергнутый в итоге Всеволодом на том основании, что «того издревле не было, и я не хочу преступать обычая древняго, но быть так, как было при отцах и дедах наших» (Татищев. Т. 3. С. 169–170). Текст этого «проекта» (привлёкшего повышенное внимание историков), как и тексты большинства других посланий князей, приведённые Татищевым, очевидно, принадлежит самому историку XVIII в. и отражает воззрения его времени, а не реалии XII в. (см.: Толочко А. «История Российская» Василия Татищева… С. 288–328). То же, по-видимому, можно сказать и об информации Татищева относительно переговоров Романа Мстиславича с римским папой о принятии латинской веры (Татищев. Т. 3. С. 173). 166 Присёлков М. Д. Троицкая летопись. Реконструкция текста. СПб., 2002 (далее: Троицкая летопись). С. 290–291; ПСРЛ. Т. 18: Симеоновская летопись. СПб., 1913. С. 41 (Мстислав ошибочно назван не Романовичем, а Владимировичем); в Московско-Академической летописи и Летописце Переяславля Суздальского смоленский епископ назван Иоанном (ПСРЛ. Т. 38. С. 161, прим. 95; Т. 41. С. 127); в Радзивиловской — Ионом (Т. 38. С. 161). 167 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 425; Щавелева Н. И. Польские латиноязычные средневековые источники… С. 148–149 (из «Рочника Краковского капитула»). Впоследствии сам Лешко обвинял в разжигании вражды между ним и Романом своего двоюродного брата и соперника Владислава Тонконогого, сына Мешка Старого (ПСРЛ. Т. 2. Стб. 719). Точная дата гибели Романа приведена в синодике монастыря Святого Петра в Эрфурте, в который Роман сделал крупный вклад (см.: Майоров А. В. Русь, Византия и Западная Европа… С. 119–120), а также в «Польской истории» Яна Длугоша (XV в.) (Щавелева Н. И. Древняя Русь в «Польской истории» Яна Длугоша… С. 347). |68ПСРЛ. Т. 25. С. 104. 169ПСРЛ. Т. 1. Стб. 427. 170ПСРЛ. Т. 2. Стб. 718.Часть четвёртая
ВЕЛИКОЕ ГНЕЗДО. 1205—1212
1 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 421,424; ПСРЛ. Т. 38. С. 160 (в Лаврентьевской летописи дата отъезда Константина показана ошибочно: 30 марта; верная дата в Радзивиловской, Московско-Академической и др.). 2 «…А всея болести ея 8 лет, наставше 9-му лету, поиде к Богови» (Радзивиловская летопись, так же и в Московско-Академической, и в Летописце Переяславля Суздальского: ПСРЛ. Т. 38. С. 161; Т. 41. С. 126); в Лаврентьевской и ряде других речь идёт о семи годах болезни (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 425). Считать надо не наши январские годы от Рождества Христова, а древнерусские от Сотворения мира. Рождение сына Ивана датируется серединой 6706-го мартовского или самым концом сентябрьского; пострижение и кончина Марии — первыми днями мартовского 6714-го. Это действительно начало «девятого лета»; если же считать сентябрьскими годами, то можно сказать, что и начало «восьмого». 3 Согласно гипотезе А. А. Медынцевой, речь в надписях на медальоне идёт о Марии «Всеволожей», её сыне Юрии (Георгии) и старшей дочери Всеславе (Христине), причём имя Миослава (Милослава) предлагается считать мирским именем самой Марии; изготовление амулета датируется в таком случае 1189 г. — годом рождения Юрия (см.: Медынцева А. А. «Угаси силу огненную…» Амулет суздальских князей // Родина. 1998. № 2. С. 102–107; она же. Грамотность в Древней Руси: По памятникам эпиграфики X — первой половины XIII в. М., 2000. С. 189–200). Однако если судить по надписям (там же. С. 192; см. также: Рындина А. В. Суздальский змеевик // Древнерусское искусство. Художественная культура домонгольской Руси. М., 1972. С. 217–218), имя Миослава может относиться к Христине, но никак не к Марии. Да и «старейшая дочь» — это не дочь Марии Христина, но скорее дочь Христины. Здесь же упомяну другое высказанное в литературе предположение — о принадлежности княгине Марии «Всеволожей» знаменитого Успенского сборника, включающего в себя наиболее ранние списки как древнерусских, так и южнославянских (болгарских) и западнославянских (чешских) сочинений (Щепкина М. В. О происхождении Успенского сборника // Древнерусское искусство. Рукописная книга. М., 1972. С. 60–80; в связи с гипотетическим чешским происхождением княгини). Это предположение представляется недостаточно обоснованным; ср., в частности: Фомина М. С. К вопросу о типологии Успенского сборника // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2011. № 3 (45). С. 77–96. 4 О том, что брак с Агафьей Всеволодовной был для Юрия не первым, «понеже первая его княгиня умре», писал В. Н. Татищев (Т. 3. С. 185), хотя к его свидетельству, конечно же, надо относиться критически. 5 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 417; ПСРЛ. Т. 41. С. 127; ПСРЛ. Т. 20. С. 144. 6 О том, что сохранение имени при пострижении — явление не уникальное в древней Руси, см.: Успенский Б. А., Успенский Ф. Б. Иноческие имена на Руси. С. 82–90. В Степенной книге царского родословия, напротив, приводится имя, которое Мария приняла при пострижении, — Марфа (Степенная книга… С. 458, 459). По свидетельству Н. М. Карамзина (История государства Российского. Т. 3. С. 535, прим. 62), имя Марфа читалось в XIX в. на гробнице княгини в соборе Успенского девичьего монастыря; замечу, однако, что в описи гробниц Успенского монастыря, составленной в XVII в., княгиня названа не Марфой, а Марьей (Летописец Владимирского собора. С. 64). 7 ПСРЛ. Т. 38. С. 160–161 (в Радзивиловской, возможно, по ошибке: «отец его духовный»), 8 Тихонравов К. Н. Успенский Княгинин девичий монастырь. Владимир, 1861. С. 29. 9 Троицкая летопись. С. 289–290; ПСРЛ. Т. 18. С. 40–41 (Симеоновская). Ср. завещание Ярослава Мудрого в «Повести временных лет»: ПСРЛ. Т. 1. Стб. 161. 10 Триодь постная, чтение в субботу второй недели Великого поста (https://azbyka.ru/bogosluzhenie/triod_postnaya/post2sb_u.shtml). 11 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 424–425. 12 ПСРЛ. Т. 41. С. 126–127; ПСРЛ. Т. 38. С. 161. 13 ПСРЛ. Т. 18. С. 41; Троицкая летопись. С. 291. 14 Первая дата приведена в Московском летописном своде конца XV в. (ПСРЛ. Т. 25. С. 108; так же: ПСРЛ. Т. 10. С. 60); вторая — в Летописце Переяславля Суздальского, где известие о том, что «приведошя княгыню великому князю Всеволоду из Руси», датировано 6719-м ультрамартовским годом, то есть 1210-м (ПСРЛ. Т. 41. С. 128); здесь же княгиня названа Софией (в других летописях этого имени нет). Васильковной княгиня именуется в Московском летописном своде, но отчество витебского князя не указано. Предполагается, что это князь Василько Брячиславич, сын князя Брячислава Васильковича, хотя не исключено, что речь идёт о дочери бывшего минского князя Василька Володаревича. В. Н. Татищев называет княгиню Любовью (Т. 1. С. 375; Т. 3. С. 182, 187; Т. 4. С. 340, 343), однако откуда он извлёк это имя, неизвестно. 15ПСРЛ. Т. 1. Стб. 427–428. 16 Предположение высказано ещё Н. М. Карамзиным (История государства Российского. Т. 3. С. 563). Село с таким названием упоминается в Духовной грамоте московского князя Ивана Даниловича Калиты (Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв. / Подг. к печати Л. В. Черепнин. М.; Л., 1950. С. 9: второй вариант грамоты, около 1339 г.). 17 «Прииде Ярослав из Русского Переяславля с женою своею во Владимир Суздальский к отцу своему великому князю Всеволоду», — сообщает автор Летописца Переяславля Суздальского (ПСРЛ. Т. 41. С. 127, под 6715-м ультрамартовским годом). По Лаврентьевской, Ярослав «приде к отцю своему в Суждаль», но «Суждаль» следует понимать здесь в расширительном смысле — не как город, но как область, Владимиро-Суздальское княжество. 18 Троицкая летопись. С. 291; ПСРЛ. Т. 18. С. 41 (Симеоновская). Название «Хомол» объясняют из марийского языка как «три города» или как «окраинный город»; см.: Халиков А. X. О времени, месте возникновения и названии города Казани // Из истории культуры и быта татарского народа и его предков. Казань, 1976. С. 3–19. Однако попытка увидеть здесь древнюю Казань представляется неубедительной. 19 НПЛ. С. 49–50, 246. 20 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 422–423; ср. ПСРЛ. Т. 2. Стб. 583. 21 НПЛ. С. 51. 22 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 428–429. Ср.: Святскии Д. О. Астрономические явления в русских летописях с научно-критической точки зрения. Кн. 1. С. 115–116. 23 НПЛ. С. 50. Сообщение датировано 6716 г., но соответствует 1207 г.; см.: Бережков. С. 255. Таким образом, сравнивая даты Лаврентьевской и Новгородской Первой летописей, можно с уверенностью утверждать, что убийство Олексы было совершено в отсутствие в Новгороде князя Константина, когда в княжеской резиденции на Волхове распоряжался Всеволодов боярин Лазарь. В Софийских летописях, а также в Московско-Академической убийство это прямо приписано Лазарю: «Прииде Лазарь, Всеволожь княжь мужь, из Володимеря и повеле убити Олексу Сбыславича…» (ПСРЛ. Т. 6. Вып. 1: Софийская первая летопись старшего извода. М., 2000. Стб. 260; ПСРЛ. Т. 39: Софийская первая летопись по списку И. Н. Царского. М., 1994. С. 69; ПСРЛ. Т. 1. Стб. 489). 24 См.: ПСРЛ. Т. I. Стб. 361–362. 25 Автор Никоновской летописи, распространяя свой источник, несколько по-другому расставляет акценты. По его словам, помимо посадника Дмитра, Всеволод оставил во Владимире также и другого посадника (?), Андрея, «такоже под Проньском стрелена и сечена, и иных болших и лутчих седмь новгородцев, битых и язвеных под Пронском. остави у себя в Володимере» (получается, на излечение?). Здесь же приводится речь, с которой Всеволод будто бы обратился к новгородцам и псковичам, отпуская их из похода: «Что аще есть любезно вам, просите у мене, должен бо есмь вам даровати вся благая, яко вы много труда показасте и врагов моих рязанцев одолеете, вам бо честь многу налезох, и держите себе князя по своей воли, и аще кто есть к вам добр, того любите и чтите, и — аще кого хощете жаловати, жалуйте, а кого хошете казнити, казните, якоже имате старый устав прежних князей в вас учинён, тако творити» (ПСРЛ. Т. 10. С. 58). В последующем рассказе Никоновской летописи о восстании в Новгороде и прибытии в город князя Святослава Всеволодовича также имеются добавления: так, сообщается, что новгородцы хотели не просто сбросить тело посадника Дмитра с моста (см. ниже), но «ови же, в костёр дров вложивше его, сожещи»; в числе «детей» Дмитра, помимо названных в новгородских летописях (причём имена большинства неправильно прочитаны), значатся ещё какие-то Иван Данилович и Митрошка (Мирошка) Олексич (сын убитого ранее Олексы Сбыславича?). 26 Насонов А. Н. «Русская земля» и образование территории Древнерусского государства. С. 194, прим. 1. (Впрочем, Вычегодско-Вымская летопись свидетельствует об основании Устюга самим Константином Всеволодовичем в 1212 г.: Историко-филологический сборник Коми филиала АН СССР. Вып. 4. С. 257.) B. Н. Татищев приводил иной список: Белоозеро, Угличе Поле (Углич), Ярославль, Кострома и Галич Меряжский (Мерьский) (Татищев. Т. 3. С. 181). 27 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 433–434. 28 НПЛ. С. 50–51, 248; ПСРЛ. Т. 4. Ч. 1. С. 182; ПСРЛ. Т. 6. Вып. 1. Стб. 261–262. В новгородских летописях рассказ о восстании помещён под 6717 г., что при обычном пересчёте даёт 1209 г. от Р. Хр., поэтому во многих исторических работах, особенно старых, новгородское восстание датируется 1209 г. Однако здесь в Новгородской Первой и других летописях явный хронологический сбой. Сопоставление с хронологией Лаврентьевской летописи показывает, что в статье 6717 г. речь идёт о событиях 1207 г. 29 См.: Тихомиров М. Н. Исследование о Русской Правде. М.; Л., 1941. С. 227–228; Зимин А. А. Правда Русская. М., 1999. C. 306–307. 30 Янин В. Л. Новгородские посадники. С. 164. 31 Таково общепринятое мнение. Польский исследователь Д. Домбровский обосновывает иное происхождение князя Владимира Псковского (чьё отчество в летописи не указано), считая его сыном бывшего новгородского князя Ярослава Владимировича, свояка Всеволода, — тем самым, который годом ранее был изгнан из Треполя {Домбровский Д. Генеалогия Мстиславичей. С. 528–530, 631–642). 32 НПЛ. С. 249, 51 (под 6718 г.), 471 (статья «А се князи Великого Новагорода»). 33 ПСРЛ. Т. 10. С. 61. 34 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 435 (под 6717-м ультрамартовским); НПЛ. С. 51–52, 249 (под 6718-м). 35 ПСРЛ. Т. 25. С. 107; ПСРЛ. Т. 7. С. 116 (в обоих случаях под 6716-м мартовским). В Летописце Переяславля Суздальского эта версия подправлена: «…И слышавше новгородци, оже идуть на них суждалци, выидоша противу им, и уладишася; и пустиша Святослава Всеволодовичя к отпю своему, а Мьстислава посадишя у себе. Суждалци же воротишася опять въсвояси» (ПСРЛ. Т.41.С. 128–129). 36 Матузова В. И., Назарова Е. Л. Крестоносцы и Русь. Конец XII в. — 1270 г. Тексты, перевод, комментарий. М., 2002. С. 119, 120 (из «Хроники Ливонии» Генриха). 37 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 429–430. 38 ПСРЛ. Т. 41. С. 127. В Летописце Переяславля Суздальского поход датирован 6716 (1208) г., но о нём говорится между известиями о потере Ярославом Всеволодовичем Переяславля (сентябрь 1206 г.) и выступлением на помощь отцу для участия в Черниговском походе Константина Всеволодовича с новгородцами (лето 1207-го). Современные археологи находят следы сожжения города в начале XIII в. (Зайцева И. Е. Производственные ювелирные комплексы еврейского детинца и их место в системе застройки (XII–XIV вв.) // Труды VI Международного конгресса славянской археологии. Т. 2: Славянский средневековый город. М., 1997. С. 102–104). 39 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 430–431 и след. Имён Святославичей в Лаврентьевской летописи нет; они названы в некоторых других: например, в Львовской (ПСРЛ. Т. 20. С. 145; и др.). 40 НПЛ. С. 50, 247. 41 ПСРЛ. Т. 10. С. 55. Совершенно по-другому оценивает действия Всеволода В. Н. Татищев, не слишком благожелательно относившийся к владимирскому князю. По словам историка XVHI в., Всеволод, узнав о мнимой измене рязанских князей, «пришёл от сея безумныя клеветы в великой страх и, не разведав посторонне, как надлежало, поверя оным клеветникам, хотел назад возвратиться». И лишь упрёки «советников» заставили Всеволода остаться на месте. «Великий бо то был стыд вам, — укоряли «советники» князя, — если вы отсюда без всякой причины поворотитесь, поверя токмо словам сих юношей, которые вражду имеют со стрыями. И как можно знать, что то правда. Да хотя бы совершенно правда, то возвратиться неприлично, но лучше идти к Оке и тамо, сошедшися ближе с резанскими, разведать внятно, и тогда уже можем правильнее разеудить и советовать. А до того времяни содержать сие тайно» (Татищев. Т. 3. С. 177–178 и след.). Татищев и далее дополняет летописный текст, в частности объясняя мотивы действий рязанских князей: по его сведениям (или скорее догадкам), Всеволод Чёрмный действительно присылал к рязанским родичам «просить к себе в союз, но те отреклись, объявя, что они противо Всеволода Юриевича помогать никому противо данной ему роты не могут. Потом он просил их, чтоб постарались о мире. И о том они ему обесчались и Всеволоду Юриевичу немедля о том объявили. Но Всеволод всё оное принял во утверждение той злостной клеветы и сам пришёл в великой страх». Перечень князей, явившихся к Всеволоду Юрьевичу, дан у Татищева неточно, а о Кир-Михаиле Всеволодовиче сказано, что он «прислал ко Всеволоду посла, извинялся, что ему противо тестя своего (Всеволода Чёрмного. — А. К.), без причины наруша роту, воевать неможно, но и ему противо Всеволода Юриевича никаким образом помогать не будет, понеже он Всеволода почитает себе за отца»; но и это тоже было воспринято как подтверждение клеветы. Константин, «любитель правости», пытался уговорить отца не давать веры клеветникам, однако Всеволод, «поосчряем бояры своими, не хотящими от жён отлучиться и труд понести», а также «исча Резанскою областию овладеть», не прислушался к словам сына. 42 ПСРЛ. Т. 23. С. 61; Т. 20. С. 145. 43 Насонов А. Н. «Русская земля» и образование территории Древнерусского государства. С. 201–202. 44 В Московском летописном своде конца XV в. сражение описано по-иному и «лодейницы» выступают как союзники Романа Игоревича, а не Всеволода: «…И сняшася у города Олгова, и победи Олег Романа, и бежа Роман к Рязаню; лодеиници же их видеша своих бежащих, пометавше лодьи, бежаша в лесы» (ПСРЛ. Т. 25. С. 106; ср.: ПСРЛ. Т. 7. С. 115). 45 ПСРЛ. Т. 41. С. 127–128. Имя Ослядюка более в летописях не встречается, зато известен его сын, воевода Пётр Ослядюкович, руководивший в 1238 г. обороной Владимира от монголов. 46 См. Кузьмин А. Г. Рязанское летописание. С. 133. 47 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 432–433. 48 ПСРЛ. Т. 20. С. 117. 49 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 434. 50 НПЛ. С. 51, 249 (под 6718 г.). 51 ПСРЛ. Т. 41. С. 128. 52 ПСРЛ. Т. 25. С. 107. 53 Там же. С. 107–108. 54 См.: Насонов А. Н. История русского летописания… С. 217–218. 55 Деревня (впоследствии пустошь) Голубино известна по писцовым книгам с XVI в. как купля киржачского Благовещенского монастыря. См.: Зайцев А. К. О малоизвестных поселениях Подмосковья первой трети XIII в. (Голубино, Волочок и Уполозы) // он же. Черниговское княжество… С. 201–202 (название сохранилось до настоящего времени как название урочища). Высказывались, впрочем, и другие предположения. Так, под Голубино предлагалось понимать село близ Ясенева (ныне в черте Москвы); см.: Погодин М. П. Исследования, замечания и лекции о русской истории. Т. 4: Период удельный, 1054–1240. М., 1850. С. 285 (ср. возражения Н. И. Надеждина и К. А. Неволина: Там же. С. 186); или же село на реке Выдре, правом притоке Северки на юге Московской области: Насонов А. Н. «Русская земля» и образование территории Древнерусского государства. С. 184). 56 По юго-западной окраине нынешнего Орехова-Зуева протекала речка, название которой совпадает с летописным — Дроздна, правый приток Клязьмы (позднее известна как Чёрная, ныне без имени) (Алексеев В. Н. Исторические корни города Орехово-Зуево // Подмосковный летописец. Историко-краеведческий альманах. 4 (26) 2010. С. 82–85: http://ilschool-guslicy.ru/a8-alekseev-istoritcheskie-korni.html#_ftnref5). Однако речка эта впадала в Клязьму прямо против Волочка-Зуева, и, соответственно, непонятно, как могли «Юрьевы сторожи» гнать «Изяславли сторбжи», «лесом секуще», а затем и Юрий следовать за ними «вборзе с полком своим» до реки Дроздны. В Никоновской и ряде других летописей вместо Дроздны значится река Тростна (ПСРЛ. Т. 10. С. 60), но это очевидная ошибка. 57 ПСРЛ. Т. 41. С. 128. 58 ПСРЛ. Т. 10. С. 60; Татищев. Т. 3. С. 182. 59 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 435. В Московском летописном своде конца XV в. сказано иначе: «…и взя мир, и взратися со многом полоном в Володимерь» (ПСРЛ. Т. 25. С. 108). В Воскресенской летописи, текст которой восходит к тому же протографу: «…взя Пру» (ПСРЛ. Т. 7. С. 117). Думаю, что слово «мир» — результат неправильного прочтения оригинала. Во Владимирском летописце XVI в. (ПСРЛ. Т. 30. С. 83) и некоторых других ошибочно: «…во Угры». 60 Кузнецов А. А. Владимирский князь Георгий Всеволодович в истории Руси первой трети XIII в. Особенности преломления источников в историографии. Нижний Новгород, 2006. С. 175. 61 ПСРЛ. Т. 11: Никоновская летопись (продолжение). М., 2000. С. 95–96 («Хожение Пименово в Царьград»), Река с тем же названием («Чюр-Михайлова») упоминается и в летописном рассказе о Куликовой битве (Там же. С. 58). 62 ПСРЛ. Т. 41. С. 130. 63 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 440–441, 444; ПСРЛ. Т. 7. С. 243 (впрочем, последнее известие, читающееся в статье «Начало о великих князех рязанских», возможно, появилось под влиянием летописного рассказа о судьбе другого князя-братоубийцы — Святополка Окаянного). 64 ПСРЛ. Т. 25. С. 107. 65 О хронологии событий см.: Грушевський М. Хронологiя подiй Галицько-волинського лiтопису // Записки Наукового товариствa iм. Шевченка. Т. 41. Львiв, 1901. С. 10. М. С. Грушевский ссылался в данном случае на Воскресенскую летопись XVI в. (ПСРЛ. Т. 7. С. 116–117), содержащую те же известия, что и Московский летописный свод конца XV в. 66 В Типографской летописи митрополит (ошибочно?) назван Дионисием (ПСРЛ. Т. 24. С. 85). 67 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 435. 68 ПСРЛ. Т. 25. С. 108. В Ермолинской летописи XV в.: «…и держа его князь велики много, и отпусти его с великою честью» (ПСРЛ. Т. 23. С. 63). 69 Татищев. Т. 3. С. 185; Т. 4. С. 341–342. Свадьбу В. Н. Татищев датирует 29 апреля 1212 г. (смерть Всеволода, по его хронологии, случилась в 1213-м) 70 Цит.: БЛДР. Т. 4. С. 270 (ответ Андрея Доброго: ПСРЛ. Т. 1. Стб. 307). Правда, при таком понимании «Слова» Даниила придётся допустить, что князь Ярослав Владимирович умер после 1210 г. (что несколько расходится с общепринятым мнением, ибо после 1205 г. князь в летописях не упоминается; ср. Домбровский Д. Генеалогия Мстиславичей. С. 614), да и само «Слово» написано после этого времени. 71 Феннел Дж. Кризис средневековой Руси. 1200–1304. М., 1989. С. 72. 72 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 438; Т. 25. С. 110 (в Ермолинской и Львовской Рюрик Ростиславич по ошибке назван Ростиславом: «Преставися князь Ростислав Киевский, княжа в Чернигове»: ПСРЛ. Т. 23. С. 64; Т. 20. С. 148). Ошибочным надо признать свидетельство В. Н. Татищева о смерти Рюрика Ростиславича 19 апреля 1211 г. в Киеве (Татищев. Т. 3. С. 184). Личность Рюрика Ростиславича у Татищева «раздваивается», и черниговским князем становится другой Рюрик — мифический Рюрик Ольгович (Там же. С. 185; ср.: Толочко А. П. «История Российская» Василия Татищева… С. 458–468). Едва ли убедительна попытка отыскать имя этого князя в помяннике черниговских князей в Любечском синодике, где с Рюриком Ольговичем был отождествлён некий «ве[ликий] князь Константин Олго[вич?] Черн|иговский]» (Зотов Р. В. О черниговских князьях по Любецкому синодику и о Черниговском княжестве в татарское время. СПб., 1892. С. 25, 45–66), тем более что данное прочтение ставится под сомнение (см.: Шеков А. В. Верховские княжества. Середина XIII — середина XVI в. М., 2012. С. 44–45). 73 НПЛ. С. 53, 251. 74 ПСРЛ. Т. 25. С. 109. 75 НПЛ. С. 464. «Родословие» доведено до великого князя Василия Васильевича Тёмного (1425–1462 гг., с перерывами). В другом списке того же «Родословия» перечень князей заканчивается сыном князя Дмитрия Донского Юрием, князем Галичским и Звенигородским (ум. 1434), которого в Новгородепризнавали великим князем вместо его племянника Василия (будущего Тёмного) (Там же. С. 560). 76 ПСРЛ. Т. 15. [Вып. 2.] Стб. 221. 77 См.: Присёлков М. Д. История русского летописания XI–XV вв. С. 136–146. 78 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 422–423. Летописная похвала князю Константину Всеволодовичу под 6714 г. составлена под явным влиянием летописной похвалы Андрею Боголюбскому, с использованием тех же литературных оборотов; ср.: ПСРЛ. Т. 2. Стб. 583–584; см.: Прохоров Г. М. Радзивиловский список Владимирской летописи по 1206 год и этапы владимирского летописания // Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы. Т. 42. Л., 1989. С. 73. 79 Татищев. Т. 1. С. 375; Беляев И. Д. Великий князь Константин Всеволодович Мудрый // Временник Общества истории и древностей Российских. Кн. 3. М., 1849. С. 59–78. Константином Мудрым именует князя и Б. А. Рыбаков, предполагавший его личное участие в создании летописного свода 1205/06 года (Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества XII–XIII вв. М., 1982. С. 562). 80 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 443 (из летописного некролога). 81 Татищев. Т. 3. С. 206. Эти слова относятся к ростовскому периоду княжения Константина Всеволодовича. Однако и описывая его молодые годы, Татищев рисует несколько отстранённый образ скорее учёного и книжника, нежели политика: так, сообщая под 1201 г. о княжении старшего Всеволодовича в Переяславле (факт, не подтверждаемый летописями, хотя, возможно, и соответствующий действительности), Татищев приводит удивительное свидетельство: оказывается, Константин, «хотя жену имел, но более наукам прилежал и, не терпя многих безпокойств, просил отца, чтоб его пременил», то есть вывел из Переяславля. Равно как и дополняя летописный рассказ об отъезде Константина в Новгород, историк снова подчёркивает, что двадцатилетний князь более «прилежал о мудрости и учении», нежели о «стяжании» или чём-то ещё (Там же. С. 167, 173). 82 ПСРЛ. Т. 10. С. 63. 83 ПСРЛ. Т. 15. [Вып. 2.] Стб. 311. 84 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 435–436. В Московском летописном своде конца XV в. и других летописях рассказ о ростовском пожаре следует за рассказом о непослушании Константина отцу (см. далее), так что у средневекового читателя должно было сложиться мнение, что и сама эта «казнь от Бога» случилась «за таковое преслушание» (Степенная книга. Т. 1. С. 460; также и в позднейшем Житии князя Юрия (Георгия) Всеволодовича Владимирского: Сиренов А. В. Путь к граду Китежу. С. 124). Однако последовательность событий была, по-видимому, иной: в апреле Константин находился во Владимире у отца, в мае отбыл в Ростов; а потому неоднократные призывы отца приехать к нему во Владимир и отказ Константина сделать это должны быть отнесены ко времени после ростовского пожара. Заметим, кстати, что в Никоновской летописи последовательность именно такая: сначала пожар, потом ссора отца с сыном, но в данном случае это объясняется спецификой работы летописца со своими источниками. 85 ПСРЛ. Т. 25. С. 104. 86 Троицкая летопись. С. 305. 87 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 441 (под 1218 г.). 88 Вздорнов Г. И. Искусство книги в Древней Руси: Рукописная книга Северо-Восточной Руси XII — начала XV b. М., 1980. С. 22–29. 89 Столярова Л. В. Свод записей писцов, художников и переплётчиков древнерусских пергаменных кодексов XI–XIV вв. М., 2000. С. 106–115. 90 Там же. С. 110–111. 91 ПСРЛ. Т. 27: Никаноровская летопись. Сокращённые летописные своды конца XV в. М.; Л., 1962. С. 234 (Сокращённый летописный свод 1493 г.), 320 (Сокращённый летописный свод 1495 г.); Т. 15. [Вып. 2.] Стб. 336–338, 342 (Тверская); Т. 10. С. 70, 72, 92 (Никоновская). 92 ПСРЛ. Т. 25. С. 108. Показательно, что в Лаврентьевской летописи (включающей в себя ростовский свод Константина и его сыновей) обо всей этой истории с завещанием и ссорой отца и сына нет ни слова. 93 ПСРЛ. Т. 15. [Вып. 2.] Стб. 336. В Никоновской летописи этот сюжет получил несколько иное развитие. Здесь Константин (которого отец не два, а даже три раза призывает к себе) просит дать ему «старый и началный град Ростов и к нему Володимерь; аще ли не хощеть твоя честность тако сотворите, — приводит московский книжник слова, якобы произнесённые князем, — то даждь ми Володимерь и к нему Ростов» (ПСРЛ. Т. 10. С. 63.) В свою очередь, В. Н. Татищев, в «Истории…» которого создан идеальный образ князя Константина Мудрого, оправдывает своего героя, объясняя его отказ приехать к отцу болезнью: «Констянтин тогда вельми болен был и, не могши сам к отцу ехать, послал к нему с прошением, чтоб не имел на него гнева…» Последующий гнев Всеволода на старшего сына объясняется здесь происками бояр, а показания летописей об отказе Константина принять отцовские условия — враждебностью летописца, которым Татищев считал Симона, будущего епископа Владимирского (Татищев. Т. 3. С. 186–187, 260). 94 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 300–301. 95 Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества XII–XIII вв. С. 562. 96 Фроянов И. Я. Древняя Русь. С. 693–694. 97 ПСРЛ. Т. 41. С. 129. В. Н. Татищев приводит более подробный перечень городов по завещанию Всеволода: Ярославу отходили Переяславль, Тверь и Волок; Святославу — Юрьев и Городец; Владимиру — Москва; Ивану — Стародуб (Татищев. Т. 3. С. 186). 98 ПСРЛ. Т. 10. С. 64. 99 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 437. 100 ПСРЛ. Т. 25. С. 109. 101 Цит. по: http://azbyka.ru/bogosluzhenie/triod_tsvetnaya/zvet21u.shtml (Из Триоди Цветной, Кондак, глас 3-й). 102 ПСРЛ. T. 1. Стб. 436. Эта дата смерти князя принимается и некоторыми современными авторами см., напр.: Феннел Дж. Кризис средневековой Руси… С. 84; Морозова Л. Е. Всеволод Большое Гнездо. С. 90; и др.). 103 ПСРЛ. Т. 41. С. 129, под 6721-м ультрамартовским годом. 104 Троицкая летопись. С. 299, под 6721-м ультрамартовским; ПСРЛ. Т. 18. С. 47. 105 ПСРЛ. Т. 10. С. 64, под 6721 г. (и тоже память «святаго исповедника Мартына, папы Римскаго», что в данном случае ошибкой не является, так как в русских месяцесловах память святого Мартина показана и под 13-м, и под 14 апреля). Очевидно, московский книжник XVI в. принял 6721 г. более ранних летописей за мартовский и датировал смерть Всеволода подходящим воскресеньем, выпавшим к тому же в 1213 г. на Пасху. Ср. у Татищева (опиравшегося на Никоновскую): «Апреля 14 дня в самый день Пасхи» (Татищев. Т. 3. С. 187; ср. Т. 4. С. 343). 106 Та же или схожая ошибка в Львовской (ПСРЛ. Т. 20. С. 147), Типографской (ПСРЛ. Т. 24. С. 86) и других летописях: «…жив от рожества своего лет 60 и 3 и княжив в земли Ростовьстей лет 40 бес трёх». 107 Ср.: ПСРЛ. Т. 1. Стб. 436–437, 293–294. 108 Летописец Владимирского собора. С. 62. 109 О событиях этого года и следующих лет см.: ПСРЛ. Т. 41. С. 129–131; Т. 25. С. 109–110; Т. 1. Стб. 437–438. 110 См.: БЛДР. Т. 5. С. 74–87 (подг. текста, пер., коммент. Я. С. Лурье; по Новгородской Карамзинской летописи); см. ПСРЛ. Т. 42. С. 108–111. 111 Кавельмахер В. Б. Краеугольный камень из лапидария Георгиевского собора в Юрьеве-Польском (к вопросу о так называемом Святославовом кресте) // Древнерусское искусство. Русь, Византия, Балканы. XIII век. СПб., 1997. С. 185–197 (http://www.kawelmacher.ru/indexl.htm). См.: ПСРЛ. Т. 25. С. 126; Т. 15. [Вып. 2.] Стб. 355. 112 Новикова О. Л. Материалы для изучения русского летописания конца XV — первой половины XVI в. С. 230 (родословие князей Стародубских). 113 Как полагает А. В. Сиренов, это могло быть связано с «кампанией по подтверждению царского титула Ивана Грозного», развёрнутой в 50-е гг. XVI в. (Сиренов А. В. Описание древнерусских некрополей… С. 109). 114 Шилов А. А. Описание рукописей, содержащих летописные тексты. Вып. 1. С. 65–66. 115 Мансикка В. Житие Александра Невского. Разбор редакций и текст. СПб., 1913 (Памятники древней письменности и искусства. № 180). Тексты. С. 123–124; в переводе на современный русский язык: Великий князь Александр Невский / Сост., автор, текст А. Ю. Карпова. М., 2002. С. 201–202. 116 См.: Легенда о граде Китеже//БЛДР. Т. 5. С. 168–169 (подг. текста, пер., коммент. Н. В. Понырко). 117 ПСРЛ. Т. 42. С. 106. 118 Мансикка В. Житие Александра Невского. Тексты. С. 34. 119 Памятники древнерусской церковно-учительной литературы. Вып. 2: Славяно-русский Пролог. Ч. 1: Сентябрь — декабрь / Изд. А. И. Пономарёв. СПб., 1896. С. 55. 120 Сиренов А. В. Путь к граду Китежу. С. 73–74. (Примечательно, как видоизменилась здесь легенда о явлении князю Всеволоду и его воинам накануне битвы на «Юрьевском поле» Владимирской иконы и града Суздаля: в «надгробном листе» место Суздаля занял Владимир: «Вкупе же видевше с церковию и весь град Владимир, яко на воздусе стоящь».) Позднее этот текст включался в сборники исторического содержания, и в частности в Степенную книгу Пространной редакции (см.: Всеволод (Димитрий) Юрьевич// Православная энциклопедия. Т. 9. С. 552–557 (авторы раздела А. В. Кузьмин, Е. В. Романенко). 121 Виноградов А., прот. История кафедрального Успенского собора… С. 91–92. 122 Сергий (Спасский), архиеп. Полный месяцеслов Востока. Т. 3. М. 1997. С. 554. 123 Сиренов А. В. Летописцы в рукописях Михаила Медоварцева. С. 277–278.ПРИЛОЖЕНИЕ. РОДОСЛОВНЫЕ ТАБЛИЦЫ РУССКИХ КНЯЗЕЙ*




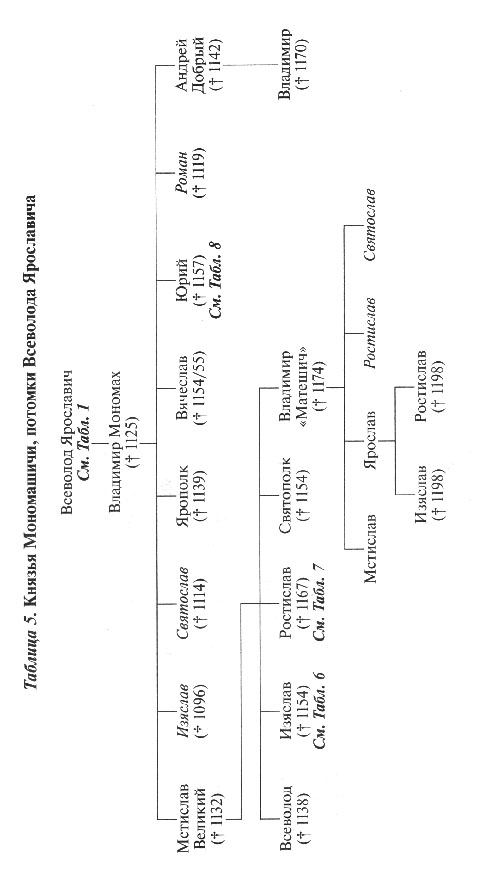
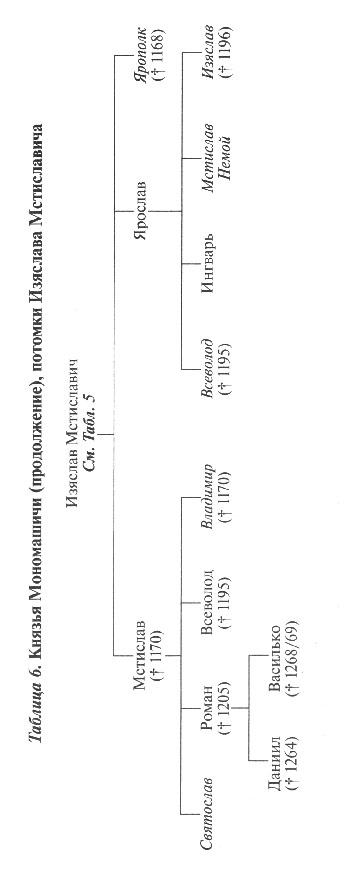




ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ КНЯЗЯ ВСЕВОЛОДА ЮРЬЕВИЧА
1154, 19 октября — рождение Всеволода (в крещении получает имя Дмитрий). 1154/55, конец декабря — начало января — Юрий во главе своих полков выступает к Киеву; перед тем как покинуть Суздальскую землю, приводит города и «всю дружину» к крестному целованию своим младшим сыновьям Михаилу (Михалку) и только что родившемуся Всеволоду. 1155, весна — мать Всеволода с двумя младшими сыновьями едет через Смоленск в Киев. 1157, 15 мая — смерть отца. Всеволод с матерью и братом бежит из Киева в Суздаль. 4 июля — суздальским князем провозглашён старший брат Всеволода Андрей. 1161/62 — изгнание Андреем Боголюбским «младшей братии» из Суздальской земли. Всеволод с матерью и братьями Васильком и Мстиславом отправляется в Византию. 1169, февраль — Всеволод принимает участие в организованном Андреем Боголюбским походе одиннадцати князей на Киев и взятии (12 марта) и последующем разграблении Киева союзной ратью. Первое упоминание Всеволода (под крестильным именем — Дмитр, Дмитрко) в Суздальской (Лаврентьевской) летописи. 1170/71, зима — Всеволод вместе с братом Михаилом участвует в походе на половцев. 1171, 20 января — смерть в Киеве князя Глеба Юрьевича. 1173, между 19 и 25 февраля — Всеволод, по воле брата Михаила, занимает киевский стол (предназначенный Андреем Боголюбским для самого Михаила). 24 марта — князья Рюрик, Давыд и Мстислав Ростиславичи захватывают в плен Всеволода, его племянника Ярополка Ростиславича «и дружину их». Вскоре Всеволод освобождён и отправлен к брату Михаилу. Конец лета — Всеволод и Михаил присоединяются к войску, отправленному их братом Андреем Боголюбским на Киев против князей Рюрика, Давыда и Мстислава Ростиславичей. 8 сентября — Всеволод во главе одного из полков «младших» князей подступает к Вышгороду. Сражение с полком князя Мстислава Ростиславича Храброго. Начало ноября — бегство союзной рати от Вышгорода. Братья Всеволод и Михаил и их племянники Мстислав и Ярополк оказываются в Чернигове у князя Святослава Всеволодовича. 1174, ночь на 29 июня — гибель князя Андрея Юрьевича Боголюбского. Вече во Владимире избирает в князья Мстислава и Ярополка Ростиславичей. Осень — начало зимы — князь Михаил Юрьевич после семинедельного пребывания в осаждённом Владимире покидает Суздальскую землю. Племянник Всеволода Мстислав Ростиславич вокняжается в Ростове, а Ярополк Ростиславич — во Владимире. Ранее 1175 — женитьба Всеволода на Марии Шварновне. 1175, 21 мая — выступление Михаила и Всеволода из Чернигова. 15 июня — битва близ Владимира с племянниками Мстиславом и Ярополком Ростиславичами. В тот же день князь Михаил Юрьевич садится на княжение во Владимире. Всеволод получает Переяславль-Залесский. 1176, 19 (20) июня — смерть князя Михаила Юрьевича. Всеволод провозглашён владимирским князем. 27 июня — победа Всеволода над Мстиславом Ростиславичем у Липиц, на «Юрьевском поле». 1177, 7 марта — победа Всеволода над Глебом Рязанским на реке Колокше, у Прусковой горы. Глеб Рязанский, его сын Роман, а также племянник Всеволода Мстислав Ростиславич захвачены в плен; позднее рязанцы выдают во Владимир и Ярополка Ростиславича. 30 июня (31 июля) — смерть Глеба Рязанского во владимирском плену. Август (?) (ранее 5 сентября) — ослепление во Владимире Мстислава и Ярополка Ростиславичей. 1178, 20 апреля — смерть в Новгороде племянника Всеволода князя Мстислава Ростиславича. 8 декабря — взятие и сожжение Торжка (Нового Торга). Сожжение Волока Ламского. 1179 — Всеволод выдаёт замуж племянницу, дочь князя Михаила, за сына великого князя Святослава Всеволодовича Владимира. Декабрь (?) — рождение у Всеволода третьей (?) дочери Верхуславы (в крещении Анастасии). 1180 — война с рязанским князем Романом Глебовичем. Взятие Борисоглебска. Мир с Романом и его братом Игорем «на всей воле Всеволожи». Ранее 26 октября — рождение четвёртой дочери Сбыславы (в крещении Пелагеи). 1180/81, конец осени — зима — война с великим князем Святославом Всеволодовичем. «Стояние на Влене». Сожжение Дмитрова. 1181 — второй поход на Торжок. Город взят и сожжён. 1181/82— мир с князем Святославом Всеволодовичем. Всеволод отправляет на княжение в Новгород свояка, князя Ярослава Владимировича. 1182, 4 июля — смерть сестры Ольги (в иночестве Евфросинии). 1183 — брак свояченицы Всеволода («Ясыни») с сыном великого князя Святослава Всеволодовича Мстиславом. Май — июнь (?) — поход на Волжскую Болгарию, осада «Великого города» (Биляра). Гибель племянника Изяслава Глебовича. На обратном пути Всеволод отправляет часть своего конного войска на мордву. 1184, 11 марта — поставление епископа Луки на ростовскую и владимирскую кафедру. 18 апреля — «великий» пожар во Владимире. 1185, 18 мая — рождение у Всеволода старшего сына Константина. Всеволод отправляет своих воевод на Волжскую Болгарию. Всеволод вмешивается в междоусобную войну в Рязанском княжестве и отправляет сначала 300 человек владимирской дружины в Пронск, а затем князей Ярослава Владимировича и Владимира и Давыда Юрьевичей к Коломне. 1186, 2 мая — рождение у Всеволода второго сына Бориса. 22 мая — во Владимир для примирения Всеволода с рязанскими князьями прибывают черниговский епископ Порфирий и послы от Святослава и Ярослава Всеволодовичей. Последующая посредническая миссия Порфирия в Рязань заканчивается неудачей. 11 июля — свадьба дочери Всеволода Всеславы с князем Ростиславом Ярославичем. Эпидемия во Владимире. Поход Всеволода и союзных ему князей в Рязанскую землю. 1187, 18 марта — смерть племянника Владимира Глебовича, князя Переяславского. Смерть второго сына Бориса. 1188, 30 июля — Всеволод выдаёт замуж свою восьмилетнюю дочь Верхуславу-Анастасию. 14 августа — освящение перестроенного Успенского собора во Владимире. 29 сентября — смерть третьего сына Глеба. 26 ноября — рождение четвёртого сына Юрия[42]. 1189, 10 ноября — смерть ростовского епископа Луки[43]. 1190, 23 января — рукоположение в Киеве ростовского епископа Иоанна. 8 февраля — рождение пятого сына Всеволода — Ярослава (в крещении Фёдора). 16 марта — епископ Иоанн прибывает во Владимир. 23 мая — канонизация святителя Леонтия Ростовского[44]. 1191, 28 июля — «постриги» княжича Юрия, сына Всеволода. Строительство деревянной крепости в Суздале. 22 августа — заложена церковь Рождества Богородицы во Владимире. 1192, 23 июля — пожар во Владимире. 1193, 26 апреля — «постриги» княжича Ярослава, сына Всеволода. 4 июня — закладка нового детинца в городе Владимире. 14 (?) августа — обновление Успенского собора после очередного пожара. 25 октября — рождение шестого сына Всеволода — Владимира (в крещении Дмитрия). /194, январь — февраль — Всеволод принимает у себя зятя Ростислава и дочь Верхуславу. Весна — Всеволод возобновляет укрепления в Городце Остёрском, «своей отчине». Между 25 и 31 июля — смерть киевского князя Святослава Всеволодовича. На киевский престол садится князь Рюрик Ростиславич. 29 июля — Всеволод закладывает новую деревянную крепость в Переяславле-Залесском (в том же году завершена строительством). 1195, 27 марта — рождение седьмого сына Святослава (в крещении Гавриила). Всеволод требует от Рюрика Ростиславича «части» в «Русской земле» и получает пять городов (переданных ранее князю Роману Мстиславичу): Торческ, Треноль, Корсупь, Богуславль и Канев; Торческ отдаёт зятю Ростиславу Рюриковичу, а в остальные сажает своих посадников. Разрыв между союзником Всеволода Рюриком Ростиславичем и Романом Мстиславичем, начало новой междоусобной войны. Осень — Рюрик заключает мир с Романом. Переговоры Всеволода и Рюрика и Давыда Ростиславичей недалеко от Смоленска с князьями Ольговичами. 15 октября — Всеволод женит своего старшего сына Константина на дочери князя Мстислава Романовича Смоленского. 26 октября — «постриги» княжича Владимира, сына Всеволода. Начало зимы — выступление новгородской рати, собранной по приказу Всеволода для войны с Ольговичами; новгородцы доходят до Торжка, после чего войско распущено по домам. 1196, зима — перемирие с Ольговичами. 12 марта — поражение смоленских войск в битве с черниговскими и полоцкими полками. Сват Всеволода Мстислав Романович попадает в плен. Конец лета — осень — Всеволод вступает в войну с черниговскими князьями и опустошает Вятичскую землю. 6 октября — после заключения мира с Ярославом Черниговским Всеволод возвращается во Владимир. 27 октября — во Владимире освящена церковь Рождества Богородицы. 26 ноября — из Новгорода изгнан ставленник Всеволода, его свояк Ярослав Владимирович; он садится на княжение в Торжке. Это едва не приводит к войне: Всеволод захватывает новгородцев за Волоком и «по всей земле своей». 1197, 10 января — во Владимир из греческой Солуни принесены «доска гробная» и «сорочка» с гробницы святого Димитрия Солунского. Всеволод посылает на епископскую кафедру в Переяславль-Русский своего ставленника Павла. 28 августа — рождение восьмого сына Ивана. Болезнь жены Всеволода княгини Марии. 9 ноября — «постриги» княжича Святослава, сына Всеволода. 1198, 13 января — на княжение в Новгород возвращается свояк Всеволода Ярослав Владимирович. 30 апреля — Всеволод с сыном Константином выступает в поход на половцев на Дон (Северский Донец). 6 июня — возвращение во Владимир. 25 июля — пожар во Владимире. 1198/99, зима — рождение внучки Всеволода Евфросинии-Измарагд (дочери Анастасии-Верхуславы и Ростислава Рюриковича). 1199, 15 июля — во Владимире заложен Успенский собор Княгинина монастыря. 1200, 1 января — на княжение в Новгороде садится четырёхлетний сын Всеволода Святослав. 3 августа — Всеволод отправляет на княжение в Переяславль-Русский своего сына Ярослава. 24 (25) декабря — смерть свояченицы Всеволода, княгини Ярославлей (жены князя Ярослава Владимировича). 1201, 9 сентября — во Владимире освящён Успенский собор Княгинина монастыря. 1201/02 — после захвата Киева князем Романом Мстиславичем и удаления Рюрика Ростиславича во Вручий Всеволод (в лице своего представителя) вместе с Романом сажают на киевский стол князя Ингваря Ярославича. 1203, 1–2 января — разорение Киева войсками Рюрика Ростиславича и черниговских Ольговичей и половцами. Январь — февраль — Рюрик РостисЛавич целует крест великому князю Всеволоду Юрьевичу. Мир между Рюриком, Романом и Всеволодом. Всеволод возвращает Киев князю Рюрику Ростиславичу. Мир с Ольговичами. 1204 — Роман Мстиславич насильно постригает в монахи князя Рюрика Ростиславича, его жену и дочь, однако, по требованию Всеволода, отпускает Ростислава Рюриковича с женой (дочерью Всеволода) и братом. По соглашению между Всеволодом и Романом киевским князем становится Ростислав Рюрикович. 30 декабря — смерть дочери Всеволода Елены. 1205, 6 февраля — подтверждение мира с Ольговичами. 1 марта — Всеволод отправляет на княжение в Новгород сына Константина (сел на престол 20 марта). 2 марта — постриги жены Всеволода Марии. 19 марта — смерть Марии. Поход речной рати на волжских болгар. 19 июня — гибель князя Романа Мстиславича в Польше. Князь Рюрик Ростиславич вновь занимает Киев. 1205/06, зима — Всеволод женит своего сына Ярослава на внучке половецкого хана Кончака. 1206 — соглашение с венгерским королём Андреем II, по которому сын Всеволода Ярослав должен занять княжеский стол в Галиче. Ярослава, однако, опережает князь Владимир Игоревич, который и становится галицким князем. Князь Всеволод Святославич Чёрмный занимает Киев, изгнав из него Рюрика Ростиславича. 22 сентября — изгнанный из Переяславля Ярослав Всеволодович возвращается к отцу во Владимир. Рюрик Ростиславич возвращает себе (на время) киевский стол. 1207, 28 февраля — встреча во Владимире с сыном Константином. Всеволод Чёрмный изгоняет Рюрика из Киева и вновь занимает киевский стол. Поход воеводы Степана Здиловича на Серенек. 19 августа — Всеволод выступает из Владимира к Москве, на соединение с сыном Константином для похода на Чернигов. 22 сентября — арест рязанских князей, высылка их во Владимир. На следующий день, 23 сентября, Всеволод во главе войска выступает к Пронску. 29 сентября — начало осады Пронска. 18 октября — капитуляция Пронска. 21 ноября — возвращение Всеволода из Рязанского похода во Владимир. Рязанцы (по договору со Всеволодом) высылают во Владимир «остаток князей и со княгинями»; Всеволод сажает на княжение в Рязань сына Ярослава. Князь Рюрик Ростиславич занимает Киев. 1208, 10 февраля — сын Всеволода Святослав занимает новгородский престол. Конец осени — начало зимы (?) — рязанцы поднимают мятеж против Ярослава Всеволодовича. Поход Всеволода к Рязани. Всеволод сжигает Рязань и Белгород-Рязанский и приводит во Владимир схваченных им рязанцев, в числе которых — епископ Арсений. 7 декабря — рождение старшего внука Всеволода, княжича Василия (Василька) Константиновича. 1208/09, зима — арест тринадцатилетнего Святослава, Новгород переходит под власть князя Мстислава Мстиславича Удатного. Поход сыновей Всеволода Большое Гнездо на Новгород. Мир с Мстиславом у Твери, возвращение Святослава к отцу. 1209, март — поход рязанских князей Изяслава Владимировича и Кир-Михаила Всеволодовича к Москве. Всеволод посылает против них сына Юрия. 26 марта — победа Юрия на реке Дрезне (Дрозьдне). 1209 или 1210 — второй брак Всеволода — с дочерью витебского князя Василька Софией (?). 1210 — поход воеводы Кузьмы Ратшича на Тепру (Пру). 18 июня — рождение второго внука Всеволода, княжича Всеволода (Иоанна) Константиновича. Декабрь — посольство митрополита Матфея во Владимир. Мир с князем Всеволодом Святославичем Чёрмным. 25 декабря — Всеволод отпускает домой двух рязанских княгинь. 1210/11 — Всеволод Чёрмный занимает Киев. 1211, 10 апреля — свадьба во Владимире князя Юрия Всеволодовича и Агафьи, дочери Всеволода Чёрмного. 15 мая — пожар в Ростове. Константин спешно покидает Владимир и уезжает в Ростов. Всеволод даёт «по своём животе» Владимир старшему сыну Константину, с тем чтобы Ростов перешёл следующему по старшинству Юрию. Константин отказывается приехать к отцу, желая получить Владимир «к Ростову». Всеволод созывает во Владимир бояр, представителей духовенства, купцов, дворян и «всех людей» и завещает после себя Владимир и «всю братию» сыну Юрию. Отказ Константина признать отцовское завещание. 1212, 15 апреля — смерть князя Всеволода Юрьевича. 16 апреля — погребение во владимирском Успенском соборе.СПИСОК КАРТ, ПОМЕЩЁННЫХ В КНИГЕ
Карта 1. Общая схема русских княжеств XII века (по И. А. Голубцову) — с. 15. Карта 2. Черниговско-Северская земля, включая земли вятичей (по А. К. Зайцеву) — с. 57. Карта 3. Владимиро-Суздальское княжество во второй половине XII — начале XIII века (по А. Н. Насонову) — с. 85. Карта 4. План города Владимира (по Н. Н. Воронину) — с. 179. Карта 5. Южная Русь. Киевская, Черниговская и Переяславская земли в XII веке (по А. Н. Насонову; прорисовка В. Н. Темушева) — с. 208. Карта 6. Муромская и Рязанская земли во второй половине XII — начале XIII века (по А. Н. Насонову) — с. 297. Карта 7. Города и поселения Рязанской земли, упоминаемые в летописях (по А. Г. Кузьмину) — с. 299.Карты 1–3 воспроизведены по изданию: Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества XII–XIII вв. М., 1982; карта 5 — по изданию: Зайцев А. К. Черниговское княжество X–XIII вв. Избранные труды. М., 2009; карта 6 — по изданию: Насонов А. Н. «Русская земля» и образование территории Древнерусского государства. М., 1951; карта 7 — по изданию: Кузьмин А. Г. Рязанское летописание. Сведения летописей о Рязани и Муроме до середины XVI в. М., 1965.

Последние комментарии
14 часов 47 минут назад
1 день 6 часов назад
1 день 15 часов назад
1 день 15 часов назад
3 дней 22 часов назад
4 дней 2 часов назад