Семь недель до рассвета [Светозар Александрович Барченко] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Семь недель до рассвета
РАССКАЗЫ
ДЕЛА ДОМАШНИЕ
К девяти ожидали Генку-резака, и потому Клавдия с самого утра была уже в хлопотах: освободила от пустых банок и прочего накопившегося за лето стеклянного хлама место на холодной веранде, куда не пускали дачников даже в разгар сезона, достала из нижнего ящика шифоньера чистые тряпки, согрела бачок воды, добела выскоблила и ошпарила кипятком широкий лист многослойной фанеры, чтобы потом положить на него мясо, вымыла с содой кастрюли и алюминиевый таз — под кишки. Подхватилась она затемно, как поднималась всякий раз в будни, чтобы успеть накормить кабанчиков, приготовить завтрак, проводить дочку в институт, а мужа — на работу. И хотя добираться им было не бог весть в какую даль: минут пять на автобусе до вокзала, а там полчаса в электричке — и вот он тебе, город, Клавдия всегда нервничала, суетилась и страдальчески охала, будто провожала их на край света. «Да не мелькай ты, пожалуйста, перед глазами! Успокойся, сядь, — просила ее дочь Наташа, стоя перед зеркалом и раздраженно заправляя под меховую шапочку светлые волосы. — Ну, чего ты охаешь, в самом-то деле?.. Времени у нас еще целый вагон! Мы не опоздаем, посиди ты хоть минутку спокойно…» А Григорий молча допивал чай, закуривая, вставал из-за стола, надевал порыжевшее длиннополое пальто, нахлобучивал синюю шляпу с обвислыми полями и коротко бросал дочери: «Кончай базарить. Пора!» От дома к остановке они шли вместе и в автобусе, если бывали свободные места, устраивались рядом, даже разговаривали о чем-нибудь изредка, но на платформе дочь непременно слегка приотставала либо торопилась пройти вперед, и в электричке они уже садились на разные скамейки. Так и ехали до города, не глядя друг на друга, как чужие. Григорий, конечно, догадывался, что дочь стесняется старомодного вида его, поношенной одежды, однако не обижался — привык. И только если по пути подсаживались к Наташе молодые волосатые парни, начинали заигрывать с ней или, как она сама потом со смехом поясняла: «кадрить», — Григорий хмуро посматривал в ее сторону, и сердце у него словно бы набухало. Он даже невольно напрягался весь, руки его тяжелели, как в ту далекую военную пору, когда ходил он впередсмотрящим на «морском охотнике» к стылым норвежским фиордам, где в любое мгновение мог возникнуть из сумрачной глубины пенный бурун от перископа немецкой субмарины… Бывало, Григорий едва сдерживал себя, чтобы не подступить к дочери, не одернуть ее, когда какой-нибудь не в меру говорливый парнишка уже и за руку трогал его Наташу, и вроде бы ненароком теснил ее ногу своим коленом, и близко наклонялся к плечу; но все же Григорий справлялся с собой, припоминая, как в молодости и сам не упускал случая «пришвартоваться» к вот такой же смешливой попутчице, как свою Клавдию обхаживал, — и сердце его помаленьку отпускало. Он с нарочитым безразличием отворачивался, глядел мимо людей, стараясь заглушить в себе неясную обиду на дочь, ревнивую неприязнь к веселым этим парням, хотя горечь на душе у него оставалась… В городе толпа выносила их из вагона. И какое-то время еще Григорий видел на перроне уходящую от него дочь — голенастую, в сапогах, в подвернутых чуть ли не до колен тесных брюках, в короткой, отороченной белым мехом курточке, — она на ходу беспечно помахивала модной холщовой сумкой, смеялась шуткам парней, не обращая внимания на хмурые отцовские взгляды. А парни так и вовсе не замечали его — старика. Хотя сам Григорий себя стариком не считал — пускай и за пятьдесят перевалило — и силенок у него еще было не занимать: любому из этих волосатых пижонов он мог бы свободно «вмазать», да так, что тому, пожалуй, без привычки и на ногах бы не удержаться… Иной раз ему очень хотелось догнать развеселую их компанию и первому попавшему под руку пижону — «вмазать» очень хотелось… Но парни и дочь исчезали в метро; Григорий расслаблялся, разминал в пальцах сигарету, закуривал и поворачивал к остановке троллейбуса, который и подвозил его к проходной механических мастерских НИИ, где работал он фрезеровщиком по пятому разряду… Домой они с дочерью возвращались порознь. Григорий садился к окну, за которым знакомо разворачивались кварталы новостроек, потом их сменяли свалки, бесхозные пустыри, исполосованные гусеницами бульдозеров, взрытые колесами самосвалов, а затем уже появлялись вдоль насыпи убранные огороды, темные, по-осеннему отсыревшие сады, оградки, кусты… Но с каждым годом все меньше и меньше становилось глинистых пустырей, бесхозного, незастроенного пространства. Город разрастался, теснил пустыри, подступал к поселку, и теперь все чаще поговаривали о том, что вскоре поселок включат в городскую черту, а частные дома станут сносить. Впрочем, поговаривали об этом давно, лет уже десять наверное, однако пока домов никто не трогал, а летом по-прежнему приезжали в поселок жаждущие тишины и свежего воздуха горожане, снимали комнаты, наполняя их дачным нехитрым скарбом, громкими голосами и колготней. Вечерами едва ли не через каждое второе подворье притыкались к воротам, пофыркивая голубоватым дымком на примятую колесами, в маслянистых пятнах, траву, разномастные «Запорожцы», «Москвичи», «Лады», а наезжая ребятня шебутилась под окнами и гоняла на велосипедах по улицам почти до рассвета. Лето Григорий не любил. Слишком уж людно и шумно становилось летом в поселке. А вот раннюю весну, осень и зиму любил. В межсезонье чувствовал он себя так, будто и сам на дачу переехал, душой отдыхал.И сегодня тихо было в доме, и на улице тихо. С низкого серого неба неспешно сеялась слепая морось, беззвучно опускалась на оцинкованные крыши, которые потно лоснились от влаги, стекала по оголенным, воздетым к нетающим облакам яблоневым сучьям, по сизым, некрашеным штакетинам палисадника, по узловатым вишневым стволам. Тяжелые капли срывались с проводов, звонко чмокали оземь, наполняли до краев зазубренные чашечки поникших и вялых, но все еще зеленых листьев клубники, что неустанно тянула свои побуревшие, жесткие усы по оплывшим бокам проседающих грядок, словно напряженно выискивала, за что бы ей понадежнее зацепиться на этой осклизлой и продрогшей осенней земле. Сад уже сплошь облетел, проглядывался насквозь. И там, за клубничными грядками, где забор сходился углом, в утепленном сарайчике беспокойно ворочались, вздыхали и нетерпеливо похрюкивали оба кабанчика: Васька и Кузя. Голодные, они совались мордами в пустое корытце, скребли его влажными пятачками и недоумевали, должно быть: почему хозяева сегодня позабыли о лих, не несут им еду? Давно пора было бы их покормить, конечно, однако Клавдия, пропустив уже все сроки, сидела в кухне, набросив на плечи теплый платок, зябко прижав его руками к груди, посматривала в окно, за которым красногрудыми снегирями висели кое-где на ветках неопавшие яблоки, и думала, что Кузю она покормит после, потом… А уж Ваську, так того и кормить нынче нечего. Зачем же его, кормить-то? Откормился он, отожрал свой век, и ничего ему больше не светит, потому что все о нем было загодя обговорено и решено: к Октябрьским, не позднее… Вот проснется сейчас Григорий, подкатит на мотоцикле из Мошенского совхоза Генка-резак, подойдут Капустины, соседи, с которыми надо будет поделить мясо… Клавдия, может, и отсоветовала бы мужу, когда наладился он брать по знакомству в том совхозе кабанчиков, которых, правду сказать, предлагали считай за бесценок — по трояку за кило живого веса! — да встряла Мария Капустина, повариха лесной школы-интерната, где круглый год жили хворые дети, посулила выносить каждый вечер помои, и Клавдия соблазнилась: как-никак, а подспорье заметное, одного хлеба-то на них не напасешься. Забежит Клавдия со швейной фабрики после смены в школу, к черному ходу, где кухня, глянет в ведерки, а в них — до самых краев каша на молоке, крутая, белая. Ведь ребятишки-то нынешние — по своей знает — больно уж привередливыми растут: того не хочу, этого не желаю… А в войну бы такие помои, кашу такую бы — да на стол… Вот за эти-то ведерки, как договаривались тогда, причиталась теперь Капустиным половина кабана. Хорошо еще, что Мария в первый же день сама облюбовала Ваську, ухо ему надрезала, а то чего доброго и до скандала могло бы сегодня дойти. Хотя и кормили кабанчиков из одного корытца, а Васька оказался поплоше Кузи, покороче вершка на два, но в этом виноватить некого — судьба. Клавдия втихомолку порадовалась про себя, что недобрал меченный Марией боровок двух пудов. Ведь не ходила за ним Мария ни единого денечка, пальцем о палец не ударила, а ведерко-другое помоев за двери выставить — велик ли труд! Так за что же ей теперь цельную-то половину отхватывать? За какие такие заслуги особые? Не вытерпела как-то Клавдия, заикнулась об этом Григорию, можно сказать, даже прямо намекнула: не дам мяса, хватит с нее головы да ножек на холодец! За глаза хватит. Но Григорий уперся — и ни в какую: дескать, как сама сговаривалась с Марией, так тому и быть, а меня в ваши бабские склоки не впутывай. Может, и ему не особо сладко было вот так, ни за что ни про что отрывать от сердца свое, чужим людям выкидывать. Но, зная мужнин характер, Клавдия не стала перечить, смирилась, как смирялась всегда со всеми напастями и бедами, которых хлебнула в замужестве под самую завязку. Раньше пил Григорий помногу, когда в артели работал, где металлическую игрушку делали. А на питье-то, понятно, денежки нужны. Снюхался он с тамошними шаромыгами, которые кровельным железом промышляли, а их всех и замели. Дали ему три года. Два он отбухал на Севере и попал под амнистию… Да что ему те два года! Кормили там его, одевали, на делянку, в лес, — рассказывал — тракторами возили… А каково-то ей тут одной с маленькой Наташкой на руках было вертеться? Каково было дом отстаивать, чтобы не отобрали по суду? Нет, не Григория тогда наказали, а ее… Люди-то кругом какие завидущие! Раз посадили мужика, значит, дом у вас краденый. А того не помнят, хотя сами все видели, как мордовались они с тем домом, сколько в него трудов положили, сколько сил да копеечек… Слава богу, судья знающий попался, внял ее горю, все проверил, кого надо допросил — и дом не тронули… А разве потом кто ей спасибо за это сказал? Кто?.. Видать, так уж на роду ей написано: всю жизнь на кого-то горбатить — то на мужа, то на дочку, то на соседей… Это же только подумать: всю-то свою жизнь горбатить без роздыху, всю-то жизнь — до остатней минуточки!.. Клавдия уже не замечала ни сизого палисадника, ни оголенных веток над ним, ни сморщенных краснобоких яблок, ни серого низкого неба, рассеченного наискосок двумя нитками проводов, которые протянул Григорий в сарайчик, чтобы зажигать там свет, не выходя из кухни. Все как-то мутно расплывалось перед нею. Колыхались под веками непроливающиеся слезы, и, когда она изредка смаргивала их, ресницы ее слипались, а ограниченное оконной рамой пространство как бы заволакивалось радужной пленкой, сквозь которую ничего невозможно было разглядеть на улице, — щипало глаза. И уже не жалко ей было отдавать Капустиным мясо — черт с ними, пускай подавятся! — и трудов своих она больше не жалела; Клавдии было жалко себя. И она думала, что некому здесь за нее вступиться, одна она на свете, сирота, и что жизнью ее, быть может, тоже распорядился кто-то сторонний и равнодушный, все вешки в ней порасставил, пути обозначил и сроки определил, как некогда они с Марией определили горемычную судьбу кабанчика Васьки, которому и осталось-то терпеть всего ничего… Но когда Клавдия мысленно опять вернулась к предстоящим сегодня заботам, когда глянула в нетерпеливом испуге на стенные часы, желтый маятник которых бесшумно отмахивал уходящие от нее безвозвратно секунды, когда до нее дошло наконец, что скоро уже половина девятого, что Григорий спит, а Генка не торопится, — руки ее бессильно опустились. «Ну, а как он и вовсе не приедет, распрекрасный этот Генка-резак? — засомневалась она всерьез. — Если он вчера пьяным напился или еще чего? Неужто придется Никанора с поселка просить? Так ведь когда в прошлом году его Броушкины позвали свинку забить, он у них всю кровь на землю выпустил… К кому же теперь кинуться-то, а?» Клавдия поднялась в растерянности, прислушалась, не затарахтит ли где-нибудь в проулке мотоцикл, но ничего не услышала. И, уже не беспокоясь о том, что может потревожить шумом Григория («Глянь-кось, барин какой, разоспался!» — подумала она), нарочито громко протопала в сени, с силой рванула и прихлопнула за собой дверь.
А Григорий и без того уже не спал, хотя и лежал еще на кровати, повернувшись к стене. Он слышал, как вставала жена, как зажигала газ, сновала по кухне, проходила через комнату на веранду, — откуда сразу приятно повеяло на него свежим холодом, — брякала там стеклом, потом затихла надолго, и как грохнула в сердцах дверью — тоже слышал, однако не вставал: лень было. Когда же еще и отлежаться-то вволю, если не в праздники? Ко всему прочему, нынешние праздники счастливо выпадали на понедельник и вторник, и никто их «по желанию трудящихся» никуда не перенес; была сегодня суббота — впереди, значит, почти четыре дня, лежи себе да полеживай. Не возникало у него никаких сомнений и о сегодняшнем дне. Все, что надо, он приготовил заранее: и паяльные лампы заправил, и с собой в канистру бензину прихватил, чтобы, если не хватит щетину опалить, никуда за ним не бегать, и топор наточил, и перекладину из железной трубы, вроде турника, у сарайчика приспособил — тушу подвешивать. А об остальном пускай у Клавдии голова болит — это ее забота. И, с блаженной праздничной ленцой перебирая в памяти каждодневные свои домашние дела, что и сегодня ждали его и были ему, пожалуй, даже необходимы, как еда, сон, курево, для которых не существовало ни праздников, ни выходных, — Григорий как бы исключал из привычного их круга предстоящую им нынче с Генкой работу п о с л у ч а ю и думал о ней словно бы мимоходом, вскользь. Но все-таки не было в его блаженстве полного внутреннего успокоения и душевной умиротворенности, томило его что-то, смутное какое-то напоминание, которое загадал он себе с вечера, да вот какая оказия получилась — забыл. Силясь теперь припомнить, Григорий повернулся к стоявшему у изголовья стулу, нашарил пачку сигарет, приподнялся на локоть, вытряхнул одну и закурил. Лежать ему сделалось невмоготу. Он сел на кровати, натянул старые штаны, сунул ноги в отволглые за ночь тапочки и вдруг вспомнил загаданное — накануне он не вывесил на доме праздничный флаг. Беды в этом, конечно, никакой не было. И по нынешним временам никто бы его за это не укорил, но Григорию самому нравилось вывешивать праздничные флаги, — он и соседям, случалось, напоминал, когда они мешкали, — потому что любое торжество связывалось в его сознании почему-то с праздником Победы. Григорий обычно так и говорил гостям либо жене, усаживаясь за накрытый праздничный стол: «Давайте-ка первым делом за победу выпьем!.. За победу давайте…» А если кто-нибудь поправлял его, говоря, какая же, мол, сегодня победа? — победа будет в мае, — он отвечал, что без победы и за этим столом не сидели бы, и на столе ничего не было бы, и тогда все с ним соглашались. Флаг Григорий хранил бережно, когда требовалось, обновлял, и неловко ему бывало глядеть на те дома, где вместо флага полоскалась на ветру какая-нибудь обтерханная выцветшая тряпица. Ему казалось, что хозяева таких домов — недобрые и скрытные люди… Он заметил, как промелькнул за окном Клавдии платок, услышал, как ошкрябывала она у крыльца грязь с резиновых сапог, как простучала ими по ступенькам, — и вышел в кухню. А когда Клавдия появилась в дверях, с напускной строгостью спросил у нее: — Так чего же это ты, мать, плохо службу несешь? Про флаг-то мне не напоминаешь, а? Клавдия в недоумении посмотрела на Григория. Он стоял посреди кухни, чуть сутулясь, в просторно опавшей на костлявой груди и под мышками застиранной майке; морщинистая шея его и косой клинышек между ключицами от вечно расстегнутого ворота рубашки были слегка буроватыми, как от загара; плечи бледны и худы, а голые руки — тоже белые до локтей, жилистые и широкие в кистях — длинно свисали вдоль тела. И Клавдия, невольно отметив, что постарел ее муженек, — ох и постарел! — работой себя изнурил и по дому, и в мастерских, и проникаясь вдруг вспыхнувшей жалостью к нему, и подавляя в себе эту размягчающую сердце жалость, сердито оглядела небритое, заспанное лицо Григория и с простудной грубоватостью в голосе сказала: — Сначала умойся ступай, служба… Да и побрейся-то хоть сегодня. Сейчас Капустины придут. Какой тебе еще флаг? Совсем ты спятил, что ли?.. Ты ответь-ка мне лучше, куда твой Генка запропастился? Куда?! — и последние эти слова, распаляясь, она уже криком выговаривала, со злостью и надрывом, как бывало давно, когда он у нее с похмелья на бутылку выпрашивал. — Праздник же нынче, мать, — с безразличием вспомнив о том, давнем, уступчиво проговорил Григорий. — Надо флаг повесить. А Генка-то чего?.. Он и приедет, как мы с ним говорили… Ты бы не суетилась, мать. Куда спешить-то? Ведь праздник… — Я белого света не вижу, а у тебя кругом праздники! — Клавдия сознавала в душе, что напрасно шпыняет мужа, но совладать с собой не могла: — Заладил одно: флаг да флаг! Когда они еще, праздники-то твои? В понедельник! Иди, полезай, вешай скорее… Да и себе тама местечко пригляди!.. Она откинула на плечи отсыревший платок, и надо лбом у нее, в неприкрытых волосах, которые она подкрашивала хной, чтобы не так приметна была седина, заблестели бисерные капли. С холода пухлые щеки Клавдии сделались какими-то синюшными и вроде бы даже рыхловатыми, а на скулах, поближе к ушам, ознобно встопорщился белесый пушок. — Экая ты занозистая сегодня, мать, — с примирительной усмешкой сказал Григорий. — Тебе бы самой побриться не мешало. Ишь ты, какая вся ощетиненная! Ему и вовсе стало смешно, когда он представил себе, как сейчас она начнет бриться: щеки свои рыхлые помазком намыливать, подпирать их языком изнутри, старательно скоблить безопаской и горькую мыльную пену с губ отплевывать. Посмеиваясь и хмыкая, он подошел к раковине в углу кухни, открыл кран, поплескал в лицо холодной водой. Григорий и сам собирался побриться с утра, но теперь, как бы в отместку жене, решил погодить до вечера. Растирая сухим полотенцем плечи, шею, жестко похрустывающий подбородок, он опять почему-то припомнил прежние свои перепалки с женой и подумал, что вот так же вскидывалась она и шумела, если возвращался он после работы в игрушечной той артели пьяным, — а тогда Григорий приходил домой пьяным часто, считай каждый день; бывало, что и дружки его приволакивали едва тепленьким, — и наутро, когда просил он у нее денег на опохмелку, Клавдия плакала, не давала, а он, будто и впрямь с ревностью, еще и подначивал ее, заводил: «У тебя небось это самое мужику легче выпросить, чем трояк несчастный? Правильно я говорю — ведь легче, а?..» На что Клавдия с исступленной какой-то злобой и мстительной издевкой кричала ему, размахивая перед ним руками и кривляясь: «А ты как думал?! Конечно, легче! Да только не тебе, шаромыжнику, не тебе!..» Григорий ожидал, что Клавдия и на этот раз вскинется, закричит на него, однако жена молчала. А когда он отнял от лица полотенце и обернулся, то увидел, что она, так и не сняв телогрейку, сидит у стола, навалившись на него грудью и положив голову на руки, а плечи ее подрагивают. Григорий в смущении подступил к ней, виновато провел ладонью по крашеным ее волосам, и Клавдия тогда вдруг повернулась к нему всем телом, обхватила за поясницу, уткнулась мокрым лицом ему в живот и судорожно захлюпала носом, смачивая его майку слезами. — Да полно тебе, мать, полно… Ты чего это? — прижимая к себе голову жены и все поглаживая влажные ее волосы, забормотал Григорий. Он не был готов к тихому плачу Клавдии и поэтому испытывал сейчас какую-то непонятную вину перед ней и непривычную робость. — Ну, ты не обижайся на меня… Это я так, в общем, про бритье-то тебе ляпнул. Ты не обижайся, мать… Пошутил я, значит. Ему было горячо и щекотно от Клавдиных слез и голову прижимать неудобно, но отстраниться от жены он вроде бы не смел, хотя и чувствовал, что долго ему в таком положении не выстоять. Наконец Клавдия перестала плакать, затихла под его рукой, а затем сама откачнулась к столу, взглянула снизу на мужа покрасневшими, в слезах, глазами, прерывисто вздохнула и сказала с протяжным всхлипыванием: — Та-а-ак я ж и не оби-и-ижаюся на тебя, Гришенька… Разве ж я ка-а-аменная? Каждый ведь денечек с утра на части рвусь. Нервов уже никаких не хватает. А тут еще и из-за Генки твоего вся как есть испереживалась… Григорию снова захотелось притронуться к мягким волосам жены, погладить их легонько, за плечи ее обнять, успокоить, но он сразу же как бы застеснялся этого своего желания и заговорил торопливо, с радостной фальшивинкой и бесшабашной этакой бодрецой: — А ты плюнь на все, мать! Плюнь!.. Праздник же нынче… Отдохнула бы себе… Ну, не придет Генка сегодня, и хрен с ним! Завтрава заявится… Экая-то беда! Ты плюнь на все, мать! Давай мы с тобой праздновать начнем. Я вот только побегу флаг повешу… А ты, мать, плюнь!.. — Да уж плюну, отец, плюну, — с благодарностью и смущением сказала Клавдия. Она вынула из кармана телогрейки потемневшую на сгибах белую тряпочку, вытряхнула из нее крошки, осторожно промокнула глаза и, подумав, высморкалась. — Флаг-то твой за шкафом… Там он, в чехольчике… Ты вешай его покудова, а потом мы с тобой хотя перехватим чего-нибудь. А то как же не евши с утра?.. — Во-во, мать, давай перехватим… Только ты чаю покрепче завари. Я быстро, — обрадованно сказал Григорий, направляясь в комнату. Клавдия снова вздохнула, медленно поднялась, сняла телогрейку и, свернув, положила ее на стул. — Голяком-то по двору не скачи. Не молоденький, оденься. Не дай бог еще застудишься, — совсем уже прояснение улыбаясь, сказала она в открытую дверь. И Григорий, уловив в голосе жены не озлобление уже, не слезы и жалобу, а тревожную заботливость о нем и доброту, тоже благодарно и по-доброму откликнулся ей из комнаты: — Оденусь, мать, оденусь! Ты давай там, заваривай! Я — мигом!.. Надевать рубашку Григорий не стал, а прямо на майку натянул колкий, траченный на груди молью шерстяной свитер, облачился в старый спецовочный пиджак с накладными карманами, просторный и обмякший от частой стирки, как пижама, и, достав из-за шкафа навернутый на древко флаг, вышел на улицу. С заволоченного тучами, по-прежнему непроглядного неба то моросило редким дождичком, а то и вовсе прыскало водяной пыльцой, которая сразу же проникла за широкий воротник свитера, как бы обволакивая тело, поползла в рукава, осела на лице, и он почувствовал себя так, словно вдруг опустили его в невидимую и неосязаемую на ощупь, пропитанную липучей сыростью вату. Стремянка стояла по другую сторону дома; Григорий перенес лестницу, приставил ее к углу, покачал для верности, чтоб не соскользнула, и полез по ступенькам. Загодя выструганное древко флага оказалось тонковатым, оно свободно болталось в косо прилаженной под застрехой трубке, и ему снова пришлось спускаться, чтобы затесать колышек и заклинить древко. Укрепив его как следует, Григорий расправил полотнище, которое широко свесилось, заслонило от него подворье. Он поднялся еще на несколько ступенек и уже оттуда, с невеликой своей высоты, как с корабельного мостика, окинул взглядом палисадник, улицу, ближние дома и корявые, со сбитыми в войну верхушками разлапистые липы, что росли напротив дома, подле общежития торгового техникума. На общежитии и кое-где на домах тоже виднелись неподвижно повисшие флаги, которые представлялись ему издали темными, как из бархата. И может быть, от этого пустынная осенняя улица не приобрела праздничной яркости, а выглядела по-будничному тускло и серо. Под заборами и по краям придорожных канав черными водорослями путалась свалявшаяся, прибитая заморозками крапива, над которой там и сям одиноко торчали обломанные будылья. На огородах и тропках блеклыми жестяными заплатками лежали мелкие лужицы, отражая в бесцветности своей такое же бесцветное небо. Казалось, что поселок обезлюдел или не пробудился еще ото сна. И лишь оттуда, где проходило городское шоссе и была остановка автобуса, время от времени доносился глухой, подвывающий моторный гул и шуршащее лопотанье автомобильных шин по мокрому асфальту. И сколько ни вглядывался Григорий вдоль затянутой моросью улицы, надеясь приметить на ней Генку, ни единой живой души не увидел. Да и то сказать, кому захочется по такой погоде из дому выходить? Он не заметил, как по ту сторону изгороди, в соседнем дворе, появилась жившая у Капустиных круглый год старуха пенсионерка Лидия Николаевна. То ли двоюродной теткой она приходилась Марии, то ли мужу ее какой-то дальней родственницей, а может, и вообще была чужой, — кто ж там их разберет? — но бездетные Капустины держали старуху, потому что она у них хозяйство вела и цветы в город возила. — С праздничком тебя, Григорий Петрович! С наступающим, значит, — окликнула его старуха. — А не пособишь ли ты и мне вывесить-то?.. Хозяин наш вчерась уж больно тяжелый приволокся… Едва угомонили к утру… Отлеживается еще… Давай-ка уж заодно и нас причепури, а, Григорий Петрович?.. Старуха с выжидающей улыбкой стояла у изгороди, подхватив свой намотанный на древко беловато-розовый от ветхости флаг наперевес, как пику. Нездоровое, оплывшее лицо ее собралось морщинами, глаза совсем утонули в припухлых веках; и вся она, перевязанная по животу свернутым платком, казалась какой-то водянистой, оплывшей и как бы состоящей сплошь из округлых выпуклостей, мягких бугров, наполненных студенистой колышущейся жижей. Григорий спустился с лестницы, поздоровался со старухой, прошагал через подворье Капустиных, мимо просторной теплицы, где они цветы свои на продажу выращивали, — хорошую они себе теплицу поставили, новой пленкой обтянули, внутри небольшой котел приспособили и отопление от него провели: хоть и самому в ней зиму зимуй, — принял флаг из вспухших, перетянутых по запястьям младенческой складкой, дряблых старушечьих рук, развернул его и, взобравшись на перильце, воткнул над крыльцом. — Спасибо тебе, Григорий Петрович! Вот уж спасибо-то, дай тебе бог здоровьичка, — запричитала скороговоркой старуха, с таким умилением в голосе, словно он ей невесть какую работу справил. — Добрый ты человек, Григорий Петрович… Я дак и нашему-то все талдычу: ты на свово соседа-то, говорю, погляди, разве ж он когда в таком виде домой заявляется? — И вроде бы между прочим, будто к слову ей пришлось, спросила: — А вы там дак и не приступали еще, поди-ко? Из совхоза-то этот — как его, Генка, что ли? — не приезжал? — Нету пока, — сказал Григорий. — Ждем. — Дак, может, зайдешь на минуточку-то, а? Лежит наш хозяин, ох, пластом лежит… Мается… А Мария все зудит над ним да зудит. И сердитая — не приведи бог!.. Старуха как бы и приглашала Григория, и тут же отговаривала. А он, понимая хитрость ее и желая поскорее отвязаться, сказал без всякой сердечности: — Некогда мне, Лидия Николаевна, захаживать. Делов-то вона еще сколько… Я уж в другой раз как-нибудь… Григорий пошел с крыльца, а старуха тотчас же укрылась в сенях и — слышал он — крючок на дверь накинула, словно боялась, как бы не передумал сосед, не принял бы ее приглашения. Однако он и вообще редко бывал у Капустиных, хотя, казалось бы, к кому и ходить-то, если не к соседям? Да вот не ходилось ему туда почему-то… Клавдия, правда, раньше частенько к Марии шастала, но последнее время тоже начала сторониться. Может, из-за кабанчика этого поделенного, из-за мяса?.. «Вот ведь люди-то какие осмотрительные, — не то осуждая Капустиных, не то удивляясь их скрытности, раздумывал Григорий, проходя соседским двором по залитой бетоном дорожке, выложенной по бокам подбеленным кирпичом. — Старуху, вишь, подослали выспрашивать, а чего бы самим не выйти да не узнать, что к чему, коли так уж им не терпится, чего?.. Неужто посчитали, что они с Клавдией могут от них мясо утаить? Чудаки люди… Флаг ей, значит, пособи повесить, будто Мария его не воткнет!.. А где они ему место отвели? Низко, да и козырьком надкрылечным там его прикрывает. С улицы небось не вдруг и углядишь: висит вроде бы что-то на доме, а что там вывесили — не видать… Разве это по-человечески? И все у них этак, вполглаза, все молчком да тишком…» Однажды пришел к ним Капустин вечером, правда, трезвый пришел, но с бутылкой. Клавдия на стол собрала, сели они, выпили, все по-культурному. Тогда как раз они и себе тоже теплицу затеяли, но поменьше капустинской и не для цветов, а чтобы зеленый лук выращивать и помидоры ранние разводить. Клавдия его на это дело подбила. Все уши прожужжала: дескать, погляди-ко, у соседей-то как хорошо! Он и сдался — каркас поставил, пленку раздобыл. И Капустин сперва про теплицу толковал, про землю говорил, мол, кислая она, земля-то здешняя, хлопот с нею много, а потом предложил трубы по блату достать. Но у них уже и трубы, и котел — все было. «А возить свой лук на чем ты будешь? — спросил у него Капустин. — Где колеса возьмешь? На электричке долго не навозишься. Вона старуха наша совсем обезножела по автобусам да по электричкам скакать. Тут свои надо колеса иметь. Свои, понял?» «Ну, и купи их себе, — сказал он Капустину. — Или, может, у тебя денег нету?» «Деньги-то найдутся… Да какие там деньги! Я ведь на «Волгу» не зарюсь, нет… На кой она мне, «Волга»? Что ж, я тебе академик какой-нибудь или, скажем, физик? Мне бы чего-нибудь попроще. «Жигуленок» новенький, допустим, либо «Москвичок»… Подержанное какое барахло покупать, сам посуди, не резон — намаешься с ним после… Не помог бы ты мне, Григорий, по-соседски, а?» «Чем же я тебе помогу?» — спросил он. «Ты сначала себе очередь сделай, понял? — Капустин как-то украдкой тогда глянул на Клавдию, выпил и на руки похукал, и потер их, будто они у него озябли. — Я тебе сейчас все прямо скажу: у вас там в НИИ ученые небось, кандидаты всякие на очередь встают? Встают, конечно… Вот ты промежду ними и запишись. Тебе-то, как рабочему классу, они не откажут, права не имеют. Ну, а я потом у тебя эти колесики по-божески, значит, и сторгую. Понял? В поселке у нас не запишешься, сам знаешь. Да и неудобно мне, прямо тебе скажу, тут записываться. Понял?.. Приду, а там спросят, к примеру: кем же ты, Капустин, у нас работаешь? Кладовщиком, скажу, на овощной базе… Так-так, Капустин, правильно. Это очень даже хорошо, скажут, все ясно. А позволь-ка нам узнать, спросят, какая у тебя, Капустин, зарплата и плюс премия?.. Понял?» «Да никто у тебя ничего спрашивать не станет, — насмешливо сказал он, подивившись, однако, тому, как живо изобразил Капустин воображаемый этот разговор, словно у него и вправду уже не один раз допытывались, где он взял деньги на машину. — Тебе бы, сосед, в самодеятельность записаться бы, в клуб… Про деньги давно никто не спрашивает…» «А если спросят?..» «Спросят, так скажи. Чего тебе темнить-то? Про цветы скажи, мол, не воруешь…» «Так разве ж кто поверит?.. Хотя, в общем-то, я это тебе все так, к примеру, говорю… Понял?..» В тот вечер, поддавшись на уговоры Капустина, Григорий пообещал ему справиться об очереди. Однако и сомневался — для чего таиться человеку, когда у него честным трудом заработанное, пускай даже и на цветах. Чего же в этом противозаконного? Но, знать, неспроста все же химичит сосед, опасается чего-то. Вот и старуху зачем-то пристегнул, будто она всем цветочным хозяйством у них от безделья занимается, а сами они только при ней — сбоку припека… Это уж такая манера у Капустина: ему машина нужна, а ты за него, видишь ли, в очередь записывайся… А почему бы Капустину самому не пошустрить? Или, может, приучили его собственных своих трудов опасаться? Вот и живет всю жизнь с оглядкой, как бы не подумали про него люди чего плохого, спекулянтом не назвали бы… Да ведь, рассудить, — кто ж его приучал? Сам, поди, и приучился… В очередь для него становиться — это, конечно, не то, что артельным железом промышлять, но и тут прежде подумать следует… И наутро, поразмыслив и посоветовавшись с Клавдией, Григорий решил не связываться с оборотистым соседом. Мало ли как потом все это дело проявится — не расхлебаешь! Там, в северных краях, на лесоповале, он нагляделся когда-то на самый продувной, тертый и ушлый народец, вместе с которым за казенную пайку хлысты ворочал. И что самое интересное было — ни один из них виноватым самого себя не считал: этого завистники оговорили, того дружки попутали, а того бабы подвели… Послушаешь любого, так уж таким он беззаветным трудягой был на воле, что не срок ему лепи, а орден на грудь. Мудрецы там попадались, конечно, дай бог! Капустин им не чета, в подметки им Капустин не годился… Хотя, между прочим, среди тех мудрецов и бывшие кладовщики тоже, кажись, встречались. Ну, как же, как же… Это он точно помнит — встречались ему там бывшие кладовщики… И, вспомнив обо всем этом, Григорий подумал с улыбкой, что вот и с кабанчиком нынче у них вроде бы той истории с машиной получается. Они с Клавдией купили, держали, выхаживали, а соседи тем временем как бы ни при чем в сторонке стояли. Теперь же, когда на готовенькое, — Капустины тут как тут. И Григорий сознавал, что не от жадности он сейчас так о соседях своих раздумывает, нет, — уж в чем, в чем, а в жадности его еще никто не упрекал! — а потому, что никак не может их понять до конца: что они за люди такие? Живут-то уж больно осмотрительно. Ну, это как по телевизору про сусликов, а может, и про хомяков показывали: сидит себе этакая зверушка забавная на бугорке, головой крутит, посвистывает, а потом резво так отбежит малость, ухватит чего-нибудь и скорее в нору свою волокет… Он вышел за калитку, постоял у забора, покурил на улице, где покуда ничуть не прояснилось, однако не дождило уже, но словно бы ветерком потягивало — гнилостно-сырым, горелым каким-то ветерком, как из выстуженной бани. Затоптав в грязь окурок, Григорий поглядел на обшитый досками соседский дом, который был недавно крашен светло-коричневым суриком и, быть может, от этого приобрел по-станционному нежилой, а будто бы даже закупоренный вид. Безлистые сучья разросшихся яблонь уже не скрывали его фасад, как летом, а лишь перечеркивали задернутые занавесками окна и отливающие рыжиной стены. А флага, как и предполагал Григорий, заметно не было: терялся он в частом мельтешении переплетенных красноватых ветвей. «А жилье-то у них и вправду на нору смахивает, — усмехаясь, опять подумал Григорий. — И в цвет какой-то хомячиный покрасили… Другой краски у них не нашлось, что ли?..» Он и в дом свой вошел, продолжая улыбаться, чувствуя эту улыбку на своем лице и ощущая во всем теле, в руках бодрящую легкость и силу. В сенях Григорий снял старые, криво стоптанные туфли, повесил на гвоздь спецовочный пиджак и в теплых, домашней вязки носках вступил в кухню. Клавдия уже накрыла стол, нарезала хлеба, поставила масло, а как только он появился в дверях, сняла с плиты скворчавшую сковородку с жареной картошкой и колбасой. Магазинную эту колбасу, которая сразу же покрывалась какой-то ядовитой зеленью, едва лишь освобождали ее от хрусткой целлофановой обертки, Григорий просто так есть не мог — с души воротило. А вот жареную ел и еще нахваливал — нравилась ему жареная магазинная колбаса. Он сел за стол, а Клавдия склонилась у буфета, подвигала в нем разноцветные, на высоких ножках, винные рюмки из чешского стекла и извлекла откуда-то из заставленных тарелками и вазочками буфетных недр бутылку водки. — Ну, раз такое дело, давай-ка вдвоем с тобой, отец, праздновать, — сказала она. Григорий покосился на водку. Ему бы и хотелось выпить сейчас, после промозглого уличного холода, но и начинать день с выпивки тоже было как будто не с руки. — А может, мы ее это… потом… А, мать? Может, до вечера погодим? — утвердительно спросил он. — Ведь чего же так-то, с утра?.. Глядишь, Наташка подъедет. Их в тот колхоз-то на сколько послали? Говорила она тебе или нет? — На три дня вроде… Должна бы уже и вернуться. — Значит, тогда отложим это дело, — принимая окончательное решение, сказал Григорий, но Клавдия не спрятала бутылку, а лишь переставила ее со стола на подоконник. — Да и в том колхозе-то, видать, тоже мудрецы обосновались. Интересно, какой же это у них дурак до зимы картошку в поле оставил? — А у них, сказывают, не в поле, — как бы оправдываясь перед, мужем, пояснила Клавдия, — у них в хранилище… Гнить будто бы там она начала, картошка-то… Вот и погнали туда всех студентов, чтобы перебирать ее да сушить. Колхоз-то у них подшефный… — Вот то-то и оно, что для таких мудрецов всегда шефы находятся… Начальство бы тамошнее как следует перебрать да высушить, — с досадой в голосе сказал Григорий, словно Клавдия каким-то образом тоже была повинна в том, что колхозное начальство недоглядело за собранным урожаем. — Сами-то небось сачка давят, а другие за них вкалывают… Ну, да ладно… А чего же ты не садишься-то, мать? — спохватился он. — Пошли они все знаешь куда? Мы с тобой лучше чаю попьем… Клавдия сняла с заварного чайника тряпичную матрешку, принесла в большом эмалированном чайнике кипяток и тоже присела на табуретку к столу. Есть ей не хотелось. Все уже перегорело в ней, улеглось; схлынуло владевшее ею с утра беспокойство; она смирилась с напрасно загубленным днем и в душевной расслабленности своей думала теперь, что завтра ей опять придется заводиться ни свет ни заря… Она плеснула себе в чашку кипятку, слегка подкрасила его заваркой и, обмакнув кусочек колотого сахара, принялась осторожно схлебывать с блюдца, посасывая набухший желтизной и липнущий к пальцам сахар. Григорий не торопясь подобрал вилкой со сковородки картошку, доел колбасу и уже потянулся было за сигаретой, чтобы спокойненько перекурить перед чаем, когда кто-то громко забарабанил в застекленную раму веранды, и оттуда, со двора, донеслось: — Эй, люди! Хозяева! Живы ли? — Да неужто Генка прикатил? — Клавдия обрадованно подхватилась и переставила бутылку с подоконника на стол. — Ты разливай тут покудова, а я сейчас… Генка появился в кухне, даже не отряхнув грязь с кирзовых сапог. Одет он был в засаленный солдатский бушлат и серую кроличью шапку с крохотным, нависающим на лоб пушистым козырьком. Оставляя на чистых половиках мокрые пятна, он шагнул к Григорию, поздоровался с ним за руку и мельком оглядел стол. — Во как я вас застукал! В самый, можно сказать, момент угодил, — сказал он, улыбаясь и кивая, на полные стопки. — Уже празднуете? — Да собрались вот… Ты раздевайся, проходи, — сказал ему Григорий, закуривая. Был Генка плотен, красен лицом, заметно кривоног, а припухшие глаза его мутно и хитровато позыркивали из-под белесых бровей. Вошедшая вслед за ним Клавдия внесла миску квашеной капусты, банку маринованных грибов. — Ты садись, Геночка, выпей, — сказала Клавдия, и в голосе ее прозвучало извечное бабское заискивание перед знающим человеком, мужиком, который, если ласково его принять, может сделать все как положено, а не угодишь ему — то и схалтурить. — А я-то все слушаю, когда твой мотоцикл загудит. Ты чего пешим-то? Или поломался? — Да нет, — сказал Генка, щурясь на бутылку. — А кто меня на нем обратно повезет? Ты, что ли? — Чего ж мне тебя везть? Выдумаешь тоже… — Клавдия недоуменно улыбнулась и пожала плечами. — Сел бы себе да и покатил бы… — Так я же буду пьяным в лоскуты! — с радостным смешком сказал ей Генка. — Сама прикинь: денег я с вас по дружбе не возьму; мясо мне без надобности; значит, вы меня пьяным напоите, верно? Ну вот… А куда ж я пьяным-то поеду? Пьяным только на автобусе ездить… — Так уж мы тебя и напоим… Ты раздевайся, Геночка, садись, — продолжала уговаривать его Клавдия, открывая грибы и выкладывая их на тарелку. — Да вы бы пока по одной, мужики, пропустили… Я вам сейчас лучку зеленого порежу, закусочки положу… — Нет, — твердо сказал Генка. — Я перед работой не пью. Во время работы и после — сколько угодно. А перед работой не пью. Принцип у меня такой. И не проси ты меня больше. Все. Ты готов, хозяин? — как бы подобравшись и построжав лицом, обратился он к Григорию. — Готов, спрашиваю? Ну, тогда пошли…
Клавдия проводила мужиков в сени, постояла в дверях, пока Григорий обувался и надевал пиджак. А когда он на ходу нагнулся к сумрачному углу и поднял блеснувший синеватым лезвием топор, ловко обхватив изогнутое по-щучьему топорище цепкими пальцами; когда Генка прошагал мимо нее на крыльцо, и она увидела торчащую над низко отвернутым голенищем его сапога деревянную рукоятку с тремя белыми алюминиевыми заклепками, — ноги ее ослабли, а сердце глухо стукнуло и вроде бы опустилось куда-то, оставив в груди ничем не заполненную, тягучую пустоту. «Да как же он с ножом-то?.. В автобусе… — испуганно подумала Клавдия. — Ведь выпивший-то человек! Мало ли чего по дороге… Вдруг да кто приставать начал бы?.. Ведь его же запросто могли бы и в милицию забрать!..» Она не стала притворять за мужиками сенную дверь, а повернулась и медленно пошла в дом. В кухне было душно, накурено, и Клавдия решила пока хоть немного выветрить табачный запах. Дотянувшись через стол до форточки, она легонько толкнула скрипнувшую створку, и с улицы тотчас дохнуло на нее влажным холодом, который потек по оголенной руке, опахнул лицо и расплылся понизу. Откуда-то из глубины сада вынырнула белощекая синица, уцепилась коготками за тонкую отпотевшую ветку, юрко допрыгала по ней до самой вершинки и закачалась перед глазами Клавдии, подрагивая хвостом, склевывая что-то и «поцвинькивая», с любопытством вертя головой. Клавдия слышала, как проходили двором к сарайчику Генка и Григорий, как переговаривались между собой, однако, о чем они говорили, было не разобрать. До нее долетали только бубнящие голоса мужиков, как бы гаснущие в окружающей их туманной сырости. И лишь звонкое синичье «цвиньканье» беспечно звучало в этом мягком тумане, хотя, быть может, прибившаяся на зиму поближе к человеческому жилью безответная птаха вовсе не от безделья и радости неустанно вызванивала свое птичье «цвинь-цвинь», а на пасмурную погодусетовала, на жизнь свою бесприютную жаловалась или корму у людей просила — разве ж догадаешься, о чем она там звенит? Отсюда, из кухонного окна, не разглядеть было сарайчика. Но по доносившимся с той стороны звукам Клавдия хорошо представляла себе, что там происходит. Она словно бы видела, как Григорий отомкнул замок и, звякнув железом, повесил его на щеколду. Затем приоткрыл дверь и пнул ногой высунувшегося первым из загончика Кузю, громко, со смехом, прикрикнув на него: «А ты-то, дурак, куда торопишься?! Погоди, и твой черед скоро наступит!..» Как принялся выманивать Ваську прихваченным со стола куском хлеба, но кабанчик, почуяв, наверно, неладное, лишь недоверчиво косился на хлеб, похрюкивал и упрямо жался к стене. Наконец, после долгой возни и невнятных окриков, до слуха Клавдии докатилось радостное фырканье, нутряной какой-то, по-звериному хриплый рык, и она увидела, как Васька заскакал вдоль забора, высоко вскидывая круглый зад и потряхивая розоватыми на свету ушами. Из-под его коротких ног разлетались ошметки грязи. — Эй, охотник! От калитки заходи! Не пускай его на улицу! Убежит, гляди! — закричал от сарайчика Григорий. И тут в саду, напротив окна, показался Генка. Осторожно ступая по грядкам, он сбоку приближался к кабанчику, который уже самозабвенно расковыривал что-то подле ограды, там, где росла малина, ширял под куст пятачком, отшвыривал комья черной земли и поспешно чавкал, поднимая довольную морду, — коренья, должно быть, какие-то вкусные выкапывал. Он совсем близко подпустил раскинувшего руки Генку, что подходил к нему, по-охотничьему крадучись, хищно приседая, и руки свои растопыренные опускал все ниже и ниже, словно приподнять что-то готовился. Однако в самый последний момент Васька настороженно замер и, как показалось Клавдии, даже фыркнул насмешливо, а затем ловким нырком увернулся от Генкиных рук и опять весело затрусил к калитке, по-прежнему взрыкивая и топоча по серой асфальтированной дорожке раздвоенными своими желтыми копытцами. — Во дает, бродяга! — Генка захохотал. — Он чего у тебя, чемпион, в шайбу играет? Как там у них этот, нападающий, Викулов, что ли? — Да нет, он у меня спартаковец! — шутливо откликнулся Григорий, подходя к Генке. — А тот, кажись, за «Динамо» или, может, за армейцев… Он тоже погнался за строптивым Васькой, но кабанчик и впрямь, как хоккеист за воротами, вдруг осадил с ходу, остановился, упершись сразу всеми четырьмя ногами, словно бы поджидая замешкавшегося напарника, а затем мотнулся в сторону, взмахнув прозрачными ушами, и мордой повел, как бы приглашая мужиков еще малость побегать, поиграть, шустро проскочил между ними и повернул к сарайчику, заливаясь счастливым, пронзительным визгом. Но мужикам уже не до игры с ним было. Им надоела бестолковая беготня по саду, разносящийся по пустой улице заполошный поросячий визг. Они уже не подзадоривали друг друга, не пересмеивались, а чувствовали нарастающую неловкость из-за поднятой во дворе шумихи, хотя и старались сделать вид, будто невсерьез все это ими затеяно, а так, вроде бы понарошке, по досадному какому-то недоразумению вынуждены они гоняться за случайно вырвавшимся на волю кабанчиком — лишь бы только за калитку его не упустить. Надо было поскорее кончать эту волынку — время-то ведь не ждало, — и они теперь уже со злостью, с молчаливым упорством теснили кабанчика к тому месту, где у дощатого настила перед сарайчиком ограда сходилась углом и откуда ему было бы уже не выбраться. Приникнув щекой к раме, Клавдия видела наискось из окна, как приближались они к уткнувшемуся мордой в забор и негромко повизгивающему Ваське. И чем меньше шагов до него оставалось, тем сосредоточеннее становились движения мужиков, угрюмее их лица, на которых все явственнее проступало отчуждение и даже некая ожесточенность, которую они, быть может, по-настоящему и не испытывали, однако стремились вызвать в себе, потому что в таком деле им, наверное, никак уже нельзя было без нее обойтись. «Да оно ведь и понятно, — думала Клавдия, следя за мужиками, — как же без злобы-то в сердце, без жестокости этой самой за нож-то браться?.. Вот они и накручивают себя молчком перед этаким-то делом… Вроде бы ярятся, как те мордобойцы, что возле пивного ларька день-деньской отираются, или как петухи…» А Григорий тем временем уже подошел к кабанчику вплотную, остановился рядом с ним, поглаживая его спину, легонько похлопывая по ней и успокаивающе почесывая бугорок между обвислыми ушами. Генка же только еще приближался неспешно, как-то странно кособочась на ходу, словно бы прихрамывая, уставясь глазами из-под надвинутого на брови короткого козырька меховой шапки куда-то в одну точку. Он как будто не замечал ничего и никого вокруг — ни стоявшего Григория, ни покорившегося своей участи кабанчика, — а с напористой целеустремленностью нащупывал, скреб полусогнутыми пальцами белые алюминиевые заклепки на захватанной деревянной рукоятке, торчавшей над отвернутым голенищем. — Ну, вот ты и допрыгался у нас, паразит, — подойдя наконец-то к ним, проговорил Генка с угрожающей ласковостью и дрожью в голосе. Он быстро наклонился, ухватил кабанчика за правую переднюю ногу и резко рванул, опрокидывая его на дощатый настил. — Да прижимай ты его, чтоб он не дрыгался, сволочь! — припадая на колено и наваливаясь на кабанчика плечом, злобно заорал он на все еще стоявшего Григория. — Ты какого же… столбом-то торчишь?! Едало свое разинул! Прижимай, тебе говорят!.. Клавдия отшатнулась от окна, обошла стол и опустилась на свернутую телогрейку, что лежала на стуле. Вытащив из-под себя телогрейку, Клавдия, не вставая, набросила ее на спинку стула и вскоре услыхала, как глухо хлопнуло, а потом забилось, упруго загудело пламя в паяльной лампе. Затем оно стихло, стало слышно, как, побрякивая расхлябанным насосом, кто-то из мужиков принялся подкачивать, должно быть, другую лампу, — и она тоже сначала, видать, полыхнула огнем, сдавленно засипела, но тут же гул ее слитно выровнялся, — а с улицы потянуло едким запахом паленой щетины. Клавдии, конечно, не впервой все это было. И править такую работу она привыкла: и шкуру скоблила, и внутренности выбирала, и все остальное делала, что положено было в таких случаях делать, но сегодня ей почему-то не хотелось идти к сарайчику, помогать мужикам. Голова у нее вроде побаливала, во рту вязко горчило и руки поламывало, как к перемене погоды. Она думала, что на праздники, наверное, подморозит, а может быть, и даже снег выпадет. «Вот оно и хорошо было бы, а то все слякоть да слякоть на улице, — раздумывала она, как бы, отгораживаясь мысленно от того, что происходило во дворе. — Хотя нынче и зимы-то такие, что и не поймешь: с утра мороз трещит, а к вечеру, глянешь, с крыши закапало…» Ей непривычно было сидеть в праздности, в томящем безделье, зная, что мужики там, должно быть, уже заканчивают палить тушу, оскабливают с нее гарь, перекатывая с боку на бок, но Клавдия не могла преодолеть в себе некое сложное, непонятное чувство, отвращающее ее от этой будничной и необходимой работы. «Пускай уж они пока сами управляются, — опять равнодушно подумала она. — А я потом выйду… Ничего с ними не случится…» И покуда Генка с Григорием возились около сарайчика, ворочали там тяжело, изредка перекидываясь короткими фразами, однако уже как будто без шуток, попусту не зубоскаля, — притомились, должно, мужички, — Клавдия все сидела в кухне, у стола, чутко улавливая долетавшие со двора звуки. Генка хотя и грозился, но выпивать почему-то не заходил — не до выпивки ему, видать, было. Лишь раза два заглянул в кухню Григорий, спросил, куда она положила тряпки, набрал ведерко воды. Но когда Клавдия сказала ему, чтобы они передохнули, перекусить бы зашли, а она сама им все сейчас вынесет, вот только посидит еще немножко — с головой у нее худо чего-то стало, болит, простыла, наверное, он озабоченно нахмурился. — Да ты сиди, сиди, мать, — проговорил торопливо Григорий, обернувшись в дверях. — Мы уже сами… Генка-то, он знает… А тебе, может, лучше полежать? Таблетку бы какую выпила, а? Или вон налила бы себе да с перцем… — Чего уж тут наливать да разлеживаться?.. Вот посижу малость и приду. — Ну, гляди… Хотя мы бы там и сами… Григорий унес воду, а потом послышались тупые, смягченные вроде бы и даже какие-то пружинящие удары топора. Рубил, наверное, Генка, потому что после каждого такого удара, тот — рубивший — свистяще, с оттяжкой хекал, как мясник в магазине, и, вновь балагуря, приговаривал что-то захлебывающимся, одышливым говорком, в котором нет-нет да и матерок у него проскакивал. А Григорий никогда так не хекал и дома черного слова себе не позволял — дочери совестился, должно быть. Однако когда мужики принялись перетаскивать на веранду уже разделанную на части тушу, укладывать ее там поплотнее, передвигать с места на место по фанере, шумно шаркая шершавой шкурой, — Клавдия, кое-как пересилив себя, накинула на плечи телогрейку и с трудом поднялась, чтобы пойти глянуть, ладно ли у них все получилось. На веранду она прошла через комнату, в которой спали они с Григорием и где кроме кровати стояли еще телевизор, темный полированный сервант, шифоньер и полированный же раздвижной стол, накрывавшийся лишь в тех случаях, когда многолюдной компанией за кухонным столом уже никак нельзя было рассесться. Клавдия на ходу поправила съехавшую на сторону бордовую плюшевую скатерть и решила, что сегодня раздвигать этот стол ни к чему — гостей они не ждут, а втроем и на кухне просторно усядутся. Выйдя на веранду, она сразу же отметила про себя, что Генка постарался на совесть. Разрублено было аккуратно, без лохмотьев, на четыре равные примерно части, а все остальное — разложено по кастрюлям и в таз, собрано на углу фанеры кучкой, поверх которой скрестились, уложенные полешками, умело подрезанные и чисто выскобленные, желтовато-поджаристые ножки. И как только появилась она на веранде, покуривавший Генка сунулся к этой кучке, обрушивая ее, вытащил из-под низу распластанный вдоль длинный кусок, белеющий хрящами, испещренный синими прожилками и красными потеками, и протянул его чуть ли не к самому носу Клавдии. — Во, видала, хозяйка! Поняла теперь, почему он помельче нагулялся? — с суетой спросил Генка, вертя перед нею длинным этим куском, словно продавал его, всучить ей пытался, а она покупать не хотела. — Зубов-то у него, вишь, и вовсе нету! А сало-то паразит, ты посмотри, какое нарастить сумел! Я думал, что сала на нем совсем не будет… Вот только чем он у вас тут жрал, никак не пойму. Может, вы его больше выпивкой баловали, а не закуской? — сплюнув окурок, Генка коротко всхохотнул, подмигивая Григорию, и бросил кусок на фанеру, который упал, шмякнулся об нее с каким-то мокро хряпнувшим звуком. — У нас полный порядочек, хозяйка! Принимай, как говорится, проделанную работу! Генка вытер руку о полу засаленного своего бушлата и отступил на шаг, как бы давая ей возможность все получше разглядеть и оценить. — Так чего же ее принимать-то? Оно видно — потрудились вы, мужички… Спасибо тебе, Гена, — благодарно улыбаясь, сказала Клавдия, но тут же с привычной озабоченностью в голосе принялась выпроваживать их с веранды: — Да вы шли бы себе в Дом, мужики. Посидели бы там пока на пару, отдохнули… А я вам свежинки быстренько на закуску приготовлю. Вы уж, мужики, ступайте себе… Спасибо вам, конечно… Я вот сейчас отрежу и принесу… Ножик-то наш где, Гриша? — А ты на, мой возьми, — усмехаясь со значением, сказал ей Генка и нарочито медленно потянулся к голенищу. — Мой-то поострее вашего… — Да ты чего, сдурел, что ли? На кой он мне, твой-то? — Клавдия испуганно убрала руку за спину. — Тоже мне скажешь, поострее… Она повернулась, оглядываясь вокруг и словно бы высматривая, не лежит ли где-нибудь поблизости ее домашний, кухонный нож, и вдруг заметила, что подле открытой уличной двери, внизу, у приступок веранды притулились Капустины — и он сам, и Мария. Соседи, наверное, только-только сюда подошли, но, впрочем, и давненько, быть может, там уже стояли — неприметные и молчаливые, — с виду безразлично, однако вроде бы все же с умыслом, с тайным беспокойством приглядываясь и прислушиваясь к тому, что делалось на веранде. Они были очень похожи друг на друга: оба упитанные, приземистые, одетые в одинаковые стеганые — в плотный обхват — казенные телогрейки. И даже головы у них казались одинаковыми по величине, хотя Мария повязалась теплым платком, а Капустин прикрылся ребячьим, этакого мышиного цвета беретиком, из-под которого туго выпирали его округлые щеки. Широкое лицо у Капустина было, мятое какое-то и по-мучному белое, — бабье, в общем-то, было у него лицо. — Дак вы заходите… Чего же вы там, на улице?.. Заходите… здравствуйте, — справляясь с растерянностью, суматошливо заговорила Клавдия, отодвигаясь к своим мужикам, чтобы не застить соседям разделанную тушу. — А мы дак тут как будто бы уже и все… Я-то, правда, и забеспокоилась маленько. Не по гостям ли, думаю, вы куда пошли… Нету вас да нету… А может, позабыли, думаю?.. Капустины еще потоптались у крыльца, поскребли подошвами о вбитую обочь железную скобу, а затем неспешно поднялись по ступенькам. Вежливо поздоровавшись с Клавдией и Григорием, они покивали Генке и чинно расположились по обе стороны фанеры, держа в опущенных руках сложенные вчетверо холстины и словно бы со скорбью глядя вниз, себе под ноги, как на похоронах. — Ну, дак давай, отец… Ты чего? — Клавдия в нерешительности присела на корточки у края фанеры, тронула мясо, но сразу же выпрямилась. Она испытывала смущение и некую робость, как будто перед нею не Капустины были, не соседи, а чужие люди, пришедшие что-то требовать от нее либо даже отбирать. — Ну, чего ты торчишь, как сонный? Давай… Но и Григорий — видно было — тоже чувствовал себя не совсем уверенно. Ведь праздники вот-вот, и если уж все по-людски затевать, то не о дележке сразу бы речи заводить, а в дом позвать бы Капустиных, к столу пригласить… Там обо всем и потолковали бы, как у людей-то положено, а ей только давай да давай… Хотя и соседи тоже хороши. С самого начала их невесть отчего наперекосяк потащило: встали себе молчком у дверей, притулились там, как сироты убогие. А нет, чтобы просто подойти: «Здоров, мол, соседи! Здорово живете…» Ну, и все путем было бы… Разве так дела делают, когда живешь рядом, а не только у винного прилавка встречаешься?.. Ему захотелось сказать Капустиным, чтобы они сами выбирали, что им понравится: дескать, здесь оно все, нигде не запрятано! И он, примеряясь, проговорил уже мысленно эти вертевшиеся у него на языке слова, но тут Генка отпихнул его твердым локтем, выдвинулся вперед и деловито, по-хозяйски спросил у Капустина: — Это с тобой, что ли, делиться-то теперь нужно? Чего молчишь? С тобой? Нет?.. — С нами, паренек, с нами, — не дожидаясь мужниного ответа, как бы шутя, но и с проскользнувшей в голосе неприязнью поправила Генку Мария. — А хошь, так и со мной одной поделись… Но Генка в ответ ей и бровью не повел. — Ага, — сказал он, по-прежнему, обращаясь лишь к Капустину, который молча, с опаской, косился на него. — Нам, татарам, один зуб. Значит, тогда таким манером… Возьми вон ту и эту, что справа от тебя лежит! — Генка небрежно ткнул носком сапога в разваленные топором части свиной туши. — А на холодец твоя баба пускай вон оттуда достает! И все. И отвали, моя черешня. Просекаешь, голубь? — Да как же тебе не совестно? Ты зачем на людей-то шумишь? Кто тебе тут обзываться позволил? — напустилась Клавдия на взъерепенившегося вдруг ни с того ни с сего Генку, который, поигрывая хрустящими скулами, с нехорошей улыбочкой продолжал в упор рассматривать молчавшего Капустина. — Да вы не слушайте его, дурошлепа! Мария… Соседушки мои дорогие! Берите, какое на вас глядит!.. А лучше дак пойдемте сперва обмоем это дело! Пойдемте-ка, а?.. Но идти в дом Капустины отказались. Не согласились они и распивать скоренько принесенную Клавдией на веранду поллитровку, что оставалась в кухне, на столе. Поблагодарив хозяев, они сноровисто переложили на разостланные холстины то, что указал им Генка, повязали узлы. Мария, изловчившись по-мужичьи, сама швырком закинула на плечи увесистый узел, а вот ее муж свою ношу не осилил, и Григорий помог взвалить ему на спину. Клавдия посмотрела вслед Капустиным, как телепали они к калитке, пригибаясь под тяжестью поклажи и став, от этого вроде бы еще приземистее и шире, и, вздохнув, укоризненно сказала Генке: — И чего ты на них зверем-то полез? Негоже ведь людей попусту обижать. — Это кто же у тебя люди-то? Они, что ли? — Генка презрительно скривил губы и плюнул на пол веранды. — Клопы они защельные… Да хватит тебе их жалеть. Меня бы вместо их пожалела, хозяйка. Я жрать захотел!..
Наташа приехала из колхоза, когда день за окном, так и не разгулявшись, круто покатил к вечеру. Небо еще больше потускнело, яблоневые ветви, словно бы укоротясь, отдалились в глубину сада, а потом и все пространство между деревьями как-то уменьшилось и смазалось, будто расплывчатые силуэты яблонь, корявые их сучья, грядки и кусты малины посыпали серым пеплом, — и в кухне пришлось зажигать свет. Клавдия несколько раз выходила на крыльцо, смотрела вдоль улицы, но, постояв минуту-другую и продрогнув на сквозном промозглом ветерке, вновь возвращалась в домашнее тепло, на кухню, где сидели за столом мужики. Она им и свежины нажарила, и кровяной колбасой их угостила, и зельц приготовить уже успела, а они, пожевав немного, лениво поторкав вилками, то выпивали, то закуривали, невнятно талдыча о чем-то своем, и Клавдия испытывала обиду оттого, что ни Григорий, ни Генка не догадаются похвалить закуску, да и самой ей не воздадут за расторопность и уменье. «И чего заладили одно: бу-бу-бу да бу-бу-бу?.. Как им только не надоест? — думала она, перемывая над раковиной освободившиеся тарелки. — Хотя бы Наташа поскорее, что ли, приходила, может, тогда угомонятся. Ведь пьяные, поди, уже оба, а все никак не наговорятся, никак друг на дружку не налюбуются…» Перемыв посуду и присев у плиты, Клавдия сложила на коленях руки, прикрыв их фартуком, и со своего места, как бы издалека, смотрела на курящих за столом мужиков, на осоловелые их лица и шевелящиеся губы, и во взгляде ее туманилось укоряющее беспокойство: а не худо ли вам будет завтра, сердешные вы мои, не худо ли?.. За хлопотами и суетой она совсем позабыла о собственном недомогании, да и голова у нее как будто бы перестала болеть, и ломота в руках пропала. Теперь она лишь усталость чувствовала и о неразумности мужиков печалилась, жалела их загодя и сострадала им… Но все-таки ей приятно было сидеть у теплой плиты, видеть перед собой подвыпивших мужчин, которые к тому же не шумели, как обычно, не пыжились, брызжа слюной, перебивая и не слушая один другого, а обстоятельно и спокойно говорили о чем-то серьезном, должно быть, и она, сознавая это сейчас, уже не с мелочной своей обидой, а с уважением прислушивалась к важному этому разговору, хотя по-прежнему лишь голоса мужиков различала, а не их слова. И даже испытанное ею сострадание, беспокойство о них, как теперь понимала Клавдия, вовсе не таили в себе укоряющей и снисходительной жалости к ним, а казались ей чем-то вроде необходимой для них поддержки, ее молчаливого с ними согласия. Она как бы сквозь дрему воспринимала едва доходившие до нее звуки и, наверное, впрямь задремала, потому что испуганно вздрогнула и покачнулась, когда услыхала глухой топот на крыльце и стук притворенной двери. Клавдия торопливо оправила фартук, выскочила в темные сени и, натолкнувшись там на дочь и наспех обняв ее, ощутив лицом холодную влажность Наташиной щеки, вдруг почувствовала, что за нею стоит еще кто-то. Она как будто даже разглядела на миг того человека, что притаился в сторонке и был неразличим в потемках. — Ой, да кого же ты это привезла? — тревожно спросила Клавдия, отстраняя от себя Наташу и нашаривая на стене пуговку выключателя. — Погодите… погодите… Я сейчас, вот только свет вам зажгу… Она щелкнула выключателем и, словно догадываясь уже, кто бы мог это быть, увидала за Наташиной спиной высокого незнакомого парня в блестящей коричневой куртке и резиновых сапогах. Белобрысый этот парень был без шапки, худощав, в меру длинноволос. У его ног лежал покатый, рюкзак, а сверху — Наташина спортивная сумка на молнии, которую брала она с собою в колхоз. Сузив от света глаза, парень растерянно улыбался, неловко переминаясь, и его смущенное, по-мальчишески свежее, покрасневшее лицо показалось Клавдии совсем еще детским и приятным. «А ведь он-то вроде бы и ничего, — помимо воли отметила она. — Молоденький такой из себя… Видный парнишка… И не нахальный, должно быть…» — Это Валерка, мам, — как-то уж буднично, слишком беспечно сказала Наташа, и сердце Клавдии туго ворохнулось в груди, а потом бухнуло где-то в висках. — Он с нашего факультета, а живет в городе, в общежитии… Это я его заставила, чтобы он мне сумку помог дотащить. Да ты познакомься с ним, мам! Это же Валерка… Ты чего?.. Ему еще нужно будет на электричку топать… Клавдия машинально протянула парню свою, как бы внезапно одеревеневшую, руку; тот осторожно пожал ее, кивнул с улыбкой, пробормотав: «Валера»; а она, позабыв в смятении назвать ему себя, поспешно выдернула свои безвольные пальцы из его жестковатой ладони и, еще больше теряясь от этого, сразу же заторопила их с повседневной своей суетливостью, как привыкла торопить по утрам мужа и дочь: — Ну да, ну да… Вы раздевайтесь тут, сапоги скидывайте. Снимайте-ка сапоги… А мы как раз, значит, кабанчика вот сегодня… Там отец с Генкой сидят… Да вы скидывайте, раздевайтесь… Я сейчас… Она толкнула плечом дверь и, прикрывая ее за собой, услыхала, как дочка, громко прыснув и давясь смехом, что-то сказала Валерке, даже будто прикрикнула на него, однако парень не ответил ей, хотя, возможно, Клавдия просто не дождалась его ответа. — Слышь-ка, отец, Наташа приехала, — как можно спокойнее и мягче сказала она, возвращаясь в кухню и испытующе взглядывая на молча смотревшего на нее Григория, словно бы стараясь по его виду определить: не перебрал ли он нынче лишку и как отнесется к ее словам. — Да ты не слышишь меня, что ль? Дочка, говорю тебе, из колхоза вернулась. Вдвоем они, в общем, прикатили… С этим… Ну, как его?.. — С кем это она прикатила? — трезвым голосом, но все же хмурясь и настораживаясь, спросил Григорий, шевельнув локтем и ненароком сдвигая на край стола наполненную окурками пепельницу, которая чуть не свалилась на пол, но Генка исхитрился ее придержать. — Так с кем она там, а?.. Совсем повеселевшая было Клавдия хотела уже — в шутку, конечно! — брякнуть ему, дескать: «С зятем прикатила, с кем же еще, по-твоему? Ступай, отец, встречай молодых!» — но, вовремя сообразив, что выпивший Григорий чего доброго за правду это примет, и, опасаясь, как бы Генка сдуру не ляпнул бы какой-нибудь чепухи, из-за которой, не приведи господь, еще шум случится, проговорила с запинкой, будто припоминая давно известное ей, но выпавшее вдруг из памяти: — Ну, со студентом этим… Как же его?.. С ихнего-то факультету парень один… Валерой зовут, что ли… — С каким Валерой?.. — А чего ты их в сенях держишь? Давай его сюда, студента этого! — перебил Генка и радостно потянулся к бутылке. — Я дак студентов вообще уважаю. Они у нас второй год капусту убирают. Во мы с ними керосинили! Ребята они еще те!.. Не зная, что ответить Григорию, Клавдия принялась второпях освобождать пространство на столе, передвигать стопки, посуду. Однако тут вошла Наташа, а за нею как-то бочком, неуверенно — словно бы она его за руку до самой двери силком за собой волокла и только-только отпустила — втиснулся и ее долговязый Валерка. Клавдия притихла. Но по тому, как посветлело помрачневшее и напряженное лицо Григория, как необидчиво сощурился ой в улыбке, когда Наташа по-обычному коротко кивнула отцу, независимо бросив: «Приветик!» — и как, приподнявшись со стула, он руку подал смущенно подошедшему Валерке, посмотрев на него с добром, — Клавдия с облегчением поняла, что и Григорию тоже глянулся молоденький этот студент и никакого шума не будет. «Ну, вот и слава тебе, господи… Обошлось вроде бы, — со вздохом подумала она, расставляя чистые тарелки. — Вот и слава тебе, господи…» Наташа тотчас ушла переодеваться в свою комнату. Валерку же сразу усадили за стол, налили в стопку водки. Клавдия захлопотала над ним, угощая кровяной колбасой, зельцем, то мяса, то грибов ему на тарелку подкладывая. И, лишь убедившись, что гость обихожен, все ему положено и налито, сама присела у краешка стола. А когда Валерка, чокнувшись со всеми, неумело отхлебнул из стопки, поперхнулся и, расплескивая водку, кашляя и вытирая глаза, поставил стопку на стол, — Генка наклонился к нему и, с хмельным изумлением всмотревшись в его лицо, сказал: — Ну, ты и даешь, студент!.. Ну, и даешь… Я-то подумал, что мы с тобою их сейчас жить научим, а ты даешь… Ты чего, болен, что ли? Может, сердце у тебя, а? Или в завязке был?.. — Да отцепись ты от него, — жалея парня, хмуро проговорила Клавдия. — Вишь, не идет она человеку… Стало быть, не приучен он к ней. А ты — болен, сердце… Какое же у него в этакие-то годы сердце? Поди, накаркаешь еще… Может, тебе вина налить? — участливо обратилась она к Валерке. — У нас ведь и свое красненькое есть. Может, ты лучше красненького выпьешь? — Нет, спасибо, — отдышавшись, сипло сказал он, ловя на вилку ускользающий гриб. — Ничего не нужно… Спасибо вам большое… — Не, ты видал? — Генка громко засмеялся и откинулся на спинку заскрипевшего стула. — Во бы у меня такая теща была! Ты видал, как она вокруг тебя увивается? Красненького, говорит, не хошь… А ты, студент, просекаешь, к чему бы все это, а? У моей бы ты попил красненького!.. Ты случаем в нашем совхозе-то бывал? Нет? — В вашем совхозе?.. Как-то не приходилось… — Валерка отрицательно качнул головой, пожав плечами. — Не был он в твоем совхозе. И делать там ему у вас нечего, — решительно отозвалась из-за двери Наташа. — Помолчал бы ты хоть немного, Ген… — Все. Молчу. — Генка дурашливо прикрыл ладонью рот, а затем, округлив глаза, выразительно посмотрел на Григория, как бы успокаивая его, и опять наклонился к Валерке. — А хошь, я тебя сейчас тут сосватаю? — понизив голос, спросил Генка и кивнул на дверь. — Во тогда гульнем с тобой, а? Ты мне только скажи — и все! Наташк, где ты там пропала? Давай-ка сюда по-быстрому! — позвал он. Наташа вышла из комнаты в коротком, туго запахнутом на груди пестром халатике, который подпоясала какой-то серебристой тесемкой. Прямые светлые волосы ее были распущены, и от этого красивое Наташино лицо выглядело чуточку грустным, даже вроде насупленным. Строго посмотрев на отца, на сконфуженного, насильно улыбающегося Валерку, она села между ними и спросила у Генки: — Ты, кажется, свататься ко мне тут кого-то подбивал? А? Что-то я жениха с букетом не вижу. Уж не сам ли ты, Гена, женихом моим стать собирался? — Я нет. У меня уже семеро по лавкам… — Генка с напускным сожалением вздохнул и повел возле стола рукой, словно бы показывая, какие еще малые у него дети. — Мне кормить их надобно… Пораньше бы если, и я рискнул… — А ты, Гена, разведись, — спокойно сказала Наташа. — Теперь это не проблема. — Во дает девка! — не выдержав шутливого тона, Генка с возмущением ткнул рукой в сторону притихшего студента. — Да вот же он, твой жених! Ты чего ему мозги-то пудришь? — Ему? — Наташа снисходительно усмехнулась и, вроде бы в недоумении, как бы свысока взглянула из-под прикрытых ресниц на расходившегося Генку. — Ты что? Это же Валерка… Он, кроме своей науки, ничем на свете не интересуется. Какой же из него жених?.. Клавдия сидела молча, не вмешиваясь в пустой их разговор, хотя ей и не нравилась небрежная снисходительность дочери, не по душе было, как запросто держится она с забулдыгой этим, с Генкой. Ведь сама-то сопливка еще сопливкой, а тоже туда же лезет: «разведись!» Клавдия чувствовала себя виноватой перед совсем уже сникшим пареньком, который и выпить-то толком не выпил, и поесть не поел, и сидел теперь в ее доме за столом как на угольях, должно быть. Но более всего удивляла и беспокоила Клавдию сегодняшняя покладистость Григория, который дочке ни слова поперек не сказал и слушал Генкину трепотню, безразлично покуривая, будто бы его это ни с какого боку не задевало. — Ну, хватит тебе языком-то своим молоть, — докурив наконец сигарету, ворчливо сказал дочери Григорий. — Пригласила домой человека, так и нечего над ним тут цирк устраивать. А ты, слышь-ка, парень, по какой науке-то хоть идешь, если это не секрет, конечно? — спросил он у слегка воспрянувшего Валерки. — Почему же секрет? — с поспешной благодарностью откликнулся тот. — Никакого секрета… Мы ведь с Наташей на одном факультете… на экономическом… — Не, ну ты глянь! Во дают студенты! — опять изумился Генка, вклиниваясь в разговор и хлопая Валерку по плечу. — Мы же тут с Петровичем до тебя как раз про эту самую экономику говорили. А ты ее уже всю прошел или еще нет? — Ну, как вам сказать?.. В пределах курса, разумеется. А вас, что же, вообще экономика интересует? — вежливо наклонив голову, полюбопытствовал Валерка. — Или же какая-то конкретная ее область? — Да нет!.. Зачем мне твоя область? — нетерпеливо отмахнулся Генка. — Меня вот чего интересует… — Он с хмельной сосредоточенностью, как бы оценивающе — есть ли смысл толковать! — вгляделся в лицо Валерки. — Ты пока погоди… ты меня послушай… Допустим, купил ты себе машину. «Жигули», допустим, купил. Так? Заплатил за нее шесть, скажем, тысяч и поставил ее на прикол. Ездить ты на ней не так чтобы часто и ездишь, гаража у тебя нету. Так? Вот и стоит она себе, красавица твоя, и ржавеет потихоньку. Зимою снегу на нее навалит — на лыжах спускайся, а летом под кузовом грибы собирай. К тому же еще пацаны ее гвоздями распишут… Так? В общем, простоит она у тебя под окном пару лет — и готовый металлолом. Выходит, что деньги ты свои понапрасну на нее ухлопал, и пользы особой от этого ни тебе, ни кому другому не было. Так, выходит? Так. А кого это у нас колышет? Да никого… А ты мне говоришь — область, экономика!.. Верно, Петрович? Генка победно посмотрел на Григория, но тот не ответил ему, а лишь кивнул неопределенно. — Я, может быть, не совсем вас понимаю… — Валерка замялся, подыскивая слова. — Но машина, как вы утверждаете, моя собственная. Следовательно, заботиться о ней должен я сам. Это же элементарно… И экономика тут, кажется, простите меня, ни при чем… — Ты чего сразу в бутылку-то суешься? Может, и не в экономике тут загвоздка… Хотя, в общем, хрен с ней, с твоей экономикой! — беззаботно уступил Генка. — Ты погоди ногами-то сучить. Сейчас поймешь… Ну, так слушай. Стоит себе, значит, на улице машина — и всем она до фонаря. Так? Так. Инспектор из ГАИ к тебе не придет, не спросит: чего это ты, милок, добро свое на корню гробишь? Разве только если она у тебя поперек улицы поставлена. И никто к тебе не придет… Ну, а я, допустим, за те же самые шесть тысяч не машину себе купил, а, скажем, десяток коров во двор привел. Просёк, студент? Валерка несколько ошарашенно уставился на довольного собой Генку, а затем, помедлив, неуверенно сказал: — Простите, я не совсем понимаю… А зачем вам, собственно, коровы? Да и в городе у нас их как будто уже не держат… — Ты погоди! — Генка досадливо сморщился и дернул плечами. — Я же тебе не про город говорю. Какой дурак покупать их там станет? Ты чокнутый, что ли?.. А я, допустим, в деревне живу, у меня, значит, сарай есть и все прочее под руками… Привел я буренок, в сарай поставил — и все чин по чину. Сам я, конечно, работаю, а баба моя, допустим, за ними приглядывает. В общем, появились у меня, как в газетах пишут, трудовые излишки — ну, молочишко там, скажем, мясо… Куда мне все это девать? На базар, понятно, повезу, куда же еще?.. Но ты учти, что не одному мне от этого какая-то выгода корячиться, а ведь и другим польза будет. Мясо, к примеру, на том же базаре подешевшеет, потому как его побольше станет. А от твоей красивой жестянки какой кому прок? Ты даже и не подкинешь на ней небось никого со стороны, штрафа побоишься… Вот и будет она стоять у тебя без толку, место под окошком занимать. Или нет скажешь, а? — Простите, но я бы не сказал… Может быть, конечно, я что-то не улавливаю… Хотя, допустим, что все это именно так, — неожиданно согласился Валерка и с иронией взглянул на Наташу. — Ну, и что же мешает вам купить этих самых коров? Покупайте себе на здоровье… — Не, ну ты и даешь, студент! — Генка в крайнем удивлении отстранился от стола и обвел всех поочередно глазами, как бы приглашая разделить его удивление. — Не, ну ты, однако, и даешь… А ты знаешь, чего мне за них припаять могут? Ко мне тогда уже не гаишники твои приедут… Вот тут и вся твоя экономика накроется! — Господи, какая же ты зануда! Да кто к тебе приедет? Что ты чепуху-то мелешь со своими коровами? Надоел ты уже всем хуже горькой редьки, — с отчаянием в голосе сказала Наташа, откидывая рукой волосы со щеки. — Ни черта ты, Гена, не понимаешь. Да твоя жена сама же тебя первая со всем этим стадом со двора прогонит. Кому они теперь нужны, коровы твои дурацкие? Кому? — Как это — кому нужны? Да тебе же самой. Жрать-то ты чего будешь? — грубо спросил Генка. — Или, скажем, захочется твоему мужику вечерком свеженьких котлеток подрубать, где ты для него мяса возьмешь? На базаре? Так оно там в такую цену, что и не подступись… — Подумаешь, напугал! Мой мужик как-нибудь и без свеженьких котлеток перетопчется. Не беспокойся, уж я-то его воспитаю! В крайнем случае, из магазинного фарша приготовлю котлетки, чем плохо? А лучше всего — Валерку попрошу, он для меня любое мясо достанет, — смеясь сказала Наташа. — У тебя же вроде мама или папа в каком-то райпищеторге работают… Правда, Валер? Ты ведь попросишь у них мясца мне на котлетки, нет? Ну, а если я тебя очень и очень попрошу?.. — Не, ну ты глянь на них: у того мама, у того папа! — Генка даже как бы задохнулся от негодования. — А сами-то вы чего-нибудь можете? Если без родителей… Сами?.. — Мои родители, например, здесь совершенно ни при чем, где бы они ни работали! — вдруг покраснев, запальчиво проговорил Валерка. — Никого это не касается… А вообще-то я вам скажу, что вся ваша коровья идиллия не столь уж смешна и безобидна, как может показаться на первый взгляд… Это уже откровенное собственничество. Возврат к прошлому, если хотите… — Так-так… Значит, чего я хочу, по-твоему? — медленно спросил Генка, сдвигая брови и слегка подаваясь грудью к насторожившемуся Валерке. — Прошлого хочу, да? Собственности, значит? Ладно… Допустим. А ты сам или еще какой-нибудь хмырь, вроде тебя, который мимо нашего совхозного коровника в своей машине с лохматым кобелем в окошке на природу проезжает, он, значит, против этой самой собственности? Так, по-твоему, выходит? Если я, значит, сам худо-бедно о себе и других позаботился, — то в прошлое… А тот, которому все до лампочки, кроме машины своей да кобеля, что любого на ходу сожрет, тот, значит, прямиком в наше светлое будущее катит, да? — Генка неторопливо поднялся и, не оборачиваясь, отодвинул ногой подальше от себя стул. — Нет, ты теперь постой… Да не буду я тебя бить, не бойся!.. Я дак — ладно… Допустим, что перегнул я с этими коровами. Так? Согласен. Все. А вот тут рядом с тобой Петрович сидит. Он цельный день в мастерских для всяких там кибернетиков железки клепает, и руки у него — дай бог! Ну, а если он дома еще парочку кабанчиков завел, мешок луку, скажем, либо помидоры на базар повез — он тоже собственник? Так, по-твоему, что ли? Валерка сидел за столом, ссутулясь, не поднимая головы. Щеки и уши его пунцово полыхали, а губы были твердо сжаты. Всем видом своим он словно бы давал понять, что нет у него больше охоты продолжать этот бессмысленный и бесполезный разговор. Генка возвышался над ним, ожидая ответа, но Валерка лишь молча покручивал пальцами вилку и упорно не обращал на него внимания. — Ты чего подхватился? Ты сядь, — негромко сказал Генке Григорий, однако тот не послушался и продолжал стоять, как бы изучающе разглядывая Валеркин затылок. — Может, еще по одной пропустим, а? — спросил Григорий, берясь за бутылку. — Да нет, хватит! — Генка помотал головой. — Поеду-ка я, пожалуй, до дому, до хаты… Спасибо тебе, Клава, за угощение и тебе, Петрович — за компанию! А вы, значит, гуляйте тут, экономики… Мне на автобус надо… Он подошел к вешалке, нахлобучил мохнатую свою шапку, снял с крючка бушлат. Никто не удерживал его. И даже Клавдия, сидевшая до сих пор тихо и безучастно, помышлявшая в душе только об одном: как бы не поругались ребята всерьез, — облегченно перевела дух и сказала поспешно, не заботясь уже о том, что может обидеть гостя: — А и то верно — ступай себе, Гена, ступай. Спасибо тебе, конечно, что сделал все, зашел… А уж на них ты, Гена, не серчай. Глупые они еще, не соображают. Зачем тебе тут ихний глупости слушать? Ты ступай… — Правильно, мам. Мало ли чего мы еще наболтаем! Вдруг да против совхозного начальства чего-нибудь скажем, — проговорила Наташа, насмешливо улыбаясь и опять привычно откидывая рукой волосы со щеки. — Мы ведь, по-вашему, только и способны болтать… Хотя, если откровенно, то я бы ни за что на свете не стала бы еще и дома в навозе ковыряться. И мужу своему запретила бы. Пускай они пропадом пропадут, ваши поросята с коровами! Дура я, что ли? — А я вот ковыряюсь. И твоя мать ковыряется, — не глядя на дочь, задумчиво сказал Григорий. — Ну, так это же вы!.. Таких, как вы у меня, теперь поискать еще нужно, — не сдерживая досады, сказала Наташа. — Мне же из-за вас даже девчонок с курса домой позвать неудобно. Свиней вокруг развели, помидорчиками торгуем, лучком… Как будто в каком-то пещерном веке живем, честное слово!.. Людей постыдились бы хоть, что ли… — Не, ну ты видал? — одевшийся и ступивший было уже к порогу Генка внезапно остановился. — Торговлю, говоришь, дома развели? Свиней?.. А что в этом плохого? Ведь они не воруют ни у кого, отец твой с матерью, руками своими живут. Чего же им стыдиться-то? Трудов своих? Так, что ли? Вот если бы они у тебя ни хрена не делали, как, допустим, соседи ваши, Капустины, а только с государства или с какого-нибудь лопоухого урвать себе норовили бы, на чужой хребтине в рай проехать — вот тогда бы и стыдилась! Ишь ты, какая барыня нашлась: в навозе они у тебя ковыряются!.. Больно умные вы теперь все стали. Гляди, как бы не доумничались до того, что и вовсе жрать нечего будет… Ну, да ладно, хрен с вами! Пошагал я помаленьку… Бывайте!.. Наклонив голову, будто примериваясь к чему-то, Генка боком, по-хмельному загребая ногами, перевалил через порог и осторожно притворил за собой дверь. — Наконец-то сообразил. Терпеть не могу пьяных! — Наташа поднялась из-за стола, одергивая разошедшейся на груди халатик. Она слегка покраснела и, чтобы как-то сгладить возникшую неловкость, сказала матери: — Чего это он у вас тут сегодня, с цепи сорвался, что ли? Трезвый — вроде бы еще человек, а как выпьет, так обязательно о высоких материях треплется, ересь всякую несет… Наташа подошла к окну, прижав ладони к вискам, вгляделась в темень, словно хотела убедиться, что во дворе никого нет, а когда Валерка отложил вилку в сторону и тоже выбрался из-за стола, повернулась к нему. — А ты куда заспешил? Боишься, что тебя в общежитие не пустят? Можешь не волноваться. У нас переночуешь. Места хватит, — она откинула волосы с лица и вприщур посмотрела на смущенного парня. — Ну, зачем же мне у вас?.. — с жалкой улыбкой проговорил Валерка, стараясь не смотреть ни на Григория, ни на Клавдию, но в то же время как бы благодарно кивая им. — Спасибо вам большое… Вы меня, в общем, извините, конечно… Я уж поеду… До свиданья… — Дак за что же нам тебя извинять-то? — с усталостью в голосе отозвалась Клавдия, позевывая и прикрывая губы концом фартука. — Это уж ты на нас не серчай, если чего не так было… Генка-то пьяным нынче напился, а он, когда пьяный, — дурной. Тебе бы его и не слушать… Она проследила глазами за Наташей, которая вместе с Валеркой вышла из кухни, а затем принялась убирать со стола, чутко улавливая — не звякнет ли крючок в сенях, не скрипнут ли ступеньки крыльца. Но за стеной было тихо, и Клавдия, подождав еще минутку, озабоченно сказала Григорию: — Ты бы сходил, отец, глянул бы там, а? Чего же им на холоде-то выстаивать? Не летом, поди… Наташка-то, считай, совсем раздевшись выскочила… Помедлив немного, Григорий молча встал и направился в коридор. Он еще задержался у вешалки, надевая старые свои туфли и невольно прислушиваясь к неясному шороху за дверью, а потом, кашлянув, ступил за порог. В сенях горела лампочка. Слегка взъерошенный Валерка, неловко изогнувшись, надевал рюкзак, а Наташа, помогая ему просунуть руку, придерживала лямку. Григорию показалось, что они как бы с умыслом не замечают его, и он, снова кашлянув, строго сказал дочери: — Ты вот чего, ты в комнату ступай. Я его сам провожу, а ты иди… — Успеется! — Наташа беспечно отмахнулась. Не стесняясь отца, она приподнялась на носки и с вызовом чмокнула Валерку в щеку. Парень торопливо открыл дверь и, отворачивая лицо, затопал по ступенькам крыльца. Не обращая внимания на вызывающий вид дочери, которая не послушалась его, а осталась в сенях, Григорий шагнул на улицу. Сдерживая себя, он вдруг с усмешкой подумал, что вроде бы догоняет этого долговязого студента, который конечно же теперь еще больше стесняется его, а может быть, и побаивается. Он и о дочери подумал, что близко стояла у него за спиной в освещенном дверном проеме, вглядываясь в темноту и, наверное, тревожась за нескладного своего Валерку, за отца беспокоясь — как бы не затеялся между ними скандал. Однако Григорий не испытывал сейчас ни всегдашнего раздражения, ни ревнивой неприязни, которые обычно возникали в нем, когда случайные ребята начинали в электричке увиваться вокруг Наташи, а словно бы даже сочувствовал парню. И, понимая состояние его, понимая строптивость дочери, зряшную ее тревогу, он неспешно спустился с крыльца. Валерка топтался у калитки, дергал ее бестолково, не нашарив, должно быть, в потемках задвижку. — Да ты не дергай, сломаешь… Подожди, — по-доброму сказал Григорий, приближаясь к нему, оттесняя в сторонку и привычно отодвигая задвижку. — Ты, в общем, приезжай… Жаль вот только, что не куришь, а то мы с тобой подымили бы еще напоследок… Он нарочно проговорил все это погромче, чтобы было слышно Наташе. А дочь, догадавшись, что онсловно бы успокаивает ее, потушила в сенях свет и ушла в дом. — Вы уж извините меня, — с облегченным вздохом сипло сказал Валерка, открывая калитку. — Не курю ведь я… Мне пора, извините… Сгорбившись под тяжестью рюкзака, он вышел на улицу и повернул к шоссе. Закурив, Григорий задержался у калитки. Он стоял, ощущая под рукой холодную сырость штакетника, и вслушивался, как затихающе хлюпают по лужам сапоги торопящегося парня. Потом шаги затихли, и над крышами домов полыхнуло желтое зарево. Взглянув на часы, Григорий подумал, что это городской автобус и парень на него, конечно, успел. Постояв еще немного и докурив сигарету, Григорий повернулся и медленно отошел от калитки. С крыльца он еще раз посмотрел на темнеющие дома, на фасад соседского жилья. Тихо было у соседей и как-то по-глухому черно — ни единого лучика не пробивалось на улицу. Капустины, наверное, давно уже спали. «Поросят развели… от людей стыдно…» — припомнились ему вдруг слова дочери. — Что ж, у нее, конечно, свои заботы, а у нас — свои, — как бы примиряюще подумал он. — Хотя, может, и в самом деле бросить к черту всю эту домашнюю колготню? Может, и вправду немодно это нынче для молодых, стыдно? Зачем Наташке жизнь усложнять?..» Уже открывая дверь, Григорий по привычке глянул в небо. Оно прояснилось слегка, и по нему тянулись низкие, подсвеченные слабыми земными огнями, словно бы волокнистые облака. А вот звезд видно не было. И от этого небо казалось пугающе бездонным и пустым.
ДОЖДЬ
Весь день было солнечно и почти по-летнему тепло. В отделах открыли окна, громко хлопали двери на сквозняках, со столов летели графики, карты, бумаги. Сослуживцы Тихона Ильича смеялись, подхватывая их, и придавливали чем попало: пузырьками с тушью, шлифами, образцами, шершавыми кусками породы. Закрывать окна никому не хотелось. Все радовались солнцу, теплу. И добры были все и как-то ласково предупредительны друг к другу, должно быть, оттого, что гнетущая пасмурная серость наконец-то рассеялась, выглянуло солнце и пришла долгожданная весна, хотя по календарю ей полагалось быть уже давно. Тихон Ильич тоже радовался вместе со всеми, часто подходил к окну, высовываясь, смотрел на яркие крыши окраинных домишек вдалеке, на голые и прозрачные липы внизу, на корявые тополя, мученически воздевшие к небу короткие обрубки ветвей, а на этих обрубках можно было разглядеть прошлогодние побеги, усыпанные неразвернувшимися листьями. Их острые язычки напряженно тянулись из лопнувших почек, коричневые чешуйки которых, похожие на твердые надкрылья майских жуков, были покрыты густым сверкающим соком. Щурясь от солнца, Тихон Ильич смотрел на нежную, желтовато-зеленую дымку над тополями, и ему казалось, что он чувствует горький запах только что появившейся на свет листвы. Наваливаясь на холодный подоконник, дышал он с наслаждением, глубоко, до боли в груди. Потом Тихон Ильич заработался и не заметил, как закрыли окна, как быстро потемнело, и стекла стали рябыми, мутными от расплющенных капель, и опять потянуло холодом, сыростью, знобкой и осточертевшей слякотью. Из подъезда Тихон Ильич вышел уже под настоящий дождь. А когда такси все же остановилось рядом с ним, стены домов сделались полосатыми, тусклыми, тротуары опустели, и лишь слоистый асфальт блестел, будто смазанный жиром. В нем четко отражались ноги торопливо идущих людей, зонтики, дома, деревья. Согнувшись, Тихон Ильич нащупал спинку сиденья и неуклюже полез в машину. Он опасался, как бы не уронить шляпу, но все-таки задел о низкий обвод дверцы, и шляпа свалилась на тротуар, рядом с которым у решетчатого люка хлюпала и пенилась желтая вода. Вода исчезала в люке, а на ржавых решетках оставались размокшие обрывки газет, остриженные ветки тополей и смятые вощеные стаканчики из-под мороженого. Тихон Ильич поспешно перевалился на сиденье, кое-как дотянулся до шляпы, встряхнул ее и положил рядом с собой. Шофер молча наблюдал за ним в узенькое зеркальце, укрепленное над передним стеклом. А Тихон Ильич, заметив срезанное до глаз отражение его лица, внезапно смутился, слабо потянул дверцу и пересел поглубже. Шофер перегнулся через спинку сиденья, ухватился за никелированную скобу и хмуро сказал: — А закрывать все же рекомендуется поплотнее, товарищ. Как бы мне не выронить вас на повороте. Вот так… Он резко прихлопнул дверцу, и замок ее чмокнул коротко и плотно. Тихон Ильич поджал ноги, чувствуя, как прилипают к телу холодные и влажные брюки, откашлялся и, называя адрес, попросил: — Вы уж побыстрее, пожалуйста… Я тороплюсь… Но шофер ничего не ответил и даже виду не подал, что слышал просьбу, а лишь включил счетчик и посмотрел вверх, на красное пятно светофора. Тихон Ильич покорно вздохнул, и притих, и сжался весь, зябко привалившись к жесткому подлокотнику.Такси ему попалось старое, дребезжащее, с потертой и захватанной обивкой внутри, со сломанной — без крышки — пепельницей перед глазами. Из пепельницы торчали обмусоленные, в губной помаде, окурки, ломаные спички и едко воняло прогорклым табачным дымом. Правда, Тихон Ильич радовался и такому, потому что стоял под дождем долго, основательно продрог, а машины все шли и шли мимо него, обгоняя троллейбусы и длинно разбрызгивая лужи. Тихон Ильич злился и думал, что все таксисты, конечно, калымщики и рвачи и торопятся в аэропорт, на вокзал или к гостинице, где пассажиры сговорчивые, сдачи обычно не требуют, и вообще возить приезжих таксистам несравненно выгоднее. Теперь же, сидя в машине и радуясь крыше над головой, он испытывал нечто вроде неловкости перед этим шофером, вроде обманывал его, оттого, что не нужно ему было ни в аэропорт, ни на вокзал, а всего лишь в магазин, где он должен был встретиться с женой, чтобы вместе выбрать пианино. Они могли бы, конечно, прекрасно обойтись и без этой покупки: дочь их, Светлана, училась в медицинском и особого влечения к музыке не проявляла. Но Тихону Ильичу надоело слушать вечные разговоры жены с Людмилой Борисовной о кабинетных, концертных и еще бог знает каких инструментах; о способностях дочери; о некоем Богдановиче, который слушал ее на каком-то вечере и очень остался доволен; о пользе систематических занятий и о том, что «инстгумэнт» — как произносила это слово Людмила. Борисовна — в порядочном доме вообще необходим. Говоря о музыке, Людмила Борисовна почему-то начинала картавить. Приятельница жены, Людмила Борисовна, полная крашеная дама с темным пушком на подбородке, преподавала когда-то в музыкальной школе, в которой недолго занималась их дочь, однако теперь работала в швейном ателье. Бывала Людмила Борисовна у них часто и всякий раз, уходя, задерживалась у приоткрытой двери его комнаты, ахала, притворно ужасалась и говорила вполголоса, но так, чтобы он мог услышать: — Ах, дорогая моя, я не могу вас понять! Это же не роскошь! Что вы? Боже упаси! Вам это просто необходимо! У девочки несомненный талант! Посмотрите на ее руки! И уж поверьте мне, моя милочка, — ее ждет будущее! Вы понимаете, что это такое? На этот счет я имею некоторый опыт! Нет, я категорически отказываюсь вас понимать!.. Тихон Ильич отрывался от бумаг, поднимал голову, видел мощную спину Людмилы Борисовны, туго перехваченную узкой полоской лифчика, и шевелящиеся бугры на этой спине, обтянутые кремовым нейлоном, брезгливо морщился и бормотал: — Несомненная дура… Категорическая… А когда он нарочито шумно выбирался из-за стола, с грохотом отодвигал стул и выходил из своей комнаты, Людмила Борисовна изображала на дряблом лице изумленную радость, жеманно кланялась и сразу же начинала рассказывать о каком-то Синельникове («Ну, мы же видели его, дорогая, не помните?.. Ну, интересный такой, шатен… Конечно же, на Рихтере!.. В консерватории, конечно…»), и что Синельников этот недавно защитил докторскую диссертацию, и что защита прошла без каких-либо осложнений. Тихон Ильич пренебрежительно хмыкал, а Людмила Борисовна обиженно поджимала лоснящиеся губы и значительно поглядывала на его жену. Он прекрасно понимал эти значительные взгляды и еще больше раздражался. — Да, да… разумеется… — говорил насмешливо Тихон Ильич. — Дело это пустяковое! А если этот Чересседельников ваш, или как его там, не верхогляд — то карьерист и подхалим. Для таких экземпляров сложностей в природе не существует. Вы уж тут моему опыту поверьте!.. — Ты становишься совершенно невыносим, Тиш, — спокойно говорила ему жена после ухода Людмилы Борисовны. — Объясни мне, пожалуйста, что плохого она тебе сделала? Ну, почему ты вообще так нетерпим к людям? У нас у всех есть какие-нибудь недостатки, но ведь нельзя же быть таким… Она хоть и неудачница, но человек умный, душевный. Светлану она любит и хочет ей добра. В конце концов так относиться к ней невежливо, нетактично. Или ты считаешь обязательным лишний раз подчеркнуть собственную невоспитанность? Жена всегда разговаривала с ним спокойным и слегка покровительственным тоном. Тихон Ильич тоже старался казаться спокойным, но, чувствуя, как тяжело сжимается у него сердце, говорил, трудно двигая непослушными губами: — Во-первых, я уже тысячу раз просил тебя не называть меня этой идиотской кличкой! Тихон я… Понимаешь ты?.. Просто — Тихон! Сын деревенского кузнеца и, как тебе известно, внук спившегося шорника… Они меня и воспитали… А во-вторых, твоя подруга — типичная дрянь! Никакая она не душевная, не чу́дная! — Понять не могу, когда ты успел превратиться в законченного грубияна? — Жена удивленно приподнимала брови и спокойно отворачивалась к овальному трюмо. Наклоняясь, она близоруко рассматривала свое лицо, подведенные карандашиком уголки глаз, тонкие морщинки на лбу, озабоченно разглаживала их, поправляла прическу и говорила в зеркало: — Нет, ты становишься совершенно невыносимым… Тихон Ильич сопел, стискивал зубы и торопливо уходил к себе в комнату. Там он опускался на старенькую жесткую тахту, упирался в нее руками, и вены вздувались у него на руках, и ноги слабели, и смотрел он с ненавистью на разложенные на столе кальки, фотографии, выписки из старых отчетов. Под веками у него возникала сухая резь, а в висках горячо и гулко стучало. «А может быть, я действительно не замечаю в них чего-то особенного? — медленно думал он. — Может быть, они и в самом деле какие-то возвышенные, добрые, нежные? И воспринимают они все не так, как остальные, обыкновенные люди, и видят то, что недоступно этим обыкновенным? Может, потому они и обижаются из-за всякого пустяка? Ну, что я ей сказал? Ничего страшного… И обидеть ее не хотел, конечно, а так… Закопаешься в этих бумажках и свету белого за ними не видишь… Да-а-а… А они-то вот живут по-настоящему: концерты там всякие, консерватории… Чувствуют что-то, переживают, волнуются… Тонкие, видишь ли, натуры!.. Да нет же, нет! Чепуха это все! От безделья у них эта тонкость! К чертовой бабушке! Работать надо!..» Но, пересев к столу, Тихон Ильич подолгу не мог сосредоточиться, перебирал вздрагивающими пальцами исписанные листы, перекладывал с места на место снимки, рисовал на бумаге треугольники, рожицы, завитушки. И, успокаиваясь постепенно, начинал он думать о том, что где-то в жизни его был очень важный рубеж, который следовало переходить осторожно, как таежную топь, тщательно выбирая путь, потому что за ним ведь могли идти и другие. А он, ни о чем не задумываясь, просто перешагнул его и даже не заметил. Чего уж разбираться-то теперь! Все равно ничего не переделаешь…
В молодости Тихон Ильич верил, что жизнь у него сложится легко и счастливо. Женился он рано на худенькой большеглазой девчонке, с которой познакомился в городской библиотеке. Девчонка училась в педагогическом, а он собирался стать геологом. Дочка родилась у них, когда он перешел на предпоследний курс. За женой он поехал, убежав с лекции. Тихон Ильич даже цветы позабыл купить, и уже там, в маленькой чистой комнатенке, где над окошком дежурной сестры висел список только что родившихся ребятишек и растерянные мужья, родственники и знакомые толпились возле этого списка, он выпросил у какого-то смущенного и счастливого паренька две красные махровые гвоздики. А сам он тоже был смущен, и испуганно-счастлив, и с замиранием сердца ждал чего-то необыкновенного, радостного. Тихон Ильич помнил, как, принимая из рук жены перевязанный розовой ленточкой сверток, он чуть было не выронил его, когда в этом белом свертке неожиданно упруго заворочалось что-то живое. Он осторожно приподнял тогда уголок одеяла и увидел сморщенное, красное личико с крепко зажмуренными глазами, не то улыбающееся, не то плачущее… — А ну-ка, ну-ка, давай поглядим, какие они теперь, послевоенного образца, получаются? — пристал к ним какой-то пьяненький тощий мужичонка в старой гимнастерке, заглядывая сбоку. — Ты погляди-ка, а вроде бы ничего парень! Вполне даже подходящий!.. — Это же девочка. — Жена смущенно улыбнулась. — Да ну? — удивился мужичонка. — Ишь ты! А голосище-то как у нашего старшины… Вполне даже гвардейский… Давай, друг, с тобой по этому случаю, а?.. Ты, мамаша, не шуми… Мы по-культурному… Без полива и огурец не растет… Они купили бутылку горького портвейна в дощатой забегаловке рядом с трамвайной остановкой и выпили его вдвоем с мужичонкой из одного стакана. Стакан был липкий, и жена пить отказалась. Тощий мужичонка ушел, довольно похохатывая, а они потом, вспоминая об этом случае, всегда смеялись и долго еще называли дочку старшиной. Жили они в ту пору на окраине города, на тихой зеленой улочке, где совсем по-деревенскому цвела фиолетовым цветом картошка, желтели подсолнухи, вдоль изгородей носились босоногие ребятишки, а у калиток на вкопанных в землю скамеечках каменно восседали сумрачные старухи в темных платках. Здесь было пустынно даже днем, а по утрам в безветренную погоду бывало слышно, как на товарной станции переговариваются по радио составители поездов. Просыпаясь на рассвете, Тихон Ильич вслушивался сперва в неясные шорохи, потрескивание, булькающее лопотанье динамика, а потом, как ему казалось, из невообразимых, сумрачных, каких-то марсианских глубин через открытое окно долетают к нему гулкие торопливые слова: «Четырехосный номер двадцать одна тысяча девятьсот сорок три тире восемь тысяч двести семнадцать — на четвертый путь!.. Машинист локомотива «ОВ-семьдесят один», освободите подъездные пути к депо!..» Затем доносились отдаленные свистки, лязг буферов и перекатывающийся грохот трогающегося состава. Жена неслышно спала рядом, лицо ее в мягком утреннем свете было стеариново-белым, спокойным, а от длинных ресниц на нижние веки ложились серые тени. Тихон Ильич не шевелился, чтобы не потревожить ее сон, смотрел, как слабо золотятся верхушки лип за окном, и в душе у него пробуждалась привычная уверенность, что впереди его ждет что-то очень хорошее и очень радостное. Счастлив он был в то время и доволен жизнью своей, хотя жилось им трудно, да и голодно… Дочка часто болела, и жене сначала пришлось взять академический отпуск, а там и вовсе оставить институт. Тихон Ильич постепенно примирился с этим и по назначению уехал в Хабаровск один. Вернулся он три года спустя в тот же двухэтажный старый домишко, похожий на барак, в котором они жили на втором этаже. С работой у него все уладилось. Тихон Ильич устроился в НИИ, и вскоре ему предложили самостоятельную тему по Северному Уралу. С тех пор он каждую весну уезжал на несколько месяцев в «поле», а по возвращении писал отчеты, обрабатывал и систематизировал собранный материал, и к началу следующего полевого сезона у Тихона Ильича не хватало обычно двух-трех недель, чтобы разделаться с текучкой и закончить кандидатскую диссертацию, над которой он корпел уже не первый год… Перед очередной поездкой на север Тихон Ильич становился беспокойным, рассеянным, а в груди у него тревожно и сладко побаливало. Вечерами, когда жена уходила с Людмилой Борисовной на концерт или в театр, а Светлана задерживалась в институте, он доставал из темных недр скрипучего шкафа свои полевые «доспехи», тщательно разглядывал их, прижимая к лицу то свитер, то куртку, и ему казалось, что вещи его все еще хранят в себе запахи костров, пороха, рыбы, и от этих воображаемых запахов у Тихона Ильича начинала кружиться голова и становилось горько во рту. В такие вечера ему не работалось. Тихон Ильич часто курил и не засыпал долго, а, лежа на своей жесткой тахте, напряженно смотрел в темноту. Он не думал тогда ни о жене, которая работала корректором в какой-то типографии, вечно была занята и жила своими, совершенно чуждыми для него заботами; ни о дочери, незаметно превратившейся из ласковой девчушки в полногрудую, коротко стриженную девицу с внимательными и слегка насмешливыми глазами, с которой он редко разговаривал и не знал о ней почти ничего… А вспоминались ему тогда лишь прошлые поездки, пройденные маршруты, и лица проводников вспоминались, словно он видел их только вчера. Видел он и каменистые осыпи, и едва, приметные тропы, по которым пробирался когда-то с рюкзаком за спиной; и заполненные синеватым туманом распадки с торчащими из этого тумана, как из воды, острыми вершинами елок виделись ему; и деревни с черными глыбами изб; и старые гари, с каждым годом все гуще и гуще зараставшие молодыми березами и осинами; и недавние пожарища, утыканные обгорелыми, мертвыми деревьями, издали похожими на скелеты, розовый иван-чай, буйно разраставшийся на этих пожарищах, — все это видел Тихон Ильич так ясно и отчетливо, что хотелось ему в такие вечера только одного: поскорее управиться с отчетами и уехать…
У магазина Тихон Ильич долго искал по карманам мелочь, ужасаясь и страдая от мысли, что вдруг мелочи этой у него не окажется и придется объясняться с таксистом. А шофер, обернувшись к нему, выжидающе смотрел, как он торопливо роется в кошельке, и небрежно постукивал пальцами по спинке сиденья. Когда же Тихон Ильич в конце концов наскреб-таки недостающие копейки и облегченно выбрался на тротуар, шофер так резко тронул машину с места, что она даже как бы присела на задние рессоры, а колеса ее, пробуксовывая, оставили на асфальте длинные темные следы. Тихон Ильич посмотрел на мигнувшие у поворота красные стоп-сигналы такси, поправил шляпу и, обходя широкие лужи, на которых с шорохом возникали и беззвучно лопались прозрачные пузыри, заспешил к магазину. У входа в него громоздились разломанные упаковочные ящики, возвышались сугробы рыхлой бумаги и витых стружек, к ступенькам прилипли цветные этикетки с нерусскими надписями. Однако в просторном салоне оказалось, чисто, светло и торжественно. С высоких окон полукругло свисали мягкие зеленоватые шторы, под потолком бледно сияли лампы дневного света, а вдоль стен, теснясь друг к другу, ровными рядами стояли поблескивающие темным лаком пианино. Что-то великолепно-парадное и вместе с тем отчужденное было в холодном сверкании полированного дерева, в ниспадающих складках штор, в благоговейной, какой-то церковной тишине этого пустого салона, крашеные стены которого водянисто отражали лиловый свет негромко зудящих зарешеченных газовых трубок, подвешенных к потолку. А Тихону Ильичу, как только он вошел сюда, припомнились почему-то захолустные железнодорожные станции, промозглые залы ожидания, заставленные неудобными эмпеэсовскими скамейками с высокими прямыми спинками, с пыльными фикусами в кадках, непременным бачком с кипяченой водой на табуретке в углу, с помятой алюминиевой кружкой на цепи, и как он долгими осенними ночами маялся на этих неудобных скамейках в напрасных попытках согреться и уснуть. Он почувствовал вдруг ту бесприютную дорожную отрешенность, которая охватывала его на маленьких северных станциях, где просиживал он иногда по суткам, дожидаясь поезда и стойко перенося все невзгоды и неудобства, выпадающие на долю лесозаготовителей из степных колхозов, сезонных леспромхозовских рабочих и загулявших отпускников. Тихон Ильич огляделся, будто рассчитывал увидеть где-нибудь повыше облупленного окошечка билетной кассы извлечение из правил проезда по железным дорогам страны, понурую очередь под ним, косо приклеенные плакаты, призывающие граждан не рисковать жизнью, но не было здесь ни облупленного окошечка, ни очереди, ни плакатов. В глубине салона висела табличка: «Оформление в кредит», и сидел там, под этой табличкой, за низеньким столиком молодой человек в черном костюме, и волосы у него были черные, блестящие, разделенные тонким пробором. Тихон Ильич неуверенно направился к нему, а молодой человек, не вставая, вопросительно посмотрел на него снизу вверх и, очевидно что-то решив про себя, вежливо сказал: — Если вам в кредит, подождите минуточку. Сейчас товарищ придет, и мы все оформим. Пока можете выбирать — отечественные напротив. Молодой человек легонько кивнул, и артистическая «бабочка» у него под подбородком хрустнула отчетливо и сухо. Тихон Ильич послушно отошел к отечественным, наугад приподнял тяжелую и скользкую крышку пианино, взглянул на черно-белый оскал клавиатуры, но притронуться к ней не решился. Дальше стояли точно такие же гладкие и холодные ящики, а между ними бесшумно передвигалась коротенькая пожилая толстуха в сером халате. Толстуха смахивала с пианино невидимую пыль, приподнималась на носки, чтобы достать тряпкой сверху, и тогда на ногах у нее взбухали синие узлы, а из-под халата выглядывало сиреневое трико с туго впившимися в тело резинками. Тихон Ильич посторонился, пропуская толстуху, и осторожно, боясь прищемить пальцы, опустил крышку инструмента. — Ну как? Присмотрели подходящее? — Молодой человек повернулся к нему. — «Заря» не устраивает! Импортное желаете? — Да нет… видите ли… — замялся Тихон Ильич, — мне позвонить надо… Простите, я сейчас… Телефон-автомат он разыскал на противоположной стороне улицы, но из дому никто не отвечал: должно быть, жена уже выехала, а Светлана еще не вернулась из института. Тихон Ильич стоял в тесной будочке, прижимая к уху попискивающую трубку, и жалел о том, что приходится терять уйму времени зря, когда жена могла бы прекрасно обойтись и без него. Ведь все равно он ей ничем не поможет, потому что играть не умеет да и вообще ни черта не смыслит в этих полированных гробах. «Какие-то там импортные, экспортные… Черт их знает! Догадается она хоть Светлану с собой взять или эту, Людмилу Борисовну свою? Надо же кому-нибудь сыграть на нем, послушать. А то, чего доброго, артист этот подсунет хлам какой-нибудь, иди потом доказывай, — думал он, прислушиваясь к гудкам. — У нас всегда не по-людски получается…» Когда же он, так и не дозвонившись, вернулся в магазин, толстухи в салоне уже не было, за столом по-прежнему сидел молодой человек в черном костюме, а возле него суетился небритый малый с оплывшим помятым лицом. Малый был в мешковатом коричневом пальто, зеленой шляпе, из-под которой клочкасто торчали длинные волосы неопределенного цвета. — Витя, — заискивающе говорил он, — тебе-то ничего не стоит… Ты не беспокойся, Витя… Я сейчас же исчезну… Меня ведь на летнюю эстраду зовут… Ты сам понимаешь, там у них лабухи… Дешевка, конечно… А они тоже хотят иметь публику… Ты приходи, Витя, когда меня возьмут… Обязательно приходи, старик… Ветлугин не подкачает!.. Ты посмотришь… Меня там будут носить на руках… Ну, а сейчас для души что-нибудь, а?.. Сто лет не прикасался… Давай, а?.. Мы потихонечку… Можно?.. Малый топтался около стола, нагибаясь, близко заглядывал Вите в лицо, натянуто хихикал, хотя было видно, что ему совсем не весело, а худо и тоскливо. Витя старался незаметно отстраниться от него, нетерпеливо ерзал на стуле, и во всем аккуратном облике его чувствовалась нарочитая озабоченность. — Да мне-то что? — говорил он, глядя в сторону. — Мне не жалко… Ты же сам знаешь, что без покупателя не разрешается… А я — что?.. Я — пожалуйста… Дождь вот льет, ну и нету никого. Ты же сам здесь работал, знаешь… Тихон Ильич остановился в нерешительности, а малый подмигнул Вите, радостно потер красные руки, расстегнул верхние пуговицы пальто и принялся разматывать грубый вязаный шарф. — Так вот же тебе покупатель, Витя, — глядя на Тихона Ильича, громко сказал малый и засунул шарф в карман пальто. — Вы, конечно, покупатель? Проходите, пожалуйста… Проходите… Прошу… Он по-хозяйски широко повел рукой, первым шагнул к пианино, с привычной ловкостью бесшумно открыл крышку инструмента, сощурил глаза, словно приглядываясь к чему-то, спрятанному между клавишами, а лицо его приняло отсутствующее и грустное выражение. — Вот, пожалуйста… Очень вам рекомендую… Это солидная немецкая фирма… Обратите внимание… Вот… Ничего, ничего… Не беспокойтесь, пожалуйста, — приглушенно говорил малый, поглядывая то на Тихона Ильича, то в глубину зала, где сбоку, за шторкой, белела узкая дверь. — Вы не беспокойтесь, пожалуйста. Мне ничего не нужно. Я прихожу сюда иногда. Так сказать, помогаю покупателям на общественных началах. Не все же понимают… Есть различные фирмы… Вот… Прошу… Вы можете даже послушать… Его руки, легко и как бы не прикасаясь вовсе, скользнули по клавишам, на секунду замерли, и Тихону Ильичу внезапно почудилось, что рядом с ним и в то же время где-то глубоко внизу кто-то негромко вздохнул, а затем порыв ветра бросил тысячи звонких капель в широкие окна салона. Стекла в них дрогнули и певуче отозвались на этот порыв. У Тихона Ильича вспотели ладони. Он не знал, хорошо или плохо играет этот небритый подозрительный тип с шутовскими ухватками. Он даже мелодии не улавливал, а только понимал, что играющему для него человеку сейчас грустно и на душе у него тяжело, а заискивающая угодливость и шутовство его не настоящие, а напускные. Тихону Ильичу даже подумалось вдруг, что он мог бы взять этого малого с собой на Урал. Перед отъездом в «поле» к ним в НИИ часто приходили наниматься на сезон рабочими какие-то студенты, десятиклассники, временно не работающие и всевозможные почитатели геологической романтики, для которых работа в тайге представлялась в виде меланхолических песен у затухающего костра, неизбежных подвигов, спасательных вертолетов и вообще сплошного удовольствия. Отделаться от них бывало нелегко. «А этого, пожалуй, можно было бы взять, — подумал Тихон Ильич. — Конечно, можно… Пусть поработал бы на съемке, в маршрутах помотался. Там из него, может, человек получился бы… Ведь это унизительно: лебезить перед каким-нибудь отутюженным Витей, приставать к покупателям, на выпивку выпрашивать… Неужели он сам этого не понимает?..» Тихон Ильич был уверен, что малый, кончив играть, непременно попросит у него денег. И не просто попросит, а скажет с улыбочкой, с этакой трусливой лакейской наглостью в голосе: «Нельзя ли одолжиться у вас до лучших времен?..» Или еще что-нибудь скажет, но обязательно попросит. И он заранее приготовился отчитать его, сказать, что никто не просил навязываться со своими услугами и что нужно заниматься делом, а не попрошайничать. Тихон Ильич видел уже мысленно, каким станет лицо у этого малого, когда он ничего не даст ему, да еще и отчитает как следует. Будет оно, конечно, обиженным, растерянным и злым, а он потребует, чтобы Витя вызвал директора, и скажет: «Я этого так не оставлю. Вы учтите это, товарищ директор!..» Потом, конечно, можно будет предложить этому малому поработать сезон в экспедиции, комаров покормить. Да ведь он откажется, понятно. Тоже небось из этих — тонких натур!.. Тихон Ильич обрадовался, когда из той самой узкой двери, что белела за шторкой, показался высокий плотный мужчина в светлом пиджаке, решив, что это и есть директор. Витя поднялся ему навстречу, объясняя что-то, пожимая плечами и поглядывая в их сторону, а мужчина, чуть склонив лысую голову, слушал и недовольно хмурился. Наконец он решительно подошел к малому и тронул его за плечо. Тот обернулся и перестал играть. — Слушайте, Ветлугин, — раздельно сказал мужчина в светлом пиджаке, — вы не маленький и прекрасно все понимаете. У нас не частная лавочка и не ателье проката. Вы, кажется, ничего не собираетесь покупать, значит, делать вам здесь абсолютно нечего. Предупреждаю в последний раз. А сейчас выметайтесь по-хорошему. Небритый малый виновато улыбнулся Тихону Ильичу, вытащил из кармана шарф, тщательно обмотал им шею и молча пошел к выходу. С обтрепанных штанин у него свисали ниточки бахромы. Каблуки у зимних матерчатых ботинок были криво стоптаны. — Тетя Катя! — громко позвал мужчина в светлом пиджаке. — Через полчаса закрываем магазин. Постойте, пожалуйста, у двери. Толстуха вынырнула откуда-то из-за Витиной спины и поспешно засеменила к выходу. Тихон Ильич услыхал, как лязгнул накинутый на двери крюк. «Ну вот, и опять опоздала, — подумал Тихон Ильич, досадуя на жену. — Наверное, снова со своей Людмилой Борисовной заболталась… Чулочки, туфельки!.. А тут еще и Ветлугина этого черти принесли… Надо же! Директор ему помешал, должно быть… Ну, понятно, испугался он его, а потому и ушел сразу… А может, просто ему поиграть захотелось? Что ж, вполне может быть…» И эта мысль неприятно кольнула Тихона Ильича. Он посмотрел на мужчину в светлом пиджаке, на лицо его, плоское, лунообразное, с мясистым приплюснутым носом и отвислыми щеками, на его пухлые руки, бережно прикасающиеся к полированному дереву и оставляющие на нем потные отпечатки, и ему стало совсем неловко. «Так это же ясно, что не нужно ему ничего было. Зашел просто человек, а его… — думал Тихон Ильич, не зная, что теперь делать, и испытывая от этого неловкость. — Ведь действительно видишь почему-то в каждом подлеца или подонка. Черт знает что!..» Тихон Ильич подумал, что и он, когда спорит с женой, когда старается побольнее задеть эту несчастную Людмилу Борисовну, когда насмешливо оттопыривает губы, слушая их, становится, наверное, похожим на этого благополучного и невозмутимого директора. А они чувствуют себя, должно быть, так же неловко и скверно, как чувствует он себя теперь; и им, конечно, стыдно за него, как стыдно ему сейчас за то, что собирался он жаловаться на Ветлугина, хотел отчитать его и вообще думал о нем какую-то ерунду. — Ну, вот и прекрасно, а теперь я к вашим услугам. — Мужчина в светлом пиджаке повернулся к Тихону Ильичу: — Вы, кажется, уже подобрали? Ну, вот и превосходно. Уплатить можете сразу, а доставку придется оформить завтра. Вы не возражаете? Сегодня, как видите, поздновато… Мужчина присел на корточки перед пианино, отчего светлый пиджак собрался складками на его спине, а шея стала багровой, заглянул под крышку, провел по ней пухлыми руками, ковырнул где-то отверткой, звякнул ключами и, выпрямившись, сказал: — Здесь отпустим немножечко и закрывать инструмент на замочек не будем. При транспортировочке шурупчики могут отойти… А сюда записочку положим: «продано». Не возражаете? Тихон Ильич промолчал, а мужчина в светлом пиджаке вытащил из бокового кармана записную книжку, что-то чиркнул в ней, вырвал листок и подсунул его под крышку. — Все в порядке. Выписывать? — Я, вероятно, завтра приду, — глухо сказал Тихон Ильич, краснея и глядя в сторону. — Не стану вас больше задерживать. До свидания… В полутемном коридорчике толстуха торопливо откинула громыхнувший крючок, отступила к стене и, вздохнув, сказала: — Да вы не переживайте так. Чего уж… Завтрава и купите. Раз уж Пал Семеныч, продавец наш старший, оставил, значит, никуда оно не денется. Другому не продадут. У него насчет этого строго. Вот Витьке-то теперя попадет. Он своего дружка приваживает, а я дак и видеть ничего не видела. Того отовсюду прогоняют. И от нас, значит, тоже… Пал Семеныч сам к директору ходил. У него строго… Тихон Ильич болезненно поморщился, понимая, что говорит она о Ветлугине и ждет, чтобы он тоже как-то поддержал ее, сказал бы, что, мол, правильно, гнать таких нужно, но, так ничего и не сказав, вышел на улицу. «Да что же это такое на самом деле? — думал он, шагая прямо по лужам и все еще морщась, как будто у него только что выдернули зуб. — Нехорошо как-то, черт… Взяли вот и выгнали… Ведь не собака же он в конце концов, этот Ветлугин, человек все же… Неловко, конечно… И снова вечер по-дурацки пропал…» Тихон Ильич старался вызвать в себе привычное раздражение на жену, которая затеяла всю эту канитель с покупкой, а сама даже не соизволила прийти, — и не мог. Перед глазами у него стояло растерянное лицо Ветлугина, ровная ниточка Витиного пробора, толстуха в сером халате, пухлые руки Пал Семеныча и неестественно расширенные зрачки его, в которых отражались крошечные пианино, и ему казалось, что холодная пустота салона постепенно заполняет его самого. «Ну, конечно, это к вечеру опять похолодало. Чего доброго, подморозит еще к утру», — медленно размышлял Тихон Ильич, поеживаясь и засовывая руки в карманы пальто.
Дождь кончился, однако было ветрено, зябко и в лицо сеялась мелкая водяная пыль. Навстречу Тихону Ильичу шли люди, не обращая на него никакого внимания. Его обгоняли девушки в шуршащих плащах, парни в спортивных куртках, какие-то озабоченные старушки с авоськами и хозяйственными сумками, и никто не толкал его, хотя на улице было людно и тесно. Тихону Ильичу вдруг захотелось, чтобы кто-нибудь задел, его, пусть бы даже выругал, что ли, чтобы не ощущать вокруг себя какой-то отчужденности и предупредительного безразличия. «Ведь хорошо кому-то сейчас… Весело где-то… Смеются, танцуют… Или сидят себе в тепле у телевизора… — подумал он и даже головой покрутил от подкативших к горлу слез. — Плохо-то как!.. А?.. Гнусно как-то, черт!..» Жену он узнал издали. Она шла быстро, часто постукивая каблуками. Темный зонтик покачивался над ее головой в такт шагам, и она крепко сжимала пластмассовую ручку его узкой, в длинной перчатке рукой. Тихон Ильич обрадованно заспешил ей навстречу. — Что с тобой случилось, Тихон? — тревожно спросила жена, подходя вплотную и вглядываясь в его растерянное и улыбающееся лицо. — У тебя были неприятности? Я опоздала, конечно… Пожалуйста, извини… — Нет, нет… Ничего… Это пустяки… Ветер, черт, холодный… Ты замерзла, наверное… — сипло сказал он, осторожно беря жену под руку. — Давай с тобой погреемся зайдем… Давай в ресторан, что ли… Пойдем куда-нибудь. Жена удивленно взглянула на него, но промолчала. — Я тебе сейчас все объясню… Я сейчас, Аня… Погоди… — ласково и бессвязно говорил Тихон Ильич, приноравливаясь к ее шагу и ревниво, как в юности, следя, чтобы кто-нибудь не толкнул ее случайно, не посмотрел на нее слишком уж откровенно. — Ты понимаешь, Аня, вот я ждал сейчас тебя там, в магазине… Ну и тип там один, понимаешь… Как бы тебе сказать… Они прошли мимо магазина, за темными окнами которого угадывались свисающие шторы, повернули в первый попавшийся переулок, потом повернули еще раз и оказались на широком пустынном проспекте. Кое-где уже зажглись синие и зеленые огни реклам. Но светились они еще слабо. Над домами висели низкие тучи, и казалось, что в конце проспекта они упираются в землю.
И БЫЛ ВЕЧЕР, И БЫЛО УТРО
В райцентре Самошникову пришлось задержаться дольше, чем он предполагал. Приехал он сюда из Москвы поздно, до автостанции добрался чуть ли не к полудню, когда в тесном кассовом зале, около продолбленных в стене тоннельной глубины окошек уже вскипала и колыхалась толпа. «И откуда их тут столько собралось?» — с недоумением подумал Самошников, оглядывая одетых по-деревенски немолодых женщин, которые, напирая друг на дружку, с непреодолимым упорством проталкивались к зарешеченным этим тоннельным окошкам. Раскрасневшиеся, как после бани, потные лица женщин, уже отринутых толпой и выплеснутых на середину зала, какое-то время еще сохраняли выражение загнанной одержимости, как будто сама жизнь зависела от того — возьмут они билет на ближайший рейс или же не возьмут. Но постепенно женщины эти приходили в себя, лица их счастливо светлели, подрагивающими руками прятали они билеты и сдачу, оправляли сбившиеся на плечи теплые платки и, словно бы спохватившись, торопливо направлялись к сваленным на скамейках своим пожиткам. Горбились там мешки с хлебом, лежали связанные охапками, как полешки, целлофановые батоны колбасы, высились пухлые узлы с притороченными авоськами, округло выпирающими апельсиновой кожурой, громоздились сложенные детские коляски, оцинкованные тазы, эмалированные кастрюли и прочая, хозтоваровская дребедень. «Нет, тут между ними не продерешься. И думать даже нечего — на части разорвут, — решил Самошников. — Надо искать «левака», а то поздно будет…» Он вспомнил, как жена говорила ему, что в будни автобусы отправляются отсюда обычно полупустыми, и это уверение ее, а быть может, и маленькая бессознательная ложь представлялась ему теперь как вполне осознанное и расчетливое коварство. Ведь она же знала наверняка, что здесь будет твориться, и могла бы честно сказать, что попросту ей не хочется толкаться в автобусе, а не успокаивать его, не выдумывать себе болезни и не пороть всякой ерунды о том, что не с кем оставить Иринку. Сплавила бы ее к свекрови — и вся проблема! Та, конечно, покочевряжилась бы для вида, но куда денешься — взяла бы как миленькая, не впервой! Самошников вообще не собирался ехать к двоюродному брату жены, который пригласил их — как было сказано в письме — «на скромный торжественный юбилей по случаю моих пятидесяти с гаком лет». Работал он когда-то в шахте, механиком участка, теперь был уже на пенсии, однако перебираться на житье в город не захотел и остался квартировать при шахте, занимая половину длинного, похожего на барак, строения. Самошниковы как-то приезжали к нему, но давно это было, очень давно… Теперь они договорились, что жена поедет одна. И Самошников радовался этому втайне, потому что надеялся лишний раз встретиться с Леной. И не наспех встретиться, не как всегда воровски, а спокойно, заранее зная, что не придется потом ему оправдываться перед женой за позднее свое возвращение, не нужно будет сочинять экспромтов по поводу затянувшихся профсоюзных собраний, срочной работы, неожиданных встреч в метро с бывшими сокурсниками своими по институту и тому подобной чепухи, в которую Валентина давно уже не верила, а он догадывался об этом по той холодноватой отчужденности, с какою выслушивала она его оправдания. Это внешнее безразличие жены прежде неизменно возмущало его; он с еще большей горячностью начинал говорить о постоянной своей занятости, об усталости, о необходимости нервной разрядки, уже почти веря в свои слова и забывая, что лжет; корил жену за холодное ее равнодушие, за черствость, а она не возражала ему, и в неподведенных глазах ее чудилась Самошникову всепонимающая насмешка. «Да, я бесчувственная и холодная деревяшка, — ровным тоном говорила она. — Ведь это же не мне приходится вставать в шесть утра, чтобы успеть приготовить тебе завтрак, собрать Иринку в садик, отвезти ее, потом мчаться на работу, а после работы скакать с полными сумками по троллейбусам и эскалаторам, чтобы успеть вовремя взять Иринку, подогреть тебе ужин, если ты, конечно, не соблаговолишь явиться со своими возвышенными претензиями в два часа ночи после очередного собрания. И квартира, и стирка — это, разумеется, тоже не на мне… Так что давай-ка уж лучше поговорим о чем-нибудь другом…» И то, что не было в ее тоне ни подозрительности, ни ревности, а лишь подчеркнутое безразличие, еще сильнее задевало Самошникова и утверждало его в том, что встречи с Леной — не преходящее увлечение, не пустая блажь и что только у нее находит он понимание, отзывчивость и чуткость. Он, пожалуй, даже признался бы во всем Валентине и ушел бы от нее, если бы Лена хоть как-то подвигла его на этот шаг. Да еще удерживала его дочь Иринка — ласковое беспомощное существо — и, что самое странное, не любовь, конечно, нет, — какая уж там любовь! — а нечто похожее на дальние отзвуки той восторженной юношеской влюбленности, которая владела им в первые месяцы после женитьбы. Валентина была красива, умела, как говорится, подать себя и даже сейчас, в свои тридцать пять, умудрялась сохранить легкую стройность фигуры, избежать лишних морщин, а те, что все-таки появлялись, служили убедительным предлогом для постоянных ее вояжей к массажистке, которая жила где-то у черта на куличках — то ли в Дегунино, то ли в новостройке на Алтуфьевском шоссе…Все сорвалось на этот раз самым глупым образом. Мать Самошникова, глядя на осень, затеяла в квартире ремонт и наотрез отказалась нянчиться с Иринкой. У Валентины подскочило давление, она добыла больничный. Впрочем, Самошников полагал, что истинной причиной всему был звонок какой-то Зинаиды, работавшей в промтоварном. Она попросила его передать Валентине, что в магазин вот-вот должны поступить ковровые дорожки и паласы из ГДР. Вечером, вернувшись от массажистки, Валентина битый час просидела у телефона, уточняя предполагаемые сроки продажи, узор, расцветку и еще бог знает что, а потом, когда они уже легли спать, сказала, что поехать к брату, по всей вероятности, не сможет. — Ты меня прости, но чувствую я себя преотвратительно. Просто с ног валюсь. Иринка последние дни тоже что-то начала хандрить. Не знаю, что с ней делать… А не ехать никому из нас конечно же нельзя. Это будет непорядочно. Ты ведь помнишь, как они нам помогали на первых порах. Я тебя редко о чем-нибудь прошу, Дима, но сейчас поезжай ты к ним один. Пожалей ты нас с Иринкой… Он уловил в ее голосе не свойственные Валентине ласковые нотки, и это заставило его с особой остротой ощутить свою вину перед ней и дочерью. Самошников поспешно согласился, забормотал, поглаживая теплое и мягкое ее плечо: — Да что ты! О чем речь! Я поеду, поеду… А ты пока отдохнешь от меня побудешь дома… С Иринкой повозишься… Она, бедная, нас почти совсем не видит… — Ну, положим, не видит она только тебя. Впрочем, из садика я ее брать не стану. Дома с ней сладу не будет. А если ты поедешь к Степану, она опять с тобой не встретится, — жена снова говорила с ним своим обычным, снисходительным и слегка насмешливым тоном. И это откровенное напоминание о частых задержках, о его вине, больно кольнуло Самошникова. Он вновь почувствовал ее отчужденность, которая лишь на краткий миг прервалась нарочитой ласковостью, прозвучавшей в ее просьбе, ощутил уже привычное возмущение, и собственная его виноватость представилась ему как незаслуженная обида. — Я уже сказал тебе, что поеду, — сдерживаясь,проговорил он. — Можешь не брать Иринку, а заниматься чем тебе вздумается: покупать эти идиотские дорожки, мотаться в свое Дегунино и вообще куда тебе угодно… — Ну ладно, ладно… Не сердись, глупый, — жена коснулась губами его щеки. — Тебе необходима разрядка. Вот и разрядись там, только не слишком увлекайся. Ты не умеешь ограничивать себя, и на следующий день тебе бывает очень худо… Не забывай об этом. А насчет подарка Степану я что-нибудь соображу. Ты не беспокойся, спи…
Один за другим отправлялись переполненные, похрустывающие железными своими суставами автобусы. Ушел и тот, на котором предстояло бы поехать Самошникову, достань он билет, а попутный «левак» все не подворачивался. Таксисты его и слушать не хотели. Не открывая дверцы, а лишь чуть приспустив боковое стекло, заранее отрицательно покачивали они лакированными козырьками своих фуражек и, едва уловив, что надо ему ехать в поселок, молча давили на газ. Он уже было примирился с тем, что уехать ему не удастся, как вдруг приметил под закрытым ларьком серенький, первого выпуска, «Запорожец» на рахитично подогнутых колесах. Стоял подле него угрюмого облика парень и с независимым видом поглядывал на снующий по площади люд. — Ты залазь в машину и пригнись. Я счас, — сказал он Самошникову, когда тот приблизился к «Запорожцу». — Ты залазь, я счас… Парень скрылся за ларьком, потом вернулся к своему колченогому автомобилю, втиснулся на сиденье и, включив зажигание, обернулся к Самошникову. — Тут где-то наш Анискин шустрит, — задумчиво сказал он. — Тебе куда рулить-то? Они проскочили мимо веселой, с зелеными куполами, заново крашенной церквушки, мимо бревенчатого районного музея покорителей космоса, у входа в который торчала облупленная фанерная ракета. Пропылив окраинными улочками, выбрались к реке, миновали нависший над желтой водой мост, окруженную машинами будочку ГАИ на выезде, и тогда угрюмый этот малый посвободнее откинулся за рулем и закурил сигарету. — Они меня прошлый раз тут на трояк наказали! — Он кивнул на будочку. — А сегодня, вишь, проскочили. Усёк? — Нет, — сказал Самошников, — не усёк. — Ну, и лады… Гони тогда червонец, — невозмутимо сказал шофер, протягивая крепкую короткопалую руку. — Они с меня — я с тебя… Усёк? Самошников отдал деньги шоферу. Тот небрежно сунул бумажки во внутренний карман пиджака, выплюнул погасшую сигарету и тотчас закурил другую. — Чудной народ нынче пошел: грошей не считает, — с ленивым превосходством сказал шофер. — Раньше тут, по старым деньгам, пятерку до шахты брали. По-теперешнему выходит — полтинник. А разве сейчас тебя кто-нибудь за полтину покатит? Хрен в сумку! Усёк? Говорил он обо всем этом как бы с усмешечкой, будто невсерьез, однако в цепком прищуре его глаз, в крепких короткопалых руках, покручивающих оплетенное разноцветными проводками рулевое колесо, чувствовалась непонятная какая-то ожесточенность. Самошникову неприятно было слушать праздную эту болтовню, блатные его словечки, и он опасался даже, что ненадежный этот человек может высадить его где-нибудь на полпути. Скажет: не повезу — и все! И ничего ты с ним не поделаешь… Он отмалчивался, не отвечал шоферу. А тот понял, наверное, что надоел пассажиру, и тоже умолк. Сперва ходко катили они вдоль реки, по шоссе, затем съехали на проселок, петлявший чистым березовым леском, где то и дело приходилось притормаживать, чтобы тупорылая их машина могла перевалить через узловатое оголенное корневище, белой костью выпирающее из черной, как торф, земли. Потом деревья порассеялись, сгинули: вновь приблизилась река; и этот берег, по которому они ехали, был высок, обрывист и пуст, а на том — дальнем и низком — разбросаны были там и сям по зеленой пойме выцветшие, рыжеватые копешки сена. Проблескивали сквозь заросли ивняка извилистые старицы; открывались глухие — не подступиться — озерки, в которых, как думалось Самошникову, греются, должно быть, у самой поверхности бронзовые медлительные караси, раздвигая плотную ряску, полощутся под прибрежными корягами выводки диких уток и гнездится в непролазном том ивняке всякая другая мелкая непуганая живность. А еще дальше, за луговой поймой, насколько хватало глаз, темнели по взгорью, словно бы поднимаясь в ниспадающую на них небесную синеву, знаменитые партизанские леса. Были они, конечно, уже изрядно прорежены, посечены давними порубками: когда прогнали из здешних мест немцев и принялись заново обживать свежие пепелища, звонкая строевая сосна шла под топор бессчетно — да и современная высокопроизводительная техника не больно щадила ее, — но отсюда, издали, все еще казались эти леса непроходимо дремучими и бескрайними. Река, пролегавшая теперь рубежом, четко делила видимое Самошниковым пространство на ту благодатную, далекую лесную сторону и бежавшую рядом с машиной пустынно плоскую, пыльную равнину с какой-то солончаковой азиатской порослью по размытым и спекшимся от жары обочинам. Струилось над этой равниной и уплывало за горизонт колышущееся караванное марево, в котором неподвижно висело, зацепившись за четыре полосатых столба — трубы ТЭЦ, зеленовато-пегое дымное облако, и было все это — равнина, облако и трубы — призрачно, как мираж. Самошникову было странно смотреть на эту равнину и думать, что когда-то, миллионы лет назад, громоздились тут влажные тропические дебри. И хотя они исчезли бесследно, вернее, оказались почему-то погребенными на огромной глубине под землей, превратились в каменный уголь, все же сохранились от них кое-где в тех мрачных каменноугольных пластах отпечатки невиданных листьев, отвердевшие куски диковинных стволов. А вот от этих живых, теплых деревьев, очевидно, не останется ничего, потому что изойдут они едким химическим дымом или, в лучшем случае, пройдя через ненасытные утробы бумажных комбинатов и отслужив недолгий свой век, превратятся в конце концов в то самое бесценное вторсырье, на которое какому-нибудь предприимчивому будущему собирателю посчастливится выменять неувядаемые похождения бравого полковника Штирлица, тиснутые уже не на шершавой смертной бумаге, а на лакированно-вечной синтетической пленке. И реке делить тогда здесь будет нечего — одинаково голо станет вокруг. А может, и самой реки уже и в помине не будет?.. Он отвлекся от непривычных этих мыслей, лишь когда машина затряслась, запрыгала по булыжной мостовой пришахтного поселка. Шофер, ни о чем не спрашивая Самошникова, затормозил у Степанова дома, где в палисаднике, под седыми от пыли яблонями, за составленными столами сидели уже подвыпившие гости. Никто из них не обратил внимания на приткнувшийся к обочине кургузый автомобиль. Самошников выбрался из машины и, разминаясь, потоптался у кювета на противоположной стороне дороги, покуда шофер развернулся и уехал. Первой заметила Самошникова Шура, жена Степана. Она наклонилась к мужу, что-то сказала ему и, обходя сторонкой вольно рассевшихся гостей, торопливо засеменила к калитке. Шура улыбалась издали, на ходу вытирая губы краешком светлого платка. — А куда ты Валентину подевал? — спросила она, по-родственному целуя Самошникова и приваливаясь к нему бабьей обмякшей грудью. — Чего же ты без жены-то прикатил? Али с работы ее не отпустили? — Да нет, давление у нее… В общем, не смогла… Приветы всем передавала… Поздравления… — Ну и спасибо ей, спасибо! А ты ее не шибко-то дави! Вот и не будет у ее никакого давления! Вы, мужичье, как придавите, то не приведи господи! — Шура смеялась, пьяненько подмигивала Самошникову, легонько подталкивая его к столу, где уже освободили ему место рядом со Степаном, поставили чистую мелкую тарелку, а на нее — стопку с золотым ободком. — Давай-ка мы тебе сейчас штрафную нальем, чтобы вдругорядь не запаздывал! Степа, именинничек мой дорогой, привечай нашего гостюшка! Степан, неуклюже горбясь, поднялся над столом, крепко обнял Самошникова, прижался к его лицу негладко выбритой щекой, потискал молча и отпустил. — От имени и по поручению… — с шутливой торжественностью начал было Самошников, извлекая из портфеля перекрещенную голубой ленточкой упаковку с иноземной какой-то наклейкой, изображающей добра молодца с электробритвой в руке, однако почувствовал, что собравшиеся не примут его шутливого тона, и смешался. — Мы с Валей горячо поздравляем, конечно… Желаем прожить еще столько же… Здоровья… В общем, как говорится, счастья в семейной и личной жизни… Никто из гостей не улыбнулся этой его шутке. Степан принял сверток и, как бы стесняясь лакированной наклеечной пестроты, поспешно сунул его в кучу разновеликих коробок и пакетов, уже грудившихся позади него на сдвинутых стульях. — Спасибо тебе, Дима, уважил, — сказал он. — А что Валентина к брату своему не выбралась — это ничего. Ты приехал, — значит, порядок в танковых частях! Мы за нее сейчас с тобою и выпьем. Пускай ей там полегче икается. Ну, будь!.. Степан подождал, покуда Самошников опорожнил свою стопку, отхлебнул из граненой рюмки и поставил ее на стол. — Ты на меня не гляди… Мы тут уже посидели малость, махнули… Ты не стесняйся, закусывай, а я погожу пока, покурю, — сказал он и, сгорбившись, нашарил в кармане наброшенного на спинку стула выходного коричневого пиджака пачку «Беломора». Из-под отворота пиджака выглядывали потускневшие медали, две «Славы» — одна на потертой ленточке, а другая новая, сиявшая незамутненным гознаковским блеском. — А я и не знал, что ты у нас чуть ли не в героях ходишь! — напуская на себя удивление, но в то же время словно бы и с ненарочитой почтительностью сказал Самошников. — Почти полный кавалер! Чего же ты раньше нам не признавался? — Дак не в чем признаваться-то было. Ведь и сам ничего толком не знал — память у меня тогда начисто отшибло. Это вот она расстаралась! — Степан, смущенно улыбаясь, кивнул на сидевшую по другую сторону от него худощавую, рано поблекшую женщину в темном глухом платье и с набрякшими, по-крестьянски узловатыми руками. — Это она во все инстанции писала. Ну там, значит, пока проверяли, то да се… Недавно вот получать ездил… Ты, Дима, не стесняйся, тут все свои! Это вот она героиня, наша Нинка Козыриха… Нина Васильевна то есть… Она у нас на шахте в ламповой работает. А это — Иван Михалыч, мой бывший начальник участка, или, как у вас говорят, — шеф. Ты, Дима, познакомься с ними, не стесняйся… Приподнявшись, Самошников пожал сухую, жесткую ладонь женщины, пухлую руку Ивана Михайловича, который тоже вежливо приподнялся ему навстречу, перегнулся через стол, пробормотал «очень приятно» и, чирканув концом широкого галстука по закускам, грузно опустился на место. К остальным гостям было не дотянуться, и Самошников, улыбаясь, лишь покивал им издали. Он действительно испытывал сейчас нечто вроде неловкости, но не перед гостями, а перед Степаном, потому что брат жены мало походил теперь на того простоватого, молчаливого мужичка, который приезжал к ним когда-то вместе с Шурой…
Появлялись они у Самошниковых, занимавших тогда узкую комнатушку в коммунальной квартире у метро «Сокол», всегда неожиданно, обычно осенью. В коридоре Шура тяжело стаскивала с плеча просторный чемодан, в гулкой фибровой пустоте которого одиноко перекатывалась банка яблочного варенья, отвязывала прикрученное рушником к ручке чемодана эмалированное ведро. И по тому, как пахла пропитанная рассолом холстинка, которой была укутана крышка ведра, Самошников почти безошибочно определял — грибы это или капуста. Степан протискивался мимо Шуры в комнату и тотчас же закуривал, усаживаясь на скрипучую старенькую тахту, поближе к телевизору. А Шура, распеленав свои многочисленные платки, не причесавшись, с прилипшими к вискам потными волосами, схваченными на затылке в жиденький пучок замусоленной тесемкой, немедленно отправлялась в кухню — здороваться с соседками. Через минуту оттуда уже доносился ее возбужденный голос: Шура рассказывала, как ехали они от вокзала в метро и какой-то хмырь все норовил подладиться ей под бок — «видать, деньги хотел нащупать, обормотина!» — однако она его так двинула, что он отлетел к самой двери… «Не на такую дуру напал, ханыга! — кричала в кухне Шура. — Думают, раз они городские, а мы деревенские, значит, уже никакого понятия не имеем! А еще и черные очки на морду нацепил, алкаш!..» Самошников просил Валентину сходить за Шурой, но Степан останавливал ее у приоткрытой двери. «Ты погоди, Валь, — говорил он, хитро поглядывая на Самошникова. — Ты не торопись. Я вам сейчас один фокус покажу. Она мигом тут будет…» Он пошире приоткрывал дверь, громко прокашливался, провозглашал «ну, будь!» и стучал пустым стаканом о стакан. Раскрасневшаяся Шура возникала на пороге комнаты, как из-под земли. «А я подумала, что они уже керосинить начали! Ну, ханыги! Ну, мужичье! Ты за ними в оба гляди, Валька! — все еще заполошно кричала она. — Сперва надо девкам все шмотки покупить, а потом уже свой керосин жрать будете! У-у, ханыга!..» Шура незлобно замахивалась на Степана, тот прикрывал голову руками, смеялся. И эта заполошность ее, и необидная, в общем-то, грубость, и нелепые рассказы, с которыми Шура лезла на кухне к соседкам, неизменные чемодан и ведро — все это вызывало у Самошникова жалость к ней и ощущение стыда перед соседями. «Да ты хоть не кричи так, пожалуйста, — намеренно понижая голос, просил он Шуру. — Здесь же не глухие живут. Не надо так кричать». На следующий день они с горем пополам выкраивали время: Валентина уводила Степана в Исторический музей, в Оружейную палату или же в Третьяковку — приобщала к культуре. А Самошникову приходилось вслед за Шурой мотаться по магазинам, таскать узлы и свертки с детскими колготками, платьицами, кофточками, пальтишками, выстаивать длинные очереди черт знает за чем… В своем стремлении пробиться к прилавку, вырвать нужную вещь Шура была суматошлива, настырна и неукротима. «Что дают?!» — кидалась она к какой-нибудь растерзанной бабенке, которая, прижимая к животу покупку, ошалело хлопала глазами, еще не веря, что удалось ей, целехонькой, выбраться из вавилонского этого столпотворения. «Са-м-м-мо-жки… им-м-мотные… м-м-молоньи…» — сипло мычала бабенка, и Шура мгновенно ввинчивалась в толпу. «Ты сюда гляди! Сюда! Держись за этой дамочкой! — притягивая Самошникова за рукав, по-хозяйски распоряжалась Шура в очереди. — А вот эта девулька уже после тебя будет. Я там побегаю, узнаю, может, и не хватит… А ты покудова никуда не уходи, постой…» Самошников послушно «держался за дамочкой» и со злостью думал, что, если бы там, у прилавка, вместо импортных сапожек на молнии давали бы каждому подошедшему по шее, Шура непременно бы втерлась в очередь и дождалась своего… Впрочем, после их отъезда в бюджете Самошниковых, помимо стипендий, появлялись на короткий срок непредвиденные деньги. Валентина покупала сырокопченую колбасу, бутылку сухого вина, они ели грибы и вообще — кутили. Валентина подтрунивала над его торговыми увлечениями, а Самошников клялся, что больше ни за что на свете не согласится бегать с мешками по магазинам. Пусть хоть разок побегает Валентина — ведь в конце концов это не его родня! — а он в крайнем случае попьет со Степаном пива где-нибудь в Лужниках или на ВДНХ. Однако на следующую осень опять приезжала Шура, и все повторялось… Теперь Степан не казался ему затурканным простачком, да и Шура была иной. Она как будто утратила свою заполошную грубоватость — не кричала, не суетилась, хотя с появлением Самошникова больше так и не присела к столу. Шура уходила то в дом, то в летнюю кухню, возвращалась к гостям, подкладывала им закуски, убирала пустые бутылки и доставала откуда-то полные. И только в том, как бесшабашно бухала она на середину стола эти бутылки, как охотно чокалась со всеми, а затем, лишь пригубив рюмку, незаметно выплескивала водку через плечо, угадывалась прежняя наигранная разухабистость той самой Шуры, какая помнилась с далеких студенческих лет…
— А ты чего сидишь, не закусываешь? Ты грибков себе положи солененьких, грибков… Помнишь, мы тебе привозили? Ты теперь их тут поешь… Это уже нынешние, грибки-то, ты поешь их, поешь, — увещевал его Степан, тыкая вилкой в заливную рыбу и стараясь попасть в дольку лимона. — Или вот лучше с Нинкой нашей, с Ниной Васильевной то есть, выпей! Это ведь она все сделала… И из лесочка тогда на себе вытащила… Я про нее тебе говорил, нет? — Да говорил, говорил! Будет тебе… — Козыриха смущенно взглянула на Самошникова, а худые щеки ее слегка порозовели. — И так всем уши прозудел уже… Будет… — Нет, ты погоди! Вот она, Дима, — человек! Мы тогда за Одером стояли. Там, знаешь, лесочек такой немецкий, ухоженный, вроде нашего парка городского. А позади — поле чистое… Вот они и прихватили нас в том лесочке и раздолбали! Ну, прямо под орех разделали! — в голосе Степана проскальзывало нерастраченное удивление, словно бы он до сих пор еще изумлялся тому, что остался в живых. — И откуда они только там взялись — самоходки эти ихние, «фердинанды», знаешь? Ну, в общем, из нашей батареи одна пушчонка осталась, а из расчета — я за всех… Пока снаряды под рукой были, кое-как управлялся. А потом кинулся в нишу — пусто! Глянул, она уже против меня гусеницами песок скребет, сосну под себя подмять не осилит… Я и не услыхал, как меня долбануло! Очнулся — темно, ночь. И чую, что волокут меня куда-то… Затрепыхался я, а она снизу, из-под меня, значит: «Миленький, — хрипит, — мне бы с тобой через поле перелезть, а там — жить будем… Там наши… Ты потерпи, миленький…» Второй раз очухался уже в медсанбатовской палатке, на столе, когда железки из меня повыковыривали… Поверишь — нет: ни хрена не помнил! А вот как тащила она меня через то поле ночное, немецкое, не забыл. У меня раньше даже так было — засну, а в голове голос ее хрипит: «Миленький, потерпи, нам с тобой только через поле… миленький…» Я ее больше по голосу-то и признал, когда она в госпитале меня после Победы разыскала… Давай, Дима, мы с тобой за ее здоровье выпьем. Ну, будь! Степан поднял рюмку, но не выпил, а лишь горько покривил губы. Крупное лицо его с твердо выпирающими скулами, поклеванное синеватыми точечками въевшейся навечно угольной пыли, приняло какое-то беспомощное выражение. Самошникову невмоготу было смотреть на него, и он отвернулся. Ему подумалось вдруг, что Степан заплачет сейчас, заплачет по-пьяному, хватая себя за грудь и рассыпая с рубашки пуговицы, но тот только хлюпнул горлом и, расплескивая водку, отодвинул от себя рюмку. — Ты выпей, — неожиданно трезво сказал Степан. — Она баба святая… Тут не за меня, а за нее надо пить… А Козыриха сидела молча, расслабленно уронив на скатерть свои набрякшие руки и напряженно выпрямив спину. Под глухим, обвисшим на груди платьем ее угадывалось усохшее, костлявое тело. — Правильно, Степан! Это ты верно сказал, что она у нас святая! — Неприметный доселе седоватый мужчина качнулся рюмкой к Самошникову с другого конца стола. — Ты вот из Москвы до нас приехал… Ладно… Я тебе сейчас все скажу… Ты слухай сюда! — Дак не надо, Витя, все… Не надо! Ты сядь лучше. Потом все скажешь, — конфузливо улыбаясь, потянула его за рубашку сидевшая рядом с ним полная миловидная женщина, однако мужчина отмахнулся от нее. — Вот и Михалыч подтвердит! Я шахтер, а он мой начальник, но мы с ним по-человечески: сели, выпили — все по-культурному! Ты сюда слухай, — снова обратился он к Самошникову. — Был я в селе в прошлом месяце… В отпуске, конешно… Ну сады там, сам понимаешь, яблоки-груши и все прочее… А я с племянницей в лес пошел за маслюками — тама их тьма-тьмущая! Под каждой сосенкой по ведру! Ну, идем улицей, в общем, — дома один к одному: белые, кирпичные, под шифером… — Да-да… Село сейчас поднялось. — Иван Михайлович вежливо наклонил голову. — Особенно, знаете, в последние годы. Стали больше обращать внимания… — Точно, Михалыч! Внимание! — обрадовался шахтер. — Ну, вот, значит, идем мы с ней по селу, — а она девчонка смышленая, в пятый класс перешла, зараза, — и душа у меня радуется! Только пригляделся — там хатенка под соломенной стрехой топорщится, там другая похилилась. Правда, редко так по улице, ну как словно бы гнилые зубья во рту. Сплошь белый ряд — и на тебе: торчит этакий пенек кривобокий! Что за черт, думаю? Это куда же, спрашиваю у ее, ваш председатель колхоза глядит? Хатка-то не ровен час упадет, хозяина придавит. А тут, говорит она мне, не председатель живет, тут — бабка Софиечка. Деда у нее на фронте убило. И сыновей поубивало… Одна она тут живет, а председатель у нас новый. Он себе дом по другой улице построил, около правления. Хороший такой дом, говорит, кирпичный, даже поболе этого будет… А в этом-то кто живет, спрашиваю? В этом — заведующий почты, говорит. Ладно… А там, спрашиваю? Там, говорит, — зоотехник… Ну, думаю, теперь я и без тебя разберусь, где какое ваше начальство обстроилось. Вот, говорю ей, в этой хоромине о восьми окнах и под железом ваш главный агроном проживает. Угадал? Нет, говорит, дядя Витя, не угадал… Здесь, говорит, бабка Марьюха живет. Одна, спрашиваю? Одна, говорит. Дед ее у нас в колхозе ветеринаром был, помер недавно, а зять на товарной станции кладовщиком работает… А сама смеется — смышленая она у меня, зараза! Вон аж там, говорит, где под соломою, — это теткина Настина хата. Значит, у Насти этой дядьку в войну убило, спрашиваю? Нет, говорит она мне, не дядьку. Мы ее мужа нашли, когда красными следопытами в Полушино ходили. В братской могиле он там лежит, и на памятнике про него написано… — Ты к чему все это развел, Виктор Петрович? — несколько насупившись, поинтересовался Иван Михайлович. Он подцепил ножом кусок холодца и пододвинул к себе вазочку розового, залитого свекольным соком хрена. — Не пойму я тебя чего-то. Ясное же дело — безмужние которые, вдовы… Им, конечно, строиться труднее: один ведь руки-то… — Так я про то же самое и толкую, Михалыч! — с проникновением сказал шахтер. — Это только понять надо — всю жизнь одни! В войну в колхозе — одни, после войны, считай, с калеками… А ведь они еще и не старыми были, бабки-то эти нынешние. Ну, как вроде бы Нинка наша, Козыриха, когда она к нам на шахту пришла. Может, помнишь, Михалыч? — Ну, помню, а что? — Дак они же своих мужиков да детей стране отдали! Сколько пота-слез ими пролито, а пенсия — с заячью душу… Бери, бабка, и ступай, доживай свой век в развалюхе. Много ли тебе, старой, надо? Доскрипишь и так… А они святые — это точно! — Так что же теперь, молиться на них прикажешь или в ножки им кланяться? — Иван Михайлович отпил из фужера минеральной воды и иронически прищурился на всплывающие к поверхности газовые пузырьки. — Сам-то ты чего хочешь, не пойму? — Зачем молиться… Да будь я министром каким, приказ издал бы: всем бабкам одиноким, которые в войну робили, а теперь в халупах век коротают, новые дома поставить за государственный счет! Ведь дают же сейчас инвалидам безногим машины бесплатные… А насчет Нинки нашей — отдельный указ за то, что Степана из боя вынесла! — Машины — безногим инвалидам войны дают. Много ли нынче этих самых безногих осталось? Сам посуди… А на бабок твоих никакого бюджета у государства не хватит, — веско сказал Иван Михайлович. — Они, эти бабки твои, живучие, как щуки. Из воды ее вытянешь, кинешь в траву, сядешь перекурить, а она все пасть разевает, все норовит тебя за ногу тяпнуть… Женщины за столом сдержанно засмеялись. А Козыриха без улыбки посмотрела на переминающегося с ноги на ногу Виктора Петровича. — Ты меня с ними не равняй, — низким, словно бы прокуренным голосом сказала она. — У меня и пенсия поболе ихнего, и вообще… Ты бы лучше, Виктор, свою дурь перед другими не выказывал, не молол бы, чего не знаешь. Ишь ты, какой министр у нас отыскался! — Да ты сядь, Витя, сядь… — украдкой тянула шахтера за рукав миловидная его жена, покуда тот не опустился на стул подле нее. — Говорила я тебе — потом все скажешь… — Отцепись ты от меня, зануда, — досадливо пробурчал Виктор Петрович. — Пристала, как банный лист… В неожиданно наступившей неловкой заминке Шура кинулась было подливать в рюмки, но мужчины уже задымили сигаретами, женщины, пересмеиваясь, зашушукались о чем-то друг с дружкой, — и всем стало понятно, что подоспел тот переломный момент, когда в самый раз выбираться из-за стола, а то может произойти перебор. Время не раннее, а завтра на смену, голова болеть будет. Однако никто не решался первым покинуть застолье, все сидели на своих местах, хотя и сознавали, что пора бы отправляться по домам. Так прошло еще несколько минут. Потом все как-то дружно поднялись, начали прощаться, подходили к Степану, трясли руку. Шура упрашивала каждого «посидеть еще хоть полчасика», но гости благодарили хозяйку за хлеб-соль и отказывались. Ушел и Иван Михайлович вместе с нетвердо ступавшим Виктором Петровичем, который, пока шли они к калитке, часто останавливался, что-то доказывал своему тоже заметно погрузневшему начальнику, разводил руками, а миловидная жена Виктора Петровича старалась поддержать мужа под локоть, но тот отмахивался от нее, как от назойливой мухи. Самошников тоже поднялся, раздумывая, как ему теперь быть: то ли оставаться ночевать, то ли попытаться успеть на последний автобус. — А ты куда заспешил? — окликнул его от калитки Степан. Он накинул на плечи выходной свой пиджак, который при каждом шаге издавал медальный перезвон. — Тебе-то, поди, не на работу?.. — Вообще-то я за свой счет взял, — неуверенно сказал Самошников, — но, может, еще на автобус успею… — Да ты что? — Степан обиженно насупился. — Шура с Нинкой сейчас приберут маленько, и мы с тобой еще врежем. Переночуешь у нас, а завтра видно будет. Самошников согласно кивнул. С наступлением сумерек в тесном Степановой палисаднике сделалось как будто бы просторнее. Потемневшие заросли жасмина у ограды словно бы отдалились, отодвинулись в наползающую на них туманную мглу и почти слились с повлажневшими камнями булыжной мостовой. Теперь и низкие эти кусты у забора, и поднятая насыпью дорога, и лежащая за ней неширокая полоска истоптанной сизой травы — все это пространство, за которым желто светились окна других домов, полнилось синеватым зыбким туманом, хотя, быть может, это и не туман был вовсе, а осевший к земле дым с террикона, потому что пахло от него сырой угольной гарью. Пыльные листья яблонь слабо серебрились в попадавшем на них желтоватом оконном свете и казались пушистыми, покрытыми теплым нетающим инеем. Из открытой двери летней кухни тоже падал яркий электрический сноп, а собиравшие грязную посуду женщины то внезапно появлялись в нем, то пропадали в темноте, то вдруг опять возникали около стола; и было такое впечатление, что не ходят они, а неслышно проникают сквозь свет и тьму. Самошников как остановился, не дойдя до калитки, так и стоял теперь, привалившись к ограде, поглядывая, как на вершине невидимого террикона изредка вспыхивает и гаснет красный огонек. Оттуда, с будто бы уже запредельной, недосягаемой высоты, время от времени доносился приглушенный грохот опрокидывающейся вагонетки; шуршали скатывающиеся по склону куски породы; и оттуда же — откуда-то с той стороны — слышался неумолчный гул шахтного вентилятора. Он то почти затихал, относимый, должно быть, неощутимым здесь, в палисаднике, ветром, то вроде бы приближался, набирал силу, однако, так и не поднявшись все же до высшей своей вибрирующей пронзительности, постепенно стихал и отдалялся. Позвякивая медалями, из кухни вышел Степан. Со свету не различая Самошникова, он слепо вглядывался в темень, ступал осторожно, а тому было забавно смотреть, как движется он бочком, ощупывая ногой землю, — словно в погреб спускался или же в холодную воду входил. — Вот мы сейчас с тобой и врежем, — радостно сказал ему Степан, подходя к столу и доставая из внутреннего кармана пиджака бутылку водки. — Давай-ка по-быстрому, пока наши бабы не спохватились. Я эту штуку у них из-под рук увел. Однако Самошникову не хотелось пить. — Ты знаешь, Степан, мне она сегодня что-то не в масть пошла, — извиняющимся тоном проговорил он, подходя к столу. — Ты уж один выпей, если хочешь, а я не буду. — Ну гляди, тебе жить! — Загораживая собой стол, Степан разлил водку по фужерам, выпил свой и зачерпнул ложкой соленых грибов. — Вот теперь все — норма. А то как разведут тары-бары, ни выпить тебе толком, ни закусить. Он переставил наполненный фужер подальше, к середине стола, а пустую бутылку сунул куда-то позади себя в траву. — Слушай, а Козыриха эта, Нина Васильевна, родственница Шурина, что ли? — как бы между прочим, стараясь говорить безразличнее, спросил Самошников, запоздало чувствуя, что не надо бы ему вовсе спрашивать Степана о Нине Васильевне, потому что в досужем его вопросе словно бы таился какой-то намек, некая скрытая бестактность, которая теперь стала очевидной. — Да нет, — помолчав, неохотно отозвался Степан. — Я же тебе говорил, что она меня из того лесочка вынесла, а потом из госпиталя забрала и домой привезла. Земляки мы вроде бы с ней… Шуре она вот девок помогала нянчить. Вдвоем, можно сказать, их и вырастили. Дак ведь и живем-то по-соседски. Как приехала тогда, так и осталась насовсем… Самошникову хотелось спросить, есть ли у Козырихи своя семья — муж, дети, но тут из летней кухни показалась Шура, а за нею вышла и Нина Васильевна. — А вы, гляжу, еще подзарядились, мужики? — спросила Шура, беглым взглядом окидывая стол. — Тебе, наверное, и хватило бы, а, отец? Гость-то наш, глянь-кось, совсем тверезый. А ты у меня хорош, ой хорош! Говорила она со Степаном распевным каким-то, ласковым голосом, как с капризным ребенком. И Козыриха смотрела на него с сострадательной материнской улыбкой, отчего монашески отрешенное лицо ее слегка посветлело и оживилось. Степан подошел к женщинам, широко раскинув руки, обнял их, прижав к себе с обеих сторон, потискал за плечи и подмигнул Самошникову. — Все, бабоньки вы мои, подруженьки! — с нарочитой хмельной самоуверенностью сказал он. — Все — норма! Порядок в танковых частях. Мы с Димой сейчас вам поможем. У нас с ним всегда порядок! — Ладно уж вам, помощники… Сами-то, поди, на ногах еле держитесь, — ворчливо сказала Шура, поводя плечами, освобождаясь от вялой мужниной руки, будто стряхивая ее с себя. — Ступайте-ка спать, без вас управимся… — А и то правда. Иди, Степа, отдыхать, иди… — поддержала Шуру Козыриха. Она довела Степана до крыльца и словно бы в шутку предупредила: — Вы тут без меня утром не похмеляйтесь. Отгул у меня завтрава, я до вас забегу…
Самошникову постелили на диване-кровати в зале, где за сервантным стеклом отражались в зеркале хрустальные рюмки, стоял в углу телевизор на жиденьких, по-телячьему растопыренных ножках, а на подоконниках топорщились иголками пузатые кактусы в обернутых бумагой горшочках. Он лежал на спине, вытянувшись, ощущая голыми плечами, всем телом своим шероховатую жесткость подкрахмаленного пододеяльника, вдыхая непривычный, дождевой запах наволочки. И эта незнакомая свежесть чужой, не домашней, постели была особенно приятна ему после долгого и утомительного дня. Шура со Степаном ушли в смежную с залом комнату, притворили дверь, потушили свет. Однако сразу почему-то не улеглись. И Самошникову было слышно, как передвигали они там что-то в потемках, топали босыми ногами по полу, разговаривали приглушенно, — Шура, должно быть, корила Степана за то, что не удержался он все-таки, выпил лишнего. Степан оправдывался, примирительно бубнил что-то невнятное. А Шура, позабыв, наверное, о Самошникове, о том, что может он услыхать их разговор, вдруг сказала громко, с обидой и ожесточением: — Это ты Нинке своей ненаглядной зубы заговаривай! Она, дура, за тобой до седых волос в девках пробегала. Может, и поверит тебе, пожалеет разок. А с меня хватит. Слыхала я твои зароки. Ученая! Степан закашлялся, забормотал в ответ, сердито повышая голос, однако слов его было не разобрать. «Так ведь она ревнует его к Козырихе! — удивленно, с каким-то веселым осуждением подумал о Шуре Самошников. — Ну, и дают родственнички! Дочерей давно замуж повыпихивали, а сами все еще чудить продолжают. Ай да Степан, ай да молодец парень!» Самошникову подумалось, что Валентине, пожалуй, и в голову не пришло бы устраивать ему сцены, если бы она не только догадывалась о его встречах с Леной, но даже если бы знала о них наверняка. Впрочем, знать-то она, конечно, ничего не знала — это точно. А вот насчет того, что не догадывалась, в этом он был далеко не уверен. Самошников подумал еще, что и отчужденность в его отношениях с женой, которая приобрела теперь оттенок прочно устоявшегося, заскорузлого какого-то взаимного безразличия, определилась окончательно именно в то время, когда в информационном отделе «Водстройпроекта» — где он отвечал за подготовку к публикации рефератов, кандидатских диссертаций и прочей печатной продукции, издававшейся на правах рукописей, — появилась новая литправщица, а официально — младший научный сотрудник Елена Александровна Варсеньева. Правда, в первые месяцы Самошников не обращал на нее особого внимания, не выделял среди остальных сотрудниц отдела. Расклешенные брючки, светлый лак на ногтях, подкрашенные прямые волосы, синеватые тени на веках — все как положено. Да и разговоров-то было: «Дмитрий Константинович, я завтра задержусь на полчасика. Моя бабушка очень плохо себя чувствует… Дмитрий Константинович, вы мне разрешите сегодня пораньше уйти? Я обязательно отработаю…» Но затем они как-то незаметно потянулись друг к другу, раза два ходили в кафе, были, кажется, на дне рождения у ее приятельницы Веры, которую называли потом в шутку между собой «некрупной, но изящной». Вот эта самая «некрупная, но изящная» Вера и сблизила их окончательно. «Ты знаешь, — сказала ему однажды Лена, когда в обеденный перерыв никого, кроме них, не было в отделе, — тебе абсолютно не идет быть у нас начальником. Как говорят о тебе наши девчонки, — классной дамой, которая неусыпно блюдет нашу нравственность, следит, чтобы мы не опаздывали, не убегали раньше с работы и относились ко всякому кандидатскому бреду с должным вниманием». «А кем же идет, по-твоему? — изображая живейший интерес, спросил он, улыбаясь и привычно настраиваясь на тот непринужденно-иронический тон, который господствовал у них в институте. — Уж не руководящим ли работником районного масштаба, а?» «Мне трудно объяснить это тебе, Дмитрий, — спокойно и как бы подчеркнуто не принимая его иронии, с задумчивой серьезностью сказала она. — Давай-ка хоть раз попробуем побыть самими собой. Не надо ёрничать. Если говорить о нашей конторе, то в ней, пожалуй, — никем. Я вот, например, представляю тебя за грубым дощатым столом в какой-нибудь курной, заваленной снегом избушке. Под потолком горит керосиновая лампа. И ты, конечно, не в этом бесподобном галстуке, а в деревенском, ручной вязке свитере и с бородой… Ну, и чтобы под окнами лыжи стояли, воткнутые в сугроб. А над ними, знаешь, такие толстые сосульки свисали бы с крыши. И стекла бы в окнах чтобы чуть-чуть подтаяли сверху и золотились бы от солнца… Понимаешь?» Он не сразу сообразил, о чем она говорит, и несколько оторопело взглянул на ее погрустневшее в задумчивости лицо. «Да ты хоть представляешь себе, что такое курная изба? — искренне изумился он, стараясь осознать до конца, что же это на нее вдруг накатило. — Это когда трубы нет совсем, а дым из печки прямо в комнату валит, и надо дверь на морозе держать открытой, чтобы не задохнуться! Ничего себе удовольствие… Теперь твоих курных избушек и в помине-то не осталось! И зачем там лампа будет гореть, если день на дворе, солнце светит? Ты меня прости, но ведь это же чепуха какая-то… Что с тобой случилось?» «Не волнуйся. Со мной ничего не случилось, — по-прежнему спокойно и без всякого сожаления сказала она. — Я просто убедилась, что ты меня не понял. Ты привык, когда все по полочкам, со всех сторон логически подкреплено, строго обосновано и правильно… Ну, а мне хочется, чтобы в той избе обязательно горела керосиновая лампа. Ты понимаешь? Го-ре-ла! И чтобы стекло у нее с одного боку было закопченное и красноватый язычок пламени над фитилем, как при затмении, сквозь копоть просвечивал… Ну, и что из того, что день на дворе, солнце светит? Разве нельзя днем зажечь лампу?» «Отчего же нельзя? Можно, конечно», — сбитый с толку ее спокойной настойчивостью, растерянно согласился он, еще не зная, как ему лучше выпутаться из непонятной этой ситуации. «Вот видишь, как все просто. Надо только на минутку освободиться от привычных рамок…» «Ну, конечно, конечно!.. А ты пойдешь с ведрами к колодцу. Там еще тропинка в снегу…» — радостно перебил он, неуклюже пытаясь поддержать эту, как казалось ему, нелепую игру, но, увидев заблестевшие на ее глазах слезы, осекся. «Ну, а почему ты решил, что я тоже буду в этой избе?» — дрогнувшим голосом спросила она. Он молча шагнул к ней, однако Лена, словно отталкивая его, предупреждающе вскинула руку и оглянулась на дверь. «Не смей ко мне подходить! Ты совсем с ума сошел! Сейчас кто-нибудь из девчонок явится, — в ее словах прозвучал неподдельный испуг. — Не хватало еще, чтобы нас с тобой засекли прямо в отделе…» Самошников тогда, кажется, не на шутку перетрусил, что их действительно могут «засечь», и, доставая на ходу сигареты, поспешно вышел на лестничную площадку, где под огнетушителем висела успокаивающая табличка: «Место для курения». Очевидно, вышел он вовремя, потому что на лестнице уже слышался говор и смех возвращающихся из буфета сотрудниц… А в конце декабря, вскоре после того случая, Лена предложила ему заранее встретить их первый Новый год где-нибудь за городом, в лесу. Сначала Самошников решил увильнуть, сославшись на простуду дочери, однако потом блажное это желание ее показалось ему занятным и даже романтическим. С работы он забежал в гастроном, купил бутылку шампанского, плитку шоколада, апельсинов, Лена терпеливо ждала его на платформе «Ленинградской». Они сели в полупустую позднюю электричку и через десяток минут оказались вблизи дачного поселка в Красногорске. Электричка с воем и грохотом унеслась в темноту, а они спустились с платформы и пошли вдоль поселковой ограды по неутоптанной, рыхлой тропке. Позади, над будочкой билетной кассы, в радужной дымке изморози светились фонари. Рядом прятались в глубокой тени летние обезлюдевшие домики садоводов, а впереди чернел прогонистый сосновый молодняк, который на фоне недавно выпавшего снега казался им отсюда непролазно глухим и таинственным. Затянутое тучами небо было неярко опалено высоким заревом близких городских огней. И отсвет неяркого этого зарева ниспадал на верхушки сосен, слабо озарял Ленино лицо, растекался по снегу, усеянному четкими крестиками опавших иголок и слюдяными чешуйками похрустывающей под ногами коры. На поляне, неподалеку от тропы, они отыскали небольшую опушенную снегом елку, Самошников достал из портфеля шампанское, прихваченный в отделе стакан. А когда они выпили, пожелав друг другу счастья в новом году, когда он обнял Лену и, целуя, ощутил горячую шершавость ее мягкой щеки, влажный холод пахнущих вином губ, — откуда-то из лесной глубины донесся треск веток, послышался шипящий какой-то шелест и скрип: должно быть, кто-то к ним шел, вернее, ломился прямиком по этому черному, застывшему в безмолвии лесу. Чувствуя, как колкий озноб окатывает его с головы до ног, Самошников, словно в замедленном кино, отшатнулся от белеющего перед ним Лениного лица. Но, еще и не обернувшись к тому неизвестному, что тупо надвигалось на них, он каким-то по-звериному обостренным боковым зрением увидел нечто приземистое, бесформенное, не спеша выползающее на поляну из-за черных стволов. Самошников резко повернулся, задев полой расстегнутого пальто елочную лапу, с которой бесшумно сорвался комок снега. А то, что выползло уже на поляну, приближалось к ним, вдруг разделилось надвое: одна половина шарахнулась за дерево, а другая осталась темнеть на снегу. Лена нервно рассмеялась. Самошников вгляделся и понял, что к дереву метнулся человек, который бросил срубленную елку и напугался, пожалуй, не меньше, чем они. «А я уж подумал, что дружинников хрен принес, — направляясь к ним, сказал человек, подхватывая и таща за комель елку, которая цеплялась ветками за кусты и с шипением чиркала по снегу. Был он в казенной ушанке, телогрейке, подпоясан солдатским ремнем, на котором висел в чехле ухватистый туристский топорик. — Чего же вы тут стоите-то, а? Сухостой, что ли, пилить наладились? Ну, валяйте, валяйте… Закурить-то у вас найдется?» Они, как бы не заметили грубой фамильярности его, налили ему вина, дали сигарету. Человек выпил, постоял рядом с ними, покурил молча, а затем опять взвалил комель елки на плечо и, заметая их следы и свои, потащил ее в сторону поселка. «Эй, друг! Задницу ей, гляди, не приморозь!» — крикнул он, уже порядочно отойдя от них, и засмеялся, захохотал громко, на весь лес, блудливым подоночным гоготом. По недалекой насыпи, заглушив его гогот, мелькая освещенными окнами, прогрохотала на Москву электричка… Даже сейчас, много времени спустя, вспомнив дурацкий тот выкрик и гогот, Самошников вновь ощутил ту внезапную, сдавившую ему горло злобу, которая на какое-то мгновение словно бы ослепила его и толкнула вдогон за уносившим срубленную елку человеком. «Что ты делаешь? У него же топор! — отчаянным шепотом крикнула Лена, удерживая его за рукав. — Не ходи за ним!.. Я прошу тебя, слышишь?» И он покорно подчинился ей, остался на месте. Однако, как думалось ему тогда, подчинился он ей вовсе не потому, что не осилил бы того человека, испугался висевшего у него на ремне ухватистого туристского топорика с рифленой резиновой рукояткой, а оттого, что вспыхнувшая в нем на миг ослепляющая злоба столь же быстро угасла. «Нет, ты подумай, сволочь какая! — тяжело переводя дыхание и не глядя на Лену, сипло сказал он. — Ну, ладно, мы еще с ним повстречаемся…» Самошников и впрямь решил, что никуда тот человек от него не денется: он ведь эту краденую елку повезет, конечно, продавать в Москву, и они догонят его на платформе. Но когда возвратились они к остановке, на платформе никого не было, хотя следующая электричка на Москву еще не проходила. И потом в промерзлом вагоне они ехали одни; он окончательно успокоился, а Лена за недолгую дорогу даже ухитрилась вздремнуть унего на плече… Этот их первый, но, впрочем, и единственный Новый год, который они встречали вдвоем, стал для них чем-то вроде общего, «семейного» предания. За город они больше не ездили. Однако часто вспоминали тот вечер, темневшие вокруг поляны островерхие сосны, черные крестики хвоинок на снегу, подсвеченные заревом облака; говорили друг другу, что хорошо было бы выбраться туда как-нибудь еще разок, и даже день намечали, чтобы поехать, но что-то им непременно мешало. А вот о человеке, тащившем скребущую ветками по снегу срубленную елку, которого угощали они вином и который, как осознал позже Самошников, не по злобе, в общем-то, а по собственной своей глупости, конечно, кричал им черт знает что, словно забыли совсем, исключили его из памяти. Вернее, они старались о нем не вспоминать, хотя оба прекрасно помнили и дурацкие его слова, и наглый, грохочущий по лесу смех, но, помня обо всем этом и стыдясь этого втайне, делали вид, что забыли. Самошникову казалось подчас, что Лена еще там, в лесу, угадала его состояние, почувствовала, как мгновенная ослепляющая злость сменилась у него какой-то расслабляющей брезгливой оторопью. Она и удержала его тогда только лишь для того, чтобы не поставил, он себя перед ней в неловкое положение. Ведь она заранее была уверена, что не бросится он догонять оскорбившего ее человека… И если раньше, мысленно возвращаясь к тому пустяковому, разумеется, их приключению, Самошников всего лишь запоздало сожалел о том, что поддался минутной слабости, позволил Лене удержать себя, зная все же наверняка, что она поняла его и простила, то сейчас, когда он думал о Козырихе и Степане, когда осуждал Шуру и подбадривал в душе ее мужа, повторяя про себя привязавшееся: «Ай да Степан, ай да молодец парень!» — он ощущал нарастающую неловкость перед этими как будто уже чужими ему людьми, словно бы сам оказался в роли того, хохотавшего над ним в лесу, человека. «Да-да, конечно… Для него тогда все было абсолютно ясно и просто, — сбивчиво раздумывал Самошников, по-прежнему бессонно глядя на мутно белеющее в углу пятно экрана телевизора. — Да и чего тут неясного? Видит, привез мужик зимой девушку в лес, — значит, пижон какой-нибудь, не сумел договориться с приятелем, чтобы тот ему комнату уступил. Вот и потешился он там над ними слегка. Он, понятно, по себе все мерил и по-доброму, так сказать, по-мужски был, наверное, со, мною вполне солидарен… Ну, а я почему с такою же прытью пытаюсь теперь судить об отношениях Степана с этой самой Ниной Васильевной? Усматриваю лишь то, что представляется мне очевидным и единственно возможным? Что же это такое со мной? Тоже мужская солидарность прорезалась? Или обычная нравственная атрофия? А может быть, укоренившаяся привычка к моральной гибкости — если другие могут, то и мне не заказано? Выходит, что и я ничуть не лучше того человека с туристским топориком, которого посчитал подонком?..» Самошников испытывал нервное возбуждение и вместе с тем какое-то облегчающее раскаяние. Ему казалось, что судит он себя строго и беспощадно. И в этой мучительно-приятной для него беспощадности стремится откровенно ответить на возникшие вдруг перед ним вопросы. «Нет, тут вовсе не важно, что я о них думал. Об этом они не знают. Тут важно другое — почему я так о них подумал, кто я такой? Вот на что мне нужно ответить. И главное — остаться до конца честным, хотя бы перед самим собой», — продолжал размышлять Самошников, постепенно сознавая, что чувствует даже некоторое удовлетворение, как бы любуется собой со стороны, похваляясь собственной готовностью к немедленной и предельной искренности. Однако то, что затем пришло ему на ум, Самошников вначале воспринял как нечто отвлеченное, не имеющее к нему никакого отношения, словно бы касалось не его, а совершенно постороннего, едва знакомого человека и вызвало только слабое удивление: неужели он раньше не отдавал себе в этом отчета? Или, может быть, бессознательно подавлял, прятал в каком-нибудь темном, самому себе неведомом закоулке души в ожидании такой вот минуты хмельного и странного раскаяния? Спокойно, с равнодушной отчетливостью, как о чужом, он подумал, что уже не один год живет какой-то двойственной, противоестественной жизнью. Его жена, родившая ему дочь, стала для него в сущности безразлична, как, впрочем, и он для нее. Они словно бы заключили между собой молчаливое соглашение — в своем безразличии друг к другу сохранять видимость семейной благопристойности, не преступать определенной черты — и вполне этим довольствуются, не испытывая особой потребности ни в любви, ни в духовной близости. А совместная их жизнь продолжается лишь в силу привычки да еще потому, что им просто не хочется затевать волынку с разводом, который обязательно повлечет за собой массу неудобств и всевозможные хлопоты. Но ведь было время, — правда, довольно давно, — когда взаимное это отчуждение между ними только намечалось и его можно было, пожалуй, еще преодолеть, сгладить. Но как? Этого Самошников не знал. Он мучился тогда, глупо ревновал жену; дома из-за любой чепухи возникали скандалы, в которые обязательно встревала его мать, защищала Валентину, однако та почему-то считала поддержку свекрови оскорбительной для себя. «Оставьте вы его ради бога в покое. Больше я от вас ничего не хочу, — с подчеркнутой вежливостью говорила Валентина расходившейся свекрови. — Дмитрий не ребенок. Он сам прекрасно понимает, к чему это ведет, и торопит события. Его уже поздно перевоспитывать…» Мать тоже оскорблялась, поджимала губы. Живя в одной комнате, они могли по неделям не разговаривать, ухитрялись не замечать друг друга, и тогда дома начинало твориться что-то нелепое, доводившее его до тихого бешенства. «Ты можешь сказать своей матери, чтобы она не трудилась перемывать посуду после меня?» — входя в комнату и не закрывая дверь, нарочито громко спрашивала Валентина, зная, что свекровь на кухне прекрасно слышит ее слова. «Попроси свою жену не разбрасывать Ирочкины вещи. Я третий день не нахожу шерстяной костюмчик, который ей подарили на день рождения Меженковы. Это просто безобразие», — говорила вечером мать, обращаясь в пространство и не глядя на сидящую с ногами на тахте Валентину, которая в свою очередь демонстративно не отрывалась от книги. «К черту! Я вам не переговорное устройство! — не выдерживал Самошников. Он выскакивал в коридор и поспешно, не попадая в рукава, натягивал плащ. — Делайте тут что хотите! Хоть съешьте друг друга!» Часа два он бесцельно слонялся по улицам, если случались у него «подкожные» деньги, заходил у кинотеатра «Ленинград» в прятавшуюся под липами «стекляшку», где дородная и угрюмая буфетчица, которую завсегдатаи называли Брунгильдой, торговала в разлив какой-то сладковатой мерзостью, и возвращался домой, когда мать и Валентина уже спали. В те времена Самошников еще полагал, что самой веской причиной разлада в их семье служит психологическая, что ли, несовместимость его матери и Валентины, Однако когда им дали квартиру, а матери удалось сохранить за собой старую комнатушку на Соколе, ничего, в сущности, у них не изменилось. Разве только после ссор он почти перестал убегать из дому — некуда было: вокруг высились новостройки, громоздились брустверы выброшенной из котлованов земли, тянулись покосившиеся дощатые ограды, лежали груды панелей и бетонных труб, — а ехать в центр или же к Соколу ему бывало попросту лень. Но еще тогда, давно, в один из своих побегов он впервые подумал, что хорошо бы ему встретить другую женщину, пусть не такую красивую, как Валентина, но лишь бы она понимала его и сумела ужиться с матерью. Самошников пытался даже заводить на улице знакомства, особенно после посещения Брунгильды, но ему не везло — то его принимали за слишком пьяного, то чувствовал он себя достаточно трезвым, чтобы удержаться и не наворотить какой-нибудь ерунды, понимая, что эти, легко идущие на знакомство девицы, помимо всего прочего, тоже надеются как-то устроить свою жизнь, найти в ней надежную опору. А он сам думал о такой женщине, которая повела бы его по жизни, не в буквальном смысле, конечно, а в том, что, обновленный ее любовью, он все совершал бы лишь ради нее: жил, мечтал, работал… И только когда в жизни его появилась Лена, ему показалось, что это серьезно. Однако он почему-то откладывал решительное объяснение с Валентиной на потом, не порывал с семьей и в конце концов, примирившись с двойственным своим положением, изворачивался, как мог, обманывал жену, предавал дочь… Да ведь и тогда, неподалеку от Красногорска, в тот предновогодний вечер на лесной поляне он, по сути дела, трусливо предал Лену, позволив тому подозрительному типу с туристским топориком безнаказанно оскорбить ее, посмеяться над ними… Боже ты мой! О чем только не передумал он в ту ночь, как только себя не корил!.. Шура со Степаном давно уже затихли в своей комнате, словно их там и не было вовсе. А Самошников никак не мог уснуть. Он то ворочался на плоском ватном матрасике, который Шура заботливо подложила ему на диван-кровать, «чтоб помягчей было», то, смежив веки, замирал в неумолимо сковывающем его дремотном оцепенении, как бы находясь на грани яви и сна. Однако он знал, что не спит. И постепенно в нем возникало ощущение какой-то тягостной, захватывающей дух невесомости, неуловимо странного какого-то, как в детстве, полета. Его сознание словно отделялось от него, проникало в некие разреженные высшие сферы, и уже оттуда, из этих самых недоступных никому в яви сфер, он будто видел самого себя, опустошенно лежащего на тонком стеганом матрасике в темном и тихом доме, воспринимал смятенные мысли свои и с необычной остротой чувствовал их покаянную горечь и боль, понимая все же, что такое может происходить с ним только во сне…
Самошников проснулся оттого, что внезапно уловил дробный топот детских ног и громкий Иринкин смех. Он приподнялся на локоть, соображая, как могла здесь очутиться Иринка, и услыхал хрипловатый голос Козырихи: — Тише, Степушка, тише. Не бегай тут шибко, деточка, не озоруй, а то дядю разбудишь. Он тебя заругает… В зале было светло. Сквозь тюлевые занавески пробивалось солнце. В его лучах мохнатились, вроде бы повитые паутиной, колючие головки кактусов, золотились на полированной коробке телевизора осевшие пылинки. Не вставая, Самошников дотянулся до стула, на спинку которого повесил вечером одежду. Одевался он торопливо, опасаясь, что кто-нибудь — Шура или Нина Васильевна — может войти в зал и застанет его раздетым. Голова у Самошникова не то что бы побаливала, а была какой-то мутной, тяжелой, как после основательной перегрузки, хотя накануне он выпил совсем немного. Когда услыхал он тот детский топот и смех, ему подумалось, что это приехали Валентина с Иринкой. И Самошников сначала обрадовался, но мимолетная эта радость тут же уступила место тревожному недоумению: с чего бы это она вдруг прикатила? Что там у них стряслось? А затем, когда он понял, что бегает по дому и счастливо смеется не его дочь, а какой-то малыш, которого Козыриха ласково кличет «Степушкой», «деточкой», он испытал разочарование и даже привычную обиду на жену: ведь могла бы и она приехать — чего ей стоило! — да вот не приехала… Однако тревога его все же не исчезла. Она словно бы скопилась под сердцем, свернулась в мягкий клубок, с вкрадчивой настойчивостью давила на него, пугая Самошникова, и он сознавал, что порождена эта тревога отнюдь не беспокойством о домашних, а ночными раздумьями его, от которых ему сейчас хотелось избавиться, поскорее о них забыть. Ну выворачивал себя наизнанку, ну казнился, каялся… Ну и достаточно. Хватит. Все! «Двину-ка я, пожалуй, домой… Ну, что мне у них здесь торчать, зачем? Попью чаю — и на автобус, — решил Самошников, и от этого ему стало совсем спокойно. — Пускай уж они сами во всем разбираются, кто у них тут и что… Мне-то какое дело?..» Не надевая рубашки, в одной майке, перекинув через плечо полотенце, он вышел на кухню. Шура жарила на плите картошку. Сковородка громко скворчала, пыхкала каплями горячего жира; от плиты несло запахом пригорелого сала. Козыриха перетирала тарелки, складывала их в стопку на краю стола, по другую сторону которого примостился на стуле трехлетний белоголовый крепыш. Упираясь руками в столешницу, склонив голову набок, он сосредоточенно выискивал на клеенке хлебные крошки и слизывал их языком. Завидев Самошникова, малыш потупился и спрятал руки за спину. — Доброе утро, — поздоровался Самошников. — Доброе-то оно, доброе, — откликнулась от плиты Шура, перемешивая картошку и скребя ложкой по дну сковородки. — А спалось-то тебе каково на новом месте? Невесту себе во сне часом не приглядел? — Да нет… Ничего, все нормально. Спасибо… — Ты бы ему, Шура, похмелиться налила, — проговорила Козыриха, улыбчиво и сочувствующе глядя на его помятое, с припухшими глазами лицо. — Ай мужиков-то наших не знаешь? Маетно небось человеку, свет не мил. Голова-то, поди, у него, сердешного, как чугунная. — Сам виноват. Пускай помается малость, потерпит. Сейчас все за стол садиться будем, — напуская на себя строгость, сказала Шура. — Уж на что хозяин-то мой ни свет ни заря вокруг увивался, ну прямо как кот возле сметаны, — дескать, Виталька приехал, внука тебе привез, а я им говорю: встанет Дима, тогда мы все за стол и сядем. — Нет, нет… Не нужно… Что вы? Я не хочу, — поспешил отказаться Самошников. — Мне бы вот только ополоснуться где-нибудь… — А ты ступай-ка во двор. Рукомойник-то у нас еще на улице. Мы его летом в хате не вешаем. Он направился к двери, а малыш проворно сполз со стула, топоча босыми пятками, обежал стол и с разгону ткнулся лицом, в подол Козырихи. Та подхватила его на руки, прижала к плоско обвисшему на груди платью, ласково затетешкала, приговаривая: «Ах ты, ягодиночка моя, деточка ясная… Степанушка ты мой светленький…» — Нет, ну ты глянь-кось на него, глянь! Не признает своих родных, поганец! — деланно изумилась Шура, погрозив ложкой насупившемуся внуку. — Дак чего ж это ты к бабушке-то своей не бежишь жалиться? Значит, плохая она у тебя бабка, сердитая больно, — со вздохом ворчливо проговорила Шура, однако в голосе ее Самошников не уловил ни обиды, ни огорчения. — Ох, гляди, заступница, разбалуешь ты нам его совсем. Ох, и разбалуешь парня! Вот так и девки-то мои раньше, Полюшка с Галей: чуть чего не по-ихнему, до тетки Нины жалиться бегут. А чтобы к матери-то родной, дак и не сразу их докличешься… Выйдя на крыльцо, Самошников зябко передернул плечами — на улице было по-утреннему свежо. В палисаднике ходил Степан. Стараясь не помять привязанные к колышкам и уже начавшие буреть, поникшие плети помидорной ботвы, он, широко раскорячивая ноги, медленно двигался между грядками — собирал в полиэтиленовый мешочек поспевшие помидоры. Они туманно просвечивали сквозь морозно отпотевшую пленку налитыми соком своими боками. Степан тоже был в майке, некогда синей, наверное, но теперь застиранной, выцветшей до слабой голубизны. Приседая на корточки, он низко наклонялся над грядкой, протягивал руку к красневшему на стебле помидору, и тогда как бы пропаханный по живому узловато-рубчатый шрам, длинно рассекающий его правое плечо, вроде бы разглаживался, превращаясь в тонкую белую бороздку, и становился менее заметным. «Это его, должно быть, в том лесочке немецком зацепило, когда он там один остался, — мельком подумал Самошников, припоминая вчерашнее застолье, когда подвыпивший Степан рассказывал ему о последнем своем неудачном бое где-то за Одером. — Ну конечно же там, конечно… Он еще и о Козырихе говорил… Как она его раненого ночью на себе через поле тащила — жизнь ему спасла…» И, подумав об этом, Самошников опять отчетливо вспомнил ночные мученья свои, как упрекал себя в предательстве, трусости, как терзался поздним раскаянием и стыдом. Однако сейчас, в солнечной утренней тишине, все это уже не представлялось ему столь унизительным, ужасным и непоправимым. «Так ведь разве только со мной могло случиться такое? Обойдется как-нибудь… Мало ли с кем бывает!.. — все настойчивее звучало в нем, и он, спускаясь по ступенькам крыльца, словно некое заклинание, повторял про себя это успокаивающее: — Мало ли с кем бывает!.. Мало ли с кем…» Рукомойник висел на вкопанном у крыльца столбике. Сложив ладони горсточкой, Самошников подтолкнул чуть позеленевший бронзовый стерженек, и тот, легко подпрыгнув, звонко брякнул о пустое дно. Услыхав его звонкое бряканье, Степан оглянулся, покряхтывая, распрямил ноги, приподнял мешочек с помидорами и, кивнув Самошникову, громко позвал: — Витальк, а Витальк! Чего вы там копаетесь? Идите-ка кто-нибудь, воды принесите. Она там справа от вас, в бачке… Из крытого толью сарайчика, заслонив на миг поблескивающие на полках закатанные трехлитровые банки с соленьями и компотами, вышел зять Степана Виталий, а за ним, неся в алюминиевом ковшике воду, младшая Степанова дочь Галя. Самошников встречался с Виталием всего один раз, да и то мельком. Лет пять назад, вскоре после свадьбы, Виталий приезжал с Галиной в Москву за какими-то покупками. С тех пор он и представлялся Самошникову невзрачным, тощим пареньком, с оттопыренными ушами и тонкой шеей. Его, помнится, даже удивило тогда, как это такой хиляк сумел заморочить голову статной и грудастой Галине, которая гляделась рядом с ним настоящей красавицей. Жили они, кажется, по Ярославской дороге — то ли в Александрове, то ли в Струнине. Виталий работал слесарем-наладчиком на ткацкой фабрике, а Галина — воспитательницей в детском садике. В тот приезд они толком и не познакомились. Молодожены тут же заторопились домой, хотя Самошниковы мужественно оставляли их у себя ночевать. Виталию нужно было успеть на фабрику в ночную смену. Они уехали, пообещав наведаться как-нибудь еще раз, однако больше так и не приезжали. На следующий день Самошников вовсе позабыл о них и, наверное, так никогда бы и не вспомнил, если бы Валентина утром вдруг не сказала, что замухрышистому этому Витальке вообще противопоказано появляться на людях вместе с женой — слишком уж заметны их несоответствие друг другу и мужская его ущербность. Самошников возразил ей, повторил расхожее, что мужику, мол, лишь бы уродом не быть, а Валентина обидчиво буркнула: «Вот именно, уродом…» — и после дулась на него несколько дней неизвестно за что. Но сейчас, как, впрочем, и тогда, никакой ущербности в Степановом зяте Самошников не заметил. Виталий, как показалось ему теперь, вроде бы немного подрос, раздался в плечах, и лицо его как будто тоже чуть раздалось в скулах, стало жестче, по-взрослому огрубело, а жилистая крепкая шея твердо выпирала из расстегнутого ворота полосатой рубашки. Виталий сильно сдавил пальцы Самошникова, с радостным смущением забормотал: «Ну вот, наконец-то… С приездом, значит, тебя… с приездом…» А Галя, придерживая свободной рукой верхнюю пуговицу плотно натянувшегося на груди халата, сквозь вырез которого и в узкую щелку обтерханной петельки виднелась теплая, в золотистом пушке, смугловатая кожа, — молча кивнула ему и улыбнулась с потаенной лаской во взгляде, но тотчас же прикусила губу и отвела глаза, будто спохватившись, как бы не подумал он о ней бог знает чего и не воспринял, бы эту ни к чему не обязывающую мимолетную ласку ее совсем не по-родственному. Даже на вид она была вся какой-то налитой, упругой и словно бы лучилась неизбывным здоровьем, влекущей женственностью и той счастливой бабьей умиротворенностью, когда по одному лишь облику молодой хозяйки можно безошибочно судить, что все у нее в доме ладно: сами одеты-обуты, обстановка в квартире не хуже, чем у соседей, дети обихожены, не болеют, да и муж не пьет… Ну, а уж если и выпьет иной раз, то исключительно с получки либо с премии, и всегда в меру. — Да ты плесни ему воды в рукомойник. Чего стоишь-то? — грубовато поторопил жену Виталий. — Давай-ка хоть тут ты не колупайся… По-быстрому давай… — А может, мне подольше за ним поухаживать хочется, — шутливо откликнулась Галя и опять с прежней своей потаенной и ласковой улыбкой взглянула на Самошникова. — Может, мне москвичи вообще больше других нравятся… — Ну и валяй, валяй… Ухаживай! — с самодовольной снисходительностью уверенного в себе человека сказал Виталий, поведя плечами, как бы виноватясь перед Самошниковым за женское Галино легкомыслие: дескать, баба она и есть баба, какой с нее спрос! — и, слегка загребая ногами, пошел в дом. Самошников рывком стянул через голову майку, кинул ее на перильце крыльца. Галя взяла у него полотенце, И покуда он мылся, часто подбивая горстями позеленевший стерженек, низко наклоняясь под рукомойником, плескал себе воду на шею, на грудь, она стояла подле Самошникова, держа полотенце на вытянутых руках, как держат хлеб-соль, и безотрывно смотрела на него. Он чувствовал на себе ее взгляд, и от этого, а быть может, и от выстывшей за ночь в сарайчике воды, по его спине расползался приятный, знобко покалывающий холодок. — Нет, а все-таки здорово помыться иногда вот так, на воздухе! — принимая у Гали полотенце и крепко растираясь им, сказал Самошников, испытывая бодрящее, радостное возбуждение и желание сделать что-нибудь хорошее, доброе и этой милой Гале, и Витальке, и Степану, и всей своей родне. Его вдруг непреодолимо потянуло хотя бы дотронуться до Галиной руки, ощутить упругое ее тепло. И, передавая ей полотенце, он будто нечаянно, но в то же время как бы и благодарно прикоснулся к ее запястью, легонько провел по нему пальцами, а Галя с непонятной какой-то внезапной жадностью цепко сжала его ладонь и зажмурилась. У Самошникова перехватило дыхание. Он замер растерянно, а Галя, постояв так какое-то мгновение, резко отдернула руку и, словно просыпаясь, медленно открыла глаза. — Ой, да что же это такое со мной-то?.. — Она принужденно рассмеялась нервным каким-то, дробным хохотком и приложила к лицу краешек сырого полотенца. — Ой, дурища-то какая! Вот ведь как смешно получилось, правда? — Ну, конечно же смешно… конечно… — облегченно произнес Самошников, ощущая охватывающую его расслабленность и вялость в ногах. — А я даже испугался, что тебе плохо стало. Голова закружилась… Бывает же так, а? Он старался не смотреть на чуть побледневшее Галино лицо и, снимая с перильца майку, запоздало спохватился, что Степан мог увидеть, что тут между ними произошло, и, чего доброго, решить, что он заигрывает с его дочерью. «Этого еще не хватало! Глупость-то какая! — с нарастающим раздражением подумал Самошников. — Вот уж действительно дурища здоровая… Телка!..» Он нарочито замешкался, надевая майку, а когда выпростал из нее голову, Галя уже поднялась на крыльцо. Самошников вымученно улыбнулся ей, а она, глядя на него сверху, сказала спокойно, но, как показалось ему, с пренебрежением и насмешкой: — Да ничего у меня не закружилось, не беспокойся… Больно уж вы все нынче пугливые!.. Она скрылась в сенях, а Самошников остался у крыльца, с виноватой покорностью поджидая шагавшего к нему через грядки Степана. Тот еще издали помахал Самошникову рукой, а подойдя поближе, вновь вскинул мешочек с помидорами. — Видал, закуска-то, а? Прямо с грядки! Это тебе не то что у вас там, в Москве, всякая гниль магазинная. Под такие помидорки мы с тобой сейчас хоть ведерко уговорим, а? — Степан слегка подтолкнул Самошникова локтем и зашаркал на ступеньках, затопал домашними шлепанцами, отряхивая налипшую на них землю. — Ну, чего ты там задумался? Пошли, пошли… Судя по всему, он попросту ничего не заметил, не обратил внимания на растерянность Самошникова, не придал значения сконфуженному виду его, довольный приездом дочери, зятя и грядущей по этому случаю основательной выпивкой, а не рюмкой-другой, что выставила бы Шура на опохмелку. — Как там у тебя, мать, порядок в танковых частях? — весело спросил Степан, входя в кухню. — Ты нам, мать, картошечки к помидорам сообрази. А то мы вот с Димой проголодались, как волки!.. Шура уже застелила стол чистой скатертью, расставила тарелки и стопки. Галя у зеркала поправляла прическу и лишь чуть посторонилась, не глядя на Самошникова, когда он прошел мимо нее в зал, чтобы надеть рубашку. «А может, все-таки остаться у них тут еще на денек? Дома подождут, ничего страшного там у них не произойдет… Да и тут ведь ничего, собственно, не случилось… Так, чепуха… — с привычным самопрощением подумал он, улавливая возню и смех Галиного сына, доносящиеся из той комнаты, в которой ночевали Шура со Степаном. — Да и неловко будет вот так сразу от них сматываться. Они ведь и обидеться могут, конечно… Ладно, погожу пока, была не была!.. А там посмотрим…»
И потом, когда все, кроме Козырихи и Галиного сына, расселись за столом, когда выпили по первой стопке, выпили молча, сосредоточенно, как бы по обязанности, Самошников почувствовал, что скованность, овладевшая им после странного их разговора с Галей, сначала будто приотпустила чуток, а затем и вовсе исчезла. Ему снова стало легко и свободно. Он уже без виноватого смущения смотрел на Степана, на Галю, и она, словно позабыв обо всем, изредка одаривала его своим ласковым взглядом, а лице ее раскраснелось и еще больше похорошело. Виталий посмеивался над ними, то и дело трогал тестя за руку, наклоняясь к нему, наговаривал что-то вполголоса, значительно кивая то на жену, то на Самошникова, а Степан необидчиво похохатывал и, постепенно хмелея, с напускной строгостью выговаривал дочери: — Ты смотри у меня, Галка, чтобы тут ни-ни-ни… А то ведь у меня сама знаешь!.. У меня порядок в танковых частях!.. Потом они говорили уже бог весть о чем, не слушая и перебивая друг друга, однако испытывая непреодолимую потребность высказаться, душу свою открыть, потому что каждый из них теперь сознавал, как это необходимо хотя бы раз в жизни быть услышанным и понятым… И Самошников с просветленной какой-то, изумившей его ясностью вдруг тоже осознал это и заговорил о чем-то важном и умном. Он смеялся шуткам, отрывочным каким-то анекдотам, не слушая и не воспринимая их, а лишь ощущая сладкую стесненность в груди оттого, что на всем белом свете не было сейчас для него более родных и более близких людей, чем сидящие вот здесь, за этим столом… И только когда возникала за приоткрытой дверью хрипловатая воркотня Нины Васильевны, которая почему-то так и не вышла к столу, когда долетал оттуда смех Галиною сына, столь напоминавший ему смех Иринки, Самошников отвлекался на миг от важных и умных своих застольных мыслей, вслушивался в топотню ребячьих ног, чувствуя смутное беспокойство, потому что чудились ему в том беззаботном заливистом детском смехе осуждающее недоумение, тревога и горький упрек…
ОТЕЦ
Стояло раннее северное лето, но день выдался пасмурный и зябкий. С недалеких, не видимых за низкими тучами гор тянуло холодом и сыростью. Порывистый ветер подхватывал опущенные ветви реденьких пихт, тяжело взмахивал ими, и тогда с веток срывались крупные холодные капли. Они звонко чмокались о серый, усыпанный рыжими хвоинками песок у комлей и оставляли на нем неглубокие лунки с приподнятыми краями, похожие на кратеры маленьких угасших вулканов. Вдалеке, у самой кромки тайги, виднелись приземистые темные бараки лесопилки. Над ними одиноко торчала тонкая железная труба, и все вокруг казалось каким-то серым, выцветшим и неуютным. Только недавно обшитые досками и выкрашенные светло-коричневой краской станционные постройки маслянисто поблескивали. Почерневшие от дождей поселковые избы сиротливо жались к ним и смотрели на пустой перрон запотевшими окошками виновато и задумчиво. Возле багажного отделения стояли прислоненные к стене трехколесные тележки носильщиков. Однако самих носильщиков не было видно нигде. Они, должно быть, ушли на станцию, в буфет — пить пиво. В конце перрона, около обломанного палисадника, валялись кучи ржавого железного хлама, прикрытые сверху жирными мазутными тряпками. Из-под них расплывались по перрону широкие радужные пятна. Неподалеку от багажного отделения, на сложенных в штабель досках, сидел щуплый узколицый мужчина в длинном дождевике. Он равнодушно посматривал куда-то поверх мокрых станционных крыш, часто моргал припухшими красноватыми веками, сморкался и вытирал слезящиеся глаза уголком грязного клетчатого платка. Долгий гудок тепловоза слабо донесся издали. Он как бы проплыл над станционными постройками, над серыми избами поселка и затих где-то в стороне лесопилки, за синеватой кромкой тайги. Но уже несколько минут спустя послышался нарастающий шум поезда, и из-за поворота показался приближающийся состав. Тепловоз, сухо шурша тормозами, грузно прошел мимо багажного отделения, миновал всю платформу и замер под ржавой трубой старой водокачки. Тотчас же громко захлопали откидные щиты на площадках вагонов, появились носильщики в своих мешковатых костюмах с бляхами на груди, и перрон сразу же стал многолюдным и тесным. Мужчина в дождевике поднялся и торопливо зашагал вдоль вагонов, вглядываясь в пассажиров и задевая их сырыми и жесткими полами дождевика. Лицо его еще больше сузилось, вытянулось и словно бы застыло в напряженном и мучительном ожидании. — Леня! — послышался откуда-то сзади и сверху неуверенный женский голос. — Куда же ты побег! Здеся мы! Ле-о-ня!.. Мужчина вдруг будто споткнулся, повернулся к только что пройденному вагону и двинулся обратно, слепо глядя перед собой. Из дверей вагона, перегнувшись, выглядывала худенькая женщина в сбившемся на затылок платке. Одной рукой она держалась за поручни, а другой старалась пододвинуть к краю подножки тяжелый чемодан. Ее бледное лицо с тонкими бескровными губами страдальчески морщилось. — Вещи-и-и-то помоги снять… Вещи-и-и… Мужчина подхватил чемодан, сгибаясь и прихрамывая, оттащил его к палисаднику; принял другой, потом еще какой-то узел, кошелку с привязанной к ручкам авоськой, подхватил под мышки заплаканную русоголовую девчушку в коротком пальтишке, на ходу прижался к ее лицу небритой щекой, поставил ее около вещей и снова кинулся к вагону. Девочка села на чемодан, крепко ухватилась за оттопыренную ручку, обвязанную грязным бинтом, и тонко заплакала. — Нюра… — негромко и как-то изумленно сказал мужчина в дождевике. — Нюра!.. Женщина уткнулась ему в плечо мокрым лицом. Плечи ее опустились, обмякли, а худые пальцы рук задрожали, задвигались, словно пробуя на ощупь холодный брезент дождевика. — Ну вот и встретились, значит, — сипло сказала пожилая проводница и, вздохнув, тяжело полезла на площадку вагона, задирая толстые, отекшие ноги. — Зря только нервы ты свои тратила… Переживала… Тепловоз протяжно загудел, громыхнул буферами вагонов, столкнул их с места и, пробуксовывая колесами, выбросил из короткой трубы жиденькую струйку синеватого дыма. Вагоны медленно тронулись. Мимо станции, набирая скорость, поплыли запыленные окна с бледными, как бы размытыми пятнами человеческих лиц. Они плыли все быстрее и быстрее, сливаясь в одну сплошную светлую ленту. Потом эта лента внезапно оборвалась, и вокруг снова стало пустынно и тихо. — Ну хватит, хватит… Оботри глаза-то, — смущенно и грубовато забормотал мужчина в дождевике, слегка отстраняя от себя женщину. — Поплакала, говорю, — и хватит… Женщина подняла голову, отстранилась от него, огляделась вокруг, словно еще не сознавая, где она и почему вдруг здесь очутилась, потом заметила у палисадника сваленные в кучу пожитки, плачущую девочку и заторопилась к ней. — Да ты хоть на дочку-то погляди, — говорила она мужчине, который покорно шел за ней. — Твоя она ведь, дочка-то… Как уехал ты, так ровно через два месяца я в роддом и ушла. Твоя она, дочка-то, Катенька… Мужчина наклонился над девочкой, напряженно всматриваясь в курносое личико, как будто отыскивая в нем нечто ему одному известное, потом улыбнулся, погладил мягкие волосы, но тут же отдернул руку и суетливо достал из кармана дождевика несколько слипшихся в комок карамелек. Сперва он подул на них, затем поскреб облепленную крошками розоватую массу черным квадратным ногтем и неуверенно протянул девочке. — Возьми гостинец папкин, дурочка… Бери… — Женщина посветлела лицом, с благодарностью взглянула на мужа, и губы ее тронула улыбка. Девочка осторожно взяла конфеты, сжала их в кулачок, громко шмыгнула покрасневшим носом и отвернулась, сглотнув слюну. — Ничего, ничего… Ты погоди малость, Нюра, — заговорил мужчина, оглядываясь по сторонам. — Тут одна машина должна быть из леспромхоза… Я вот только сбегаю, узнаю — не ушла ли… Нам с тобой еще до дому добираться — дай бог! Ты погоди малость, Нюра… Сутулясь, он зашагал вдоль палисадника к вокзалу. Дождевик горбом топорщился у него на спине. Женщина долго смотрела ему вслед, потом нагнулась к авоське, достала гребешок, высоко закидывая руки, причесала волосы и перевязала платок. И сразу лицо ее сделалось таким же, как у дочери: усталым, растерянным и немножко испуганным. Затем она послюнявила подол юбки и крепко вытерла измазанный и липкий рот девочки. Девочка сморщила лицо, хотела заплакать, но только всхлипнула и сдержалась. Женщина снова огляделась вокруг и села на чемодан рядом с дочерью… Мужчина вернулся не скоро. Женщина уже начала дремать. Но как только он показался в дверях вокзала, она торопливо встала, перекинула через плечо кошелку с привязанной авоськой, подняла узел и взяла дочь за руку. Они прошли через пустой вокзал, пропахший застарелым жильем, спустились по стоптанным ступенькам на другой стороне и очутились прямо на улице поселка. Машина стояла поодаль, у продуктового магазина, наклонившись набок в разъезженной колее. В открытом кузове уже сидели какие-то люди, а шофер, встав на подножку, курил, смеялся и переговаривался с кем-то на противоположной стороне улицы. Он даже не взглянул на подошедших, а докурил папироску до самого мундштука, ловким щелчком откинул ее и сразу же скрылся в кабине. Окурок зашипел в грязи и погас. — Все, что ли? — крикнул из кабины шофер. — Давай крути! — ответил мужчина в дождевике. Грузовик качнулся и медленно пополз по дороге, съезжая задними колесами к обочине и надрывно воя мотором. Они долго ехали по ухабистому шоссе. Машину швыряло из стороны в сторону. Женщина крепко прижимала к себе девочку и что-то беззвучно говорила ей, склоняясь к лицу. А когда над дорогой нависали подгнившие старые пихты, она испуганно поглядывала на них и прикрывала голову дочери рукой… Неожиданно за деревьями смутно засветилась река, потянулись обвислые слеги изгородей, замелькали плоские стога почерневшего прошлогоднего сена. Высоко вскинув кузовом, грузовик перемахнул по мостику через ручей, взобрался на пригорок, и сразу же показались высокие темные срубы, открылась пристань, белые цистерны с горючим на берегу, сквозные навесы с плоскими крышами и за ними — широкая, неподвижная гладь затона. У затона машина остановилась. Мужчина в дождевике грузно спрыгнул через борт. Бережно принял девочку и помог слезть жене. Над затоном, по берегу, на столбах горели редкие лампочки, бледные и ненужные. Небо на западе лишь чуть потемнело, но вокруг было светло. Даже низкие, глубоко осевшие баржи и стоящие у дальних причалов закопченные буксирные катера виделись отчетливо и резко. Только по безлюдной тишине, по мягкому плеску воды и по усилившимся запахам мокрых опилок, солярки, горьковатого смолистого дыма угадывалась белая северная ночь. — Господи! — тихо вздохнула женщина. — Тут и ночи-то, кажись, вовсе нету… Как жить здеся будем, а? Завербовался ты, Леня, на самый край света… Неужто поближе работы тебе не было? Ох, господи… — Да ты ничего… Ты погоди, Нюра… Тут и народ хороший, и работа… Ты не думай чего… — мужчина ласково улыбнулся дочке, поднял чемоданы и пошел впереди женщины, обходя штабеля мокрых досок, мимо каких-то тюков и ящиков, разложенных по берегу. Из-за поворота навстречу им вышли, глухо грохоча сапогами, двое парней. Они посторонились, сойдя с мостков в липкую грязь, вглядываясь в мужчину, и засмеялись оба, пьяным радостным смехом. Один из парней качнулся, шагнул на мостки и встал посредине, широко расставив ноги. — А, Ленька! Здорово! Ты чего, никак, значит, бабу свою приволок? Спичку-то дай… Мужчина в дождевике поставил чемоданы, нашарил в кармане коробок и, тряхнув его, подал парню. Парень чиркнул спичку, сломал ее, выругался, потом чиркнул еще, согнулся, прикуривая, дохнул дымом и водкой в сторону женщины и оскалился. — Слышь, Ленька! А с Люськой-то у тебя как? Неужто завязать решил, а?.. Ну, теперь она твоей бабе прическу спортит! Во, будет концерт самодеятельный!.. Умора!.. — он поперхнулся дымом, закашлялся и, махнув рукой, побежал догонять ушедшего вперед товарища. Какую-то минуту женщина стояла, непонимающе глядя на мужа, потом вдруг охнула, выпустила из рук узел и схватилась за концы платка на груди. — Чего же ты, Леня? А нам-то теперя куда подаваться? Куда? — быстро, быстро заговорила она, трудно двигая непослушными побелевшими губами и перехватывая концы платка напряженно дрожащими пальцами. — Ведь я и избу продала… Все как есть тут… Дочка-то твоя, Катенька… Чего же это ты наделал, Леня? А нам-то, значит, теперя куда?.. Нам?! Мужчина растерянно поглядел вслед парням, плечи его еще больше ссутулились, сникли, потом посмотрел на прижавшуюся к матери девочку и решительно взял женщину за рукав. — Да ты погоди, Нюра… Погоди… Разыгрывают они тебя, а ты веришь! Тут и Люськи-то никакой нету вроде… Это они всем бабам так, которые приезжают… Пьяный он, Митька-то, а ты ему веришь… Ты ему не верь, погоди… — глухо заговорил он, стараясь заглянуть в лицо женщины. — А хошь, так и вовсе переедем с тобой отсюдова? Скажи, хошь? На Подчерье подадимся, на лесосплав. Я там поначалу работал, знаю… Или в заповедник пойдем. Там у меня лесничий знакомый. Давно уже зовет… На кордоне с тобой жить станем… Корову заведем себе… Лодку с мотором купим… Деньги я скопил… Ты скажи, хошь?.. Он еще долго говорил что-то. Говорил горячо и сбивчиво. А женщина, как бы не слушая его, все теребила и теребила концы платка на груди. Потом она опустила руки, не вытирая слез, посмотрела в растерянное лицо мужа и заплакала уже свободнее, навзрыд… Мужчина бережно обнял ее, наклонился к ее лицу, отступил от нее, взял чемоданы и пошел вперед. Женщина подняла узел и тихо пошла за ним. Потом догнала его, и они пошли рядом, сталкиваясь плечами на узких мостках. Девочка крепко держалась за руку матери покрасневшими от холода пальцами. Над затоном, постепенно разгораясь, багровели высокие облака…ТИХИЕ ДНИ
Михаил Сергеевич Конохов жил в лесничестве уже вторую неделю, но никак не мог свыкнуться с мыслью, что наконец-то осуществилась его заветная мечта: он свободен от служебных и домашних хлопот, спит сколько ему вздумается в настоящей бревенчатой избе, в просторной горнице, разделенной надвое широкой русской печью, — и все у него сложилось удачно: хозяева оказались неназойливыми, лес рядом — рукой подать — да и озеро недалеко. Погода держалась теплая, солнечная. Травы уже отцвели, однако были они еще по-весеннему упруги и сочны, высились плотной стеной, и утренние росы не сгибали их, а только отяжеляли мохнатой сединой, которая незаметно исчезала, исходя паром, едва лишь простирались над не очнувшейся еще землею первые солнечные лучи. В городе Михаил Сергеевич никогда не видел ни восходов, ни закатов. Вернее, он их просто не замечал. А здесь, вставая с рассветом и выходя на потемневшее волглое крыльцо, всякий раз изумлялся он, глядя на потный, повитый сединой луг, на синеющие вблизи, за провисшими слегами поскотин, разлапистые ели, на бездонную белесую голубизну над ними, а сердце его неизменно замирало от ощущения неправдоподобности вдруг свалившегося на него счастья и от опасения, что оно может так же внезапно кончиться: либо погода испортится, либо дома произойдет что-нибудь непредвиденное, и придется ему тогда отсюда уезжать. «Все-таки любопытно устроен человек, — обычно думалось Конохову в такие минуты. — Зачастую мы подсознательно готовим себя к различным невзгодам и потом воспринимаем их чуть ли не как должное, а вот счастье обрушивается на нас всегда негаданно… Нам почему-то проще привыкнуть к любому горю, мы сживаемся с ним, но свыкнуться со счастьем, поверить в его постоянство и незыблемость гораздо труднее… Почему мы так настороженно относимся к счастью? Возможно, потому оно и бывает недолговечным, что мы опасаемся без оглядки поверить в него?..» А над деревьями тем временем обозначался похожий на оранжевую шляпку гриба-подосиновика полукруглый окраек солнца; подпиравшие его вершины елок начинали чернеть, как бы обугливаться от нестерпимого жара, а потом и вовсе пропадать из виду, словно плавились они там, в раскаленных плазменных недрах; по лугу медленно протягивались длинные стрельчатые тени, между которыми вздымались прозрачные, пронизанные дымными лучами, туманные столбы. Михаил Сергеевич щурился от бьющего в глаза света, но не отворачивал лица, с удовольствием подставляя его ласковому прикосновению уже нагретого воздуха и невольно вздрагивая от струящейся над землей влажной прохлады. Эта четкая разграниченность ночного холода и утреннего тепла, первозданная тишина и спокойствие безмолвной покуда еще поры возбуждения, не потревоженной ни человеческими голосами, ни звуками работы, когда каждая былинка, каждый лист искрятся и сверкают, незаметно распрямляясь и стряхивая с себя сонное оцепенение, — все это постепенно наполняло его не изведанным ранее ощущением почти что осязаемой своей причастности к окружающему миру: деревьям, травам, солнцу… Ему казалось, что зрение и слух его обостряются, мускулы наливаются силой, и он уже не человеком чувствовал себя в такие мгновения, а неким неведомым существом, способным улавливать незримое движение подземных соков, питающих деревья, слышать рост трав, дыхание листьев, видеть, как напряженно устремляются они навстречу солнцу: одни — чтобы умереть, а другие — принять от него жизнь. И, мысленно представляя себе все это, сознавая и понимая необходимость вечно происходящего вокруг каждодневного чуда обновления, он считал, что догадывается теперь, почему древние жители здешних лесов одушевляли все сущее и поклонялись солнцу. «Они были мудры, несмотря на все свое невежество и наивность. А мы, оснащенные новейшей техникой ивсякой кибернетикой, только еще приближаемся к тому, что было известно им по опыту, — думал Михаил Сергеевич, испытывая радостную приподнятость от воображаемой приобщенности своей к непрерывно свершающемуся в мире великому таинству творения и смерти. — Мы напрасно всячески отделяем себя от природы, стремимся покорить ее, вместо того чтобы разумно следовать ей и все время чувствовать себя частицей всеобщего единства». Ему приятно было стоять на крыльце, дыша невесомой свежестью занимающегося дня; приятно было размышлять о вещах необыденных, загадочных и воспринимать их как главное в собственной жизни, а то, о чем приходилось ему думать в планово-экономическом отделе треста, — как второстепенное. И когда проснувшаяся хозяйка, шлепая босыми ногами, принималась громыхать ведрами в сенях, Михаил Сергеевич возвращался в избу, сожалея, что отвлекли его от размышлений, которые представлялись ему значительными и глубокими. — Никак студено-то на улице, батюшко? — озабоченно спрашивала хозяйка. — Не простыть бы вам у нас. Не дай бог, конешно… — Да нет… Что вы?.. Мне не холодно, — поспешно говорил Михаил Сергеевич, тут же забывая о своей досаде и с благодарностью взглядывая в ее заспанное, морщинистое лицо. — У вас же здесь просто замечательно! Один только воздух чего стоит! Да и вообще… — Вот-вот… Ну и дышите себе на здоровьичко. Уж чего-чего, а этого добра у нас не мерено. — Хозяйка повязывалась теплым платком, надевала затасканную телогрейку и, как бы раздумывая, нерешительно обращалась к Конохову: — А вы, батюшко, может, и до колодца добегёте? Уж не обижайтесь на меня, старуху. Пашка-то мой со вчерашнего утра так и не возвернулся. На делянке пропадает, должно быть… Просеки там нынче рубить затеялись… Михаил Сергеевич с готовностью подхватывал ведра, торопился к колодцу и, тяжело шагая обратно по узкой тропке, вьющейся в росистой траве, вновь пытался вызвать в себе ставшее уже привычным состояние умиротворенности и думать о гармоничности природы. Однако это не удавалось ему, и думал он о хозяйкином сыне — неуклюжем, рукастом парне, который сутками пропадал в лесу, а когда бывал дома, молча слонялся по двору или спал. Михаила Сергеевича он как бы не замечал вовсе, с матерью говорил отрывисто, грубо, называл ее пренебрежительно Лидкой, а она, наверное, побаивалась его и старалась скрыть это от своего постояльца. «…А уж какой он у меня ласковой был, Пашутка-то мой!.. Ой, какой ласковой! Прибегёт, бывало, со школы, все мамка да мамка, — бормотала хозяйка, улыбаясь и вытирая глаза. — Работа нынче у него больно хлопотная… Дак и в лесу, вить, живем-то… В лесу…» Он понимающе и сочувственно наклонял голову, хотя не особо прислушивался к тихому монотонному бормотанию, целиком занятый собой, своими странными мыслями об окружающем его ясном, солнечном мире. Конохов был уверен, что мысли эти возникли у него лишь теперь, вдали от городской суеты. И совсем не принимал он в расчет бойких лекторов из общества «Знание», нередко бывавших в тресте, выступления которых Михаил Сергеевич старался не пропускать. В газетах и журналах он любил читать сообщения об археологических раскопках, о йогах, о космических пришельцах, о разуме дельфинов и языке пчел. Раньше он даже делал вырезки, аккуратно подклеивал их в специально купленный для этого альбом, но потом охладел. Альбом поистрепался, вырезки отклеились. И жена, натыкаясь при уборке на пожелтевшие клочки с подчеркнутыми фразами, давно уже не спрашивала, нужны они ему или нет, а сразу же выбрасывала в мусоропровод. Да и сам он со смешанным чувством любопытства и иронии разглядывал изредка попадавшие ему под руку старые научно-популярные журналы, недоумевая, откуда у него, человека отнюдь не легковерного и рассудительного, эта необъяснимая тяга ко всякого рода сомнительным открытиям, которые неизменно опровергались потом серьезными учеными. Но, читая эти опровержения и не возражая против их очевидной убедительности, он все-таки не соглашался с ними в душе, и хотелось ему, чтобы правы оказались не именитые академики и доктора наук, а никому не известные ниспровергатели научных авторитетов. «Может быть, ты все же поделишься со мной, на чем основана твоя неприязнь к докторам и академикам? — пытаясь смягчить улыбкой насмешливый тон, спрашивала жена, когда Михаил Сергеевич говорил ей об этом. — Почему ты охотно веришь любой чепухе и не хочешь считаться с мнением действительно компетентных людей?» А он терялся от ее насмешливого тона и не знал, что ответить. Просто верилось ему — вот и все…Обычно Коноховы отдыхали вместе. Но с тех пор, как их сын поступил в институт и каждый год уезжал на все лето со студенческим строительным отрядом то на целину, то на северные стройки, что-то у них окончательно разладилось. Вот и на этот раз, когда они решили пожить где-нибудь в лесу, и Михаил Сергеевич долго разузнавал, покуда нашел подходящее место, неожиданно выяснилось, что ехать ему придется одному. Жене не удалось поменяться отпуском ни с кем из своих сослуживиц, как делала она раньше, если ей предстояло отдыхать порознь с мужем. Жена Михаила Сергеевича работала лаборанткой в НИИ. В прошлом году они летом ездили в Крым, и теперь по графику отпуск выпадал ей лишь в декабре. «Ты только не расстраивайся, бога ради, — успокаивала его жена. — Поезжай, поживи там без меня на свободе. А потом, может, я и сумею вырваться к тебе на недельку…» Но время шло, а жена не приезжала. Впрочем, Михаил Сергеевич сейчас даже был доволен, что очутился здесь в одиночестве. Хорошо ему было жить в этой просторной избе, крытой потемневшей осиновой дранкой и сложенной из звонких сосновых бревен, которые, как иногда чудилось Конохову, все еще источают крепкий запах смолы, хотя на самом деле по утрам в горнице пахло остывшей золой и сваленным на печи старым тряпьем. Он не замечал этого тряпья, не чувствовал и какой-то кисловатой затхлости, пропитавшей углы, а, просыпаясь на рассвете и выходя на крыльцо, наслаждался тишиной, какую раньше и представить себе не мог: в утреннем неподвижном воздухе бывало слышно, как переговариваются доярки на ферме, находившейся за озером, в Жоготове.
Михаилу Сергеевичу довелось идти через эту ферму в первый же день своего приезда. В Жоготове, выйдя из автобуса, он спросил у толпившихся на остановке около крытой будочки мужиков, как попасть в лесничество. — Ты ферму знаешь? Вот и вали прямиком скрозь нее, а там берегом озера по правую руку бери, — сказал ему небритый мужик, сидевший на скамейке внутри будки. — А как же мне к ферме пройти? — Конохов смущенно улыбнулся и пожал плечами. — Я, видите ли, еще не ориентируюсь здесь, так сказать, где север, где юг… — Дак на кой тебе хрен тут орнетироваться? Ты ферму знаешь? Ну, вот и ступай туда. Скрозь нее к озеру прямиком и попадешь, — вновь сказал небритый мужик и с угрюмой подозрительностью уставился на Конохова. — Ты чего, никак выпил уже, что ли? Для чего тебе тут север? Михаил Сергеевич поторопился отойти в сторонку, чтобы не раздражать этого бестолкового и мрачного мужика, в голосе которого звучала какая-то надсадная ожесточенность, как будто нарочно распалял он себя, готовясь сорваться на крик. Да и остальные мужики прислушивались к разговору, как показалось Конохову, с недоброй настороженностью, словно вопросом своим он обидел сидящего в будке их товарища и они теперь лишь ждали повода, чтобы вступиться за него. «Что я ему такого сказал? Сам он, наверное, пьяный, — отходя от будки, растерянно думал Михаил Сергеевич и, все больше и больше утверждаясь в этой мысли, даже вслух повторил негромко: — Конечно, пьяный! По роже его видно, что никогда и не просыхает небось… Алкаш!..» Конохов выпивал редко и относился к пьяным с брезгливым опасением. Когда же случалось приметить ему на улице качающегося, пьяного человека, переходил он на другую сторону, желая в душе, чтобы тот, пьяный, упал и, стукнувшись затылком об асфальт, сразу же умер или чтобы сбила его машина. Правда, плохо только, что шоферу тогда, пожалуй, несдобровать, а пьяного не жалко — черт с ним! И, шагая наугад вдоль заборов по рыхлой песчаной тропке, мимо задернутых занавесками и от этого словно бы замутненных бельмами, незрячих окон, Конохов и об этом мужике подумал с мстительным злорадством, почти не сомневаясь, что в автобусе тот начнет скандалить и его высадят на полдороге. Ну, а если и не высадят, то уж на станции обязательно попадет он в вытрезвитель и дадут ему там пятнадцать суток. И правильно сделают, если дадут. Так ему и надо!.. А день тот выдался не по-летнему холодным, ветреным. Над влажными, почерневшими крышами вперевал проносились серые клокастые тучи, задевая свисающими крыльями за крестовины телевизионных антенн. В просветах между тучами, вместо синевы, проглядывала неподвижная плотная белизна. И все вокруг было хмурым и неприветливым в тот не по-летнему пасмурный день: на деревьях громко шумела сбитая ветром набок, жесткая листва, звеняще гудели провода, а избы вроде бы нахохлились, сделались приземистее и глуше. У калитки крайней в ряду избы стояла озябшая и тоже как бы нахохленная девчушка в длинной вязаной кофте и больших, материнских должно быть, резиновых сапогах. Голова ее была закутана теплым платком, из-под которого выбивались светлые прядки; голые, покрасневшие от холода ноги торчали из широких голенищ. Поравнявшись с ней, Конохов спросил: выйдет ли он по этой дороге к ферме, и девчушка, — молча подтвердив кивком, что, мол, выйдет, — украдкой глянула на него из-под теплого своего платка, неожиданно улыбнулась ему, но тут же, смутившись чего-то, повернулась и побежала к крыльцу. Просторные голенища сапог хлопали по ее худым икрам. Деревня кончилась. Поднявшись на пологий холм, Конохов увидел озеро, огороженные пряслами, побеленные строения фермы на его берегу, пересекающую мокрый луг колеястую дорогу, которая терялась в лесу, а над лугом, над неоглядной озерной пустынностью с пронзительными криками вились чернокрылые стремительные птицы. Миновав ферму, он вышел на луг. И как только простерлась перед ним кочковатая, ископыченная и осклизлая земля, вся рябая от усеявших ее, словно оспины, мелких лужиц, чернокрылые эти птицы понеслись вслед за Коноховым, крича еще пронзительней и тревожней, быть может, за гнезда свои опасаясь, за притаившихся в них птенцов, — как бы не потоптал их неосторожный человек. Слева грозно темнела вспененная поверхность озера. А за ним, в той стороне, откуда, накатывались на низкий берег гонимые ветром шелестящие волны, высилась на взгорье облупленная кирпичная церковь с бескрестными, комолыми куполами. Кружилось над ними еле видимое отсюда воронье, то сбиваясь в плотный шевелящейся ком, то растягиваясь цепочкой, а то и совсем пропадая за горбатыми деревенскими крышами. И пока шел он по изрытому коровьими копытами лугу, а потом через лес, где было сумеречно, тихо и безветренно, и слышалось в этой сумеречной тишине, как негромко звенит укрывшийся под замшелыми валежинами ручей, Конохову вспоминалась темная изба с пустыми окнами, заткнутыми пестрыми подушками, стоявшая у калитки озябшая девочка; покрытые пупырышками гусиной кожи тонкие ноги ее в раструбах сапог и смущенное улыбающееся лицо. Михаилу Сергеевичу казалось, что все вокруг озарено этой немеркнущей улыбкой неизвестной ему девчушки, как озаряются вдруг в непогодливые вечера далекие перелески, холмы и поля нежданно прорвавшимся из-за туч блеклым закатным светом. На душе у Конохова полегчало, потому что неприятный осадок, томивший его после разговора на автобусной остановке, незаметно исчез, и сейчас ему даже о мужике том мрачном думалось без злобы, а примирительно и прощенчески: «Ну, выпил малость человек… Ну, и что же тут такого?.. Да и с кем не бывает!..» Однако, подходя к лесничеству, глядя на стоящую поодаль контору, на обнесенные плетнями огороды, на избы, словно бы выступившие на опушку лишь для того, чтобы осмотреться вокруг, а затем вновь укрыться за елками, и стараясь угадать, в какой из них доведется ему жить, Михаил Сергеевич с нарастающим раздражением подумал, что в примирительной успокоенности его, в том запоздалом прощенчестве, которое теперь снизошло на него, есть что-то унизительное. Он вроде бы заискивал перед тем пьяным мужиком, вроде бы запоздало оправдывался перед ним, хотя и не был ни в чем виноват. «Да ну его к лешему, в самом-то деле! — Конохов передернул плечами, встряхиваясь и как бы поправляя сползающую лямку рюкзака, стараясь в то же время избавиться от гнетущего чувства, словно мужик тот все еще смотрел ему в спину и спрашивал с идиотской своей подозрительностью: «Для чего тебе тут север?» — Может, мы и не встретимся больше никогда… Мало ли дураков на свете!..» Но и после того, как бродившая между грядками костлявая неопрятная старуха указала ему избу Снетковых, и Михаил Сергеевич, громко потоптавшись в сенях, чтобы предупредить хозяев о своем приходе, сильно потянул на себя и сразу же поспешно прихлопнул низкую, тяжело ухнувшую дверь, — это давящее ощущение чужого подозрительного взгляда не покидало его. Ему показалось, что в водянистых глазах старухи мелькнула подозрительность, когда он подошел к ней и поздоровался. Нехорошо она как-то посмотрела на него, будто он не о соседях ее спрашивал, а просил укрыть от властей. Конохову даже смешно стало, как только он подумал об этом. «Одичали они тут совсем, наверное… Ругаются, конечно, между собой из-за огородов… Хотя шут их знает…» И лишь когда он познакомился с будущей хозяйкой своей, Лидией Никитичной, рано постаревшей невысокой женщиной, с мягкими и добрыми чертами лица, когда уселся за стол, а молчаливый сын ее разлил в рюмки привезенную Коноховым водку, Михаил Сергеевич почувствовал отпускную расслабляющую беззаботность. — С приездом вас, — ласково сказала Лидия Никитична, пригубив рюмку. — Дай бог вам здоровьичка… А сын ее выпил молча, сочно захрустел огурцом, торопливо хватая вилкой со сковородки жареную картошку. Конохова удивило, как это не обжигается он, хотя на аккуратно подрумяненных кружках с шипением пузырились капельки сала. — Вы уж извиняйте нас, если чего не так, — вновь проговорила Лидия Никитична и виновато посмотрела на сына. — А я вам и перину уже приготовила. Пуховая дак перина, мягкая… Пашутка-то мой все в лесу да в лесу… Одни мы с ним туточка… Вот так всю жизнь и живем… — Простите, а муж ваш, очевидно, с войны не вернулся? — как можно участливее спросил Конохов, однако в голосе его помимо воли прозвучала сухая казенная фальшь, и он смутился. — Натерпелись вы тут, конечно… Ведь и немцы, наверное, у вас здесь были?.. — Были, батюшко, были! — с горестным недоумением откликнулась Лидия Никитична, не замечая смущения своего постояльца. — Да и как же им не быть-то, коли они на танках сюда приехали? Только я тогда еще совсем ничего не знала, девчонкой была… А мужик-то у меня уже опосля войны объявился… Да вить чего теперь вспоминать? Эво сколько годков минуло! Теперь-то чего ворошить?.. Была в ее словах надрывная какая-то исступленность, и Конохов пожалел, что спросил ее о муже. Сперва он приготовился к неизбежным бабьим слезам, к долгому рассказу о том, как получила она похоронку, как постепенно примирилась со вдовьей своей участью, как потом от случайного квартиранта сына прижила, а там вдруг муж вернулся, — старая история! Но затем понял, что слишком уж прибавил лет Лидии Никитичне. Не могло у нее быть тогда никакого мужа. А хозяйка молчала и даже не всхлипывала. Лишь рот ее судорожно кривился, словно воздуху ей вдруг стало не хватать, и она из последних усилий по-рыбьему немо двигала перекошенным своим ртом. — И чего ты лезешь-то к человеку? — грубо сказал ей сын. Он еще выпил. Длинные русые волосы его взлохматились, мокро липли к вискам. И сидел он, горбясь, как бы нависая над столом, над опустевшей сковородкой. — Ему с дороги отдохнуть надо. Устал человек, а ты пристаешь… Не видишь, что ли?.. — А и то правда, — спохватилась Лидия Никитична, тотчас приходя в себя и не обижаясь на привычную грубость сына. — Я вам скоренько постелю… Отдыхайте себе на здоровьичко… Не слушайте меня, старуху… А спустя время, когда угомонилась где-то по другую сторону печи хозяйка (сын ее ушел спать на сеновал), лежа в непривычно мягкой постели, Конохов мысленно повторял, борясь с обволакивающей зыбкой дремой: «Все правильно. Зачем ворошить старое? Все обошлось, забылось… Зачем вспоминать? Люди они хорошие, простые…»
В тот день Михаилу Сергеевичу предстояло идти в Жоготово. У него кончились сигареты, а одалживать у хозяйкиного сына ему не хотелось. После первого того разговора Павел сторонился Конохова, да и Лидия Никитична держалась несколько отчужденно, словно неловко ей было, что выказала она минутную слабость, открылась перед чужим, равнодушным к ее затаенному горю человеком. А Конохову думалось, что он понимает их, и ему было приятно сознавать собственную чуткость и деликатность, хотя и не мог он подчас удержаться от мелочной обиды и желчного брюзжания. «Они сами по себе, а я сам по себе… Ведь не из милости же я у них живу, не нахлебником! За такие деньги можно бы было путевку в дом отдыха купить или даже, пожалуй, на юг смотаться, — не замечая, что преувеличивает, размышлял Михаил Сергеевич, возвращаясь вечером из лесу или с озера, где брали иногда на выползка вполне приличные подлещики. — Впрочем, и здесь не так уж плохо. А что у них какие-то свои неприятности, то у кого их нет?..» Накануне он ходил за грибами. И, заблудившись в частом орешнике, в сыром его мраке, где посреди разлапистых папоротников желтыми пятнами были разбросаны какие-то крупные, вроде бы болотные цветы на мясистых стеблях, осклизло хрупающих под его ногами, когда он безжалостно топтал их, считая эти желтые цветы ядовитыми; где в плотной тени одиноко белели последние ландыши, а на пробитых лосями тропах в острых чашечках следов густела темная лесная вода, Конохова охватил первобытный какой-то страх перед этими хмурыми чащобами, папоротниковой круговертью, из которой, как подумалось ему тогда, ни за что уже не выплутаться живым. Но он все-таки упорно продирался вперед сквозь переплетение веток, то отводя их руками, то нагибаясь и подныривая под нависшую листву, придерживая сползающий берет. Раза два попадались ему на пути валявшиеся между папоротниками потемневшие, исхлестанные дождями кости, плоские длинные черепа, должно быть, павших от болезней либо от старости лосей. Михаил Сергеевич торопливо обходил их, стараясь не смотреть на оскаленные челюсти с почерневшими съеденными зубами, на серые ребра, ужасаясь от мысли, что от него, быть может, и этого не останется… Пустая корзина его цеплялась за ветки, и он чуть не выбросил ее, потому что не до грибов ему было в том густом, непролазном орешнике. Да и не было там никаких грибов! Но как только выбрался он на широкую поляну, пеструю от коричневых метелок поспевающего конского щавеля, ромашек и зверобоя, до тонкого несмолкающего комариного звона в воздухе нагретую солнцем, пахнущую смолой, травами и подсыхающей на рыхлых кротовых кучах землей, страх его пропал. Конюхов медленно огляделся и сразу же приметил подле елки бурую шляпку боровика. С замиранием сердца, чуть ли не на цыпочках он начал подкрадываться к грибу, не спуская глаз с лоснящейся шляпки, как будто ранний этот гриб мог убежать от него или же внезапно исчезнуть. Твердая, еще не источенная червями ножка боровика была сахарно-белой на срезе, и Михаил Сергеевич даже к губам ее приложил, задохнувшись от внезапного счастья и ни с чем не сравнимого волнующего запаха грибной свежести. Вот это была удача так удача! Он не спеша обошел всю поляну по краю, заглядывая под молодые разлапистые елки, приподнимая приникшие к земле ветки, разрывая опутавшую их траву, и тогда обнажалась под ними прелая прошлогодняя листва, побуревшая хвоя, бледные прожилки побегов, среди которых копошилась какая-то юркая живность, извиваясь, уползала по необрушившимся ходам, чтобы укрыться от губительного дневного света. Изредка все же попадались ему коренастые молодцеватые подосиновики, черноголовые крепкие подберезовики, россыпи ярко-рыжих лисичек, однако мелких еще — с пуговицу величиной, — и Михаил Сергеевич не срезал их, а оставлял подрасти. Его больше не беспокоило, что не найдет он дороги к лесничеству. Отсюда нетрудно было и по солнцу выйти, по плывущим в вышине облакам. И нелепым представлялся Конохову сейчас, на пестрой солнечной поляне, только что владевший им страх, слепо гнавший его из такого ласкового и приветливого леса! Белых грибов он больше так и не нашел. Видно, сезон еще не наступил, или вообще они тут не росли, а тот единственный боровик попался ему случайно — кто его знает. Но Конохов все равно был доволен. И, возвращаясь домой по нахоженной и просторной, как дорога, тропе, помахивал он легкой своей скрипучей корзиной, соображая, где лучше свернуть, чтобы не к озеру выйти, а поближе к поскотинам лесничества. Ведь грибы-то — что! Главное — день выдался опять солнечный, тихий. А грибов и потом можно будет набрать, осенью. Поехать, скажем, на электричке за город — есть же места! — нарезать холодных белых подгруздков, как бы подсушенных сверху и влажных исподу, либо маслянистых черных груздей. Засолить их с чесночком, с перцем, укропом… Да если еще и смородиновым листом переложить!.. Конохов и об отворотке перестал думать, размечтавшись о будущих осенних грибах. А когда спохватился, что пора бы ему давно уже свернуть с тропы, впереди засветилась близкая опушка, и озеро вскоре проглянуло между поредевшими деревьями: показалась его оловянно поблескивающая под солнцем, упруго колышущаяся гладь. На полого убегающем берегу маячила вдалеке обшарпанная одинокая церквушка. И, едва завидев ее, Конохов понял, что надо ему было забирать правее, а теперь придется идти вдоль берега, через заброшенный парк, где стояла некогда помещичья усадьба: барский дом, службы, от которых сохранились только остатки фундаментов — развороченные, словно бы взорванные, известково слипшиеся глыбы — да рассеченные трещинами гранитные ступени. По словам Лидии Никитичны, до революции эта усадьба принадлежала незадачливому русскому генералу, погубившему — как говорила она — из-за собственной дурости все свое войско на чужой стороне, бог весть в какой дальней дали от здешних мест. Вот уж никак не предполагал Михаил Сергеевич, что судьба сведет его когда-нибудь с этим позабытым генералом. Вернее, не с ним самим, разумеется, — генерал тот умер, когда Конохова и на свете-то еще не было, — а с порушенным домом его и с ожившей вдруг о нем памятью. Ведь все, что было связано с именем этого человека: гибель армии, бесславие, опала, — представлялось Михаилу Сергеевичу чуть ли не мифически далеким. Трагедию, конечно, пришлось человеку пережить, хотя мало ли бывало и горших трагедий! И, вспоминая теперь о той короткой и неудачной войне, о которой даже в школьных учебниках говорилось как-то вскользь, походя, он оставался равнодушным, не испытывая сострадания к погибшим на мглистых маньчжурских сопках русским солдатам, проклявшим перед смертью своей того, кто послал их, голодных и безоружных, под неприятельские пули… Михаил Сергеевич медленно обошел церквушку, к которой примыкало старое, неухоженное кладбище. И там, посреди осевших холмиков, поржавевших железных крестов и оград, увидел свежеполированную черного камня плиту с вырезанной на ней четко белеющей надписью: «Высокая честь любить землю и научно трудиться на ней…» Пониже значились фамилия, имя и отчество того самого генерала, даты его рождения и смерти. «А это еще что такое? — удивленно подумал Конохов, с недоумением оглядывая подновленную, но уже заросшую высокой травой могилу. — Неужели он здесь похоронен? Но тогда при чем тут эта земледельческая любовь. Он же всю жизнь военным был и, как говорится, не зерно, а смерть сеял… Возможно, это какой-нибудь родственник его или однофамилец? Любопытно, конечно… Надо будет у хозяйки спросить. Она, должно быть, знает…» Он вернулся в лесничество к вечеру. Хлопотавшая у печи Лидия Никитична, увидев на дне корзины слегка пожухлые грибы, добро улыбнулась ему и проговорила со вздохом: «Ну, и слава богу, что не попусту ходили. Ай, хороши-то! Чистые красавцы! Неужто уже пошли?..» «Пошли, как видите…» «Вот и я про то говорю, что вроде бы им рановато еще быть-то, ан они уже есть…» Она споро почистила грибы, сцедив воду, высыпала их на горячо заскворчавшую сковородку. А Конохов, проглотив набежавшую слюну, пожалел, что не осталось у него водки. Одну бутылку он лишь и захватил с собой — ту, которую они выпили в первый же день с неразговорчивым хозяйским сыном Павлом. «А вот сейчас, под грибы, как было бы славно!.. — подумал Конохов, и Лидия Никитична, будто догадавшись, о чем он только что подумал, достала откуда-то из-под изголовья кровати запыленную начатую бутылку. Обмахнув ее полотенцем, хозяйка протерла желтоватые граненые стопки и, улыбаясь доброй своей улыбкой, сочувствующе сказала: «За день-то небось наголодались, батюшко… Да и по лесу-то, поди, набегались. Выпейте себе на здоровьичко…» Михаил Сергеевич легко и быстро опьянел. И не столько, пожалуй, от водки, сколько от сморившей его вдруг усталости. Ему приятно было ощущать это легкое опьянение, и, спрашивая хозяйку, не родственник ли генерала похоронен у них там, возле церкви, он как бы издали прислушивался к своему голосу, звучавшему благодарно и размягченно, стараясь сохранить на лице заинтересованность и стараясь отделаться от навязчивой мысли: «Ну, а мне-то в конце концов какое до всего этого дело? Зачем я пристаю к ней с праздными расспросами? Ведь она прекрасно понимает, что мне все равно…» «Нет, батюшко, не родственник, нет… — раздумчиво сказала Лидия Никитична, поглядывая то на Конохова, то в замутненное сумерками окно. — Он самый у нас и похоронен. Помер-то он в двадцать пятом годе, кажись, царство ему небесное. А могилку только нынешней весной, значит, отыскали. Плиту, вишь, поставили. Сказывают, какой-то большой начальник, министр, что ли, из Москвы наезжал и велел плиту поставить, чтобы по-людски было… Обучался он вроде бы тут на агронома, у генерала, значит, нашего в школе…» «А что же это за школа такая у вас тут была?» — машинально спросил Конохов, позевывая уже без утайки и раскаиваясь, что затеял разговор. «Ну, дак как же, батюшко! — с готовностью подхватила хозяйка. — Была у нас своя школа, была! И называли-то ее генеральской, как же… Сам-то он, конешно, человек был образованный, грамотный. Много, сказывают, людей на своем веку погубил… А как случилась в наших краях революция, он все сразу и осознал. Заставляли его будто снова войско собирать, чтобы против большевиков идти, так он не захотел, отказался. Я, говорит, только нынче и разобрался, для чего мужик на свете живет. Надобно ему, вишь ты, землю-матушку пахать, а не ружьишком махать. Вот после того, значит, он и завел у себя в дому школу, вроде бы теперешнего техникума. Мужиков там на агрономов переучивал. Книжек-то у него полно всяких было. Сам он, сказывают, и обучал их в той школе, мужиков-то здешних. Должно быть, совесть его покою лишила… А так, говорят, хороший он был человек, тихий, обходительный. Царство ему небесное…» Убирая со стола посуду, Лидия Никитична продолжала вполголоса говорить: рассказывала о каком-то вагоне хлеба, который будто бы прислали сюда в неурожайный год прямо из Москвы по просьбе того самого генерала, чтобы спасти опухавших от голода крестьянских детей. Потом и о муже своем вспомнила, корила его за какую-то вину перед нею, перед сыном ее Павлом и чуть ли не перед всеми людьми, однако Конохов уже был не в силах слушать ее усыпляющее бормотанье. Глаза его слипались. Поддакивая хозяйке и согласно кивая, он доплелся до постели, разделся и, засыпая, проваливаясь в теплое обволакивающее небытие, даже не слухом, а, возможно, лишь самым краешком не угасшего еще сознания улавливал голос Лидии Никитичны, тихие скорбные слова, не понимая их смысла, но все же чувствуя заключенную в них скорбь и обиду на бог знает в чем провинившегося мужа, которого никак не могла она простить, хотя был он ей роднее родного… А вот генералу тому, чужому для нее человеку, много людской кровушки пролившему на веку, была не только она, но и все в округе благодарны за совершенное некогда доброе дело. «Может, он тем хлебом все свои грехи искупил, — говорила Лидия Никитична. — Дитя́м он тот хлеб отдал. Сам по дворам, сказывают, ходил, раздавал… Дитя́м…» И слова эти, которые вдруг отчетливо услыхал Конохов перед тем, как окончательно погрузиться в сонную пустоту, раствориться в ней, были последней вспышкой в его сознании. Он пытался удержать их в себе, потому что они казались ему важными, как откровение.
Утром Михаил Сергеевич проснулся со смутным ощущением совершенной ошибки. Такое случалось с ним дома, когда, возвратившись с работы, неожиданно, припоминал попавшую в документацию неточность, и потом до следующего дня одолевала его тревога, покуда не исправлял он допущенную накануне оплошность. Сперва Конохова удивило беспричинное это ощущение. Но стоило ему только представить, как зевал он за столом, а затем ушел спать, не дождавшись, когда хозяйка кончит рассказывать о странном том генерале, — его захлестнуло неизбывным каким-то стыдом. «Фу-ты, черт, до чего же глупо получилось! — думал он, поспешно одеваясь и испытывая нарастающую неловкость от предстоящей встречи с Лидией Никитичной. — Хоть беги да извиняйся перед ней за собственное душевное свинство… Да ведь поздно теперь извиняться-то, поздно… Ах, черт, как нехорошо все вышло! Что же мне делать?..» Ему хотелось, чтобы хозяйки не было дома. Он опасливо прислушался к устоявшейся в горнице тишине и внезапно понял, что Лидии Никитичны и вправду нет в избе, а может быть, и вообще на подворье. Наверное, ушла она в деревню или же в лес, на делянку к сыну. Конохов поискал по карманам сигареты, но, обнаружив лишь пустую пачку, почувствовал не досаду, а скорее даже некоторое удовлетворение. «Вот и за сигаретами теперь придется идти, — как бы отвлеченно размышлял он, стремясь подавить в себе малодушное это удовлетворение и делая вид, будто вовсе не пытается оправдать свое нежелание встречаться сейчас с Лидией Никитичной неожиданно возникшей необходимостью. — Конечно, надо будет сегодня обязательно сходить в магазин. Пропадешь ведь тут без сигарет До вечера можно было бы потерпеть, пока Павел придет. А если он сегодня не придет? Да и вообще, стоит ли на него надеяться? Лучше уж прямо с утра и сходить, деревню посмотреть заодно… В кои-то веки опять сюда выберешься!..» Выйдя на крыльцо, Михаил Сергеевич с некоторым замешательством оглядел двор. Был он аккуратно прибран, чисто подметен и от этого казался необычно просторным и опустевшим. Меченные со спины фиолетовыми чернилами куры вразвалку прохаживались вдоль поленницы. Поднимая головы, они зорко косили круглыми глазами, изредка подпрыгивали, длинно вытягивая шеи, — охотились на бабочек-капустниц, разомлевших на раннем солнцепеке. От сложенных под сараем березовых поленьев, лучисто потрескавшихся с коричневых торцов, тянуло сухим душистым теплом. Над вершинами елок прозрачно голубело небо. День снова обещал быть тихим, солнечным. Конохов запер дверь на висячий замок и сунул ключ с привязанным к нему обрывком грязного бинта в щелку за косяком. Он нарочно положил ключ так, чтобы захватанный, грязный этот бинт высовывался хвостиком из щели и хозяйка, вернувшись, сразу бы его заметила. Но чем ближе подходил он к Жоготову, тем сильнее беспокоился, что какой-нибудь случайный прохожий, завернув во двор, тоже увидит свисающую из щели тесемку, тотчас догадается по ней, где спрятан ключ, достанет его и сойдет в избу. «Да откуда ему там взяться, прохожему? — соображал Конохов, поднимаясь сыпучей песчаной тропкой на изволок, к магазину. — Ну, а если и забредет, то за каким чертом он станет в избу заходить? Поживиться там нечем, разве только догадается удочки из сеней прихватить… Да кому они нужны, твои удочки?..» Однако он все же прибавил шагу и подоспел как раз к открытию магазина. Расплывшаяся продавщица, кое-как стянутая по талии засаленным на животе и бедрах белым халатом, топталась за низеньким палисадником — отворяла ставни. Она, казалось, со злостью резко откидывала брякающие железные щеколды, со скрипом выдирала из гнезд длинные болты. Дверь магазина была распахнута, но собравшиеся у входа люди терпеливо ожидали, пока недовольная чем-то, должно быть, невыспавшаяся продавщица первой вступит в свои владения. Михаил Сергеевич пристроился в конце очереди, которая, неспешно втянувшись в прохладное магазинное нутро, вроде бы рассосалась, поубавилась, так что он негаданно оказался почти рядом с прилавком. На полках громоздились банки варенья, пирамиды рыбных консервов, пестрели конфетные обертки, а рядом отражались в наклоненном зеркале бутылки с коньяком, ромом и водкой. А вот сигарет видно не было. Недоумевая, Конохов хотел уже справиться у продавщицы, как обстоят у нее дела с куревом, но та, прихватив эмалированную кружку, отправилась в другой конец магазина — наливать подсолнечное масло. Михаил Сергеевич глянул на освободившееся место и сразу заметил стоявший на полу фанерный ящик, в котором лежали вперемешку спички, сигареты «Прима» и пачки махорки. «Разорюсь-ка я, пожалуй, пачечек на десять «Примы», — решил он, прикидывая, хватит ли ему взятых с собою денег еще и на бутылку водки. Ведь теперь он вроде бы обязан был купить водки. Хозяйка-то, конечно, для сына ту бутылку за кроватью берегла. — Впрочем, что это я нацелился? И здесь, наверное, водку с одиннадцати продавать начинают. Не стану же я полдня из-за нее вокруг магазина ходить. Ладно, перебьются они и без водки…» Конохов достал деньги и приготовился уже ступить еще на шаг ближе к весам, когда у прилавка впереди вновь вышла некоторая заминка. — Ты бы отпустила меня, Тося, — не видя, что там происходит, услыхал Конохов просительный вкрадчивый голос стоявшего перед ним мужчины. — Отпустила бы, Тося, слышь… — Я тебе сказала, не отпущу, значит, не отпущу! — продавщица отвечала зло, словно болты из гнезд дергала, и Михаил Сергеевич, все еще не улавливая, о чем речь, подивился: для чего понадобилось ей удерживать около себя этого покупателя? — Да отпустите вы его ради бога, — как бы в шутку посоветовал он неулыбчивой продавщице. — Видите, человек торопится, а вы его не отпускаете. — А ты откудова такой шустрый выискался, чтобы тут указывать? — не принимая шутливого тона его, продавщица гневно вскинула подкрашенные брови, уничтожающе глядя на Михаила Сергеевича. — Ты мне рубли свои не суй! Господи, нажрутся с самого утра и суют, как свиньи… А ну мотай отсюдова по-хорошему, пока участкового не позвала! Ты чего, читать уже разучился или, может, неграмотный? — Она ткнула растопыренной, лоснящейся от подсолнечного масла пятерней в подвешенную над бутылками табличку, на которой значились сроки торговли спиртным, а пониже содержалось и строгое предупреждение об ответственности за нарушение этих самых сроков. — Кому было говорено — мотай?! Михаил Сергеевич растерялся. Продавщица грозно двинулась вдоль прилавка к откидному барьерчику. И он сообразил наконец, что тот, вышедший уже на улицу мужчина тоже водки хотел купить, уговаривал продавщицу, а он опрометчиво встрял между ними и конечно же помешал им договориться. Наверное, поэтому продавщица, еще сильнее озлобясь, и его причислила к пьяницам и сейчас, быть может, на виду у всей очереди станет выталкивать из магазина. Конохов непроизвольно подался назад, но пересилил себя и, стараясь сохранить спокойствие, чувствуя все же в голосе своем какую-то заискивающую предательскую дрожь, протянул ей деньги и сказал: — Вы не кричите на меня, пожалуйста. Я не за водкой, а за сигаретами стою. И вообще, какое вы имеете право кричать на других?.. Но продавщица, по всей видимости, и сама уже догадалась, что зря накричала на него, хотя сдержать себя сразу не смогла. Молча взяв у Конохова деньги, она наклонилась над ящиком, пошебуршала в нем и, даже не выпрямившись еще как следует, не глядя в его сторону, не подала, а, будто милостыню нищему, выкинула на прилавок несколько пачек сигарет и сдачу. «А если бы я сейчас рискнул у нее бутылку водки попросить, что было бы? — с веселым страхом подумал он, не обижаясь на издерганную и злую эту женщину и радуясь, что все обошлось относительно мирно. — Вот был бы шум! Не приведи бог, конечно…» — Мне нужно десять пачек сигарет, — как можно доброжелательнее проговорил он, отодвигая от себя сдачу на край прилавка. А продавщица, опять смолчав, уже не стала остервенело швырять ему недостающие пачки. И хотя в руки еще не подавала, но все-таки вроде бы полегче пустила их по прилавку да и лицом как будто чуть помягчела, словно с мороза в теплую избу вошла, что ли… Конохов благодарно кивнул ей и, рассовывая по карманам шершавые пачки, нарочито неторопливо направился мимо притихшей очереди к выходу. На магазинном крыльце, привалившись боком к перильцу, покуривал тот самый мужчина, которому не удалось купить водки. Михаил Сергеевич вгляделся и узнал в нем того небритого мужика, который сидел в будке на автобусной остановке. Правда, был он теперь выбрит, хотя и помят с похмелья. Однако смотрел он на Конохова без подозрительной ожесточенности, с участием. Михаил Сергеевич подумал, что сейчас он начнет жаловаться на продавщицу, на бесчувственность ее сетовать, а мужчина и впрямь улыбнулся ему по-дружески и спросил: — Ну, как, брат, не повезло, а? — Да нет, все нормально. — Это она перед бабами выпендривается, стерва… Мол, соблюдает и все такое… Ну, и перед дачниками тоже, бывает, характер свой показывает. А так у Тоськи нашей всегда пожалуйста. Хоть с утра, хоть с вечера… — Мужчина подмигнул, отчего веко у него на правом глазу как-то странно дернулось снизу вверх, как у курицы. — Давай-ка, брат, сдвоим с тобой, на пузырь скинемся, а? — Чего-чего? — не понял Конохов. — Ну, поллитру, говорю, давай на пару купим и выпьем с тобой, — пояснил мужчина. — Нет, не могу. Мне идти далеко, спасибо… — Надорвав уголок пачки, Конохов вытряхнул сигарету, а мужчина, сбив щелчком пепел с окурка, поднес ему прикурить. — А может, подумаешь? Тебе куда идти-то? — Домой, разумеется. То есть в лесничество… — А! Дак это ты, значит… Ну, тогда все ясно, — мужчина вроде тоже узнал Конохова и говорил с удовольствием, хотя словно бы и осуждая его за что-то. — Выходит, ты теперь у Лидки живешь. Мне давеча Пашка ейный повстречался, говорил, будто они квартиранта ожидают. Я на остановке еще подумал, что это ты… Значит, живешь себе там потихоньку… Ну, тогда, конечно, все ясно… — И что же вам ясно? — настороженно поинтересовался Конохов, почувствовав внезапную перемену в настроении собеседника, вновь возникшую враждебность и подозрительность. Не нравился ему этот разговор, очень не нравился. — И почему вы ее Лидкой называете? У нее ведь и отчество есть, и фамилия… — Ну, так та, брат, фа-ми-лия! — растягивая слова, сказал мужчина. Он презрительно хохотнул, сплюнул окурок, растер его на досках и назидательно поднял указательный палец. — Это еще как сказать! Слыхал, как в том анекдоте? В случае чего бить-то будут по морде, а не по фамилии, понял? У них сектант один церковный когда-то квартиру снимал. Мужик хотя и больной был, зато крепко пьющий. Дак и он тоже долго там не высидел, сбежал от них в одночасье. Разве ж после того к ним кто-нибудь пойдет? Это надо всю свою нервную систему заново перепаять, каждую жилочку, чтобы можно было с ними в одной избе находиться… А ты мне толкуешь — фамилия! — А какое отношение это имеет ко мне? И при чем тут какой-то пьющий сектант? — Конохов в недоумении пожал плечами и пошел было с крыльца, но мужчина, откачнувшись, ступил от перильца и загородил ему путь. — Да ты, брат, погоди, не торопись, — со значением сказал мужчина, цепко удерживая его за рукав пиджака. — Я тебе сейчас все объясню. А там ты уже сам подумай, что о тебе потом люди станут говорить. Ты погоди… Вот, значит, посоображай… Мужик ейный при немцах то ли старостой, то ли полицаем был. Понял? Не в наших краях, конечно, нет… Будто во Псковской области где-то или под Новгородом… А как наши начали, те места освобождать, он оттудова дёру задал. Сперва вроде в экспедицию устроился, по Северу бродяжил, гопничал, а когда порешил, что все улеглось, к нам заявился. В колхозах-то здешних на ту пору, сам понимаешь, мужиков, считай, и вовсе не было. Да ведь и хрен же его знал, кто он такой! Сам пришел — и лады… Мужик он был оборотистый, тертый. Вот и назначили его бригадиром в рыбную бригаду. Ловили у нас тогда тут на озере… А зимой он, значит, к Лидке и подвалился. Правда, все путем у них было, в сельсовете записались честь по чести… Он всю дорогу на доске Почета висел. На совещаниях да на собраниях его рядом с районным начальством в президиумы сажали. Ну, и она, выходит, при нем тоже вроде бы на виду… Это уже Пашке ихнему годков восемь было, когда поехали они в город. Ему, видишь ты, мотоциклу потребовалось, а ей барахлишка кой-какого подкупить. Пошли они на базар — он, говорят, как чувствовал, не хотел идти-то, — а его там, на базаре, бац — и опознали! Понял? Потом суд был во Пскове, по телевизору передавали… Сам-то он вроде бы не так чтобы очень уж зверствовал. Ему пятнадцать лет дали. А тех двоих, на кого он потом показал, дак их, значит, обоих к расстрелу… Люди-то, брат, они все помнят, кто да что! В общем, Лидке после суда того никакого житья в деревне не стало. Все тут ей припомнили: как она начальство рыбой кормила, как тес им по блату выписывала… Да-а… Раньше-то как у нас было? Нагрянет какая комиссия, обязательно к ним на постой определяют. Или из газеты приедут — опять же к ним… Хотя если разобраться, то какая ее в том вина? Да никакой. Ну, жила она с ним, дак он же ей не открывал, чем при немцах занимался, где работал. Может, если бы она про то знала, так сонного его, падлу, своими бы руками задавила… Соседи ее начали стороной обходить, вот и продала она свою избу, а сама в лесничество перебралась, Потом уже к ней тама сектант этот и подкатился. Пронюхал, гад, что у ей горе и деньги есть… Из-за него она и с сыном своим скандалить стала. Тот, значит, Пашку по малолетству всекту свою стал агитировать, а там и пить стал приучивать… Только деньги она ему все одно не отдала. Он и съехал от нее… В общем, ты, брат, подумай получше-ка, посоображай, надо ли тебе с ними знакомства водить?.. Михаилу Сергеевичу было неприятно, что мужчина этот все еще продолжает цепко держать его за рукав. И слушать ему было тягостно, потому что не мог он до конца поверить словам этого, должно быть, мучающегося, с похмелья непонятного человека, тем более что в тоне его — когда он близко наклонялся к лицу Конохова и, обдавая теплым запахом табака и водки, рассказывал обо всем этом — проскальзывала этакая приятельская доверительность: дескать, кому другому, может, и не рассказал бы, а тут ничего не поделаешь — друг… Да и говорил он как бы с оглядкой, понижая голос, словно ему уже было известно о Конохове нечто тайное, постыдное, и теперь он вроде бы намекал на осведомленность свою и на вполне возможные, хотя и нежелательные для его слушателя последствия. — А ну-ка убери руку! Не убегу я от тебя никуда! — о брезгливой оторопью сказал ему Конохов, рывком высвобождая из цепких пальцев его свой рукав и отряхивая, как от пыли. — Я плевать хотел на всякие ваши сплетни! Меня это ни с какой стороны не касается. Он спустился с крыльца и зашагал прочь от магазина, утопая ногами в песке и дыша прерывисто, тяжело, как после долгого бега. И хотя тянуло Михаила Сергеевича обернуться, чтобы проверить, не увязался ли за ним, чего доброго, назойливый этот мужик, он сдержал себя и не оглянулся даже тогда, когда тот, оставшийся на крыльце, крикнул ему вдогон: — Эй, слышь, браток! А ты все же получше-ка подумай, посоображай, как оно тебе потом аукнется!..
Нескончаемым и каким-то уж слишком душным показался Конохову тот день. Парило с самого утра. И когда возвращался он в лесничество, когда вновь шел мимо фермы, а потом по берегу озера, через ископыченный луг, над которым не видно было на этот раз стремительно реющих птиц, а только какие-то прозрачные, голубоватые мотыльки трепещущими стайками вылетали из-под пыльно полегающей под ногами травы, перепархивали с кочки на кочку, — ему все думалось, что вскоре непременно должна собраться гроза. Правда, небо над головой Михаила Сергеевича оставалось по-прежнему безоблачным, хотя и намечалось уже, плыло в окружающем его пространстве — возникая низко над землей и теряясь в вышине — зыбкое, струящееся марево, а видимые дали окрест заволакивала поднимающаяся к солнцу серо-пепельная дымка, готовая, казалось, в любой момент сгуститься тучами, пролиться дождем, обрушиться градом. Но пока еще все вокруг пребывало лишь в томительном предгрозовом ожидании. Стеклянно блестела выпуклая поверхность озера. А со стороны полукруглого, густо заросшего осокой заливчика, в котором с кряканьем и плеском полоскались не видимые отсюда утки, протягивалась к берегу, расходясь широким клином и постепенно сглаживаясь, искрящаяся мелкой рябью дорожка. Пообочь луговой тропы никли к затвердевшим комьям, остро горбились на них оплетенные седой паутиной сухие листья репейника, на жестких стеблях которого чернели цепочки тли. А на лесной опушке, над замершими муравейниками резко пахло спиртом и стекающей по нагретым стволам еловой смолой. Ветра не было. Тяжелое, насыщенное электричеством безветрие воспринималось как нечто вещественное, вполне осязаемое. И, шагая по вьющейся между деревьями тропке, Михаил Сергеевич никак не мог избавиться от тревожного ощущения, что в этом, словно бы вязком от духоты, воздухе распылена не различимая глазом гремучая смесь, способная внезапно взорваться, распороть эту вязкую духоту зигзагами молний. А произойти это могло, конечно, — как он думал, — не только от какой-нибудь там случайной искры, но, подобно снежному обвалу в горах, и от неосторожного движения либо даже от негромкого крика. Однако в лесу стояла глухая, давящая тишина, словно деревья, птицы, укрывшееся по чащобам и в норах зверье — все, что недавно еще летало, бегало, ползало, суетилось в поисках пищи, настигало жертвы, таилось от врагов или караулило в засадах менее осмотрительных собратьев своих, — теперь, осознав надвигающуюся общую опасность, замерло, позабыв на время о голоде, о вечной борьбе за существование, покоряясь слепой и страшной силе, от которой не было ни защиты, ни спасения. Скованный этим всеобщим оцепенением, Конохов тоже невольно удерживал шаг, стараясь ступать легче, неслышней, хотя в душе противился этому, понимая, что надо ему спешить, если не хочет, он, чтобы непогода застигла его в лесу. Он только сейчас, пожалуй, по-настоящему почувствовал гнетущую неподвижность предгрозья, всю его изнуряющую духоту. Рубашка на нем взмокла, липла к спине, глаза пощипывало от попадавшего в них пота. И когда не ветер даже, а будто бы отдаленный вздох коснулся поникших ветвей, влажно опахнул их, отчего медленно всколыхнулись они и тут же опали, Михаил Сергеевич испытал облегчение, приостановившись, вытер платком лицо и шею. Машинальное это движение, которому он раньше просто не придал бы никакого значения или не заметил бы его вовсе, теперь вдруг вернуло его к действительности. Конохов словно увидел себя со стороны — одиноко стоящим в нерешительности на лесной тропе, — и ощущение этой нерешительности, сознание, что ему необходимо побороть себя, совершить нечто важное и единственно правильное, окончательно освободило его от бездумного оцепенения, какому он было поддался. «Все верно… Нужно будет сразу же уехать от нее. Собрать вещи и уехать, — думал Конохов, с покорной отчетливостью сознавая, что в лесничестве, куда стремился он только что как к надежному и спокойному пристанищу, ждет его неизбежная встреча с Лидией Никитичной. А говорить с ней после всего, что рассказал ему тот мрачный с похмелья мужик на крыльце магазина, будет несравненно труднее, чем утром. — Нет-нет… Какой у меня с ней может быть разговор? Да и о чем? Возьму рюкзак — и на автобус…» Ему казалось сейчас, что во всем облике хозяйки — не говоря уже о нелюдимом сыне ее — сквозь напускную заботливость и доброту всегда проглядывало что-то скрытное, отталкивающее и злое. А он, как самый последний пижон, не замечал ничего, вернее, старался не замечать из-за дурацкой своей доверчивости и боязни причинить человеку напрасную обиду. Ну, хорошо, хорошо… А если и впрямь все это когда-нибудь «аукнется»? Если станет, например, известно, с кем он тут дружбу водил, в какой семье жил?.. Да чушь все это! Глупость!.. Кому какое дело до этого? Чепуха!.. Но возникшее в нем однажды сомнение уже не рассеивалось, а словно бы залегло под сердцем, рождая тревогу: мало ли кто может всем этим заинтересоваться? Ведь люди способны из любого пустяка бог знает что раздуть!.. Разве так уж трудно было ей сразу сказать ему обо всем? Могла же она понять, что приехал он сюда хоть немного от повседневной сутолоки отдохнуть, от наскучивших дел отрешиться!.. А вот она в душевной своей черствости не смогла этого понять и ничего ему не сказала — хотя, может, и понимала, и порывалась сказать, да терять выгодного постояльца ей не хотелось, — и была она поэтому сейчас словно бы вдвойне перед ним виновата…
Михаил Сергеевич подошел к околице лесничества, когда за спиной у него все громче и громче погромыхивало. Но спешил он напрасно. Отсюда, с открытого места, было видно, как многоярусные темно-фиолетовые грозовые тучи, минуя стороной притихшие постройки лесничества, скатывались к озеру и, прочертив огрузшими днищами по вершинам деревьев, плавно опускались на плоскую поверхность его, а затем медленно тонули, пропадая в черной водяной бездне. И только самыми высокими, как бы рвущимися из водяной этой бездны уже размытыми краями своими они достигали зенита и застили голубизну неба, которое радужно отражалось в просторных окнах конторы лесничества. Конохов был доволен, что не пришлось ему прятаться от дождя в лесу, отсиживаться под елками. Но стоило ему лишь обрадованно подумать об этом, как из несгустившейся той, размытой маревой дымки, сквозь которую бледно просвечивало по-прежнему жаркое солнце, вдруг бесшумно и хлестко обрушились сверкающие отвесные струи, мгновенно обдав все вокруг холодом и плотно залопотав по чешуйчатым дранкам на крышах, по слежавшейся дорожной пыли. Первым побуждением Конохова было бежать к конторе, чтобы укрыться под навесом, где стояли поломанные телеги. Но тут на крыльце избы показалась Лидия Никитична в накинутой на голову шалашиком серой телогрейке. Хозяйка придерживала у подбородка обтрепанные полы ее и, приветливо улыбаясь, издали махала ему рукой. Наверное, она давно уже поджидала его, поглядывала в окошко и, увидев, заторопилась навстречу. Михаил Сергеевич дернулся было к навесу, однако передумал и, оскальзываясь на жидко потекшей под ногами пыли, боясь оступиться и хватаясь за пружинистые мокрые прясла изгороди, затрусил к избе. Он молча прошел в сени мимо все еще улыбающейся ему хозяйки, стараясь не глядеть в ее лицо и наклоняя голову, словно отворачиваясь от сыпавших с крыш водяных брызг. А она, покуда поднимался он на крыльцо, гулко топая по ступенькам, чтобы отряхнуть налипшую на ноги грязь, успела проговорить с привычной своей добротой и заботливостью: — А про курочек-то я, дуреха, и совсем позабыла! Лаз-то в сарае у них закрытый. Надо побечь да впустить их, а то намокнут они у меня, бедные. Вот ведь дуреха-то старая, прости меня господи, батюшко… Михаил Сергеевич ступил в избу и замер у порога, неприятно пораженный какой-то банной застоявшейся теплотой, которая вмиг охватила его в полутемной горнице. Наконец он медленно двинулся к окну, привыкая к этой полутьме, к влажному банному духу, а когда пригляделся, то заметил в углу свой рюкзак, прикрытый упавшей на него, должно быть, с печи застиранной хозяйкиной юбкой. Конохов отбросил ее и поспешно отдернул руку, словно не юбка это была — по-старомодному широкая, длинная, синего выцветшего ситца с разбросанными по подолу мелкими, как кукушкин лен, тоже выцветшими цветочками, — а нечто крайне омерзительное. Его даже передернуло всего от внезапно подкатившего к горлу отвращения, будто он ненароком схватил рукой паука или к пригревшейся на кочке пупырчатой земляной жабе прикоснулся. «И угораздило меня проторчать тут две недели в этой вонючей дыре! — ужаснулся он, засовывая в прозрачный пластиковый пакет зубную щетку и мыльницу. — Просто уму непостижимо! Уезжать надо отсюда немедленно! Да-да… Конечно… Надо немедленно уезжать…» Конохов еще возился с неупакованным рюкзаком, когда в избу возвратилась Лидия Никитична. Но он так и не поднялся с колен, продолжая как попало запихивать свои пожитки, уминать их, с волнением и страхом ожидая ее расспросов. А хозяйка, очевидно, решила, что помешала ему переодеваться, встряхнула над порогом телогрейку и нацепила воротником на крюк вешалки у двери. — Да вы не стесняйтесь, батюшко… Не гляжу я на вас вовсе. Скидывайте свое мокрое. Я его скоренько простирну да и высушу. Летнее-то непогодье — на час, — сказала она радостным, хотя вроде бы и незнакомым глуховатым голосом, потому что говорила, отворотясь от него, словно бы уткнувшись в одежду на вешалке. — Вона картохи только чуть и полило в огороде-то! А так чего уж там бога гневить — хорошие нынче картохи… Дождичку бы им поболе… Лидия Никитична по-прежнему стояла, отвернувшись от Конохова, и он, торопясь, пока хозяйка не повернулась к нему лицом, поднялся с колен и, запинаясь от волнения, никак не называя ее, сипло проговорил: — Я от вас уезжаю… Сегодня же… Сейчас… Деньги я вам, кажется, уплатил за месяц вперед, но это, в общем, не суть важно… Мы с вами в расчете… — Это как же так, батюшко? Да неужто дома чего стряслось? Или, может, захворали, не приведи господи? — Хозяйка отстранилась от вешалки и посмотрела на Конохова, растерянно теребя на груди кофту. Он тоже мельком глянул на нее, заметил испуганное подрагивание губ, набрякшие в суставах шевелящиеся пальцы и почувствовал, как недавнее волнение сменяется у него спокойной презрительностью к этой женщине, которая столь хладнокровно обманывала его, прикинувшись доброй, заботливой и несчастной. — Я сегодня ходил в Жоготово, — отчетливо проговорил Конохов, — и мне там рассказали о вашем муже. Думаю, вам понятно, что оставаться теперь здесь я больше не могу. Михаил Сергеевич склонился над рюкзаком, деловито застегнул его оттопыренные карманы, тщательно затянул шнурок горловины, приподнял за лямки, пробуя на вес, а затем распрямился и уже без всякой неловкости, а с сознанием полной своей правоты взглянул ей в лицо. Хозяйка все еще стояла у вешалки, только привалилась к двери и от этого как-то перекособочилась, будто поясница у нее надломилась и она боялась упасть. Он собирался молча пойти из избы, разве что кивнуть хозяйке на прощанье, но не знал сейчас, как лучше ему поступить: то ли попросить ее посторониться, то ли подождать, покуда она сама догадается отойти от двери. — Ну что ж, батюшко, воля ваша, — наконец тихо, с горькой, и покорной усталостью в голосе сказала Лидия Никитична и неуверенно, как слепая вытянув вперед руки, зашаркала по горнице к столу у окна. — Езжайте себе с богом… Я вас не держу… И денег мне ваших не надобно… Она грузно опустилась на табурет, сразу обмякнув телом, еще более согнувшись и постарев, вяло поскребла рукой в выдвинутом мелком ящике стола и вдруг, судорожно всхлипнув, навалилась на выдвинутый этот ящичек, отчего тот громко заскрипел под тяжестью, врезаясь торцом в ее рыхлую бесформенную грудь. Конохов невольно подался к хозяйке, как бы желая утешить ее, подхватить за плечи. Но Лидия Никитична, словно предупреждая это непроизвольное его движение, подняла от столешницы заострившееся, иссеченное морщинами свое лицо, беззвучно пошевелив почерневшими старческими губами, сказала с глухою мукой в глазах и просящей укоризной: — Уходи ты поскорее отсюдова, батюшко… Добром тебя просят — уходи… Была она похожа сейчас на давно одряхлевшую собаку, за которой пришли, чтобы отвести куда-нибудь за сарай, и которая понимает, для чего ее туда поведут, но уже не в силах противиться неизбежному, смирившись со своей судьбой, в последний раз смотрит на тускнеющий вокруг нее мир, смотрит меркло, с безысходной дремучей тоской. Была в ее взгляде, в страдальчески запавших мутных глазах вот эта самая немая, животная безысходность… Конохов поспешно вскинул на плечи рюкзак и пошел прочь из избы.
В автобусе на последнем сиденье расположились какие-то шумные парни и девушки в зеленых стройотрядовских робах. Они то громко смеялись, то начинали вразнобой петь неизвестные Михаилу Сергеевичу безмотивные песенки, но, так толком и не допев до конца ни одной, вновь принимались говорить, перебивая друг друга, похохатывать, обнимая девушек, а те, довольные, не вырывались из крепких их рук, послушно льнули к парням, выпячивая туго обтянутые штанинами бедра. Красивые они были, эти парни и девушки, в беспечной веселости своей, так что даже немолодая, увешанная билетными катушками кондукторша не покрикивала на них с высокого бокового сиденья, не утихомиривала, а все смотрела с затуманенной улыбчивой завистью, позабыв, должно быть, о материнской этой затуманенной улыбке на своем лице. Так и ехала она всю дорогу — полусонно покачиваясь и улыбаясь. И никто в автобусе не сердился на них, наверное, потому, что незанятых мест было много; никому не мешали они молодой своей колготней, да и ехалось вроде бы побыстрее под безмотивные эти песенки, под говор их неразборчивый и смех. Михаил Сергеевич тоже изредка поглядывал через плечо в их сторону, правда, без зависти поглядывал, но и без ханжеского осуждения, думая, что для чего тогда и молодость дается в жизни, если не поболтать вволю, не посмеяться беспечно, не пообнимать таких вот милых и покладистых девушек. Ведь в таком случае и не жизнь это будет у них, а сплошная тусклость, как, например, у хозяйкиного сына Павла, который и нелюдимым-то стал, наверное, потому, что не вылезает из лесу по целым суткам… Конохов мимолетно, как бы к слову, вспомнил о нем. Но, вспомнив, тут же представил угрюмое лицо Павла рядом с веселыми лицами девушек этих красивых и парней и подивился даже, насколько не совмещались они в его сознании, словно были не одногодками, а совершенно разными не только по возрасту, но и по жизненному опыту людьми. «Но ведь так оно, пожалуй, и есть, — подумал Михаил Сергеевич, стараясь точнее определить причину их несхожести. — Павел деревенский, в лесничестве вырос, а ребята эти, по всей вероятности, городские… Хотя сейчас и деревенские-то не слишком отличаются от городских… А тогда почему он так на них не похож?» Сквозь убаюкивающий гул мотора Конохов прислушивался к басовитому говору парней, улавливал мягкие девичьи голоса, но в нем уже поднималось неясное какое-то раздражение на себя, ощущение допущенной промашки, которую теперь уже поздно исправлять. Михаил Сергеевич никак не мог определить, в чем же заключается его невольная промашка, и поэтому знакомое и даже в какой-то мере привычное для него ощущение это приобретало саднящий оттенок, пугало своей неизвестностью, как предчувствие неведомой опасности или как если бы на крутом спуске у автобуса вдруг отказали тормоза, и громоздкая эта машина помчалась бы вразнос, покуда не рухнула бы, перевернувшись, в кювет, после чего он, наверное, еще какое-то мгновение различал бы человеческие крики, скрежет ломающегося металла, прежде чем все это заглушила бы затмевающая сознание и от всего избавляющая боль… «Так а чего ж тут мудрить? Это же хозяйка, Лидия Никитична, его мать, всему причиной, — возникло у него в уме, и Конохову почудилось, что именно в этой мысли заключено его спасение и оправдание, — Она и виновата во всем… Зачем было ей принимать пришлого, никому не известного в их деревне человека, который оказался бывшим полицейским или старостой? Зачем она сына от него родила?..» Но, подумав так, Михаил Сергеевич тотчас же догадался, что нету для него в этой мысли никакого ни спасения, ни оправдания, как не было их ни для самой Лидии Никитичны, ни для сына ее, Павла… Откинувшись на спинку сиденья и прикрыв глаза, Конохов думал о том, что, конечно, и Павел тоже не однажды спрашивал ее об этом, когда подрос, когда узнал обо всем от добрых людей. Михаил Сергеевич представлял себе, как сперва, должно быть, Павел исподволь выспрашивал у нее об отце, в надежде, что все это обернется ложью, пустым наговором. А затем, когда убедился, что не наговор это, не ложь, — мучился, наверное, плакал бессонными ночами, терзая материнское сердце ее недетскими своими слезами. Чем же утешала она его по ночам? Да и могла ли вообще утешить?.. Из-за этого, разумеется, он и пить потом начал с тем сектантом, который чуть было не прижился у них. И, напиваясь до беспамятства, забывая обо всем, кроме жгучей своей обиды, кричал он, наверное, на мать, что не подумала она, какую муку ему готовит, когда спала с тем подонком, которого не судить надо было как порядочного, а прямиком отвезти в ту деревню, где он, сволочь, предательствовал в войну, и без всякого суда повесить там на какой-нибудь старой осине, как бешеного пса, либо другою страшною смертью казнить!.. Хотя такому любой самой страшной смерти было бы мало… А может, он и бил ее в ослепляющей, пьяной злобе? Что ж, вполне могло быть, что и бил… «Да разве ж я знала про то, Пашенька, родной!.. — словно бы слышался Конохову сейчас страдальческий, жалкий ее голос — Ничегошеньки-то я, дуреха, не знала…» А сын отвечал ей с такою же мстительной отчетливостью, с какой он сам, Конохов, говорил с хозяйкой перед тем, как покинуть ее избу: «Не знала? А надо бы знать! Не может быть, чтобы ты ничего не знала… Говорил же он перед тем с тобой, как спать ложиться… Может, хоть спьяну-то говорил?..» «Так не пил он, Пашенька… Вовсе не пил ее, проклятую…» Михаил Сергеевич запоздало сознавал, что только теперь наконец действительно понял этих людей. Понял объединяющее их горе и разобщающее страдание, которому ничем нельзя, было помочь и которое не поровну делили они между собой и несли каждый по-своему: Павел искал облегчения в угрюмой нелюдимости, в лесной своей тоске, а его мать — в стремлении не ожесточиться, сохранить в себе человеческую приветливость и доброту, какую он в самодовольной своей слепоте посчитал притворством. Ведь не зря она с такой готовностью ему о том генерале рассказывала, что голодным детям хлеб раздавал, искупая великую свою вину перед людьми, — это она собственной бедой с ним делилась, а он не захотел принять ее нелегкой исповеди, оттолкнул с ленивым равнодушием и даже осудил, не разобравшись, что к чему… А имел ли он право осуждать ее вообще? Нет, конечно же не имел… И без того ей на веку не сладко пришлось, и не нуждается она ни в осуждении его, ни в прощении… Нет, он ей не судья, да и никто ей не судья!.. Не за что ее корить… А вот она сама, Лидия Никитична, поймет ли когда-нибудь его? Простит ли ему тайную его трусость, в которой он даже себе не хотел признаваться, а не то чтобы перед другими ее выказывать? Может быть, и простит… Ведь простая она женщина, русская деревенская баба… А они, бабы эти, все могут понять и простить… А автобус катил и катил себе вперед посреди вечереющих молчаливых лесов, косо освещенных резким закатным светом. Ровный рокот его мощного мотора бегуче отражался от подступающей к асфальту сплошной хвойной стены, и поэтому казалось, что покачивающаяся на мягких рессорах, огромная эта машина несется вдоль звонких органных труб, отзывающихся на приближение ее протяжным певучим гулом. Давно угомонились и задремали на заднем сиденье те смешливые парни и девушки, склонив друг дружке на плечи одинаково волосатые, взлохмаченные головы, так что и не понять было — где чьи. Сонно колыхались перед Михаилом Сергеевичем женские платки, шляпы и кепки, а он пристально и невидяще смотрел на красноватые вершины сосен и думал, что ехать ему до станции еще далеко, а там ждать поезда и на поезде потом долго ехать через такие же бесконечные, но уже темные, ночные леса, которые тянутся бог весть куда, наверное, до самой тундры… Конохов даже вздрогнул, когда деревья вдруг отпрянули от дороги и распахнулась перед ним покато всхолмленная равнина, далекие избы на краю ее, а между этими черными избами, словно раздвинув их, покоился медный солнечный диск. Был он сплюснут снизу, нежарок, и небо над ним не багровело, а слабо золотилось. Спокойный был закат, ласковый, обещавший назавтра тихий, солнечный день.
ПО ТУ СТОРОНУ СОЛНЦА Повесть
За долгие годы журналистских скитаний Комов притерпелся ко всему — привык к казенному комфорту гостиниц, к буфетам с пирамидами черствых бутербродов, к очередям у билетных касс, к лоткам с ширпотребовской мишурой и к ослепительным улыбкам стюардесс на рекламных щитах, перечеркнутых размашистой золотой надписью: «Souvenirs». Впрочем, бортпроводницы, которые встречались Комову на трапах и в салонах самолетов, улыбались обычно не столь ослепительно. Лица их выглядели усталыми, раздраженными. Да и сам он давно уже не испытывал радостного возбуждения от полета. Частые командировки стали тяготить. А аэропорты различных городов представлялись ему одинаково скучными сооружениями, словно создавались они по проекту одного и того же архитектора с убогим вкусом и скудной фантазией. Теперь Комов все чаще и чаще подумывал о том, чтобы уйти из газеты в какой-нибудь «толстый» журнал или в издательство. Посидеть там спокойно, отрешиться от каждодневной газетной нервотрепки, а там, глядишь, и написать что-нибудь этакое стоящее, «для себя», без оглядки на секретариат, где — как он знал по опыту — непременно примутся сокращать, править, предлагать «привести в соответствие с текущим моментом» и вообще перекручивать, как кому бог на душу положит. Ему надоела эта мелочная опека, хотелось избавиться от нее. И Комов втайне завидовал однокашникам своим по заочному отделению Литературного института, с кем начинал он когда-то работать в газете, и особенно тем, которые после окончания института, однажды отважившись, бросили службу, бедствовали поначалу, перебивались случайными командировками, внутренними рецензиями, но зато издавали сейчас книжки и стали писателями. Хорошими ли, плохими — не в том суть. Главное, как он считал, — писали они о том, что действительно захватывало их, казалось единственно важным и нужным, — и тем были счастливы… Иногда он корил себя за то, что, польстившись на постоянный заработок и смалодушничав, все откладывал и откладывал свой уход из редакции на потом, понимая прекрасно, что никакого «потом» у него не будет и, если не хочет он окончательно завязнуть в газетной текучке, надо ему предпринимать что-то решительное — и не завтра, а уже сегодня, сейчас… Комов твердо обещал себе разделаться с этой текучкой, освободить вечера и написать парочку настоящих рассказов либо взяться за повестушку, о которой давненько уже думалось ему, да вот только засесть за нее все было недосуг. Но тут подкатывала очередная командировка, он принимался созваниваться с различными «конторами», выяснять, что к чему, и уже не о повестушке своей неначатой думал, а о том, как бы поскорее свалить эту командировку, отписаться — и вот тогда уже, тогда… Встречаясь же изредка с теми счастливыми однокурсниками своими, Комов бодрился, говорил им, что работает над рассказами, пишет повесть, а они с чуть заметной снисходительностью похваливали его и советовали: «Правильно, старичок! Ты дерзай… Ведь у тебя богатейший материал! Да и слово ты, старичок, чувствуешь… В общем, слово ты вяжешь… Ты, дедушка, дерзай, не стесняйся…» Комов всегда охотно выпивал с ними, спешил расплатиться за всех, и приятели виделись ему великодушными, чуткими людьми, которые понимают и ценят его, готовы поддержать в трудную минуту, потому что он так же талантлив, как и они, да вот беда: не задалось у него сразу — смелости, быть может, не хватило — и поэтому вынужден он растрачивать свой талант, размениваться на поденку… За столом говорили они нарочито громко, ели суетливо, неопрятно, вытирая губы краем скатерти. И, постепенно хмелея, заигрывали они с немолодыми официантками, которым это, должно быть, нравилось, так как не обижались ко всему привычные эти женщины на неумные их шутки, на слишком откровенные намеки. Но Комов в тайной своей зависти и всепрощенческой любви к этим, как бы уже недосягаемым для него, самоуверенным и удачливым людям не замечал их жалкой актерской пошлости, смеялся грубым шуткам, которые казались ему остроумными и тонкими. Ему льстило, что за столом он сидит рядом с ними, на виду у всех, приятно было слушать ни к чему не обязывающую полупьяную болтовню, и воспринимал он ее не как обычный застольный треп, а как значительный и бескомпромиссный разговор о призвании, о высоком служении, о бескорыстии… «…Не напечатают, говоришь? Ну и пусть! А ты в стол, старичок, пиши, под ключик!.. Ты, дедушка, помрешь, а мы — друзья твои верные — достанем, прочтем, напечатаем… И станешь ты непризнанным гением, понял?.. Ты работай, старик, дерзай… Давай-ка еще по единой! Ты чего?.. Давай!.. Ну, будем!..» А утром, при воспоминании об одутловатых их лицах, снисходительных улыбках, плоских шуточках и унизительных похвалах, становилось ему стыдно и за себя и за них. И Комов мучился, сознавая, что время его упущено и что если он все-таки заставит себя когда-нибудь написать что-либо «негазетное», для души — или, как советовали ему приятели, «в стол», — то, в лучшем случае, получится у него действительно лишь парочка рассказов и уж никакая, конечно, не повесть — нет! — а именно повестушка… Плохо бывало ему на следующий день, очень плохо. И тогда Ярослав Всеволодович ожидал командировки, как спасения. Покачиваясь потом на вагонной полке или сидя в салоне самолета, Комов опять мысленно возвращался к давнему своему намерению уйти из газеты и написать крупную вещь. Намерение это в дальних поездках не казалось ему столь безнадежным и несбыточным, как после тех случайных встреч и выпивок с бывшими своими однокурсниками. «А что? Ну, чем я хуже их? Чем? — думал он, запоздало обижаясь на них и уже не зависть к ним испытывая, не неловкость за пьяную ту болтовню, а потребность обличать их серую бесталанность и чванливое самомнение. — Ведь сами-то сочиняют не бог весть что! Больше перед начальством юлят, момент ловят… Пробиваются локтями, печатают всякий вздор, только был бы он общему хору созвучен, отвечал бы сиюминутным редакторским запросам… Сегодня о деревне модно писать — кропают о деревне. Завтра о городе — да пожалуйста, сколько душе угодно! Современность, видишь ли ты, нынче в ходу, рабочий класс… Конъюнктуру чуют за три версты, как волки падаль! А ты, значит, старичок, в стол пиши… Хе-хе… Под ключик! Потом они, радетели, достанут, напечатают… Нет уж, ребята, спасибо вам на добром слове!..» Хотя в такие вот долгие минуты вынужденной праздности, когда оставался он наедине с собой, когда постепенно успокаивался и вновь — как казалось ему — обретал способность размышлять отвлеченно, Ярославу Всеволодовичу становилось немного легче. Комов сознавал тогда, что дело-то вовсе не в пьяных приятелях, которые, вполне возможно, и вправду малость поталантливее его, позубастее, что ли, понахрапистее. И не в умении ухватить момент, не в конъюнктуре суть, а лишь в нем самом. Он-то ведь тоже все это видит и понимает ничуть не хуже других… Сочиняют они что-то там на потребу? Ну, и что из того? И прекрасно. Пускай сочиняют. Кому-то, быть может, все это очень важно, интересно, нужно. Да вот сам-то он так уж, наверное, устроен, что вся сегодняшнее, мельтешащее, как бы обтекает, минует его, скользит стороной. Да, он дает материалы в газету о плотинах и стройках, о заводах и шахтах. В меру сил поднимает насущные проблемы, рассуждает о тоннах, кубометрах, процентах… Но ведь все это, если честно, — только так, умом. А где-то там, внутри, — может, в сердце? — затаилась под жестким будничным пеплом, теплится на самом донышке негасимая искорка неизбывной жалости к кому-то, смутное какое-то ощущение собственной виноватости ли, неуплаченного ли долга, мучительного стыда… За что? Перед кем?.. Не перед теми ли, навсегда ушедшими от него родными и не родными людьми, которые просто любили его и которых он тоже любил просто так, за то, что они есть? Не перед землею ли, на какой возрос? Перед совестью ли своей? Перед детством ли? Перед чьей-то светлой памятью?.. Так что же это — вина его или беда? Да пускай хоть что! Но он должен не раз еще благодарить судьбу за то, что она смилостивилась и сохранила в нем эту малую человеческую искорку, сберегла. Не потушили ее ни обиды, ни боль. Не захлестнули ни злоба, ни зависть, ни равнодушие, ни своекорыстие, ни самодовольство. Вон она — чуть мерцает, горит… И еще трижды благодарить за то, что не умерла в нем жалость, не убито ощущение неуплаченного долга, и виноватость живет, и горький, мучительный стыд… Не растерял он их ни в горе, ни в радости. Не растряс на житейских ухабах, как медяки из кармана, о которых вроде бы и печалиться-то неловко, — подумаешь, мелочь! Так-то оно так… Однако же без такой вот мелочи намного беднеет человеческая душа… И если Комов, бывало, давал себе волю, то прошлое тотчас же требовательно подступало к нему, как бы отсекая от преходящего и изменчивого настоящего, которое, при должной настойчивости, еще можно было бы, наверное, как-то изменить, повернуть в благоприятном для себя направлении. А вот в прошлом уже ничего поправить было нельзя. Ведь оно-то, прошлое, давно миновало, исчезло. Хотя, быть может, как уверяли некоторые умники, только переместилось в некое недосягаемое для ныне живущих загадочное измерение. Впрочем, Комову оно, это прошлое, почему-то всегда представлялось почти что осязаемой реальностью, во всем ее многоцветье — со звуками, запахами, голосами… Это не казалось ему необыкновенным. Было лишь странно сознавать, что ведь и он сам тоже когда-то принадлежал этому, давным-давно сгинувшему прошлому. Он дышал т е м воздухом, ходил по т о й земле… И вокруг него были люди, которых теперь нет. Но, уйдя вместе с прошлым навечно, они все же как бы продолжают существовать где-то поблизости, рядом с ним, и от него одного зависит — быть им возвращенными из небытия или не быть. И опять он давал себе зарок разделаться с газетной текучкой, освободить вечера… Так обычно бывало с ним в командировках. Так было и на этот раз.
В иллюминаторе вспыхнуло расплющенное солнце. Задержавшись на какое-то мгновение, оно медленно сдвинулось, поползло в сторону, и аккуратно очерченную выпуклым стеклом голубизну внезапно заслонила оказавшаяся совсем близкой земля — уже по-осеннему сиротливая, в красновато-серых заплатках перелесков и полей, рассеченная шрамами морщинистых оврагов, полосами дорог, усыпанная разновеликими коробочками строений. Самолет накренился, вошел в вираж. Комов видел перед собой его скользящую по вершинам деревьев распластанную тень; видел устремленную к земле льдисто-морозную плоскость, простроченную шляпками заклепок и вроде бы треснувшую вдоль по краю от выпущенного закрылка. А в зияющей этой трещине, все шире и шире распирая ее, ходко вращался маслянисто поблескивающий ленточной нарезкой винт. Обманчивая близость земли была настолько убедительной, что Комов, сознавая умом эту обманчивость, все же опасался в душе, что сужающаяся, напряженно дрожащая плоскость с проволочной кисточкой на конце может случайно чиркануть по крыше какого-нибудь дома, зацепиться ненароком за неприметный из кабины пилотов, поросший темными соснами бугорок. И лишь когда самолет вышел из виража, земля пропала внизу, а свистящий рев турбин сменился ровным успокаивающим гулом — у Комова отлегло от сердца. Опираясь на подлокотники, он приподнялся в кресле, насколько позволил привязной ремень, и вновь заглянул в иллюминатор через плечо по-прежнему спящего своего соседа. Теперь под ними простиралось освещенное солнцем водохранилище, над которым, наверное, дул ветер, потому что оно было испещрено сбитыми набок неподвижными волнами, и от этого казалось, будто поверхность его покрыта неразглаженной серебристой конфетной фольгой. Кое-где еще четко белели врезанные в нее паруса яхт, виднелись по-рыбьему заостренные туловища зависших над водою «ракет», оставляющих за собой короткие, постепенно тающие следы. Но уже не было на водохранилище ни бестолковой летней суеты, ни шныряющих повсюду моторок, а окаймляющие его песчаные пляжи были пустынны. С ревнивым пристрастием заядлого рыболова Комов разглядывал с высоты далеко врезавшийся в берег залив, где, как привычно прикидывал он, неплохо было бы поставить палатку, насторожить донки на леща, запалить костерок, сварить уху. Вот и сейчас там вроде бы курился дымок, хотя, быть может, это лишь померещилось Комову. Но рее же он с завистью подумал об этом занятом и, несомненно, уловистом месте и о тех людях подумал, которые беззаботно сидели теперь на опустевшем осеннем берегу, наверняка даже не подозревая, что в пронесшемся над их головами самолете кто-то думает о них и завидует им. Комов представил себе, с какой досадой поглядывают те рыбаки на разворачивающиеся, заходящие на посадку самолеты, с каким нетерпением ждут, покуда рассеется в небе грохот двигателей; и, сидя там, на берегу у костра, они, конечно, не о людях думают, что летят в этих самолетах, а о лещах. Ведь рыбы, наверное, пугаются неумолимо нарастающего и обрушивающегося на них запредельного грохота, что сотрясает все пространство вокруг до самого дна, перестают брать насадку и стараются укрыться от этого грохота под затонувшими корягами, в темных бочагах, куда не достигают ни солнечные лучи, ни земные звуки… Комов улыбался праздным своим мыслям в ожидании, пока самолет, теряя скорость, как бы грузнея от этого, пойдет на приземление. Он не испытывал тревоги от затянувшегося полета, хотя и посматривал в нетерпении на часы. И остальные пассажиры беспечно подремывали в креслах, предполагая, должно быть, как и он, что на взлетном поле занята посадочная полоса, либо случилась другая мелкая оплошность, которую уже устраняют бдительные аэродромные службы. Комова не испугало, а скорее удивило, когда он вдруг ощутил, что какая-то непреодолимая сила вдавливает его в кресло, прижимает подбородок к груди, наполняя ее плотной, как вода, тяжестью. Он попытался выдохнуть, избавиться от этой тяжести — и не смог. Ему показалось, что оставшийся в легких воздух словно остекленел и с острой режущей болью впивается в тело, стремясь вырваться наружу через сдавленную грудную клетку. Комов даже не сообразил, что же с ним произошло, как тяжесть исчезла совсем, и его потянуло вверх, к покато накренившемуся потолку салона, вырывая из кресла, к которому он был пристегнут. И тогда Ярослав Всеволодович перестал слышать вибрирующий грохот турбин. В охватившем его оглушающем беззвучии он внезапно увидел надвигающееся на него, как в кино, перекошенное ужасом человеческое лицо. Человек этот парил в невесомости, и нелепо дергающееся туловище его плавно ударялось о матовые плафоны на потолке, легко, словно детский надувной шар, отскакивало от них и опять плавно ударялось… Солнце резко опалило Комову глаза; лучи его были упруги и холодны. Они как бы пронзили его насквозь. И только тогда, цепенея, он понял, что уже остались считанные секунды до того неотвратимого мига, когда эта беспомощная многотонная масса металла, горючего и человеческих тел врежется в летящую ей навстречу землю. Он еще успел подумать о спящем своем соседе, который все так же безвольно прижимался к ненадежной пластиковой стенке, поразиться будничному спокойствию позы его; осознать неизбежность собственной гибели и проникнуться смертной обморочностью вместе с ним обреченных людей; успел почувствовать, как истекают последние секунды, отпущенные им для безмолвного ужаса, безумного крика, смиренного раскаяния, бессмысленных надежд и горячих молитв в преддверии той неосязаемой грани, что пока еще отделяет их от небытия — от неслышного взрыва или мгновенной ослепительной вспышки, в которой для каждого из них должно окончиться все… И уже в самый последний миг, на излете остатней своей секунды, он опять увидел перед собой неподвижно блистающий в черной пустоте солнечный диск. Комов вдруг рванулся к нему, мучительно осознав, что вся его жизнь как раз и была прожита лишь ради того, чтобы в беспамятном этом рывке достичь огненного предела и познать наконец, что же скрывается за ним, по другую его сторону. Но прежде чем искореженное тело самолета превратилось в оплавленный прах, он сумел краем глаза заметить, как в черной той пустоте, крепко держась за руки и не оглядываясь на него, уходят все дальше и дальше, прячась за пылающий солнечный край, растворяясь в его сиянии, два невеликих человека — брат и сестра…
1
…Они шли медленно, утопая босыми ногами в теплом сыпучем песке. Извилистая, в колдобинах, дорога тянулась ложбиной, а по обеим сторонам ее, на взгорках, млели под солнцем редкие разлапистые сосны. Поросшие выгоревшей от зноя травой и сухим лишайником покатые бока придорожных склонов были усыпаны расщеперенными жесткими шишками, опавшими ветками с кисточками побуревшей хвои, по-слюдяному прозрачными чешуйками отслоившейся молодой коры. От искривленных сосновых комлей расползались во все стороны толстые суставчатые корни, которые горбато вздымались над лишайниками, как бы сталкиваясь и переплетаясь между собой, то укрывались под сизым дерном, в глубине, то опять выпрастывались из-под земли, А там, где пологие эти придорожные склоны круто обрывались у колеи — словно подмытые прибойной волной берега, — корни совсем истончались, свисали потрепанной бахромой, падали плетьми на дорогу и белели в сером песке, будто оголенные сухожилия, расплющенные коваными ободами тележных колес, измочаленные рубчатыми скатами машин, изорванные и перемолотые стальными траками танковых гусениц… Вокруг было тихо, безветренно. Однако пропитанный смолистой горечью воздух, от которого слабо першило в горле, зыбко струился, дрожал, и потому им казалось, что пропадающая за поворотами дорога, покатые склоны ложбины и темные шапки сосен — все это едва заметно колышется на ветру или куда-то уплывает. Временами из-заповоротов, с пронзительным визгом, будто выпущенные из рогатки, вылетали ласточки. Слегка покачиваясь, изредка взмахивая острыми крыльями, они стремительно неслись им навстречу низко над землей, но почти у самых ног вдруг отворачивали, словно обтекая их, либо, мелькнув перед глазами светлыми пятнышками подгрудок, взмывали над дорогой, вновь резко снижались и исчезали из виду. Высоко в небе, в чуточку замутненной его синеве, широкими кругами парили аисты. И наверное, оттуда, с недосягаемой высоты, этим неспешно парящим птицам хорошо была видна вьющаяся по дну ложбины песчаная дорога, две детские фигурки на ней, окрестные поля, перелески и укрытые пыльной зеленью соломенные крыши того самого села, куда направлялись сейчас эти ребята и до которого им предстояло еще шагать да шагать… Славке подумалось, что в том селе, на какой-нибудь старой хате, у аистов есть, конечно, гнездо, в котором вывели они своих аистят. И теперь малые эти аистята, как и он, тоже смотрят вверх, задрав желтые клювы, — ждут не дождутся, когда взрослые принесут им что-нибудь поесть: лягушек в болоте наловят или, быть может, ужей… Однажды, еще до войны, — когда воспитательница второго коллектива Людмила Степановна повела ребят купаться на Моховое озеро, которое находилось далеко от детского дома, за городом, — Славка видел, как тяжело пролетавший над прибрежными камышами аист тащил в клюве здоровенную, отливающую на солнце синеватой медью, змею. Он почему-то решил тогда, что, это непременно уж. А та мокро блестевшая гибкая змея была очень живучей, наверное, потому что все норовила вырваться, выскользнуть из аистиного клюва и то пружинисто сворачивалась в воздухе, то распрямлялась. В тот день им еще туда, на озеро, обед на телеге привозили: суп давали гороховый и пшенную кашу с мясной подливкой. В детский дом ребята возвратились поздно, усталые, и вечером в столовую никто не пошел — говорили, что и на ужин будет пшенка, только с молоком. А кому тогда была охота лишний раз пшенку рубать?.. «Да, в гнезде-то им, конечно, сидеть хорошо, — рассуждал Славка, думая об аистятах и припоминая счастливую довоенную пору. — Никуда ходить не нужно, а летать они пока не умеют. Вот и сидят себе… Небось спят с утра до ночи. Проснутся, пожрут и опять головы под крыло… А бывает, что клювами начинают щелкать. От голодухи, должно быть, хотя, может, и просто от скуки…» Он и сам не прочь был бы сейчас поспать или еще лучше — пожевать хлеба с салом, что лежали в заплечном мешке у сестры, которая шла впереди него по соседней колее. Впрочем, пить ему хотелось, пожалуй, все-таки сильнее. Но Славка так задумался о легкой участи неведомых ему аистят, что на время позабыл обо всем. Заглядевшись на плавно проплывающих в поднебесье птиц, он не приметил торчавшую в колее черную ощетинившуюся шишку, наступил на растопыренные, колко хрустнувшие ее лепестки и запрыгал, захромал, припадая на оцарапанную ногу. — Зойк!.. — негромко позвал он сестру, опускаясь на обочину. — Ну, куда же ты, Зойка!.. Но сестра, должно быть, тоже задумалась о чем-то, потому что не расслышала его оклика, не остановилась и даже не оглянулась. Она продолжала уходить все дальше и дальше. Славке было видно, как покачивается у нее за плечами обкрученный за горловину белыми лямками мешок, как трепыхается под коленями подол ее выцветшего, в блеклых зеленоватых горошинах, платья и как худые, утопающие по щиколотки в песке, загорелые ноги сестры оставляют в колее частые продолговатые вмятины с неровно вспученными, осыпающимися краями. — Зойка! — со слезами заорал он, внезапно пугаясь, что сестра может бросить его одного на этой безлюдной дороге и уйти совсем. — Подожди же меня!.. Больно!.. — Ох ты, горюшко мое горькое, — сокрушенно, по-взрослому оказала Зоя, возвращаясь к нему. — Ну, что там опять с тобою стряслось? Что?.. Она тревожно наклонилась над ним, с каким-то недетским, а по-бабьему жалостливым состраданием вглядываясь в его испуганное лицо. Губы у Славки дрожали, под веками мутно колыхались слезы. Сквозь расплывчатую их радужность он близко увидел немножко косящие Зоины глаза, большое, почти во всю щеку, багровое родимое пятно, отвисший вырез платья и запавшие ямки под ключицами; ощутил ее дыхание, сухой запах пыли, исходивший от сестры, и ему стало стыдно, что он так плохо подумал о ней и закричал с перепугу, как маленький. Но когда Зоя вновь спросила его: «Ну, чего там у тебя такое, покажи?» — однако уже с требовательным нетерпением спросила, скороговоркой, без прежней тревоги и сострадания, — он, зажимая рукой ступню, лишь молча опустил голову и заплакал, но не от боли, а от обиды. Зоя с трудом отлепила сцепленные его пальцы, мельком осмотрела красную и уже чуть-чуть припухшую царапину на изгибе ступни, в самой ее ложбинке, где неогрубевшая кожа была нежной, вроде бы даже прозрачной и особо чувствительной ко всякому уколу, и строго сказала: — Подумаешь, тоже мне рана! Хватит тебе реветь… Ты же не девчонка. Сейчас подорожником заклею. Пройдет… Она поискала глазами вокруг, но вдоль обочины росла только какая-то кустистая, жесткая с виду стрельчатая травка, похожая на осоку, а подорожника не было. Дальше по косогору, между соснами, кое-где торчали склонившиеся от жары пирамидки кипрея, с высоких стеблей которого вяло свисали узкие листья — сверху гладкие, а снизу как бы ворсистые, покрытые не то налипшей паутиной, не то мягким, едва приметным пушком. — Ты не уходи далеко, — сдерживая судорожный всхлип, на всякий случай попросил Славка, когда Зоя, освободившись от лямок мешка и положив его на обочину, направилась к цветущему кипрею. — Ты подожди… Мне же пить хочется… — Ладно, потерпишь, — сказала Зоя, небрежно махнув рукой. — В селе из колодца попьем. Там вода знаешь какая?.. Посиди, я сейчас… Он видел, как она наклонилась, отщипнула листок кипрея, зачем-то провела этим листком по щеке, а потом, надломив, сорвала и весь стебель с поникшими фиолетовыми цветами. Зоя уже шла обратно, похлестывая себя по икрам длинным этим стеблем, когда что-то, еще скрывающееся, должно быть, за поворотом и потому невидимое для Славки, вдруг привлекло ее внимание. Она внезапно остановилась, прижимая к груди обтрепанную веточку кипрея и всматриваясь в дорогу с выражением боязливого любопытства и растерянности, как будто перед нею появилось нечто необычное, таящее в себе опасность, с чем лучше бы и не встречаться вовсе, а уж встретившись — держаться подальше. Славка невольно сжался, замер на-мгновение, почувствовав всей своей напряженной, пошедшей холодными газированными пупырышками кожей, как надвигается на него эта невидимая и неотвратимая опасность. И тут до его слуха донеслось тонкое железное позвякивание, невнятный какой-то гомон и вроде бы шаркающий, беспорядочный топот, громкое фырканье и лошадиный храп. Не осознав еще толком, в чем там дело, Славка ухватил мешок и, шустро перебирая руками, волоча мешок за собой по сухо шуршащему лишайнику, полез вверх по склоку — сперва на карачках, а затем, позабыв об оцарапанной ступне, вскочил на ноги и кинулся к Зое. Лишь подбежав вплотную к сестре и ткнувшись с разгона плечом в ее твердый, прижатый к платью локоть, Славка опомнился и посмотрел на дорогу… А из-за поворота тем временем уже показалась пара лошадей, запряженных в крепко сколоченную, крашенную в синевато-стальной цвет повозку с высокими бортами и на высоких колесах. Легко тащившие ее раскормленные чалые битюги, гулко шлепая лохматыми копытами, взбивали слежавшуюся дорожную пыль; их квадратные, лоснящиеся от пота крупы, раздвоенные глубокими желобками и перекрещенные ременной упряжью, мерно колыхались в такт тяжелым шагам. Огромные эти битюги потряхивали топорщившимися, низко стриженными гривами, подергивали куцо подрезанными хвостами, мотали головами — с силой, рывком, дотягиваясь к округлым своим бокам, чтобы сбить черными губами назойливо льнущих к потной шерсти слепней. При каждом таком рывке скрепленная кольцами и увешанная бляхами добротная сбруя, короткие цепи, что поддерживали толстое дышло, — все это звенело и побрякивало. В повозке, на прилаженной враспор поперечной доске, сидел немолодой уже с виду, хотя, может, просто давно не брившийся немецкий солдат в расстегнутом на груди френче и сдвинутой на затылок пилотке. Справа от него косо возвышалось длинное, будто удочка, вишневое кнутовище, Оно было воткнуто черенком в специально для этого, должно быть, прибитую к борту наклоненную трубку, на которую возница небрежно накрутил вожжи. За его спиной, на дне повозки, бугрилась укрытая брезентом поклажа. Солдат курил сигарету, часто подносил ее ко рту, придерживая свободной рукой лежавший у него на коленях автомат, и, щурясь от солнца, равнодушно смотрел на дорогу поверх лошадиных голов. И по обеим сторонам дороги, вслед за повозкой, оскальзываясь на осыпающихся обочинах, неспешно шагали друг за другом немецкие солдаты. Их серые от пыли френчи тоже были расстегнуты, рукава засучены до локтей, просторные штанины пузырились над широкими голенищами порыжевших сапог. На груди у солдат болтались автоматы, к поясам были приторочены продолговатые гофрированные коробки противогазов. Некоторые солдаты шли с непокрытыми головами, засунув пропотевшие свои пилотки под ослабленные, отяжеленные подсумками и противогазами, белеющие алюминиевыми пряжками ремни. И светлые волосы этих, идущих вразвалку, немцев с необычной, какой-то обособленной резкостью отличались от обветренных, потемневших от пыли и пота, их бурых лиц и рук, словно головы солдат были обмотаны бинтами, наспех завязанные концы которых растрепались по ветру. Немцы громко и весело переговаривались между собой на ходу, иногда задерживались, оборачиваясь, выкрикивали что-то, хрипло и коротко, и тогда в угрожающих их голосах слышались усталость и злость… Но все-таки, если бы теперь неподалеку от Зои и Славки шагали бы только вот эти, увешенные автоматами, тесаками и противогазами, одетые в непривычную форму солдаты, которые оставляли после себя на песке четкие отпечатки подбитых гранеными металлическими шипами подошв и выкрикивали отрывистые угрожающие слова на непонятном, чужом языке, — ребята не особо поразились бы этому да, пожалуй, и не слишком бы напугались… Ведь с тех пор, как Зоя и Славка тайком ушли из детского дома, прихватив с собою пару казенных шерстяных одеял, одно из которых они в первом же селе обменяли на хлеб и сало, им не однажды приходилось уступать дорогу то мотоциклам, то грузовикам, то пешим колоннам. Но проезжающие и проходящие мимо немцы, казалось, вовсе не замечали двух ребятишек, терпеливо стоящих у обочины, а если и замечали, то смотрели на них безразлично, как на придорожные столбики, что изредка попадались на пути — в низинках, у мостов или на перекрестках. Правда, иной раз на отчужденных лицах солдат все же появлялось мимолетное любопытство. Немцы со смехом указывали друг другу на детей, махали руками, случалось, кидали на обочину обломки шоколадок. Славка не решался их поднимать, пока Зоя не растолковала ему, что шоколад им бросают не простые солдаты, а конечно же бывшие немецкие рабочие, которые ни за что на свете не согласились бы воевать против наших, но капиталисты их заставили. Славка верил сестре. Верил он и директору детдома, Юрию Николаевичу Мизюку, который перед самым приходом немцев говорил, что война должна вскоре кончиться, так как в Германии рабочие на заводах насыпают в снаряды и бомбы песок вместо динамита. Бомбы эти и снаряды, понятно, не взрываются, а когда наши их разряжают, то внутри находят записки: «Чем можем — тем поможем…» Но, несмотря на столь явную помощь немецких рабочих, война почему-то все продолжалась и продолжалась… Славке трудно было уразуметь, отчего так происходит. А сама Германия представлялась ему в общем-то даже и не страной, в которой живут капиталисты и рабочие, есть города и села, заводы и поля, а неким огороженным пространством, откуда через множество ворот бесконечными потоками растекаются во все стороны вооруженные автоматами солдаты, крытые брезентом грузовики, мотоциклы, с установленными на колясках пулеметами, конные обозы, пушки, танки… Вот и сейчас перед ними проходили немецкие солдаты с тускло поблескивающими воронеными автоматами на шеях — две редкие цепочки по обеим сторонам дороги, — но между этими цепочками по глубоким колеям брели, увязая в песке, какие-то одетые в лохмотья, изможденные люди, которые вовсе не были похожи на солдат. Их осунувшиеся лица казались одинаковыми и совсем черными. Оружия у них не было, да и шли они уж как-то очень не по-военному, вразброд — то вроде бы не спеша, растягиваясь, но после угрожающих окликов немцев торопливо вскидывались, плотнились вподбежку, чуть ли не наступая на ноги один другому и сталкиваясь плечами. А когда Зоя, ухватив его за руку, едва слышным, сдавленным шепотом проговорила: «Смотри, наши…» — Славка медленно, как во сне, оглянулся, ожидая увидеть выскакивающих из-за сосен и бегущих к дороге красноармейцев, с винтовками наперевес, и испытывая мгновенный опустошающий озноб от радостного и жуткого предчувствия беспорядочных выстрелов, суматохи и криков, — но никого не увидел. — Где же твои наши? — разочарованно, однако и с некоторым облегчением в душе спросил Славка. — Ведь это же немцы идут. Разве ты не видишь? Немцы… — Это они пленных гонят, дурак, — погромче сказала Зоя, отпустив его руку. — Каких пленных? — с недоумением, как бы все еще не понимая сестру, спросил он. — Да наших же, господи! Наших… Ты чего — совсем у меня ослеп, что ли? И только тогда Славка наконец-то понял, что вот эти, почерневшие от заскорузлой у них на лицах, перемешанной с потом земли, исхудалые и оборванные люди, покорно бредущие в окружении немцев, как раз и есть н а ш и — те самые красноармейцы, которых он готовился увидеть с винтовками в руках, легко сбегающими по склонам ложбины. — Эй, ребятки!.. Дочка!.. Водички бы нам, а?! Слышь-ка, сынок!.. — донеслось к ним из этой колышущейся, безликой толпы. Он заметил, как, дрогнув, перекосилось родимое пятно на щеке у сестры, когда она, сощурившись от солнца, приподнялась на цыпочки и вытянула свою худую шею, словно бы для того, чтобы получше разглядеть попросившего у них воды человека. Славка и сам вздрогнул, но не потому, что слабый этот крик испугал его или же прозвучал слишком неожиданно. Гораздо больше поразило его то, что было в этом крике что-то безысходное и обреченное. В нем уже как бы заранее звучало примирение с неудачей, вернее, запоздалое сознание того, что невольно сорвавшаяся с пересохших губ просьба была заведомо напрасной. Да и в самом-то деле, ну откуда же у детей, которые случайно, должно быть, очутились поблизости от дороги, могла оказаться вода? Ведь вокруг-то — лес, ни жилья, ни колодца… И тот, измученный нестерпимой жаждой человек, что не справился с мукой своей и попросил у них воды, наверное, сразу же понял это. И остальные пленные, конечно, поняли, потому что никто не присоединился к его просьбе. Они проходили молча, тяжело волоча по песку обутые в растоптанные ботинки, перетянутые обмотками и от этого по-уродливому истонченные ноги, и Славке казалось, что он ощущает на своем лице прерывистое, запаленное дыхание пленных. Он вдруг подумал, что, если бы в мешке у Зои каким-то чудом оказалась бутылка воды, они сейчас отдали бы ее пленным. Но вся беда как раз и заключалась в том, что воды у них не было. И Славка очень сожалел, что Зоя не догадалась запастись водой. О том, что совсем недавно ему тоже хотелось пить, Славка уже не помнил, испытывая лишь бессильное сострадание и какую-то виноватую причастность к горестной судьбе этих людей, которые вроде бы вообще не смотрели в их сторону, а продолжали понуро и отрешенно переступать по песку, наклоняясь вперед, как от ветра, и низко опустив головы. Но едва лишь Славка кое-как освоился с совершенно невозможной и потрясшей его мыслью о том, что перед ними действительно н а ш и, и уже несколько спокойнее присмотрелся к проходящей мимо веренице людей, он заметил, что некоторые пленные все-таки изредка посматривают на него и Зою. Но посматривали они как будто бы украдкой, словно стыдясь чего-то, быть может, остерегаясь, что шагающие рядом вооруженные конвоиры перехватят потаенные эти взгляды и подметят скрытую в них ненависть, неугасшую еще надежду на освобождение либо какие-нибудь иные опасные знаки. Но когда Славка взглядывал на пленных, в их глазах ему чудились такое же сострадание и такая же стыдливая виноватость от сознания собственного бессилия и униженности, которые — не отдавая себе, разумеется, ясного в этом отчета — испытывал и он сам в эти нескончаемые и тягостные минуты… А пленные между тем все тянулись и тянулись по дороге, по-прежнему молчаливые, густо пыля и сливаясь подчас в застилающей их пыли в какой-то зыбкий, словно бы плывущий по воздуху, непрерывный поток мельтешащих рук, понурых голов и согбенных спин. Все они представлялись Славке похожими друг на друга. И возможно, поэтому он не сразу приметил среди них по-мальчишески щуплого, тщедушного человека, который в первое мгновение показался ему, пожалуй, лишь немногим старше Зои. Был этот человек широколиц, скуласт, а в слегка раскосых его глазах под припухшими веками было столько глухой тоски, отчаяния и боли, что Славка, натолкнувшись на пронзительно-безнадежный взгляд этого — как он тут же понял — уже пожилого нерусского человека, вдруг с какой-то особенной близостью воспринял и хорошо почувствовал всю его безысходную боль и отчаянную тоску. Он непроизвольно шагнул к дороге, однако Зоя, которая тоже, наверное, разглядела в толпе тщедушного этого чело-века, опередила Славку и, подхватив мешок, побежала к пленным. Она удачно подбежала к ним, как раз в промежутке между идущими по обочине конвоирами, и успела сунуть мешок какому-то черному, худющему дядьке, пока подоспевший к ней немец что-то крикнул в толпу и поднял руку. До сих пор Славка никогда еще в жизни не испытывал такой неудержимой, ослепляющей и безрассудной злобы, какая внезапно захлестнула все его существо, когда он увидел эту голую по локоть, занесенную над головой сестры руку рослого конвоира, взмокшее от пота, красное его лицо и перекошенный в крике, оскаленный рот. Славка не имел ни малейшего представления о том, что сделает сейчас немец — схватится ли за автомат, ударит ли Зою или просто грубо ее оттолкнет, — лишь одно он знал точно: если с сестрой что-нибудь случится, он, не раздумывая, бросится на этого здоровенного, красномордого немца и станет бить, кусать, рвать его ненавистную рожу ногтями, может быть, даже убьет — такая вдруг злоба всколыхнулась в нем и такую он почувствовал в себе силу. Но, против ожидания, немец не ударил Зою и не оттолкнул. Полуобернувшись, все еще глядя в толпу пленных и что-то выкрикивая, он мимоходом, как бы машинально, потрепал Зоины волосы, слегка провел по ним огромной своей ладонью, а затем вырвал из рук у какого-то пленного уже опустевший мешок и передал его Зое. — Ты есть отшень допрый девотшка, — хрипло сказал немец, улыбаясь и коверкая слова. — Вот твой котомка… Поспешай!.. Шнель-шнель!.. Он небрежно отстранил Зою с дороги и зашагал дальше, вдавливая в песок черные хрустящие шишки подкованными своими сапогами. Немец этот, наверное, сразу же позабыл о попавшейся ему на пути странной, меченной родимым пятном девчонке, с каким-то дурацким мешком, что путалась под ногами у пленных, а на стоявшего в сторонке и, должно быть, насмерть перепуганного мальчишку он даже не посмотрел. И остальные немецкие солдаты прошли совсем близко от них, равнодушно попыхивая сигаретами и обдавая непривычным и сложным запахом табачного дыма, потных, разгоряченных тел, ружейного масла и прокаленной на солнце амуниции.Колонна пленных давно скрылась за поворотом. Смолкли голоса немцев; утих в отдалении беспорядочный, приглушенный песком топот множества ног, и только поднятая ими пыль все еще не улеглась. Она продолжала висеть над дорогой — примерно в половину человеческого роста, — будто наброшенная на растянутые между соснами невидимые нити тонкая прозрачная кисея, как бы подрезанная наискосок у самого поворота дороги пологим склоном ложбины. Заметно приблизившееся к верхушкам деревьев солнце нежарко и красновато просвечивало сквозь пыльную эту кисею, уже не ослепляя глаза, а заставляя лишь чуточку прищуриваться, и с ласковой, сонной нежностью касалось лучами прижмуренных век, словно бы трогало, их невесомой и теплой материнской рукой. В небе по-прежнему плавно кружили неутомимые аисты, хотя и они поубавили высоты, так что теперь хорошо были видны их напряженно вытянутые голенастые ноги и растопыренные в парении темные маховые перья на концах золотящихся от солнца крыльев. А вот ласточки куда-то пропали. Не было слышно их пронзительных криков. И ничем не потревоженная тишина представлялась Славке едва ли не осязаемой и была столь же неподвижной, как и зависшая над пустынной дорогой красноватая пыль. Сейчас он чуть ли не на ощупь воспринимал эту окружающую тишину. И, постепенно освобождаясь от овладевшей им злобной оторопи, Славка с подсознательным каким-то прозрением вглядывался в будто бы заново распахнувшийся перед ним спокойный и солнечный мир. Он обостренно чувствовал застывшую на короткий миг хрупкую его красоту, в то же время с горьким удивлением сознавая и понимая ненадежную призрачность мнимого этого спокойствия посреди всесокрушающей и противоестественной жестокости творящихся в этом солнечном мире войн, насилий, убийств… — Ну, чего ты рот-то разинул? — глубоко вздохнув, сказала наконец Зоя, словно бы тоже приходя в себя после непонятного и страшного забытья. — Смотри, как бы ворона не залетела. Ну, пошли, что ли?.. Чего уж стоять… Она закинула пустой мешок за плечо и медленно двинулась по дороге, придерживая веревочную лямку рукой, оттягивая ее, как винтовочный ремень. — Так они, значит, и одеяло взяли? — недоуменно спросил Славка, глядя в спину Зое. — Одеяло-то им зачем? — А тебе что — жалко? — Да нет… Только зачем оно им? Ведь не укрываться же, правильно?.. Может, они его на воду обменяют? — предположил Славка, вдруг вспомнив, что ему самому недавно очень хотелось пить. Но говорить об этом Зое он не стал. Да и пить-то ему как будто уже расхотелось. — Может, и обменяют, — с раздражением в голосе откликнулась Зоя. — А тебе-то что? Молчал бы лучше… — Я так… ничего… — Ну, тогда и не ной. — Да я же не ною! — с обидой и возмущением сказал Славка, насупившись и сбиваясь с шага. — Ну, чего ты злишься на меня, в самом-то деле?.. Внезапное раздражение сестры вызвало у него чувство протеста, хотя в глубине души он смутно догадывался о его причинах, понимая, что Зоя вовсе не злится на него, а за грубостью ее и раздражением кроется что-то другое. Да и сама она вряд ли сознавала, что невольно старается отвлечь его от тягостных воспоминаний о только что виденном и потому так сердито отвечает ему, заставляет молчать. Впрочем, Славке, конечно, тем более неведомы были эти неясные даже для нее самой побуждения, и он все порывался поговорить с Зоей о том нерусском замухрышистом красноармейце, который показался им особенно несчастным и жалким. Теперь Славка почему-то был окончательно убежден в том, что именно этот красноармеец просил у них воды, надеялся на их помощь, а они как будто бы обманули его или вроде бы пожадничали… — Но мы же не виноваты! Скажешь, нет? — возбужденно говорил он Зое. — Вот если бы у нас была вода, тогда, понятно, совсем другое дело… Мы ведь отдали бы ему воду, правда?.. — Да перестанешь ты или нет? Заладил свое — если бы да кабы!.. Надоел уже, — ворчливо отвечала Зоя. — Ну, конечно, отдали бы. Можешь не беспокоиться. Славка ненадолго умолкал, а потом опять мысленно возвращался к пережитому потрясению, вновь испытывал томящее чувство вины, видел перед собой изможденные лица пленных, измученные их глаза. И непреодолимое желание его оправдаться — если уж не перед ними, то хотя бы перед сестрой, быть понятым ею и прощенным — чем-то напоминало навязчивое стремление потрогать острую зазубринку глубоко засевшей под кожу занозы, чтобы еще и еще раз ощутить мучительную, пронизывающую боль…
2
А к селу они подошли уже на закате дня. Солнце пропало за околицей, вернее, укрылось за сплошной стеной вишневых и яблоневых садов. Но небо в той стороне все еще золотисто алело, пунцово просвечивало сквозь частую листву, хотя над головами ребят почти совсем обесцветилось, стало прозрачно-сизым, а ближе к восходу — там, где уже лучисто блестела в вышине и, помигивая, дрожала над затуманившимися полями и перелесками зеленоватая капля одинокой ранней звезды, — сгустившаяся синева помутнела, наполняясь мраком. И как раз оттуда, из омраченных небесных глубин, рвались к зениту, словно выброшенные беззвучным взрывом, стремительные волокнистые облака, лохматые края которых приняли сиреневый оттенок… Судя по всему, это было не потревоженное войной, большое и богатое село. Вдоль его просторной улицы, по правую и левую руку, за плетеными оградками приветливо белели крытые соломой хаты. У ступенчатых перелазов и по дворам цвели розоватые мальвы; под клунями, искоса заглядывая в приоткрытые двери, расхаживали, готовясь к ночлегу, пестрые куры; откуда-то слышались шумные коровьи вздохи, бряканье подойника, нетерпеливый перестук копыт и суетливая поросячья возня. А издалека, будто и не с этой уже улицы, доносился напевный голос женщины, которая скликала припозднившихся на выгоне уток: «Пуленьки вы мои, пуленьки!.. Пуль-пуль-пуль-пуль-пуль-пу-у-у-у-уль!..» Голос женщины то возвышался, то затихал. А копошившийся весь день на том травянистом выгоне утиный выводок построился в шеренгу и неторопливо, с молчаливым достоинством шествовал теперь вперевалку посреди бесконечной улицы на знакомый и ласковый зов хозяйки. Нет, конечно же не было в этом селе никакой войны! Да разве ж могла прогромыхать по здешним местам война, если так по-вечернему светло и мирно было вокруг; так уютно белели мазаные стены хат; и каждый звук, рождавшийся в прохладном и чистом воздухе, казался каким-то мягким, округлым и вроде бы переполненным благостным покоем, довольством и сытой домовитостью?.. Жестокая в слепой своей беспощадности война прокатилась по другим дорогам, другим селам, сожгла и порушила другие дома. А здесь ее, видать, и в помине-то не было. Обошла она это счастливое село стороной… Но Славка и Зоя как только вступили на его широкую улицу — где острыми пиками торчали вдалеке верхушки пирамидальных тополей, кособочились у криниц корявые плакучие вербы и где ни единой живой души не было заметно, хотя за поблекшими закатными окнами, за плетнями и вишенниками, во дворах и на огородах, в клунях и хатах — повсюду ощущалось неутихающее движение, спорая привычная работа, — они почему-то оробели и почувствовали себя так, словно забрели в это село случайно, по ошибке, невольно нарушив чей-то строгий запрет. Им казалось, что первый же повстречавшийся на пути человек непременно остановит их, начнет выяснять, кто они и как сюда попали, а потом станет ругаться или, может быть, даже побьет. И само собой, конечно, было понятно, что недобрый тот человек прогонит их из этого мирного, почти что сказочно заколдованного села… Но никто не попадался им навстречу, не останавливал их и не расспрашивал ни о чем. Да и останавливать-то было некому. Все были заняты повседневной вечерней работой, домашними своими делами — пусто было в селе… Так и шли они в настороженном одиночестве от подворья к подворью, сторонясь приоткрытых жердяных ворот — то ли злых собак опасаясь, то ли ожидая еще невесть какой для себя беды. Зоя держалась посмелее. Она взяла Славку за руку и едва ли не силком тащила его за собой. А он уже откровенно трусил, даже пробовал упираться слегка, спотыкаясь понарошке и загребая босыми ногами теплую пыль. Но в этом непонятном каком-то, вдруг навалившемся на него страхе Славке в то же время не терпелось побыстрее миновать эту тихую улицу, с ее загадочно молчаливыми белыми хатами и густо потемневшими садами, от которых уже ощутимо тянуло влажной вечерней прохладой. Ему очень хотелось, чтобы поскорее кончалось это чудом уберегшееся от разрухи, пожаров и разграбления, однако будто бы внезапно вымершее теперь село. А там уж, выбравшись благополучно за его околицу, можно было бы, конечно, пересидеть до утра ну хотя бы в какой-нибудь старой копешке, в заброшенном сарае, хоть прямо в поле, в лесу — да мало ли где! — ведь на дворе-то еще, слава богу, не осень: тепло по ночам и дождя вроде быть не должно… Правда, Славка был совсем не уверен в том, что Зоя согласится уходить из села, ночевать под открытым небом. И потому, как в воду бросаясь, с замирающим сердцем пересиливая себя и свой страх, он торопился разом покончить с угнетающей их неопределенностью, побороть ее и сделать так, чтобы все стало ясно и просто. — Ну, сколько же нам еще идти-то? Куда? — стараясь придать себе твердости, спрашивал он сестру. — Давай хоть вой в ту хату зайдем. Ну, чего же ты?.. Давай попросимся… Зоя не отказывалась. Но как только они приближались к намеченной и приглянувшейся им обоим хате, она снова дергала брата за руку, тащила дальше, а потом оборачивала к нему побледневшее, усталое свое лицо и говорила с виноватым сомнением в голосе: — Да там уж, наверное, давно спать положились… А если у них там собака злая? А если порвет?.. Давай-ка уж лучше вон до той хаты дойдем. Ты чего, устал?. Нет?.. Ну, тогда подожди еще немного. Сейчас попросимся… Может быть, окажись они и на этот раз в привычной уже им обстановке — в обыкновенном селе, где там и сям на месте обвалившихся домов, в широких кострищах торчали закопченные остовы печей, висели на ржавых скобах обугленные стропила, а по вытоптанным огородам и порубленным садам, во дворах и на улицах, в круглых осыпавшихся ямах, которые, возможно, остались от падавших там совсем недавно снарядов и бомб, валялось гнутое железо, грязное обгорелое тряпье, битые горшки и прочая загубленная домашняя утварь, — им было бы легче попроситься к кому-нибудь на ночлег и уверенности у них было бы больше, что не откажут им, не выпроводят со двора, а приветят и накормят. За неблизкую дорогу они уже повидали всякого и проходили по таким селам, где на длинную-длинную улицу можно было насчитать, пожалуй, только две-три уцелевшие крыши. Но и там, посреди всеобщего разора, порухи и людского горя, они почему-то не так остро ощущали свою бесприютность и обездоленность. Быть может, тяжкое мирское несчастье как бы роднило, объединяло их со всеми остальными людьми, которые тоже лишились крова, потеряли близких? И те, осиротевшие люди, потому, должно быть, и не смотрели на ребят, как на обычных побирушек, не гнали от дверей, а сразу пускали ночевать, делились, чем сами были богаты — кружкой ли молока, краюхой ли хлеба, — а Зое и Славке не стыдно было просить у них и не тягостно принимать их доброту. А тут словно бы что-то мешало им, вроде удерживало от, казалось бы, самого простого и естественного в незавидном их положении шага — ведь куда же им еще было подаваться-то из села? К кому же еще идти, как не к людям?.. В свои десять лет Славка, разумеется, был еще не способен все это толком осмыслить и понять. Он лишь испытывал некое возбуждение, смутное беспокойство, которое заставляло его преодолевать собственный страх. И, чувствуя Зоину неуверенность, он неосознанно приближался сейчас к тому возвышенному рубежу, за которым перед человеком открывается великое счастье самопожертвования, полного отречения от себя во имя исполнения человеческого своего долга — помощи слабому. Славка привык уступать Зое, молчаливо признавая ее старшинство и опытность, искал у нее защиты. Но теперь он словно позабыл о том, что она старше его на целых два года. Рядом с ним была даже не сестра, а просто растерявшаяся и усталая девчонка, которую он — сильный и смелый мужчина — обязан был заслонять от всевозможных напастей и бед, во всяком случае, принимать их на себя первым… Он вдруг вырвал внезапно окрепшую руку из вялой Зоиной руки и решительно повернул к ближайшему перелазу, за которым в слегка освещенном дверном проеме виднелся силуэт согбенной женщины. Она стояла на пороге хаты, низко наклонившись над большим чугунным горшком, и что-то перемешивала, в нем, тупо постукивала по дну и крутым его бокам деревянной скалкой. — Здравствуйте, тетенька! — каким-то ломким, будто осипшим на ветру голосом выдавил из себя Славка. — Можно у вас переночевать?.. Женщина с кряхтеньем разогнула спину, но не выпрямилась совсем, а так и застыла полусогнутой, заведя руку назад, словно к бегу изготовилась и только ожидала чьей-нибудь команды: «Марш!» — Чого? — по-старушечьи хрипло спросила она. — Это же чьи вы такие шустрые будете? Никак я вас, деточки, не признаю… — А мы детдомовские, из города, — поспешно сказала Зоя, подходя поближе. — Пустите нас, пожалуйста, в хату, бабушка… Женщина наконец распрямилась. Пепельно-серое в сумерках и как бы очерченное темными непокрытыми волосами плоское лицо ее показалось им не живым, а будто бы нарисованным углем на жесткой фанере. И глаза женщины, глубоко запавшие в глазницах, были вроде черных пустых дырок на этом плоском лице. Морщась, она потерла затекшую поясницу, поглядела на сумеречную улицу, куда-то поверх их голов, и проговорила невнятно, позевывая и прикрывая ладонью щербатый рот: — А-а-аых ты, господи боже ж мой!.. Так вы из приюту? То-то ж я гляжу — не наши вы, деточки, чужие. А где ж я вас у хати положу?.. Нету у нас места в хати. Нету… Идите себе, деточки, с богом… Идите скорее… Пускай господь вас милует… В общем-то Славка и Зоя мало надеялись здесь на удачу и внутренне были готовы к отказу. Правда, они собирались упрашивать несговорчивую старуху, даже плакать перед ней были готовы, чтобы разжалобить ее. Но в пустом взгляде этой тетки, в тягучем ее голосе было столько бессердечия и холодной отчужденности, что они сразу поняли: размягчить ее фанерную душу — никаких слез не хватит. Ребята еще продолжали стоять у плетня, подавленные усталостью и обидой, а женщина опять согнулась над бокатым чугуном, застучала скалкой, с хлюпающим каким-то чмоканьем проворачивая в нем липкое месиво. И Славка догадался, что это она для своего поросенка на утро старается или для какой-либо другой ненасытной животины, а об остальном давно и думать позабыла. И, отойдя уже на порядочное расстояние от той неприветливой хаты, они все еще явственно различали в тишине тупое постукивание деревяшки по чугуну; и несмолкающее липкое чмоканье слышалось им, как будто бы старуха, опустившись вдруг на четвереньки, сама принялась с жадным чавканьем поедать предназначенное поросенку месиво. Славка не удержался от мстительной, злорадной усмешки, когда подумал о том, что жестокая эта старая женщина может — по его желанию, конечно! — действительно превратиться в свинью. Он очень живо представил себе ее чудесное превращение в худое неопрятное животное, с вислыми ушами, длинным рылом, маленькими злобными глазками и грязной, с черными пятнами на боках, жесткой щетиной. Старуха теперь, понятно, запоздало раскаивалась, горько сожалела о проявленном бессердечии, о недобром своем поступке, когда еще была человеком. И сейчас она будто бы трусила где-то позади них, виновато топоча копытцами, и, жалобно похрюкивая, повизгивая, умоляла Славку, чтобы он расколдовал ее, возвратил утраченный человеческий облик. А он не прощал ее, не верил раскаянию. Славка так увлекся несбыточными своими мыслями, что почти поверил в возможность подобного превращения и в свое волшебное могущество. Он даже оглянулся украдкой, чтобы убедиться — не бежит ли и в самом деле за ними если уж и не выдуманная им, то хоть какая-нибудь приблудная свинья. Но никто за ними не бежал… А на улице заметно свечерело. Дальние подворья и сады уже как бы сливались с подымающимися над землей темными облаками, из-за которых лишь изредка просачивалось зыбкое свечение рассеянно мерцающих звезд. Оно словно бы размывало еще не устоявшуюся облачную темень, делало ее прозрачной, открывая на короткое время недоступные взгляду клубящиеся небесные недра, в глубине которых недвижимо и мощно залегал ледяной запредельный мрак. Но даже там, в самой сердцевине того непроглядного и неподвижного мрака, все-таки происходило некое трепетное перемещение тени и света. И тогда казалось, что над истерзанной огнем и железом землей, над ее вздыбленной твердью и водами; над дымящимися развалинами и покуда еще уцелевшими жилищами; над людьми, которые спали в домах, тонули в пучинах, корчились в окопах, таились в лесах, истекали кровью, сжигали себе подобных и сами погибали в огне — над всем бескрайним и безжалостным миром; над страданиями, смертями, мучительной болью; над поруганной нежностью и яростной смутой его проносился неслышный медленный вздох, от которого на миг сжимались сердца, никли травы, ложились росы… И, возникнув однажды в безбрежных далях вселенной, обнимая собою весь мир, этот вздох, быть может, только самым краешком незримого своего крыла достигал этой вечерней деревенской улицы, по которой молча проходили теперь брат и сестра и которые не ощущали вокруг себя ничего, кроме своей беды. Ослепленные малым несчастьем своим, они не смотрели на звезды, на светлеющие вдруг облака и не замечали, как придорожные вербы на мгновение теряют листву и покрываются вместо нее легким струящимся серебром. Под ногами у них сизой лентой белела повитая низким туманом дорога. Впереди было темно, а по сторонам — за плетнями и вишенниками — в окнах хат кое-где теплились красноватыми искорками масляные плошки-каганцы. Но кто находился там, за чуть желтеющими в сумраке, будто непромытыми окнами, какие люди коротали вечер в уютных своих домах — добрые ли, злые? — было неизвестно. И потому Славка никак не мог решиться опять подойти к щелястому тыну, стукнуть по нему легонько пяткой, чтобы проверить, нет ли во дворе собаки, а затем перебраться через перелаз и жалостливым, загодя плаксивым тоном затянуть уже привычное: «Тетенька, а можно нам у вас переночевать?..» Но когда Зоя, до сих пор покорно шагавшая позади, вдруг заспешила, пытаясь, наверное, обогнать его, вновь утвердить свое утраченное старшинство, Славка собрался с силами и повернул к первому попавшемуся подворью… — Ты погляди, Мыколо! Слышишь?.. Туточки к нам дети пришли! — громко позвала кого-то вышедшая из клуни на робкую Славкину просьбу молодая, повязанная белой косынкой женщина. — Где ты там? Слышишь?.. Дети, говорю тебе, до нас пришли… Вот они тут… Двое… По напевно прозвучавшему голосу тетки Славка узнал в ней ту самую хозяйку, что скликала давеча запропавших на выгоне уток. И это обстоятельство почему-то ободрило приунывшего парнишку. — А чего им там надо? — спустя время отозвался из черного провала сеней невидимый мужчина. — Та просят, чтобы переночевать пустили. Хлопчик вот тут один и дивчинка… Наконец на пороге хаты появился босой мужик в просторно обмятых портках и нижней рубахе. Он постоял в дверях, привыкая, должно быть, к вечернему сумраку, откашливаясь и потирая взлохмаченную голову, а потом ступил на вытолоченный, чисто подметенный двор. — Идите ко мне, дети, идите, — с какой-то нарочитой, как показалось им, ласковостью сказал мужик и поманил их рукой. — Ну, чего ж вы? Идите… Опасливо прижимаясь друг к другу плечами, Зоя и Славка пододвинулись поближе к лохматому мужику, от рубахи которого остро пахло коровьим навозом и табаком. Мужик наклонился над ними, пытливо вглядываясь в испуганные ребячьи лица, и спросил, подозрительно щурясь на родимое пятно Зои: — А вы, дети, часом не из жидов? — Нет-нет, дядечка! Что вы? Нет, конечно!.. — суетливо, с противной угодливостью зачастила Зоя, почему-то оттесняя Славку, а сама выступая наперед. — Что вы, дядечка? Мы же детдомовские, из города идем… Славка с затаенным дыханием подумал о том, что вот сейчас этот лохматый мужик сгребет их за шиворот и поволокет со двора. — Ты что, не видишь? — поспешила на помощь им сердобольная тетка. — Сироты они… — Та я ж ничего не кажу… Хай себе ночуют, — неохотно согласился мужик, переминаясь с ноги на ногу. — Ты им постели, Мотря, а я до Осадчука сбегаю. Ты небось слыхала, что он говорил? Если кто чужой в село придет, чтоб ему докладать… Вот я и думаю, Мотря, как бы нам с тобою лиха не было. Может, их прямо к нему и отвести? Нехай он сам на них посмотрит… — Это ж дети, Мыколо… Он что, совсем спятил, отой Осадчук? Куда ты их ночью поведешь? Погоди, я сама к нему пойду… — Нет, Мотря, не надо тебе ходить, — после недолгого раздумья сказал мужик. — Ты пока им стели. Я зараз… Он шагнул к перелазу и тут же сгинул за ним в темноте. И все это время, покуда решалась их судьба, Зоя и Славка отчужденно, с угрюмой безучастностью на лицах, стояли посреди двора, словно речь велась не о них, а о каких-то д р у г и х ребятах, что непонятным образом внезапно очутились вот тут, рядом с ними, быть может, в какой-то мере даже в м е с т о н и х. Но этих, к а к б у д т о б ы д р у г и х, ребят не слишком и заботило — позволят им хозяева переночевать под крышей, выпроводят ли со двора или же поведут еще куда-нибудь, например, к какому-то неизвестному Осадчуку, без которого почему-то никак нельзя было обойтись. А им сейчас было наплевать на того Осадчука. Пускай ведут!.. Но на самом деле они напряженно прислушивались к разговору между мужчиной и женщиной, стараясь не пропустить ни единого слова, сознавая со страхом, что не только ночлег, а и многое другое в их жизни, возможно, будет зависеть теперь от того — сговорится ли недоверчивый этот дядька Мыкола со своей теткой Мотрей или нет. Но особенно угнетало ребят то, что именно сейчас, когда, казалось бы, можно уже ни о чем не беспокоиться; когда охватившее их боязливое напряжение начало постепенно спадать; когда они почувствовали расслабляющую усталость, отдающуюся во всем теле ноющей болью и ломотой; когда они думали лишь о том, как бы поскорее приткнуться где-нибудь и поспать, потому что не оставалось у них уже никаких силенок, чтобы еще куда-нибудь идти, кого-то просить, — все опять становилось неопределенным и зыбким. Конечно,Зое и Славке очень не хотелось бы уходить отсюда. Тем более, что они уже заранее покорились в душе тому всесильному Осадчуку, который, видимо, так же, как и директор детдома, требовал от всех безусловного подчинения, обязан был знать, кто и зачем появляется в его владениях, и который теперь как бы властвовал уже и над ними. Ведь ему, конечно, ничего не стоило бы приказать тетке Мотре пустить их в хату, привести к нему или вообще прогнать из села. Но изменить что-либо в своем бедственном положении они не могли. Им оставалось только покорно стоять посреди двора и ждать, когда вернется хозяин хаты, чтобы окончательно определить дальнейшую их участь. — Так чего ж мы все на улице топчемся? — спохватилась тетка Мотря, едва лишь дядька Мыкола скрылся за тыном, пропал во тьме. — Пойдемте, деточки, в хату… Пойдемте… А вы небось и голодные?.. Тетка Мотря притянула ребят к себе, обняла их за плечи, словно защищая от вечерней прохлады, и, неловко прижимая к теплым своим бокам, повела через двор. В хате она усадила Зою и Славку за стол, длинным рогачом достала из печи черный горшок еще теплой пшенной каши, которая вспучилась над его краями и подернулась сверху поджаристой, золотистой корочкой. Тетка Мотря навалила им полную миску каши, залила ее молоком, дала по куску хлеба. Славке показалось, что он сроду еще не едал такой сладковато-рассыпчатой, вкусной и ароматной каши, желтые комья которой медленно оседали и разваливались в молоке, будто весенние, рыхло подтаявшие снежные глыбы. Он ел молча. А Зоя то и дело откладывала ложку, чтобы ответить тетке Мотре, которая сновала из хаты в сени, вносила солому, толсто стелила ее под печью, разравнивала, прикрывала какой-то пестрядью и без умолку расспрашивала — кто они такие, как их зовут, где отец с матерью, почему ушли из города и куда теперь направляются. — Ой, горюшко мое! Деточки вы мои родные! Сиротинушки малые! — причитала вполголоса тетка Мотря, вновь и вновь наклоняясь над приготовленной для ребят постелью, что-то взбивая, поправляя и подтыкая с боков. — Да что ж это за жизнь такая на свете настала, когда уже и детям некуда податься? Ой, горенько-то какое!.. Возвращались бы вы, деточки мои, до своего приюта. Господь милостив, может, и не погонят вас немцы до своей неметчины… Зачем вы им, малята такие? Они разве всех детей из приютов увозят? — Увозят, тетечка, всех увозят… Ну, как же?.. — закивала Зоя, облизывая ложку и кладя ее возле выскобленной миски. — К нам сами немцы с переводчицей приезжали и сказали, что всех потом будут увозить. На поезде, сказали, повезут. Прямо в Германию… — Так вы небось оттого и сбежали? Зоя не ответила, низко опустив голову, а тетка Мотря вдруг выпрямилась и, словно в испуге, замерла с распяленным рядном в руках. — Ой, горенько мое! — опять заволновалась она. — А если они узнают, где вы ходите, и поймают?.. Славке наскучило слушать теткины причитания. А то, что они с Зоей убежали из детского дома после того, как старших ребят из первого коллектива отправили на работу в Германию, теперь почти не страшило его. Ведь ходили-то они по окрестным селам уже не меньше недели, и никто их пока не трогал, не ловил. Ушли себе из города, ну и ушли — кому какое дело? Мало ли бездомных ребятишек меж дворов шатается. Лишь бы только не воровали, по садам да клуням не лазали… Он наелся каши от пуза и сонно разглядывал вышитые рушники на стенах, где были развешаны фотографии в рамках, поблескивающие окладами и украшенные мертвыми восковыми цветами иконы в углу, под которыми недвижимым пламенем тлела лампадка. Глаза у Славки начали слипаться, голова тяжелела, клонилась к столу. И тогда ему чудилось, что он как бы проваливается на бесконечно долгое мгновение в какую-то черную бездонную пустоту. С остановившимся сердцем Славка падал и падал в нее, ощущая вокруг себя мягкую, забивающую дыхание теплоту. И, находясь уже где-то там, в пустой этой яме, в невообразимой ее глубине, — которая была сном, — он с ужасом сознавал, что вот-вот ударится обо что-то твердое, расшибется в лепешку, но, так и не достигнув предела той пустоты, вдруг без всякого усилия возносился обратно, наверх, оказывался в хате, за столом, с трудом разлеплял веки и снова видел перед собою белую стену, свисающие рушники, темные пятна икон и радужный ореол вокруг лампадного язычка. Тетка Мотря, наверное, не замечала, что Славка давно уже клюет носом, а Зоя почему-то не догадывалась подтолкнуть его локтем, разбудить. Может, и жалко ей было смотреть на брата, но и перед теткой Мотрей совестно: а вдруг заругает? Скажет, чтоб уходили?.. И только когда он безвольно ткнулся подбородком в край пустой миски, чуть не опрокинул ее, а она со стуком подпрыгнула на столе, и Зоина ложка, звякнув, свалилась на пол, тетка Мотря вздрогнула и обернулась. — Та чтоб ему пусто было, тому Осадчуку! — с досадой сказала она. — Ложитесь, дети, спать… Славка еле добрался на ватных своих ногах до заваленной разномастной пестрядиной соломенной постели. Он даже не лег, а просто упал на нее лицом вниз, не слыша, как оседает, с хрустом ломается под его обмякшим телом солома, и не чувствуя, как колкие остья, просовываясь сквозь редкую ткань, впиваются в руки, шею, лицо. Зоя сначала близко и зябко прижалась к Славке, но потом приподнялась на локоть и заботливо поправила краешек рядна, сползший с его плеча, — из-под двери просачивалась в хату ночная свежесть. Некоторое время Зоя еще крепилась, отгоняя от себя подступающую дремоту, с боязнью ожидая возвращения дядьки Мыколы, которому могло, конечно, приспичить тут же поднять их и повести куда-то к Осадчуку. Она прислушивалась ко всякому доносящемуся со двора скрипу, к неясным шорохам, завидуя беспечно уснувшему брату своему, но затем и сама не заметила, как сморила ее усталость. Все Зоины страхи постепенно отступили, а сонливая обморочная тяжесть сменилась невесомой и приятной истомой…Дядька Мыкола вернулся домой поздно, когда ребят уже ничем было не поднять — хоть стреляй у них над ухом, хоть на рядне из хаты выноси. — Сплять? — негромко спросил он у тетки Мотри, что сидела на лавке у стола и, подперев щеку ладонью, смотрела на торчавшие рядышком из-под ряднины русые головы Славки и Зои, которые нельзя было отличить одна от другой. — Ну, та нехай себе сплять, — заключил дядька Мыкола, не дождавшись ответа. Он опустился на лавку возле жены и, помолчав, кивнул на ребят. — Ну, а теперь что с ними делать? — опять спросил дядька Мыкола, аккуратно натрушивая из двурогой ружейной масленки на клочок газеты мелко резанный самосад. — Осадчук велел утром детей к нему привести. Он сам хочет на них глянуть. А тогда, говорит, побачим, куда их дальше направлять… — Давай, Мыколо, у себя их оставим. Разве ж это нельзя сделать? — заговорила тетка Мотря, вскидывая на мужа слегка помутневшие глаза, в которых колыхались слезы. — Если уж нам с тобою господь своих не дал, то пускай хоть эти нашими станут. Ведь они же так и пропадут промеж людей сиротами… А, Мыколо? Или ты иначе думаешь? — Та ни… Я ничего… — Дядька Мыкола послюнявил край газеты, заклеивая ее, ловко крутанул цигарку между пальцами и достал кресало. Из-под железной скобочки шваркнули, потрескивая, белые искры — затлел, задымился возле коричневого дядькиного ногтя очеретяный пуховый трут. — А если нельзя этого делать? Или сами не схотят у нас оставаться? Тогда что? — Ну, тогда пускай себе идут, — сказала тетка Мотря, вздыхая и сочувственно глядя на мужа. — Пора, Мыколо, и нам отдыхать. Не рано уже… А с тобою-то как он обошелся? Ругался, нет? — Та что со мною?.. То же самое… Снова говорил, чтоб я в Ставищи шел, в комендатуру немецкую. Если позволят тебе, говорит, немцы тут жить, то и живи. В селе ж знают, что ты в плену был, да сбежал. Тут тебе, говорит, не схорониться. — Так пойдешь в комендатуру? — испуганно спросила тетка Мотря. Дядька Мыкола зажмурился от попавшего в глаз едкого дыма, потер покрасневшее веко и замотал головой. — Ото ж тютюн проклятый!.. Не захочешь, Мотря, так придется идти. А вот куда — еще не решил. Слыхал я, что в Улашивском лесу люди какие-то объявились. Партизаны, что ли… Вроде бы Виктор Панасович — тот самый, который до войны в «Заготзерне» весовщиком был, — красноармейцев, что из плена или из окружения, повырывались, туда переправляет. К нему, видать, и подамся. Не в полицаи ж мне поступать, как Осадчук предлагает… Ты думаешь, чего в нашем селе до сих пор тихо? Да у немцев руки еще до нас просто не дошли… А в других селах, ты посмотри, что делается? Хаты палят, над людьми издеваются, худобу забирают… А если наши вернутся? Тогда что? Вот побачишь тогда, они и у Осадчука, и у всех спросят, кто тут чем занимался, кто кому служил… Вот так-то, Мотря, я думаю… — Господь с тобою, Мыколо! Зачем тебе в полицаи? Нехай они все пропадут… И до того Панасовича ты не ходи… Откуда они вернутся, наши? Ты слыхал, что люди говорят?. Немцы уже за Москвою. Захватили, люди говорят, они всю Москву и дальше пошли… Тебе бы дома пока пересидеть… — Так оно ж так… Может, они и Москву захватили. Может, и дальше пошли. Хотя всю краину нашу им никак не осилить. Дюже она велика. Нет, Мотря, дома не пересидишь. Вернутся наши. Ось побачишь, прийдут и спросят… Каждого спросят… Вот так-то, Мотря… — Ну, а с детьми? — Чего с детьми? Не сможем мы их к себе взять. Ты одна остаешься, а их двое. Сама ж говорила — хай себе идут… Тетка Мотря негромко плакала, сморкалась в передник. Она была согласна с доводами мужа и понимала, что придется ему уходить из села. И с детьми ничего не поделаешь. Кто ж его знает, как оно потом все обернется? Куда ж на себя еще такую обузу принимать? Нет, надо будет утречком проводить ребятишек, а мир не без добрых людей… Выплакавшись, она прилегла на кровать, что стояла в соседней комнате, за стеной, а дядька Мыкола еще долго сидел на лавке, упершись локтями в твердую столешницу, курил свой самосад и смотрел в темное окно. Его неподвижная сгорбленная спина виднелась в дверном проеме, и тетке Мотре казалось, что он так и заснул — сидя. — Собрать тебе торбу, батьку? — повременив, бессонным голосом спросила у него тетка Мотря. Она подумала, что скоро, наверное, начнет светать. Окна посинеют, и на них обозначатся извилистые дорожки от стекающей по запотевшим стеклам росы. А там и соседи встанут, пробудится село… — Та уже сбирай, мабуть… Пора, — глуховато, с хрипотцой в горле отозвался дядька Мыкола. — А детей до старосты все ж отведи, Мотря. Ничего он им не сделает. Скажешь там ему, что я до Ставищ пошел, в ту ихнюю комендатуру проклятущую… Он поднялся над столом, сутулясь, провел ладонями по лицу, будто стирая со щек налипшую паутину, тряхнул кудлатой своей головой и, глянув на спящих детей, потянулся к оставленным у порога стоптанным яловым сапогам, из широких голенищ которых свисали портянки… Дядька Мыкола выбрался из дому, когда на улице еще только-только серело. Но черные купы вишенников и яблонь уже вроде бы отодвинулись от изгородей, а кроны деревьев поредели, оделись листвой и словно бы выпустили из прохладной своей кромешной темноты насупившиеся кровли хат, белеющие стены, которые с каждой минутой как бы впитывали в себя еще не воспринимаемый глазом утренний свет, наливаясь им и становясь приметнее. Тетка Мотря проводила мужа до перелаза, посмотрела вдоль сонной улицы, послушала, как перекликаются по диорам неутомимые петухи, и, продрогнув на свежем утреннем ветерке, вернулась в хату. «А может, брешут люди про того Виктора Панасовича, будто он кого-то в лес переправляет? Неужто сами мужики туда дорогу не найдут? Сбегает разок Мыкола к этому Панасовичу задарма — и домой вернется. А что ему останется? — с радостной надеждой подумала она. — А может, и немцы про наше село не вспомнят?..» Однако радость ее была недолгой, потому что тетка Мотря и сама понимала всю несбыточность наивных своих ожиданий, которые не принесли ей сейчас ни уверенности, ни успокоения. Она постояла у порога, невольно задерживая дыхание и прислушиваясь к равномерному посапыванию детей. Затем прошла на свою половину, снова легла на кровать, устало смежила глаза и, должно быть, поэтому не заметила, как бледно отразился на замутненном окне далекий багряный всполох. Беззвучный этот отблеск восставшего, наверное, где-то поблизости, за селом, высокого пламени сначала тонко лизнул низко нависшие облака, потом тревожно переметнулся по ним из конца в конец, как от порыва ветра, и вдруг стал быстро расти, растекаться по небу, особенно густо клубясь и распухая над каким-то одним и тем же местом. Но так продолжалось всего лишь с десяток минут. Дрожавший на облаках багрянец постепенно померк, а вскоре исчез совсем. Подымался он как раз в той стороне, куда направился дядька Мыкола. И теперь там, в самом устье зажатой садами улицы, между залегшими у горизонта черными глыбами туч и темным краем земли обозначилась узкая зеленовато-оранжевая полоска восхода. Задремавшая было на часок тетка Мотря проснулась оттого, что услыхала за стеной шебуршание соломы и нетерпеливый Зоин говор. — Хватит тебе дрыхнуть, вставай! — тормошила девочка своего брата. — Ну, в самом-то деле, разоспался, как барин! Давай поднимайся… Нам же идти пора! Ну, чего ты такой бестолковый? Зачем же ты опять рядно на себя тянешь? Горюшко ты мое горькое!.. Славка в ответ мычал что-то неразборчивое, пытался нащупать сдернутое с него Зоей рядно, наугад хватал вялыми руками солому и зябко поджимал худые, в цыпках и царапинах, ноги. Тетка Мотря наспех причесалась, закрутила тесемкой собранные на затылке в жидкий пучок волосы и вышла к детям, когда Славка уже сидел на рядне и, сонно покачиваясь, тер кулаками заспанные глаза. Зоя стояла подле него и укоризненно смотрела сверху на брата, наклонив голову набок и сложив по-бабьему руки на животе. — Он сейчас встанет, — с виноватой торопливостью сказала она тетке Мотре. — Он всегда такой соня… Просто ужас! Он сейчас… А Славка, не открывая глаз, вдруг громко всхрапнул и стал медленно клониться к рядну. Он, наверное, снова улегся бы на солому, однако Зоя решительно подхватила брата под мышки и встряхнула. — Да что же это с тобой такое? Горюшко ты мое горькое! Просыпайся! — запричитала Зоя и, упираясь пятками, попробовала приподнять его с постели. Наконец он открыл глаза, с недоумением посмотрел на сестру и, зевая, сипло проговорил: — Пусти меня… Чего ты пристала? Я же на двор хочу… Пусти! Придерживая руками сползающие штаны, Славка выкатился за порог. Тетка Мотря быстро свернула постель, сгребла солому и затолкала ее под печь. Потом принесла из кладовки в сенях кринку молока и хлеб. Она не стала разогревать кашу, а только налила ребятам по кружке молока, отрезала хлеба, решив про себя, что накормит их как следует да и сама поест уже потом, после того, как они вернутся от старосты. Но на душе у нее все-таки было неспокойно. Прежде всего, тетка Мотря, конечно, о муже тревожилась, боялась, что он и вправду уйдет в лес к тем самым неведомым людям, которые затаились там по чащобам, как звери дикие, в надежде, что немцы не узнают о них, не найдут, не переловят. И в то же время она с невольной неприязнью и холодноватым отчуждением припоминала, как Мыкола настырно выпытывал у детей, не евреи ли они, как хотел сразу же избавиться от них, отвести к старосте, а затем не утерпел и сам пошел к Осадчуку… Сейчас она испытывала неловкость перед этими чужими детьми, близко принимая все их горести, обиды и страхи. И ночной разговор с мужем представлялся ей теперь чем-то вроде тайного сговора, в котором они как бы заранее уже отрекались от прибившихся к ним ребят и предавали их. А опасения Мыколы, что одной ей будет нелегко управляться с двумя детьми, казались не более чем отговорками для успокоения совести… «Ну, и что из того, раз их двое? — покаянно думала она, глядя, как Зоя собирает щепоткой крошки со стола. — Неужто они меня объедят? Вон у некоторых жинок в селе и по трое да по четверо, совсем маленькие, и ничего с ними не делается — живут себе да живут… А эти уже большие, может, и мне в чем-то помогут — либо в хате, либо на огороде…» И, окончательно утвердившись в своем решении — никуда от себя этих ребят не отпускать, тетка Мотря почувствовала облегчение: — Не наелись? Ну, да ничего… Вот сходим, дети, до дядьки Осадчука, а как до дому вернемся, тогда разом и позавтракаем, — как можно беззаботнее сказала она, когда Славка и Зоя отодвинули пустые кружки. — Идемте, деточки мои, идемте… — А где же он, этот дядька Осадчук? — робко спросила Зоя. — В колхозе, мабуть… Где ему еще быть? — словно не заметив Зоиного беспокойства, откликнулась тетка Мотря и пожала плечами. — Ото ж там зараз все ихнее кодло… После теплой хаты им показалось, что на улице прохладно. Небо было чистым, по-утреннему прозрачным. А на листьях деревьев, на выглядывающих из-под них желтобоких яблоках, на жердях изгородей и на ступеньках перелазов, на смятой траве и обломанных будыльях крапивы, жмущейся в тени тынов, — повсюду виднелись тяжелые и вроде бы даже мохнатые капли росы. И пыль на обочинах была прибита этой мохнатой росой — лежала тонкой нетронутой корочкой, чуть поклеванной, правда, маленькими лунками и разрисованной извилистыми канавками в тех местах, где ползали ночью укрывшиеся теперь под землей от солнечного света маслянисто-лиловые дождевые червяки. Лишь на самой середине дороги, по которой, должно быть, прогнали на заре стадо, потому что пахло от нее молоком, все пространство из конца в конец было заляпано большими и мал мала меньшими коровьими лепешками, перемешено и вскопычено, как будто какое-то неисчислимое войско только что незримо пронеслось вдоль улицы, оставив после себя на приглаженной ночной стынью земле поруху и разор… Перейдя улицу, тетка Мотря повела детей напрямик, огородами, по едва различимым под переплетенной огуречной, картофельной, помидорной и всякой другой ботвой осклизлым и бугристым межевым тропкам, обозначенным то вешками подсолнухов, то остролистыми стеблями кукурузы, то метелками душистой конопли. И вся эта буйно разросшаяся огородная зелень, однако прихваченная уже кое-где увяданием и первой, незрелой еще, желтизной, щекотала, покалывала, шершаво царапала и щедро кропила влагой ноги, руки и плечи ребят, так что легкая их одежонка вскоре промокла насквозь и начала ознобно липнуть к телу. Там и сям над огородами маячили белые косынки женщин, покато горбились согбенные их спины. Должно быть, издали заслышав громкий шелест шагов, женщины прерывали на миг работу, трудно распрямлялись, опираясь на тяпки либо придерживая в оттянутых подолах длинных своих юбок-спидниц собранную раннюю овощь, здоровались с теткой Мотрей и недоуменно провожали глазами спешащих за нею вприпрыжку малых ребят, гадая, наверное, чьи же это дети за Мыколыной жинкой увязались и куда они теперь направляются. По золотым шляпкам подсолнухов, покачивая брюшками, как бы поджимая их под себя, ползали полосатые осы. Пучеглазые стрекозы, сухо треща крыльями, вырывались откуда-то из-под ног, стремительно отлетали в сторону и там, в стороне, словно натолкнувшись на невидимую преграду, вдруг зависали в воздухе, а потом и вовсе пропадали из виду. Одетые в черно-красные щегольские мундиры усатые жуки-солдатики деловито сновали по сочным и хрустким тыквенным плетям; с разлапистой свекольной ботвы осыпались божьи коровки; бабочки-капустницы трепетали над синевато-зелеными коконами свивающихся вилков; и на каждой былинке, под каждым листком — в глухих морковных межрядьях и на луковых проплешинах — жужжала, стрекотала, копошилась и гонялась друг за дружкой свирепая и безжалостная насекомая мелочь. Славка невольно дивился великому множеству всех этих летающих, прыгающих, ползающих и даже складывающихся вдвое, чтобы шагнуть, шустро снующих тварей, для которых целый мир, быть может, заключался в разъединственной картофельной грядке, а вселенная ограничивалась огородом, за пределами которого простиралось уже и вовсе недоступное им, невообразимое потустороннее пространство. Однако и в нем — в том невообразимом и потустороннем — все-таки жили, дышали, двигались и подстерегали один другого свои букашки-таракашки, кипели свои страсти, бушевали свои войны. И никому из них — снующих там и дышащих — было неведомо, последний ли это из возможных миров и последняя ли сотрясает его война…
А к бывшей колхозной конторе они подошли, когда солнце поднялось уже высоко, воздух потеплел, и промокшая одежка ребят, продутая слабым ветерком, совсем просохла. За обломанным палисадником, отдельные рядки которого были волнисто наклонены и повалены на землю, у самого крыльца конторы стояла запряженная парой подвода. Костлявые гнедые лошаденки помахивали хвостами и торопливо подбирали брошенное к их мосластым ногам непросушенное сено. Лошади то и дело вскидывали головы, с хруптом перекатывали между зубами железные удила, и тогда было видно, как по мокрому железу, по их отвислым нижним губам, утыканным длинными седыми волосинками, стекают струйки зеленой слюны. На подводе, раскинув ноги и зарывшись лицом в белые от мучной пыли мешки, похрапывал какой-то чубатый парубок, накрутив на руку вожжи и прижимая к своему боку короткую немецкую винтовку. — Ото ж дурень какой-то, — поглядев на парня, с осуждением сказала тетка Мотря, ступая на крыльцо конторы. — Хоть бы коней своих разнуздал, паразит. В полутемном коридоре она нашарила ручку обитой клеенкой двери, из-за которой доносились приглушенные голоса. Подталкивая ребят впереди себя, тетка Мотря осторожно шагнула в прокуренную комнату, где за пустым столом сидели двое стариков в потрепанных пиджаках, широкополых шляпах-капелюхах и худощавый — помоложе их с виду — мужчина в вышитой по вороту рубахе и в военном, с синим околышем и пятнышком от снятой звездочки, картузе. Мужчина поднял голову и взглянул на ребят с недобрым любопытством. — Доброе утро, пан староста, — поздоровалась тетка Мотря с тем, худощавым человеком. — И вы здравствуйте, люди добрые… — Она поклонилась старикам, которые лишь молча кивнули зажатыми в губах потухшими трубками. — Вот они, дети, пан староста, про каких вам вчера мой Мыкола говорил… — А где ж он сам? — строго спросил Осадчук, поднимаясь и обходя стол. На обшарпанной стене, над помятыми капелюхами стариков, был прилажен поясной портрет одутловатого человека в перетянутом ремнем коричневом френче и с ниспадающей на глаза челкой. Левый рукав френча охватывала красная повязка с черной свастикой внутри белого круга. Под портретом можно было разобрать печатную надпись: «Гитлер — освободитель». Подслеповатые глаза этого новоявленного освободителя смотрели на стариков напряженно и угрюмо. — В Ставищи он пошел, в комендатуру, — поспешно сказала тетка Мотря, испуганно косясь на портрет и сильнее привлекая к себе ребят. — Вы ж ему сами и наказывали… — Так оно ж-то так… — в задумчивости проговорил Осадчук и, побарабанив пальцами по столешнице, многозначительно взглянул на безмолвных стариков. — Слышите, паны добродии? В Ставищи, говорит, пошел человек… А когда ж он туда направился? Ночью, наверное, а? — Что вы, пан Осадчук? — Тетка Мотря подалась к старосте, приложив руку к груди. — С утра он пошел, с утра… Как позавтракали, он и пошел. Нельзя ж ночью ходить. Разве мы про то не знаем? Или, может, с ним что-нибудь случилось?.. Не отвечая тетке Мотре, Осадчук прошелся по комнате, склонив голову набок и как бы осматривая со всех сторон прижимающихся к теткиной спиднице детей, потом остановился прямо перед ними, слегка растопырив кривоватые ноги. Синие диагоналевые галифе Осадчука округло топорщились над собранными гармошкой голенищами его начищенных хромовых сапог. Вышитая рубашка старосты была свободно подпоясана узким свисающим ремешком с белой бляшкой на конце. Стоя перед ребятами, Осадчук небрежно поигрывал этим длинным концом ремешка, покручивал его двумя пальцами. И Славка, будто завороженный его движениями, не мог отвести глаз от мельтешащей у самого носа серебристой нашлепки. — Вот и хорошо, что с утра, — сказал наконец староста, прекратив крутить ремешок. — А ты, Мотря, часом не слыхала, какой-это гад коровники за селом ночью поджег? Может, беженцы?.. Может, видела ты кого-нибудь или соседи встречали? Ты подумай, а, Мотря?.. По всей вероятности, тетка Мотря никак не ожидала такого поворота событий, потому что лицо ее вдруг осунулось, сделалось белым и словно бы неживым. Раза два она открывала рот, чтобы ответить, но сказать так ничего и не смогла, как будто стукнули ее под ребра и у нее перехватило дыхание. От усилия даже слезы навернулись ей на глаза, а Славка ощутил, как теткины пальцы смяли рубашку у него на плече. — Не-е-е!.. — спустя время протянула тетка Мотря тоненьким, осипшим голосом, истово заглядывая в хмурое лицо старосты. — Не, пан Осадчук! Пускай господь меня вот тут, на этом самом месте, покарает — ничего я не слыхала и никого не видела… — А вы, деточки?.. — Осадчук еще ниже склонил голову и прищурился. — Вы мне скажите, не бойтесь… Во вкрадчивом тоне старосты, в напряженном его прищуре Славке почудился скрытый подвох. Ноги его внезапно ослабели, а в животе стало пусто и тяжело. Ему подумалось, что ведь они и в самом деле могли встретить кого-нибудь за селом, не зная, конечно, чужой это человек или местный, а потом позабыть об этой встрече, не придав ей никакого значения. И сейчас Славке уже казалось, что они действительно видели у дороги каких-то прятавшихся в кукурузе людей, хотя, когда это было и у этого ли села, он не помнил. Лишь одно он сознавал твердо: если бы вчера вечером они и вправду встретили бы кого-нибудь у околицы или даже заметили бы, как кто-то подбирался к тем коровникам, говорить об этом старосте ни в коем случае не следовало. Но Зоя по своей девчоночьей доверчивости, наверное, не догадывалась о нависшей над ними беде. Она высвободилась из-под цепкой руки тетки Мотри и по-взрослому, словно извиняя какую-то неудачную шутку, сказала с вежливой снисходительностью: — Ну, что вы, дядечка? Мы вас вовсе не боимся. А вчера мы только наших пленных за селом встретили, больше никого. Их немцы куда-то гнали… — Так-так-так… Выходит, что и вы ничего не слыхали и никого не видели, — вроде бы даже с удовлетворением сказал Осадчук, отступая к столу, и уже оттуда, как бы издали, с насмешливым любопытством разглядывая Зою. — А каких же ваших там эти немцы гнали, дочка? Не москалив часом, а?.. Зоя, должно быть, все-таки поняла наконец свою оплошность и потому не ответила старосте, насупившись и закусив губу. — Та вы что, пан староста? — попыталась защитить ее тетка Мотря. — Это же дети малые… Разве ж они понимают?.. — Ну, хватит! — Осадчук пристукнул ладонью по столу. — Теперь вы меня послухайте. Ты, Мотря, иди домой. Если там твой Мыкола вернулся, то пускай ко мне заглянет… Вы, паны добродии, — он с жесткой усмешкой повернулся к старикам, которые вытянули жилистые шеи, — все же найдите мне того гада! Найдите. Иначе я и с вас шкуры поспускаю!.. А за детей, Мотря, ты не беспокойся. Мы их тут малость поучим, чтобы они больше никуда не бегали, и с богом до ихнего приюта отправим. Не пропадут они при немецкой власти… — Бога-то ты и не боишься, Петро… — принялась было укорять Осадчука тетка Мотря, уже не называя его ни паном, ни старостой, но тот не стал ее слушать. — Я что тебе сказал?! — возвысил он голос. — Хватит! Бога я, Мотря, твоего не слишком боюсь. Не видел я, какой он. А немцев видел. И ты их еще увидишь. Вот так-то, Мотря… А сейчас ступайте себе, люди добрые! Не рано уже… Старики сразу же дружно поднялись и молчком, послушно зашаркали к двери. Тетка Мотря задержалась на минутку, обняла на прощанье ребят, а потом и сама направилась вслед за стариками, на ходу прикладывая к мокрым глазам кончик белой своей косынки, всхлипывая и бормоча: — Нет, не будет тебе счастья в жизни, Петро… Нет, не будет… Разве так можно?.. Они сироты… Зоя и Славка остались одни посреди комнаты. Осадчук, словно-не замечая ребят, подошел к окну, толкнул задребезжавшие стеклами створки и, высунувшись боком наружу, громко позвал: — Григорий! Чуешь? Хватит тебе спать, хлопче! Зови Михайлу, давайте сюда разом. Тут дело для вас одно нашлось… Почти тотчас же в комнату вошел тот самый испачканный в муке чубатый парубок, который лежал на подводе, уткнувшись в пыльные мешки. Оплывшее лицо его было помятым, заспанным, а в мутноватых глазах виднелась застоявшаяся скука. За ним появился и Михайла — невысокий жилистый мужичонка, в серой какой-то одежке и надвинутой на брови кургузой кепке. Оба они были с винтовками, и у обоих на рукавах белели замызганные повязки. Только сейчас, увидев эти повязки, Славка сообразил, что перед ними полицаи, хотя и не понимал, зачем они понадобились старосте. — Вот что, хлопцы, — весело обратился к полицаям Осадчук, кивая на Славку и Зою, — научите этих деточек, как надо нашу неньку Украину любить. Но не очень, а то я вас знаю! Потом отвезите их с богом в город, до ихнего приюта. Только смотрите мне, хлопцы, чтобы они от вас по дороге не убежали… — Это можно, пан Осадчук, — оживился чубатый Григорий, ставя винтовку в угол. — Это мы сейчас сделаем… Самым лучшим образом. Он ловко ухватил не успевшего опомниться Славку крепкой толстопалой рукой за воротник треснувшей рубашонки, пригнул его голову к широко расставленным своим ногам, а другой рукой быстренько сдернул с него штанишки и, расстегнув пряжку, выдернул свой брючный ремень… Но прежде чем зажатого между коленями Славку ожгло по выпяченному голому заду, он услыхал короткую возню и отчаянный Зоин крик: — Ой, не бейте нас, дядечки!.. Ой, не бейте!..
3
А в городе все оставалось по-прежнему, как и в тот день, когда они ушли из детдома неделю назад. Над липовым парком, с торчащим посередке облупленным шпилем старого костела, кружили галки; от маслобойки, где неутомимо пухкал синими колечками дыма глухо постукивающий движок, горько пахло горячим рапсовым жмыхом; у каменных ступенек бывшего торгового техникума — а нынешней городской управы — под свисающим желто-голубым полотнищем топтался часовой в смушковой шапке. Заборы и стены домов в центре города были оклеены приказами коменданта и плакатами, призывающими «звильнэну украиньску молодь» немедля ехать в Германию, потому что эту самую молодь ждут там великие блага и неслыханные возможности. Доказательством тому, должно быть, служила изображенная на плакатах пышногрудая улыбающаяся дивчина в вышитой кофте с глубоким вырезом и увешанном лентами-стричками васильковом венке. И поближе к окраине, где начиналась вымощенная булыжником улица Селянская — по которой в довоенные годы съезжались на базар и к маслобойке мужики из окрестных сел, а потом отходили в направлении Кировограда перевязанные, окровавленными бинтами наши пехотинцы, пылили редкие полуторки, тряско катились, грохоча колесами, тупорылые пушки на конной тяге, гнали запаленный, ошалело ревущий скот и шли навьюченные домашним скарбом беженцы, вслед за которыми вскоре протрещали немецкие мотоциклисты, прогромыхали танки и потянулись вереницы огромных черных грузовиков, доверху набитых чужими солдатами, — все так же шелестели серебристой листвой высоченные старые осокори, прикрывая своими длинными узловатыми ветвями крашенные коричневой охрой жестяные, крыши детдомовских построек. Ничего не переменилось и в самом детском доме. За витой чугунной оградкой в трех одноэтажных кирпичных строениях, что принадлежали раньше не то какому-то нотариусу, не то сахарозаводчику и где впоследствии разместились спальни, столовая, канцелярия, кладовка кастелянши и всякие другие подсобные детдомовские службы, где царили когда-то чуть ли не армейский порядок и больничная чистота, — теперь болталась без дела, лениво дралась, играла в карты, почти не таясь курила в приоткрытые печные дверцы и резалась в «зоску» — подкидывая ногами завернутый в махровую тряпочку плоский свинцовый кругляш — оборванная, немытая, полуголодная и безнадзорная пацанва. Впрочем, днем на детдомовской территории бывало сравнительно пустынно и тихо. Большинство ребят шаталось по городу. Одни собирали окурки — «бычки»; другие шастали по окраинным садам и огородам; некоторые, подобно Славке с Зоей, и вовсе ударились в бега; а иные облюбовали для себя отхожий промысел: попрошайничали, подрабатывали и приворовывали в ближайших селах и возвращались на ночлег в детдом обычно груженные богатой добычей. Не обходили, разумеется, пацаны стороной и маслобойку. В надежде разжиться куском свежей подсолнечной макухи ребятня слонялась между возами, заглядывали в непритворенные двери маслобойки, за которыми в красноватом полумраке что-то сипело, ухало, блестело металлом, двигались какие-то смутные тени, пока бородатый мужик в лоснящемся фартуке не останавливал взмахом руки всю эту суету и не вынимал из-под пресса запеленутые в промасленную холстину горячо дымящиеся душистые круги. Мужик складывал их вдоль стены, зорко поглядывая на маячащие в дверном проеме неумытые пацаньи рожи, и, бывало, сжалившись, швырял к порогу обломанную о колено половину, а то и целехонький, будто выглаженный сверху, без единой щербатинки круг. И эта не улежавшаяся еще до каменной твердости, о которую не один пацан до крови раздирал себе десны, а мягкая, рассыпчатая, с белыми зубчиками нераздавленных зерен и неогрубевшими остьями семечной шелухи, — эта ни с чем не сравнимая по запаху, вкусу и сытости макуха была, пожалуй, самым дорогим лакомством для оголодавшей детдомовской братии. Одно лишь потом бывало плохо — в уборную ходить тяжело: непереваренная подсолнечная кожура остро врезалась и жестоко царапала кишки… Находились среди пацанов и такие отчаюги, которые предпочитали отираться возле приткнувшихся к обочинам немецких грузовиков, чтобы при случае увести из оставленной без присмотра кабины банку консервов, плитку сладковатого немецкого черного хлеба либо пачку сигарет. Но это были уже и вовсе отпетые головы, потому что рисковали они там не подзатыльниками, не поротыми задницами, а чего доброго — и автоматной очередью вдогон… Правда, до сих пор пока еще никого из пацанов не подстрелили немецкие часовые, хотя вполне могли бы и застрелить…Некогда аккуратно распланированный песчаными дорожками и цветочными куртинками, однако давным-давно уже порушенный, неметеный и затоптанный детдомовский двор заметно оживал только к вечеру. Мимо сохранившейся еще в центре двора дощатой трибунки, где в былые времена перед благоговейно замершей общей линейкой под торжественные звуки пионерского горна и барабана чистенькие дежурные по утрам поднимали в четыре руки на тонкой мачте, а вечером не менее торжественно спускали славный детдомовский флаг, теперь равнодушно пробегали в самый отдаленный конец прилегающего ко двору яблоневого сада озабоченные и чумазые оборванцы с котелками, кастрюльками, чугунными горшками и закопченными консервными банками на проволочных дужках. Ребята торопились туда, где у остатков покосившегося забора — который отделял детдомовские владения от подворья небольшого чугунолитейного заводика, разрушенного в самом начале войны прямым попаданием бомбы, — в зарослях бузины была выкопана узкая щель. Предусмотрительное детдомовское начальство намеревалось укрывать в этой щели ребят во время бомбежек, артиллерийских обстрелов и даже газовых нападений. Но воспользоваться этим убежищем по его истинному назначению так никому и не пришлось. При первом же налете немецких пикировщиков щель была засыпана землей, завалена обломками кирпича вперемешку о искореженным железом, и потому, когда припекло по-настоящему, все прятались где попало: под кроватями в спальнях, в погребе, в столовой и на кухне, за широченной плитой… Теперь, однако, щель пригодилась. Ребята расчистили ее как смогли и оборудовали по всему профилю выдолбленными в глинистых стенах печурками. А те пацаны, которые оказались подомовитее, еще и выложили свои печурки кирпичом. На этих очагах — в единоличном порядке либо скооперировавшись по двое да по трое на один котелок — ребята варили подкопанную на огородах раннюю картошку, выкрученную из стеблей молодую кукурузу; здесь же пекли в угольях бог знает где добытые прошлогодние сахарные бураки, жарили на жестяных противнях семечки и подвяливали ломти недозревшей розоватой тыквы. Печурки располагались не слишком тесно одна к одной, места хватало всем, А после того, как старших ребят из первого коллектива немцы увезли в длинном автобусе на железнодорожную станцию, сделалось и вовсе просторно.
Возвращение в детдом Славки и Зои, в общем-то, прошло незамеченным. Ребята еще не вернулись с дневного промысла. У ворот копошились в пыли какие-то малыши. Они только чуть посторонились, пропуская въезжающую подводу. А Юрий Николаевич Мизюк, директор детского дома, которому исполнительные хлопцы Осадчука сдали беглецов в канцелярии под расписку, хмуро посмотрел на покорно опущенные головы детей и усталым голосом велел им идти в спальню. Потом он зазвал в свой кабинет тучного завхоза Вегеринского и, придерживая за рукав белого парусинового пиджака, долго говорил ему о настоятельной необходимости как можно скорее покончить с ребячьей вольницей. Война, конечно, войной, и тут мы бессильны… Да и перемена власти, безусловно, сказывается… Еще никому не известно — будут ли новые административные органы субсидировать детский, дом или его прикажут закрыть. Но покуда такого приказа нет, все должны добросовестно исполнять свои обязанности, потому что вся мера ответственности за детей целиком ложится теперь на плечи оставшихся воспитателей и вообще работников детдома, людей зрелых, опытных, которым нельзя распускаться ни при каких обстоятельствах. Вегеринский молча слушал директора, вытирая платком лысину, потный лоб и стараясь сообразить, куда на сей раз клонит Юрий Николаевич. Ведь и перед самым приходом немцев он тоже требовал не поддаваться панике, выполнять свой долг, беречь детей, имущество, уверял всех, что в случае прямой угрозы захвата города противником детский дом, несомненно, будет эвакуирован в первую очередь, нужно только набраться мужества и терпения, подождать… И вот — нате вам, пожалуйста — дождались!.. Немцы давно уже в городе, фронт черт знает где, все воспитатели, считай, разбежались, старших ребят забрали в Германию, а уцелевшая мелюзга одичала вконец и совсем отбилась от рук. Но главное — никто даже и не представлял себе, что же делать-то теперь, как жить дальше?.. — Да, вот еще что, Семен Петрович, — просительным тоном сказал Мизюк. — К нам только что привезли из села двух наших воспитанников — Зою и Славу Комовых, которые, как вы помните, самовольно покинули детский дом на прошлой неделе. Я просил бы вас выдать им постельные принадлежности и одеяла. Тучный Вегеринский сразу же засопел носом, заволновался и начал задыхаться, как всегда при этом по-рыбьему часто разевая маленький рот и хватая себя руками за пухлую и висячую, как у женщины, грудь. Мизюку было известно, что ребята сочинили о нем присказку, которую повторяют к месту и не к месту: «Завхоз Вегеринский схватился за сиськи». Рыхлое лицо завхоза покраснело, а в нездоровых, заплывших глазах промелькнула растерянность. — Но позвольте, как же так, Юрий Николаевич? — пыхтя и отдуваясь, сипло заговорил он. — Вы же сами предупреждали наших босяков, чтобы они не зарились на казенное добро. Берегли пуще глаза! Чтоб не меняли его кому попало на сало да тютюн, а то другого не получат… А теперь что? Кастелянши нету, сбежала… Я был вынужден полностью принять на себя заботы о сохранении всех материальных ценностей. Я же за них отвечаю или как?.. — Прежде всего, мы с вами, Семен Петрович, — строго прервал завхоза Мизюк, — отвечаем за сохранение детей. Прошу об этом не забывать. — Хорошо, хорошо… Я не забываю… Но позвольте… — однако выдержать до конца дипломатичность выражений Вегеринскому оказалось не под силу. — Да они же тогда все тут растащат, паразиты! — тонко закричал он, и сизые щеки его затряслись. — Вы мне скажите, разве это дытячий будынок? Нет! Это же смешно! Они его давно уже в свой притон злодиючий переделали! По спальням «бычки» курят, в «очко» режутся!.. Того и гляди, с ножами друг на дружку полезут!.. — А вот этого как раз мы с вами, Семен Петрович, и не должны допустить, — смягчая голос, сказал Мизюк. — Успокойтесь, пожалуйста. Давайте-ка соберемся чуть попозже… Ну, хотя бы здесь, или лучше у меня на квартире, и поговорим, как быть. Скоро осень, а в детском доме — ни продуктов, ни одежды… Война-то, конечно, войной, — задумчиво повторил он, поглаживая плохо выбритую щеку, словно у него вдруг разболелись зубы, — но кто же знает точно, как долго она еще продлится? И с нами все может произойти. Но вот от наших обязанностей нас с вами пока еще никто не отстранял. Так что пригласите ко мне вечером Людмилу Степановну, ну и остальных… Кого найдете, конечно, а там посмотрим… Обстоятельства, разумеется, сложные — не спорю. Но мы должны выполнять свой долг. Пора и нам, Семен Петрович, все-таки решить для себя, по какую мы, так сказать, сторону… И приниматься за дело всерьез. Надеюсь, вы со мной согласны? Вот и прекрасно. Тогда до вечера… Вегеринский вышел из кабинета директора в некоторой расслабленности, со смятенными чувствами. Он не совсем уразумел, о какой такой стороне намекнул ему Юрий Николаевич? И о каких таких делах говорил? Если только насчет продуктов и прочего, то это еще полбеды. Ну, а ежели о чем-то другом? Ежели о том, чтобы против новых властей?.. Нет-нет… Об этом даже и подумать нельзя. Не приведи господи! Уж кто-кто, а немцы в случае чего шутить не станут…
По пути к малышам, у которых теперь дневала и ночевала оставшаяся верной своему педагогическому долгу Людмила Степановна Ушкова, Вегеринский заглянул в спальню первого корпуса. В ней он обнаружил лишь Славку Комова. Тот одиноко сидел на пустых досках своей кровати и грустно смотрел в окно, за которым светило предзакатное солнце и беспечно чивикали воробьи. Распушив перья, они купались в еще не остывшей, должно быть, дорожной пыли. Воробьи, хорохорясь, наскакивали друг на дружку, выталкивали из пыльной ямки на самый край тех, которые послабее, отлетали косокорям, прыгали по веткам, а потом снова возвращались в пыль, сшибались, чивикали и трясли крыльями. Славка следил за ними, меланхолически размышляя о том, что воробьям вообще-то куда как проще: жратвы всегда навалом и бояться особо некого. Ну, разве только вон той шелудивой кошки, которая, прогибаясь в спине, приседая на все четыре облезлые лапы и от этого как бы растягиваясь вдвое, целеустремленно перебиралась через дорогу с таким озабоченным видом, словно никакие воробьи на свете ее никогда в жизни не интересовали. — Иди-ка сюда, босяк! — появляясь в дверях, грозно сказал Вегеринский обернувшемуся Славке. — Слышишь? Я кому говорю-то? Ну!.. Елозя штанами по гладким доскам, Славка нехотя сполз на пол и обреченно поплелся к порогу. Говоря по совести, он нисколечко не боялся Вегеринского. Тот хотя и называл всех ребят, не иначе как босяками и жуликами, сердито орал на них, хмуря едва приметные на жирном его лице белесые бровки альбиноса, из-за любой чепухи сулил каждому босяку «устроить развеселую жизнь», — тем не менее был отходчив и добр. Пацаны его ни в грош не ставили, однако любили. Вегеринского даже нечего было и сравнивать, например, с Юрием Николаевичем, который никогда ни на кого не кричал, говорил вежливо, спокойно, но слушались директора беспрекословно, выполняя вежливые распоряжения его быстро и четко. Мизюка уважали за справедливость, слегка побаивались. А вот его жену, воспитательницу бывшего первого коллектива, Полину Карповну Мизюк — женщину резкую и нервную — с крупными калмыцкими скулами и жилистыми руками крестьянки, ненавидели откровенно. У нее была привычка таскать повсюду с собою массивный ключ от внутреннего замка угловой комнаты первого корпуса, в которой она жила вместе с Юрием Николаевичем. Во время очередной «душеспасительной» беседы с каким-нибудь нашкодившим парнишкой Полина Карповна не спеша доставала из кармана жакета известный всему детскому дому ключ, просовывала в отверстие дужки указательный палец, зажимала стержень ключа в кулаке, а согнутым этим пальцем с надетой на него дужкой ключа принималась как бы машинально постукивать незадачливого нарушителя порядка по непокорной его голове, покуда тот не начинал вертеться под неумолимой рукой воспитательницы ужом, просить прощения и хныкать. Ребята дружно ненавидели Полину Карповну, творили ей мелкие пакости: то подставляли стул с воткнутой исподнизу в фанерное сиденье патефонной иголкой, то зеркальце на ноге подсовывали, чтобы разглядеть, какого нынче цвета трико на Полине Карповне — не рваное ли? — то выдумывали еще что-нибудь веселое: приклеивали незаметно к спине бумажку с непотребной надписью, — но и на произвол воспитательницы никогда не жаловались. Такого в детдоме вообще принято не было, чтобы жаловаться. Да и, по правде-то сказать, к кому на нее жаловаться пойдешь? К ее мужу, что ли?.. — Я больше не буду-у-у!.. — привычно загундосил Славка, пробираясь между кроватям-и к Вегеринскому, плаксиво косоротясь и шмыгая носом. — Вот увидите, Семен Петрович, не буду-у-у… Честное даю вам пионерское!.. — Цыть, босяк! — неожиданно визгливо заорал на него Вегеринский, выпучив водянистые глаза, и перетрусивший по-настоящему Славка мгновенно умолк. — Я тебе покажу — пионерское! Жулик!.. Забудь про него!.. Вы куда свои одеялка подевали, босота? Опять на сало чи на тютюн у куркулей сменяли? А?.. — Не-е-е… мы не меняли… — Славка замотал головой, быстренько сообразив, что сейчас вернее всего чем-то огорошить завхоза, выставить себя да и сестру этакими бескорыстными благодетелями, которым ни сало, ни табак не больно-то и нужны. — Мы же их отдали… За так просто, Семен Петрович! Ну, там на дороге, у села… Вегеринский и в самом деле на минутку оторопел. — На какой дороге? Кому отдали? — Там немцы наших пленных гнали, — заторопился воспрянувший духом Славка, уже почти уверенный в том, что завхоз теперь непременно смягчится и, быть может, простит им присвоение казенного барахла. — Ну, они все там оборванные шли… Наши-то, красноармейцы… Воды они просили, а у нас воды не было… Ну, мы, значит, им вместо воды одно одеяло отдали… — Пленным отдали? — Вегеринский задохнулся, зашарил рукой по своей пухлой груди. — С клеймом? — Кто с клеймом? — не понял Славка. — Да на тех же одеялках клеймо стоит, босяк! — застонал Вегеринский, с мукой глядя на сникшего мальчишку. — Там номер детдомовский! Ох ты, господи!.. Он хотел было сразу же потащить Славку на суд и расправу к Юрию Николаевичу. Но затем смекнул, что тут уже и директор ничего не поделает. Если немцам вдруг взбредет в голову разузнавать, откуда взялись на дороге ребята, оказавшие запретную помощь пленным, то они легко определят это по черному штампу на углу одеяла. Ведь когда-то он сам, Вегеринский, потребовал вырезать на резиновом штемпеле для солидности полный титул представляемого им учреждения: «Специализированный детский дом № 73». А потом вместе с кастеляншей усердно клеймил этим штемпелем одеяла, матрацы, простыни, наволочки и всякое прочее детдомовское имущество, надеясь таким образом уберечь его от нередкого исчезновения. Даже трусики и маечки ребятни пробовали они тогда с кастеляншей переметить, но штемпель оказался для этого слишком большим — очень уж некрасиво получалось, грязно… «Экий же дурень старый, прости меня, господи! — запоздало корил себя Вегеринский. — Экий же дурень!..» Перед глазами Вегеринского замельтешили строчки комендантских приказов, в которых все население города предупреждалось о том, что за оказание, помощи, укрывательство и любое другое пособничество «врагам великой Германии» полагается одна кара — расстрел. «Босякам-то этим они еще, может быть, и простят. Чего с них возьмешь? — заполошно подумал он. — А с персонала-то они уж спросят. Скажут: а вы куда смотрели? Зачем их на дорогу отпускали?..» — Ну, что вы, Семен Петрович? Одеяло-то ведь у нас совсем старое было, — решил приободрить завхоза Славка. — Там на нем ничего не разберешь. Просто пятнышко черное — и все… Ну, вот как на этих… Вегеринский недоверчиво проследил за Славкиной рукой, которой тот ради пущей убедительности повел вдоль небрежно заправленных постелей, наклонился к ближайшей кровати, смахнул с нее на пол подушку и отвернул край одеяла. На вытертой зеленоватой одеяльной шерстке и впрямь еле проглядывалось какое-то бесформенное пятно. «А ведь он правду говорит, подлец эдакий! Может, оно и обойдется, — Вегеринский с облегчением вздохнул. У него маленько отлегло от сердца, хотя и кольнула мимолетная досада, что результаты всех его стараний оказались столь недолговечными: опять бери любую вещь, воруй ее, продавай, выменивай куркулям на базаре — и ничем не докажешь, что она детдомовская. — Ну и босяки!.. Ну и жулики!..» Славка с самым невинным выражением поднял подушку и аккуратно пристроил ее в изголовье кровати. — Вот и молодец, деточка!.. Молодец, хлопчик!.. — растроганный его услужливостью Вегеринский в порыве благодарности даже потрепал неумело Славкины волосы. Видать, завхозу было все-таки неловко перед сопливым этим мальчишкой за выказанное волнение. Да ведь они же кого хошь до сердечных припадков могут довести. Уркаганы, да и только. — А теперь катись-ка отсюдова за своей сеструхой, босяк, — снова напуская на себя грозный вид, потребовал Вегеринский. — И чтобы сразу ко мне в кладовку обое — живо!..
Славка уже успел приладить на досках кровати набитый соломой матрац, прикрыть его серенькой, застиранной простынкой, натянуть такую же серенькую наволочку на хрустящую соломой подушку и набросить на постель одеяло, прежде чем в спальне начали собираться ребята. Он был доволен, что никто из них не видел, как Зоя и еще две девчонки, сестрины подружки, со смехом и шутками помогали ему заталкивать ногами жесткую и колючую солому в длиннющий матрац. Покатая, пепельно-белая снаружи, но все еще золотистая в середке, куча прошлогодней соломы была привалена к стене конюшни, где томился безработный по тревожным и неопределенным нынешним временам детдомовский мерин Пугач. Его не забрали в армию по старости. И теперь в полумраке конюшни он целыми днями хрумкал постную эту солому, вяло переступал расплющенными, неподкованными копытами и печально смотрел на свет через узкое оконце, кося лиловыми умудренными глазами немало потрудившейся на своем веку животины, за долгие годы безотказной работы претерпевшей от людей всякого — и плохого, и хорошего, — однако не помнившей, пожалуй, столь продолжительного отдыха… Примостив сверху пузатые подушки и вцепившись пальцами в выскальзывающие из рук уголки матрацев, беспричинно хохотавшие девчонки и Зоя со Славкой потащили через двор грузные, как дирижабли, полосатые мешки. Зоя часто останавливалась и тоже смеялась, когда ее подружки вроде бы не нарочно роняли свой матрац и с хохотом, с криками: «Ой, девочки, больше не могу!..» — валились на него и болтали ногами. Но Славке смотреть на все это было вовсе не смешно. Он угрюмо отворачивался от задранных до пупков девчоночьих платьиц, от мелькавших перед ним в воздухе голенастых ног, перехваченных резинками трусиков, и в душе молил бога лишь о том, чтобы поскорее они поднимались, пока никто из ребят не попался им навстречу. Не то ведь потом совсем задразнят его пацаны, скажут, что он с бабами связался, подлизывается к ним. А для каждого уважающего себя настоящего пацана подлизываться к бабам — это самое распоследнее дело! Славка давно усвоил неписаный детдомовский закон, согласно которому ни с какой девчонкой настоящему пацану связываться не подобает. Пускай даже та девчонка хоть золотая-серебряная, сестра тебе родная, пускай хоть кто! — но все-таки она не пацан, а чуждое суровому мальчишескому племени существо, ненадежное… И если совсем еще недавно, вчера, когда шли они полевой бесконечной дорогой, когда брели по улице вечернего села, когда спали рядышком в хате сердобольной тетки Мотри, во всем мире не нашлось бы для Славки более родного и надежного человека, чем Зоя, кровная его сестра, то сейчас это простое с нею родство, в котором, к слову сказать, он сам, конечно, нисколько не был повинен, словно бы тяготило его и казалось постыдным… «Ух, задрыги худые! — чуть ли не с ненавистью думал Славка. — Наподдавать бы вам тут сейчас по задницам, дуры!..» И, понимая, что в одиночку ему с девчонками не справиться, а словами их не проймешь, вынужденный скрывать свое презрение к ним и смирять уязвленную мальчишескую гордость, он все же просил вполголоса с униженной и жалкой улыбкой: — Ну, кончайте же… Хватит вам валяться… Ну, кончайте, пошли… Так, с остановками, с передыхом, девчонки донесли свою поклажу до первого корпуса. Зоя хотела помочь брату затащить матрац прямиком в спальню, но Славка, весь красный и взъерошенный от злости и стыда, категорически отказался. Застревая в дверях, он кое-как доволок матрац по коридору до комнаты и очень обрадовался, когда увидел, что в ней еще никого нет.
Первым появился в спальне Валька Щур. Он попрошайничал в селах, был удачливым и прижимистым парнишкой, года на три постарше Славки и, конечно, гораздо сильнее его. Со свету, в комнатном полумраке Щур, наверное, не разглядел прикорнувшего на заново набитом матраце Славку. Валька положил свою наполненную выпрошенными «кусками» холщовую сумку у входа и скоренько прошелся вдоль кроватного ряда, глубоко запуская руку под чужие матрацы, шаря под подушками, ощупывая их и заглядывая по ходу дела в тумбочки и под кровати. Славка растерянно притих, а сердце его вдруг забухало где-то у самого горла. Правда, ему сперва показалось, что Валька всего лишь поправляет постели, блюдет порядок, как это делали когда-то дежурные по спальням, разглаживая стрелки завернутых конвертами простыней и выравнивая-по ниточке треугольники сложенных полотенец. Но он тут же сообразил, что никаких теперь дежурств нет, а на всяческие «стрелки», «конверты» и «треугольники», равно как и на прочую галантерейность, пацанам давным-давно наплевать с самой высокой колокольни. Просто, пользуясь удобным случаем, Валька Щур, как не совсем, быть может, деликатно выражались ребята, наводил в спальне «тихий шмон». Никогда не ограничивающая себя особливо жесткими морально-этическими соображениями на базаре, возле маслобойки и даже в школьной раздевалке, бесшабашная детдомовская братва с неизменной суровостью карала уличенных в подобном преступлении неискушенных новичков, навсегда отбивая у них охотку к безобидному домашнему воровству. Однако Валька Щур не был в детдоме новичком. Он и сам не единожды участвовал в исполнении безжалостных мальчишеских приговоров. А теперь, выходит, что это именно он… Славка сел на постели. Щур медленно выпрямился, сжимая кулаки, взглянул на него испуганными глазами, но быстро справился с собой и, разболтанно вихляясь, вразвалочку приблизился к Славкиной кровати. — А-а-а… это ты?.. С воли, значит, притопал… Ну, здорово, Комочек! — Он как ни в чем не бывало протянул руку ошарашенному Славке. — Пуговица у меня, гад буду, оторвалась и закатилась куда-то, — с недоброй насмешечкой в голосе сказал Валька. — Ты ее тут не видел, а?.. — Нет, не видел, — поспешно, с самому себе противной готовностью отозвался Славка, пожимая зачем-то руку Щура и понимая, конечно, что тот вовсе не о пуговице его спрашивает, потому что никакой пуговицы Валька здесь не терял, а как бы предупреждает о чем-то и угрожает ему. И, внезапно пугаясь этой не высказанной Щуром угрозы, Славка торопливо и заискивающе повторил: — Нет-нет… Не видал я никакой пуговицы… Ну, что ты, Вальк?.. — Смотри, Комок! Найдешь пуговицу — отдай. Не то, гад буду, глаз выколупаю! — уже с откровенной насмешкой сказал ему Валька Щур, отходя к порогу и поднимая свою сумку. Валькина кровать стояла по левую сторону прохода, за круглой, до половины обернутой темной, блестящей жестью голландкой, которая выпирала своим гладким, лоснящимся брюхом чуть ли не к самой двери и занимала почти весь угол спальни. Это было не очень-то удобное, но вроде бы отгороженное от всей остальной комнаты место. Во всяком случае, если Щур отворачивался к печке и принимался колдовать над торбой или позвякивать ложкой о котелок, настырная и шустроглазая пацанва никак не могла разглядеть, чем занимается там Валька, в своем запечном углу, и что он нынче сварганил себе на сон грядущий.
До войны на этой кровати спал Женька Першин, худенький, затюканный жизнью парнишка. Он как-то по-собачьи сжимался и приседал, когда кто-нибудь из воспитателей решал по забывчивости приласкать Женьку, погладить его по голове. А ребята так и вовсе считали Женьку «чокнутым». Такому, конечно, самое место было у порога, где зимой из раскочегаренной топки выстреливало искрами; на проржавевший железный лист высыпался из поддувала угольный шлак и пепел; вокруг валялся растопочный мусор; было мокро от воды, которой смачивали антрацитовую крошку; а от выжженного, в черных буграх и язвинах, пола даже летом остро воняло мочой и каменноугольной гарью. Но по теперешним, причудливо изменившимся меркам этот затхлый, однако же и укромный закуток сулил своему хозяину определенные преимущества перед прочей голоштанной мелкотой, у которой все на виду — гляди, нам прятать нечего! — и осмотрительный Валька Щур сразу это учуял. За четвертушку капустного пирога он без особого труда «махнулся» кроватями с безответным Женькой и с того дня по вечерам счастливо «гужевался» там в одиночку, сидя, сгорбатившись, в своем недоступном укрытии, как паук. Вот и сейчас Щур устроился на постели — повернувшись спиной к Славке — и тем самым как-бы отгородился от него и от всего окружающего мира, напрочь позабыл о его существовании, занятый исследованием содержимого своей торбы. Славке было видно только, как пошевеливаются сгорбленные плечи Щура да как он кособочится, наклоняясь к сумке, выуживая что-то из бездонной ее глубины и хозяйственно раскладывая перед собой на одеяле. Но, впрочем, на этот раз оказалось, что Валька ни о чем не забыл… И когда в спальне собрались уже Володя Лысенко, Иван Морозовский, незаметно появился Женька Першин, вкатился вертлявый Генка Семенов и пришли другие ребята, — Щур вдруг обернулся, подмигнул пацанам и кинул через всю комнату на Славкину кровать здоровенную краюху пшеничного хлеба. — Держи, Комок! — великодушно сказал Валька, хотя в голосе его, как послышалось Славке, проскользнули тревожные и даже вроде бы просительные нотки. — Жрать небось хочешь, а я не жадный. Разбогатеешь — отдашь… Бери, бери, Комочек, хавай да помни мою доброту! Славкина рука непроизвольно дернулась за подпрыгнувшей на постели краюхой, цепко и бережно, как убегающего птенца, накрыла хлеб, прижав к покатому боку матраца, чтобы не свалился на пол. И, ощутив под стиснутыми пальцами живую податливость свежего мякиша, шершавую твердость выгнутой корки, Славка уже не в силах был выпустить из своей руки брошенный ему, словно голодной собачонке, «кусок», отказаться от унизительной Щуровой подачки, хотя и прекрасно понимал, чем вызвана столь неслыханная Валькина щедрость. — Ладно, Щур, спасибо, — проглатывая набежавшую на зубы слюну и тоже как бы со значением глядя в его настороженное лицо, сказал Славка. — Я тебе обязательно отдам. Вот только разживусь малость — и отдам. А доброту твою я запомню. Ты, Валька, не беспокойся. — Ну, то-то же… Вот они все тут — свидетели, — Валька совсем успокоился и небрежным жестом руки обвел находившихся в спальне ребят. — Они все, понял?.. А на воле, Комочек, между прочим, тоже надо голову на плечах иметь, а не эту самую… — назидательно проговорил он, хлопая себя по штанам и кривя в насмешливом презрении тонкие свои губы. — Иначе, Комок, и тама с голодухи подохнешь. Верно я говорю, пацаны? Но Вальке никто не ответил. Должно быть, ребята пропустили мимо ушей его слова, как и приглашение в свидетели, не расслышали или не захотели с ним связываться. Потом ведь от Щура не отлепишься, будет на каждом шагу приставать, как репей: «Нет, ты видал, как я ему хлеба давал?.. Нет, ты прямо скажи, видал?.. А?..» Жмотина он, конечно, порядочный и известный хмырь, этот Валька Щуренок. Да ну его к лешему!.. Помешкав немного, Щур опять уткнулся в свою неиссякаемую торбу, но на сей раз уже окончательно утратив всяческий интерес к происходящему в спальне. А ребята тем временем привычно занимались своими вечерними делами: выгребали из карманов и пазух яблоки, картошку, огрызки макухи, сыпали в углы наволочек добытые на базаре жареные тыквенные семечки, переговаривались меж собой и, в общем, прикидывали на глазок — кто и чем сумел отовариться за минувший день. Судя по всему, нынешний сбор у каждого был невелик: так себе, серединка на половинку… Некоторые ребята уже доставали из тумбочек, тащили из-под кроватей закопченные свои кастрюльки да котелки, брякали кружками-ложками. И Славке было немножко обидно, что никто не расспрашивал его ни о чем, как будто бы он и не уходил отсюда «на волю», а просто, как и они, вернулся с дневного промысла. Один лишь Иван Морозовский, независимый коренастый паренек, с которым до этого Славка иногда вступал «в долю», хотя по-настоящему и не «корешовал», пробираясь мимо него к двери, задержался у Славкиной кровати и, как ни в чем не бывало, спросил: — А ты чего сидишь, Комок? Припухать решил, что ли? Айда в сад! — Да нет, Мороз… Ты уж иди… Я потом… — У Славки засвербило под веками. Он принялся путано объяснять Ивану, что у него сегодня и вовсе пусто, если не считать, конечно, Валькиной краюхи. Даже котелок и тот увели из тумбочки, пока они с Зоей гуляли по воле. Но Иван Морозовский не стал вникать в сбивчивые его объяснения. — Давай со мной на пару! — решительно сказал он. — Ну, чего ты, правда, как целка?.. Айда!.. Славка помешкал еще для приличия, но потом обрадованно соскочил с кровати. И пока шли, они через двор в дальний конец сада, где в сумеречных кустах бузины уже колыхались красноватые отблески костерков, дымили печурки, — благодарный Славка не удержался и рассказал Ивану о том, как они с Зоей повстречали на дороге наших пленных, как ночевали у тетки Мотри в том нетронутом немцами, богатом селе, где потом в конторе по велению старосты Осадчука полицаи выпороли их своими ремнями, а после заставили еще сказать «спасибо» и «слава Украине…» — Во, паскуды! — изумился Иван, вначале слушавший его довольно равнодушно. — Да за что же им, гадам, спасибо-то еще говорить было? А эта Украина ихняя для чего?.. — Не знаю… — Значит, они над вами просто поиздевались. Ну, как вроде бы фашисты, — авторитетно заключил Иван. — А чего же ты не рванул там от них? Надо было тебе в окошко рвануть. Выпрыгнул бы запросто. — Так ведь не один же я там был… С сеструхой, — запинаясь, уныло напомнил Славка, думая, что Мороз тут же и посмеется над ним, скажет, мол, связался с бабой, вот и получил свое. — Один бы я, конечно, от них подорвал… Но Иван, по всей вероятности, хорошо представил себе сложное Славкино положение, понял удержавшие его от геройского побега родственные чувства к Зое, братскую солидарность и не осудил своего слабохарактерного напарника. — Вот вместе с ней бы и рванули!.. Хотя… — Иван безнадежно взмахнул звякнувшим котелком. — Ну, да ладно, хрен с ними! Дровец давай-ка лучше с тобой поищем. А то скоро совсем темно станет… Они отодрали от перевитого проволокой заводского забора две трухлявые снизу доски, быстренько расколошматили их об острый гранитный обломок, хищным клыком выпирающий из утрамбованной вокруг ребячьими пятками земли, и, испросив у соседей уголька, растопили свою печурку. У запасливого Мороза нашлись и картошка, и горсточка пшенной крупы, половина луковицы, и даже постное масло на донышке пузырька из-под синих чернил. Должно быть, потому и было оно какого-то неопределенного цвета и запаха. Но кулеш у них получился все же отменный. Пожалуй, ничуть не хуже того, который варила раньше в детдомовской кухне на широченной плите запропавшая теперь невесть куда добрая повариха тетка Фрося. Вот только хлебать этот кулеш им пришлось одной ложкой по очереди — Славкину ложку уперли вкупе с котелком. Впору оказалась и Валькина краюха — ее разломили пополам. Сперва Славка отнекивался, церемонился, предлагал Ивану сначала самому поесть, а ему-то, дескать, не к спеху, можно и потом — что останется. Так ведь и сподручнее, когда один похлебает, а за ним — другой… Однако великодушный Мороз на это не согласился. — Ты чего опять ломаешься, как бублик? Сказано — на пару, так на пару! — Он облизал для пущей чистоты свою литую оловянную ложку и протянул Славке. — Валяй ты первый. Да гляди, горячо! Не обожгись… Славка подул на густую, подернутую тонкой лучистой кожицей, кулешную жижу, а затем с судорожным всхлипом, изо всех сил преодолевая подпирающую к горлу тугую горечь, втянул в себя самодельное варево, все-таки сдобрив его скользнувшей к губам солоноватой влагой. — Ды-ы-ым-ом… Тут от су-у-учка… — передав ложку Ивану, сипло проговорил Славка, вздрагивая плечами и вытирая взмокшие глаза. — Ды-ы-ым-ом не-се-о-от… — А ты отвернись, — как будто бы не замечая его слез, посоветовал Иван, отодвигаясь от печурки. — Или давай сюда, ближе ко мне. Тут затишек… Высоко над ветками бузины, над рясными ее гроздьями висели синевато-зеленые подрагивающие звезды, словно бы улетевшие от костра и заплутавшиеся в частой яблоневой листве горячие искры. Было их там, в вышине, тьма-тьмущая — крупных, как горошины, мелких, с маковое зерно, едва различимых и вовсе невидимых. Но Славке казалось, что все они длинными своими лучами жадно дотягиваются к его лицу через неизмеримую холодную пустоту и вселенский мрак. А от колкого их прикосновения как раз и возникает непреходящая резь под веками, перехватывает горло и текут, текут по щекам слезы, которые ему никак не спрятать и ничем не унять… Грудилась возле дотлевающих заборных дощечек притомившаяся после праведных своих трудов, а теперь в охотку поужинавшая на вольном вечернем воздухе чем бог послал и почти счастливая от этого, умиротворенная сытостью и теплом, неприкаянная детдомовская пацанва. Ни заполошной тебе возни, ни споров, ни драк — принишкли ребята. Умудренные тяжким опытом, битые жестоко судьбой и людьми, эти ребята сейчас исподволь, безотчетно для себя, как бы проникали в изначальную сущность и подлинное предназначение всякого, с добротою в сердце возжженного человеком огня — как источника и хранителя жизни. Потому что мерцающий теперь перед ними огонь был, наверное, в самом прямом родстве с тем, горевшим в незапамятном далеке у входа в сырую пещеру, когда в настороженно устремленных на него полудиких глазах еще только-только пробуждался робкий отблеск всепобеждающего разума. Кое-кто из пацанов растянулся на брюхе, подперев свою буйну голову немытыми руками и бездумно уставившись в огонь; другие сидели на корточках, время от времени шурудя в костре обгорелыми палочками и выкатывая из-под рдеющих углей на край костра сморщенные печеные картохи; а иные, скрючившись в три погибели и притулясь боками к чадящему огнищу, чтобы не упустить самой малой толики неверного света, старательно зашивали, подвязывали и подлатывали свою прохудившуюся одежонку. Делом заняты были ребята. И никто из них, пожалуй, никак не предполагал, что все окружающее их сейчас: неподвижные заросли бузины, чуть краснеющие сквозь них угольями костры и печурки в щели, темные деревья, небо и звезды и даже их собственные согбенные фигурки на фоне костров — все это слишком уж походило издали на первобытное стойбище дикой орды, каким-то чудом перекочевавшей из допотопных времен сюда, к разрушенному чугунолитейному заводику. И конечно же ни Ивану Морозовскому, ни Славке Комову, ни остальным пацанам было покуда еще невдомек, что на земле существуют люди, задавшиеся целью низвести их до состояния первобытной дикости и ради торжества изуверской этой цели уничтожающие все, что светло, разумно и человечно… А над взлохмаченными головами ребят, над сгорбленными их спинами, шарахаясь от длинно вытянутых ветвей и взмывая кверху чуть ли не перед самым огнем, чертили между небом и землей пронзительно стрекочущие на виражах черные летучие мыши. Они призрачными нетопырями, безудержной нечистью выныривали из окружающей ребят плотной темноты, и пацаны с брезгливой опаской следили за стремительным, изломанным их полетом, потому как всякому человеку было известно, что мерзкая эта тварь особенно любит садиться на белое либо так в волосы вцепится, что потом ее оттуда никакими судьбами не выпутаешь, а надобно вырывать живьем, с волосами, или выстригать ножницами. — Ну вот, теперь вроде бы порядок, — довольно проговорил Иван, зачерпнув последнюю ложку, отваливаясь от котелка и поглаживая себя по округлившемуся животу. — Жить можно. А ты, Комочек, как — нарубался? Славка признательно улыбнулся Ивану и сказал, берясь за котелок: — Конечно, Мороз… Ты что?.. Спасибо тебе… Давай я помою… — Да ладно тебе! Я потом сам… Ты только, Комочек, не тушуйся. Завтра мы с тобой к базару смотаемся. Там вокруг пустых домов полно. Может, чего-нибудь в них и надыбаем. А если нет — и так не пропадем. Нам с тобой и одной посудины хватит. Правильно? — Ну, понятно, хватит, — с поспешной радостью подтвердил Славка, сознавая, что ему очень повезло. Ведь заручиться дружбой такого настоящего пацана, как Иван Морозовский, что-нибудь да значило. Раньше даже воспитательницы считались с Морозом, а уж из ребят так и подавно никто и никогда не нарывался на него первым. И хотя в размягченной горячим кулешом и негаданно подвалившей ему удачей Славкиной душе запоздало шевельнулось слабое воспоминание о Зое — мол, не худо бы им было дружить теперь втроем, — однако он тут же отринул эту блаженную мысль, прекрасно понимая, что Иван на подобное предложение ни за что не согласится, а, чего доброго, захочет отвязаться и от него самого. Нет уж, лучше и вовсе о Зое ему сейчас не напоминать… Тем более, что после сытного ужина и разговора с Иваном, который как бы брал его под свое покровительство, приближал к себе, Славка испытывал то бессознательно жестокое, но и приятное чувство превосходства, какое возникает у каждого удачливого и сильного человека по отношению ко всякому неудачнику и слабаку. Правда, он еще раз вспомнил о сестре, но уже подумал о ней мельком, все больше и больше убеждая себя, что лишь подчиняется не зависящим от его желания обстоятельствам, которые не только сильнее его самого, но и любого другого пацана, в том числе, конечно, и Мороза. Ведь не ими же в конце концов заведено, что девчонки должны непременно дружить с девчонками, а в ребячьи дела им соваться незачем. Так ведь и Зоя, наверное, уже обзавелась какой-нибудь напарницей, с которой «вошла в долю»… — Чего-то спать захотелось… Пошли, что ли, Комочек, покимарим, — зевая и потягиваясь, сказал Иван. И Славка опять почувствовал радостную благодарность к своему вновь обретенному покровителю и другу, потому что Мороз ничуточки не задавался, а вроде бы советовался и говорил с ним, как с равным. И быть может, если бы Славка рискнул сейчас отказаться идти в спальню, предложил бы еще посидеть, то Иван тоже остался бы у печурки. — Пошли, конечно, Мороз… Пошли покимарим, — согласился Славка, все-таки опасаясь сразу же подвергать испытанию прочность их нежданно завязавшейся дружбы. — Поздно уже, конечно… Пошли… Чего же тут сидеть? Во втором корпусе окна в спальне девчонок были темны. Там, наверное, все уже спали, или не было у них ни керосина, ни свечек, и они коротали вечер в потемках. Хотя, может, девчонки просто экономили свечки, берегли горючее на черный день — кто же их знает?.. И по всему фасаду первого корпуса тоже не мерцало ни единого огонька. Лишь в узловой комнате, где жил директор со своей Полиной Карповной, из-за неплотно задернутой шторки процеживалась наружу жиденькая полоска света семилинейной лампы. Проходя мимо директорского жилища, Славка из озорства хотел было напугать Мизюков, постучать им в окошко, но рассудительный Мороз пресек его попытку: — Брось, Комочек! Лучше с ними не связывайся. А вдруг сама Мизючиха выскочит? Они, должно быть, бай-бай теперь ложатся… Айда!..
4
Но в обители Юрия Николаевича покуда еще не собирались укладываться спать. Мизюк вступил в должность накануне войны. Был он приезжим и даже не успел как следует обосноваться на новом месте. В комнате у него было неустроенно, тесновато. Стояла у стенки казенная, с никелированными шарами на спинках, железная кровать, у входа — тумбочка, над ней висела полка для посуды. А на казенном лоснящемся диване и на казенных же детдомовских стульях сидели сейчас у старого канцелярского — в чернильных потеках — стола те воспитатели и технические работники, коих сумел разыскать к вечеру расторопный завхоз Вегеринский. — Что-то совсем оскудели мы кадрами. А они-то, как вы, наверное, помните, все у нас и решают, — невесело пошутил Юрий Николаевич, прикрывая в болезненной улыбке глубоко запавшие глаза — мучила директора желудочная язва. В неверном свете лампы коротко стриженная лобастая его голова поблескивала седой остью. — Подождем немного, может быть, еще кто-нибудь подойдет… Сотрудники, однако, никак не отозвались на рискованную директорскую шутку, лишь насупленный завхоз Вегеринский нервно зашарил рукой по своей пухлой груди и тревожно, с виноватым замешательством, оглядел присутствующий персонал. Дело в том, что, кроме Людмилы Степановны и жены самого же Мизюка, даже вездесущему Вегеринскому никого из воспитателей в городе обнаружить не удалось. Зато пришла незваною повариха тетя Фрося. И уж вовсе неожиданно для всех появилась бывшая пионервожатая Инта Федоровна, полное имя которой было Интернационала, а вот фамилия ее, пожалуй, не очень-то подходила к такому звучному имени — Паламарчук. Неожиданное появление поварихи и бывшей пионервожатой как раз и заронило у Юрия Николаевича слабую надежду на то, что может объявиться и еще кто-нибудь из рассеявшегося детдомовского персонала, хотя, как он уже сознавал, надежду тщетную. Больше всего его, конечно, поразил приход Инты Федоровны. В прежние времена она отличалась неуемной организаторской прытью, непоколебимой убежденностью в своем педагогическом призвании, а ее милое остроносенькое личико так и полыхало неукротимым юношеским задором. На общедетдомовских линейках и прочих торжественных построениях Инта Федоровна ловко вскидывала в красивом салюте загорелую руку, чистым и звонким голосом, без малейшей запинки рапортовала директору о наличном составе вверенной ее руководству славной дружины, а на пионерских сборах, у костров, любила читать бодрые стихи и лихо запевала: «Взвейтесь кострами, синие ночи!..» Но Интернационала Федоровна всегда почему-то стеснялась собственного полнозвучного имени, просила называть ее сокращенно Интой, а еще лучше — Ритой. Не только ребятишки, но и воспитатели чаще всего так и величали ее — не Маргаритой, а Ритой Федоровной. — Ой, да кто же это у вас? — испуганно отшатнулась бывшая пионервожатая, когда Мизюк отворил ей дверь и, вежливо сторонясь, жестом пригласил в комнату. — Извините меня, Юрий Николаевич! Я же не знала, что у вас гости… Ой, извините! Я уж как-нибудь в другой раз… — Нет-нет… Почему же в другой раз? Пожалуйста, заходите, Инта… — директор слегка замялся, — простите, Рита Федоровна. — Он еще дальше отодвинулся от двери и повторил приглашающий жест: — Милости прошу, проходите… Здесь все свои. Инта Федоровна нерешительно переступила порог, напряженно вглядываясь в затененные плоским жестяным абажуром лица сидящих у стола, но тут же просияла. — Ой! Да ведь и правда — все свои!.. Здравствуйте, товарищи… — Она внезапно как бы поперхнулась словами и прижала к щекам ладони. — Ой, да что же это я такое говорю? Дура-то какая! Извините… На глазах у бывшей пионервожатой показались слезы. Тучный Вегеринский еще громче засопел и тяжело задвигался на заскрипевшем под ним стуле, а воспитательницы молча кивнули и переглянулись между собой. — Ничего, ничего… — успокоил оплошавшую Инту Федоровну директор. — Не волнуйтесь, пожалуйста. Садитесь. Бывшая пионервожатая осторожно примостилась на краешке дивана, облокотилась на продавленный валик, подперла щеку рукой и пригорюнилась. И, глядя на съежившуюся в уголке дивана Инту Федоровну, Мизюк с особенной остротой почувствовал, что вся ответственность за судьбу ребят, покуда еще оставшихся в детском доме, взваливается только на этих, молчаливо сидящих перед ним, людей и разделить ее больше не с кем. Всяческих «гор», «рай» и тому подобных спасительных «оно» в природе уже не существовало. Был у них, правда, выбор: брать на себя сейчас заботы о «ничьих» этих детях или же бросить все и «рассеяться», подобно остальному детдомовскому персоналу. И Мизюк подсознательно оттягивал начало разговора, как бы давая своим сотрудникам возможность еще раз все обдумать и взвесить. А те несколько десятков ребят, которые жили теперь как будто бы безотносительно к нему, директору, и двум воспитательницам и вроде бы не испытывали никакой потребности в том, чтобы их опекали и пестовали, тем не менее все же оставались детьми, быть может, и безотчетно, однако ожидающими от взрослых защиты, помощи и совета… Юрию Николаевичу подчас казалось, что эти голодные, неухоженные и с каждым днем все более и более отдаляющиеся от них и друг от друга, ожесточившиеся ребята словно бы приглядываются к бывшим своим наставникам и не без интереса прикидывают: ну-ка, на что же вы способны нынче, взрослые дяди и тети, у которых не столь уж давно на все случаи жизни находились убедительные и вполне определенные ответы? Да, откреститься от давящей на его плечи ответственности за дальнейшую судьбу некогда порученных его попечению ребятишек ему никак нельзя. Но вот перед кем он должен теперь нести эту ответственность — каверзный этот вопрос покуда еще был не совсем ясен и самому Мизюку. Проживший на свете уже около полувека, беспартийный Юрий Николаевич Мизюк полагал, что лично его новые власти, возможно, и не тронут. Однако все, что сопутствовало новым этим властям, а тем более «новому порядку», было ему глубоко чуждо и враждебно.Он был совершенно подавлен и ошеломлен, когда однажды утром в ворота детского дома медленно протиснулся длинный армейский автобус. Из него вышли несколько вооруженных автоматами немецких солдат, молодой офицер и двое хмурых чиновников городской управы. Офицер галантно помог спуститься с высокой подножки автобуса переводчице — пожилой, интеллигентного вида даме в пенсне, со шнурком — и через нее потребовал немедленно выстроить во дворе всех воспитанников. Ребята только-только проснулись и еще не успели разбрестись кто куда. Поэтому солдаты вместе с чиновниками скорехонько согнали их — полусонных и испуганных — к дощатой трибунке. Взойдя на нее, офицер зачитал, а дама в пенсне перевела приказ, согласно которому все юноши и девушки от пятнадцати лет и старше объявлялись мобилизованными и подлежали отправке на промышленные предприятия и в частные хозяйства на территории «великого рейха», где им, мобилизованным, будут созданы самые благоприятные условия для свободного труда и продолжения учебы. Офицер попросил у Юрия Николаевича список подлежащих отправке воспитанников. Мизюк дрожащим голосом объяснил, что такового списка у него нет, а есть лишь общий список, находящийся в канцелярии. Тогда ему повелели принести общий. Но пока Юрий Николаевич на негнущихся ногах бегал трусцой в канцелярию, один из чиновников достал из портфеля отпечатанные на машинке листки с грифом городского отдела народного образования и передал их офицеру. Старших ребят отделили от остальных. Офицер прошелся перед понурой, неровной их шеренгой, доброжелательно улыбаясь и похлопывая по плечам, как бы успокаивая и подбадривая, но в то же время и словно бы проверяя каждого на ощупь — крепок ли на ногах, не слишком ли тощ, — а затем солдаты усадили ребят в автобус. Офицер любезно помог даме в пенсне ступить на высокую подножку, козырнул на прощанье Юрию Николаевичу, у которого дергались побелевшие губы, захлопнул дверцу — и автобус, грузно колыхаясь и черно чадя перегоревшей соляркой, неспешно выполз за ворота. И эта деловитая быстрота, какая-то механическая отработанная точность проведенной молодым офицером «операции», особенно потрясла и ужаснула Юрия Николаевича. Все делалось просто, спокойно, без лишних слов и усилий. Не было ни грозных окриков, ни тычков прикладами, ни заламывания рук, ни даже той неизбежной, казалось бы, суеты, которая непременно возникает при погрузке, так сказать, предметов одушевленных — будь то люди или же скот. Не очень-то походило случившееся и на угон в неволю. Ошеломленный Мизюк не сразу сообразил, что в его присутствии и на глазах напуганных ребят свершилось сейчас нечто совсем иное, внешне, быть может, не столь уж отталкивающее, но по глубинной своей сути противное человеческому пониманию. Перед ними четко и организованно прошла погрузка н е о д у ш е в л е н н о й р а б о ч е й с и л ы — и больше ничего. Но когда Юрий Николаевич сумел осознать это в полной мере, ему стало еще страшнее… И вот теперь он должен был попытаться ответить себе — да и не только себе, — а нужно ли вообще стараться уберечь от усугубленной военным временем и оккупацией беспризорщины, по возможности кормить, одевать и воспитывать этих ребят, будущее которых, судя по всему, не так уж трудно было себе представить. Может быть, гораздо правильнее было бы сейчас не собирать остатки персонала, а самому пойти в спальни к не уснувшим еще, конечно, мальчишкам и девчонкам, прямо объяснить им все и сказать, чтобы они завтра же уходили из детского дома на все четыре стороны, а то будет поздно? Может быть, так было бы честнее? Во всяком случае, по отношению к ним, ребятам?.. Однако где-то на донышке души Юрия Николаевича ворочался некий червячок, точил его сомнениями. И Мизюк чувствовал, что подобная честность оказалась бы слишком похожей на заурядное предательство. Ведь тогда он попросту бы отстранился от всего, переложил бы угнетающую теперь его ответственность на неокрепшие плечи детей. Нет, нет… Он конечно же пойдет к оставшимся воспитанникам или соберет их в спальне, но только не сейчас и отнюдь не для того, чтобы сказать им — с нынешнего дня, ребята, вам придется полагаться лишь на собственные силы. А вот для чего он их соберет и что он им скажет — это тоже еще предстояло решить директору Мизюку.
— Ну что ж, больше нам ждать, наверное, некого, — со вздохом проговорил наконец Юрий Николаевич и посмотрел на Вегеринского, который виновато заморгал и сокрушенно развел руками. — Тогда давайте посоветуемся. Положение наше, как вам известно, совершенно неопределенное. В детском доме фактически нет ни продуктов, ни топлива, ни теплой одежды. Почти все мало-мальски пригодное к носке ребята успели растащить и обменять на базаре и в селах. Скоро осень, а там и до настоящих холодов рукой подать… Что будем делать? — А если обратиться в городскую управу? — сразу же подала голос Людмила Степановна, женщина робкая, неприметная внешностью, привыкшая всегда и во всем рассчитывать на мудрую рассудительность начальства. — Они же теперь обязаны заботиться… Нет, все это ужасно… Просто ужасно… Людмила Степановна не договорила. Бледное, страдальческое лицо ее перекосилось в гримасе. Она поспешно склонилась над своим объемистым ридикюлем, с блестящими заячьими ушками застежек, расщепила их и, достав скомканный платок, уткнулась в него. Никто не ответил Людмиле Степановне и никто не посмел ее утешать, потому что никакими словами, конечно, нельзя было ее утешить. Все знали, что муж Людмилы Степановны работал в литейном цехе, и погиб на заводе при бомбежке. Дом их тоже был разрушен, а бездетную Людмилу Степановну спасло лишь то, что в ту ночь она оставалась в детском доме — дежурила в спальне малышей. С тех пор Людмила Степановна уже не покидала ребят, хотя изредка ночевала у старших девочек, и они же кормили ее, делились с малышами и воспитательницей всем, что удавалось раздобыть за день. — Я уже туда обращался, — сухо покашляв,проговорил спокойно Юрий Николаевич. — Там мне выдали под расписку вот эти портреты, — он, щуря глаза с едва приметной иронией, указал на свернутую рулоном бумагу в углу, — и циркуляр о допустимости телесных наказаний… Да еще предупредили, что учебный год может начаться несколько позже обычного. Учебники покуда сохраняются старые, придется только кое-что в них зачеркнуть и заклеить. Ну, и вводится новый предмет — закон божий… Вот, кажется, все… Ни о какой материальной помощи детскому дому там даже слушать не хотят. — То и нехай они все там переказятся, в той управе! — громко сказала тетя Фрося, нервно задвигав по скатерти ребром красной, набрякшей венами руки, словно сгребая со стола невидимые крошки. — Я вот чего вам скажу, Юрий Николаевич: треба детей по людям раздавать… Там их, может, хоть годувать будут. Ведь они у нас туточки и вовсе пропадут! — Это по куркулям, что ли? — не вытерпел Вегеринский. — Ну, зачем же вы так, Семен Петрович? — Мизюк недовольно поморщился. — Не все же кругом куркули… — А кто ж они такие, когда на нашей с вами беде руки нагревают? Скоро весь дытячий будынок себе повыменивают. В какую хату ни зайди — то одеялочко наше постелено, то простыночки, то чего-нибудь еще с детей… Пацаны, глупые, меняют, жуликами они стали! — Вот-вот… При тебе, Семен Петрович, ребятам лафа! Чего ж ты им менять дозволяешь? — ехидно поддела Вегеринского тетя Фрося. — А если в твою хату пойти заглянуть? Может, и в ней кой-чего знайдется, а? Сизые щеки Вегеринского возмущенно затряслись. Засопев, он всем телом повернулся к тете Фросе, едва не свалившись со стула, и Мизюку пришлось срочно восстанавливать мир: — Ефросинья Ивановна!.. Семен Петрович! Прекратите сейчас же… Нельзя так… — Нет… Подожди, Юрий… Мне думается, она все-таки верно сказала, — вмешалась помалкивающая до этого Полина Карповна, но вдруг смутилась: — Нет-нет… Я, разумеется, не в смысле казенных вещей, а вообще… Ведь у всех у нас что-то найдется. Ну, скажем, крупа какая-нибудь, жиры… Найдется и кое-какая одежда… Может быть, нам пока собрать то, что есть у каждого, так сказать, в общий котел и наладить питание ребят? На первое время у нас хватит, а там как-нибудь исхитримся… — А чего? Ваша правда, Полина Карповна! Конечно, мы соберем кто чего сможет! — сразу отступилась от своей первоначальной идеи тетя Фрося. — Хиба ж мы сами хужее тех людей? У меня в комори трошки сала с весны лежит, я его принесу. Ну, и чего другое… Давайте хотя бы разок накормим ребятишек, нагодуем их как следовает, а потом побачим… «Ну что ж, это, безусловно, не выход из нашего пикового положения, однако уже нечто конкретное», — облегченно подумал Юрий Николаевич после того, как недолго попрепиравшиеся между собой Вегеринский и тетя Фрося договорились обо всем. Примиренные, они даже вместе направились по своим хатам, потому что жили в двух шагах от детского дома, на соседней улице. Жена Юрия Николаевича, пошла проводить Людмилу Степановну, которая весь вечер просидела как на иголках, беспокоясь об оставленных без присмотра малышах. И только бывшая пионервожатая, угревшись в уголке дивана, продолжала дремать, облокотясь на валик, а Мизюку было жалко ее будить. «Должно же когда-нибудь все это как-то утрястись, образоваться, что ли…» — успокаивал себя Юрий Николаевич, недоумевая, зачем же все-таки пожаловала к нему исчезнувшая было Инта Федоровна? Ведь не для того, конечно, чтобы поспать на диване? Как обычно теперь, оставаясь наедине, Юрий Николаевич мысленно возвращался к тем последним дням перед захватом города немцами, когда в эвакуационной суматохе он пытался раздобыть хоть какой-нибудь транспорт или же пристроить ребятишек на проходящие машины. «Ждите, о вас помнят!» — уверяли его местные головотяпы, которые, как оказалось, были озабочены тем, чтобы самим ноги унести. А он верил, ждал… И в этом его вина. Можно было бы, конечно, попытаться уйти пешком со старшими ребятами. А что с малышней было делать? Бросать?.. Да и поздно уже было уходить… А война, судя по всему, грядет, наверное, затяжная. Так что в дальнейшем придется руководствоваться, так сказать, возникающими обстоятельствами… Но и раздавать детей «по людям», как изволила выразиться уважаемая тетя Фрося, он тоже не имеет никакого морального права. Пока существует детский дом, он должен оставаться с детьми. И не просто оставаться. Пришла пора напомнить ребятам, что есть прежняя администрация, которая не забывает о них. Пускай хоть посредством кухни напомнить… И конечно же ни в коем случае нельзя больше допускать, чтобы дети и впредь были предоставлены сами себе. В этом, пожалуй, его главный просчет и главная, вина его — распустился, размяк, струсил… А дети могут докатиться бог знает до чего. Они уже утрачивают чувство коллективизма, которое им прививали все прошлые годы. Утратить его ребятам, особенно в нынешних условиях, легче легкого. Вероятно, нигде так быстро не укореняются доморощенный крайний индивидуализм, жестокость, как в ребячьей детдомовской среде. Стоит лишь на какое-то время ослабить контроль, отстраниться, как тут же появляется у них свой «предводитель» посмелее, а может, просто похитрее да поудачливее других — и готово! Банда, шайка с круговой порукой и волчьими законами беспризорщины, вертеп, по словам Вегеринского, — в общем, все что угодно, но только не коллектив. А ведь спасение ребят сейчас не только в хлебе и одежде, но и в сохранении коллектива, чувства товарищества. Поймут ли это они сами? М-м-м-да-а-а… Есть над чем поломать голову. Инта Федоровна очнулась оттого, что Мизюк в задумчивости принялся размеренно шагать по комнате. Бывшая пионервожатая смущенно оправила юбку, пригладила волосы и потерла заспанные глаза. — Ой, Юрий Николаевич! Извините меня, я уснула… А где же все? Ушли уже? Да?.. Мизюк молча кивнул и вопросительно посмотрел на Инту Федоровну. — Простите меня, Юрий Николаевич, очень уж я устала. Прямиком из Колодистого к вам. Все двадцать километров бегом бежала, — она неловко улыбнулась. — Вот… Хочу снова на работу к вам проситься… — Проситься? — Мизюк с несколько нарочитым удивлением приподнял брови. — Но вас, кажется, никто и не увольнял. Хотя ваша штатная должность… — Ну, конечно, Юрий Николаевич… Конечно, я вас понимаю. Я все понимаю. Ну, как же?.. Потому и в село уходила… Но теперь и там говорят, что комсомольцы должны становиться на какой-то учет у немцев, — суетливо заговорила Инта Федоровна, поднимаясь с дивана и отворачивая лицо. — Я вас, конечно, понимаю, Юрий Николаевич… Извините, что приходила. Я сейчас уйду… — Да сядьте вы, пожалуйста, — сдерживая раздражение, сказал Мизюк. — Никуда вы сейчас отсюда не пойдете, потому что поздно, а ночью ходить по городу запрещено. Попадете в комендатуру или еще куда похуже… Бывшая пионервожатая покорно опустилась на диван, сложила руки на коленях, съежилась, с испугом в глазах следя за Мизюком, который остановился перед ней и, как думалось совсем поникшей Инте Федоровне, смотрел на нее сверху презрительно. — Вот так-то лучше!.. — Юрий Николаевич неопределенно хмыкнул и покачал головой. — Кроме того, позволю себе заметить, уважаемая Рита Федоровна, что вы ни черта не поняли, — уже открыто усмехнулся Мизюк. — Я просто хотел сказать вам, что штатная единица пионервожатой, как вы сама, очевидно, догадываетесь, в детдоме упразднена. Претендовать на должность воспитательницы я вам не советую. Могут возникнуть осложнения со стороны городской управы. Но если вы согласитесь помогать тете Фросе на кухне, буду рад. — Ой, спасибо вам, Юрий Николаевич, спасибо… А уж на ихний учет я как-нибудь после… — И этого я вам делать не советую. Впрочем, как хотите. — Но ведь могут прийти к нам домой… Там мама… — А вы пока у нас поживите, в детдоме. В спальне девочек есть свободные кровати. Как Людмила Степановна, например… В общем, с завтрашнего дня и приступайте. Ребятам, конечно, придется как-то объяснить ваше… ну, скажем, превращение. Но, я думаю, они народ смышленый и сами все прекрасно поймут. А когда Полина Карповна, проводив к малышам Людмилу Степановну и пройдя на обратном пути по затихшим спальням старших мальчиков и девочек — которые занимали теперь всего лишь по одной комнате, хотя раньше едва помещались в пяти, — вернулась домой, Юрий Николаевич уже вскипятил на керосинке чайник, а Инта Федоровна доставала с полки блюдца, протирала чашки и расставляла их на столе. — Ты знаешь, Поля, — с немного преувеличенным оживлением сказал Мизюк жене, — Рита Федоровна пришла сегодня из села и решила пока остаться у нас, в детском доме. Она берется помогать на кухне тете Фросе. А ночевать будет у старших девочек. — Вот и хорошо, Риточка! — Ни о чем ее больше не расспрашивая, Полина Карповна ласково обняла девушку. — Вместе-то всегда легче, милая… Все будет хорошо… Юрий Николаевич посмотрел на жену обеспокоенно. Обычно она не позволяла себе расслабляться. Может быть, разговор с Людмилой Степановной вывел ее из равновесия или же что-то случилось с кем-нибудь из ребят?..
Обходя темные спальни и прислушиваясь к беспокойным шорохам, легкому скрипу половиц, к ровному дыханию детей, Полина Карповна думала, что все ребята давно уже спят. Они и в самом деле спали, похрапывая, сопя, негромко вздыхая и ворочаясь с боку на бок; некоторые во сне бормотали что-то неразборчивое, быть может, заново переживая в забытьи все свои дневные горести и заботы. И, только приблизившись к двери в спальню старших мальчиков, она вдруг замерла, уловив прорывающиеся из-за крашеной филенки словно бы задушенные всхлипы и не то скулящий, не то какой-то лающий плач. Полина Карповна осторожно приоткрыла дверь, вошла в сгустившийся комнатный сумрак, чутко вслушиваясь и стараясь определить, откуда, с какой кровати доносятся к ней эти странные, лающие звуки, но тот, плачущий во тьме, ребенок, вероятно, услыхал все-таки сторожкие ее шаги или тонкий дверной писк и совсем затаился, притих. Она постояла у порога, задержав дыхание и напрягая слух, чувствуя, как гулко начинает колотиться у нее сердце и стучать кровь в висках. Потом, чтобы не потревожить остальных детей, спросила вполголоса: «Ну, кто же тут из вас плачет, ребята?.. Это ты, Женя?.. Нет?..» — но ни на одной кровати не ворохнулись, и никто не ответил на ее вопрос. Постояв так минутку и тревожно раздумывая, а уж не померещилось ли ей все это: щенячье какое-то поскуливание, жуткий этот ночной плач? — она повернулась, чтобы тихо уйти, но тут опять явственно различила у себя за спиной судорожное взлаивание и еще более задушенный всхлип. Возможно, тот, доселе еще кое-как крепившийся из последних сил мальчишка, кусавший там, наверное, в темноте замусоленный угол подушки или, может быть, грязную руку свою, боясь вовсе задохнуться слезами, хотел только самую малость воздуха глотнуть — но не подавил всхлипа и понял, что этим он лишь выдал себя, а потому поглубже зарылся мокрым лицом в смятую постель, чтоб уж окончательно принишкнуть в ней либо умереть… И тогда Полина Карповна, невольно подслушавшая одинокий и безутешный этот плач, наконец-то сообразила, что маленький тот человек, который не сумел совладать с навалившимся на него великим горем, ни за что и никому на свете не признается в собственной слабости, а она своими вопросами, ни к чему не обязывающим ее сочувствием и даже просто молчаливым состраданием лишь отягощает и без того непомерно тяжкую, безысходную муку его… Полина Карповна медленно перешагнула порог, притворила за собой дверь. Но пройти темным коридором к выходу, где над крылечным козырьком едва угадывалась на фоне ночного неба узкое продолговатое оконце, она уже не смогла и прислонилась к стене. Внезапно ей стало так больно и так невыразимо тоскливо, словно за плотно прикрытой дверью плакал сейчас не какой-то там никому не ведомый детдомовский пацан Женька Першин, которого и сама-то Полина Карповна сейчас толком в обличье не помнила, а ее маленький беспомощный сын, наглухо отделенный от нее неприступной каменной стеной, и она не знала, что с ним такое приключилось и как ему помочь. Никогда не показывавшая перед кем бы то ни было своих подлинных чувств, грубоватая и резкая в обращении с детьми Полина Карповна Мизюк — которую ребята заглазно называли ведьмой, змеюгой, Мизючихой — тоже плакала теперь, зажав руками перекошенный рот, уткнув в шершавую известку стены скуластое свое лицо и содрогаясь плечами. Она не опасалась, вернее, и не помышляла о том, что какой-нибудь сонный мальчишка, выбежав из спальни по нужде, застанет ее плачущей, а то, чего доброго, и перепугается. Ничто не заботило ее теперь и ни о чем она больше не думала, так как помнила только о с в о е м с ы н е, с в о е м Ильюшеньке, правда, взрослом уже человеке, кадровом командире, которого крепче всякой каменной стены отделяла от нее линия фронта, где он сражался против немцев, а быть может, его и в живых-то давно не было, потому что с самого начала войны они не получили от сына ни единой весточки… Наконец выплакавшись, потратив все свои непролитые слезы, Полина Карповна кое-как привела себя в порядок. Потом, натыкаясь на какие-то опрокинутые ведра, обломанные веники, наступая на осклизлые тряпки и, как слепая, ощупывая рукой холодную стенку, она выбралась на крыльцо, повлажневшее от упавшей росы. И когда недолго постояла еще здесь, на свежем ночном воздухе, ей сделалось гораздо легче. Она вспомнила о муже, подумала о дремлющей в их комнате на диване бывшей пионервожатой, которая, должно быть, прибежала к ним тоже с каким-нибудь своим горем, и словно бы застеснялась того, что не управилась с нахлынувшими на нее чувствами, дала им волю. Полина Карповна еще раз поправила прическу, одернула жакет, послюнив кончик платка, тщательно вытерла глаза, обмахнула лоб и щеки, а затем, как бы мысленно оглядев себя со стороны и глубоко вздохнув, ровным своим шагом направилась домой…
Да и Женька Першин сразу же перестал скулить, едва лишь невесть откуда припершаяся воспитательница покинула спальню. Теперь он и сам удивлялся себе, своему неудержному плачу, мучительно стыдился своих слез и тревожно соображал: кто же из пацанов мог услыхать, как трясло и корежило его на кровати? «Так ведь кто бы ни услыхал, все равно утром доводить начнут, — думал опять приунывший Женька. — И почему это на него вдруг накатило?.. С чего бы?.. Вон остальные пацаны кимарят хоть бы хны… Может, чего вчера было? Да нет, вроде вчера-то не так уж плохо вышло…» Но, пожалуй, правильнее сказать, накануне Женьке если и не счастье привалило, то, во всяком случае, здорово ему повезло. Застукавшая его на яблоне в своем саду старуха, ухватив за рубашонку, стащила перепуганного огольца на землю, однако драть пылающие Женькины уши не стала. Она отвела мальчишку в хату, усадила за стол, накормила теплой тыквенной кашей на молоке, дала с собой яблок и велела заходить к ней, когда ему захочется. — Тилькы ты уж, хлопчыку, по тынам бильш не стрыбай, бо цэ дужэ погано, — просила его старуха. — Подывысь, уси штакэтины с тыну пообдэралы. А звидкы их тэпэр визмэшь, оти штакэтины, звидкы? Ты бы мэни, хлопчыку, оти дирочкы, що вы наробылы у тыни, позалатував бы… Чуешь, хлопчыку?.. И Женька до позднего вечера проколупался у старухиного забора — где планочки гвоздями прихватывал, где проволокой дыры заплетал… Конечно, Женька нарвался на добрую старуху. Другая бы на ее месте не то что кашей кормить — всю бы шкуру с него спустила, в детдом потащила бы, там еще хай подняла. В прошлый раз одна молодая тетка гонялась за ним чуть ли не по всему городу — к детскому-то дому Женьке бежать было никак нельзя, а так кто же узнает, что ты детдомовский? — и если бы догнала, то мальчишке не поздоровилось. А из-за чего, спрашивается? На ее подворье он ведь только одним глазком в летнюю кухню заглянул, ни к чему даже не притронулся, хотя там и сало на столе было, и хлеб на самом виду лежал — буханка почти нетронутая… «Стий, выродок бильшовыцький! Трымайтэ, люды добри, його, злодиюку!» — до хрипоты орала тетка, но ей никто не помог. Даже стоявшие неподалеку немцы только гельготали что-то по-своему, показывали на них пальцами и смеялись. В общем, Женька в тот раз отделался легко. А вчера ведь и того лучше. Но, видимо, доброта той чудно́й старушки и послужила невольной причиной ночных его страданий. Правда, сам Женька об этом и не подозревал. Просто обмяк он душою в чисто прибранной старушкиной хате, за богатым домашним столом, вот потому-то его, должно быть, и повело потом на слезы… Возвратясь же в детский дом, где перед тем, как завалиться спать, ребята по обыкновению все вверх дном перевернули, Женька никому ничего не сказал, а задумчиво пожевал кисловатое старухино яблоко и полез под одеяло. Сперва он как будто бы уснул без всякого, а дальше уже и сам не мог разобрать — то ли снилось ему все это, то ли вспоминалось… Но очень уж хорошо видел он непроходимые заросли пыльных лопухов у забора, на которые смотрел из кухни, со второго этажа, где была их квартира. А позади него у плиты стояла мама, готовая в любую минуту кинуться к нему на помощь, защитить, приласкать. У нее были теплые, душистые руки, и Женька всегда старался незаметно потереться о них щекой или прикоснуться к ним губами. Вот и теперь он вроде бы притрагивался к маминым рукам, а она, не отдаляясь от плиты, гладила его голову и ласково говорила: «Не вертись под ногами, сыночек. Видишь, маме некогда. Как бы наше с тобой молочко не убежало…» Он замирал от сладкого звука ее голоса, от нежного прикосновения ее невесомой руки. Но тут мама, высоко подхватив с конфорки кастрюльку с вспученной шапкой белой пены, вдруг поворачивалась и натыкалась на него, дуя на сползающую через край пену. «Какой же ты у меня еще несмышленыш! — с испугом и досадой говорила она. — А если бы я тебя ошпарила?..» Но он, уже не таясь, прижимался к ней, терся лицом о мягкий передник, вдыхал запах горячего молока и, путаясь в ногах, мешал ей подойти к столу. Мама поспешно ставила кастрюльку, легонько отстраняла его от себя, и это машинальное ее движение вызывало в нем протест, ощущение горькой и незаслуженной обиды… Женька отталкивал ее руку, выбегал из кухни, спускался по лестнице — и перед ним открывался огромный, прямо-таки необъятный двор, поросший мелкой чахлой травой, с островками желтого, усыпанного окурками песка. По окружью двора лепились друг к другу обшарпанные дровяные сараи, на которых громоздились обтянутые металлическими сетками голубятни. Двери сараев были обиты листами ржавого кровельного железа в стрелках голубиного помета. Во двор кто-то вынес сплетенную из проволоки куполообразную сетку. В ней беспокойно металась и попискивала толстая серо-дымчатая крыса. Она поднималась на задние лапы, показывала розовое, поросшее седым пухом брюшко с черными точками сосков. Острыми, как иглы, зубами крыса хватала скользкие прутья клетки, прыгала, вертелась, а ее голый и даже будто бы чешуйчатый хвост высовывался наружу и по-ужиному извивался на песке. Клетку тотчас обступили бегавшие поблизости ребятишки, подошли степенные бабушки, перестали хлопать костяшками домино вечно шумевшие под окнами за вкопанным столом жильцы первого этажа. Потом во дворе появился какой-то веселый, пьяненький человек. Он бесцеремонно растолкал ахающих женщин, оценивающе, вприщур, глянул на крысу и, добродушно посмеиваясь, направился к своему сараю. Недолго повозившись в темных его недрах, человек вернулся с бутылкой керосина. «Ты уж, милая, потерпи малость. Хужей-то тебе не будет! Куда тут хужей? — вполголоса и как бы с сожалением приговаривал он, сидя на корточках перед клеткой. — Нынче, милая моя, никому никакого спуску не полагается… — Внезапно человек выпрямился, отчаянно крикнул: — Раздайся, народ, кума замуж идет!» — и бросил себе под ноги горящую спичку. Ребятишки шарахнулись по сторонам. Жильцы расступились, а бабушки задвигались, прикрывая лица концами платков. Человек остался в круге один. Перед ним в клетке бился клубок огня. Пахло керосином и паленой шерстью, а от клетки, шипя и потрескивая, медленно расползалось по песку желтовато-бурое — с кудрявыми завитушками и черным гребнем — колышущееся пламя… Еще какое-то мгновение Женька оцепенело смотрел на него, видел, как расширяется горящий круг, как по его краям темнеют и вспыхивают подсыхающие травинки, но затем тоже кинулся прочь, споткнулся о чьи-то тупоносые башмаки, упал — с размаху больно ударившись коленями о твердую землю — и, весь сжимаясь от ужаса, почувствовал, что огонь вот-вот подберется к нему… Домой его привел тот самый веселый, пьяненький человек, который поджигал клетку. И как только он нажал пуговку звонка, на лестничную площадку выскочила Женькина мама. Перепуганная, растрепанная, она подхватила бледного Женьку на руки, прижала к себе, а веселый тот человек, не отводя глаз от расстегнувшейся на маминой груди кофточки, откашлялся и, посмеиваясь, бодрым голосом сказал: «Получайте своего парня, Елена Дмитриевна! Вполне геройский мужик. Отступал самый последний. Правда, зашибся он малость, коленки вот побил… Да вы не переживайте! Дело-то молодое… Заживет!..» Все это очень уж ясно видел теперь скорчившийся под одеялом Женька. Ну, просто как наяву видел. С той лишь, однако, разницей, что в клетке-то сидел он сам. И какие-то люди уже плотно обступили его — хмурые и молчаливые, — смотрели на Женьку недобро, готовясь свершить над ним жестокую и мучительную казнь. А он не понимал, за что его казнят, и затравленно глядел на них через частые прутья, снизу, бессловесно молил, чтобы они отпустили его, чтобы сжалились… Но ему на спину уже и керосину плеснули, осталось одно — спичку зажечь… А мамы вблизи не было. И он знал, что никогда ее больше не увидит. Не поспешит она к нему на помощь, не бросится на защиту, не спасет… Вот это-то и доконало Женьку Першина. И если покуда еще он все-таки был жив, то лишь потому, что рассудок, его отказывался мириться с невозможной этой мыслью. И Женька всем существом своим противился ей — верил, надеялся, ждал: вот сейчас прибежит мама, расшвыряет этих безжалостных, хмурых людей, вызволит его из ужасной и вонючей клетки. Однако он теперь понял — все, песенка его спета, кранты… Задыхаясь от нестерпимого жара и едкой керосиновой вони, Женька, в последнем усилии раздвинуть прутья, вырваться, убежать, вяло засучил ногами под одеялом, закричал безголосо — и очнулся… Темно было в спальне и прохладно. Из приоткрытого окна вливалась в комнату ночная сырость, а с запредельных высот, сквозь неподвижную листву осокоря, подмигивала Женьке мрачным фиолетовым глазом какая-то звезда. Его словно бы лихорадка трясла. Зуб на зуб не попадал у Женьки. И так на душе у него было муторно, что ничем иным, кроме тихого скулежа да задушенного подвывания, не мог он облегчить страдания свои. А терпеть такую муку молчком — не хватало у него силенок. Ведь не один же день, не один месяц накапливалось в его сердце все то жестокое, страшное, несправедливое, чего другому, даже взрослому и сильному человеку, пожалуй, на две жизни с лихвою хватило бы, а вот на него, Женьку Першина, обрушилось почему-то в первый же десяток лет земного его существования. И кто же знает, не принеси откуда-то черти посреди ночи в спальню Мизючиху, может, и не выдержало бы мальчишеское сердчишко, разорвалось бы от невыносимо студеного, прямо-таки леденящего горя, как лопается позабытая на морозе стеклянная посудина, доверху наполненная водой… Женьке бы, конечно, в тот час поплакаться воспитательнице, может быть, она и утешила бы его, присела бы к нему на постель, положила бы теплую руку на его голову, приласкала бы, а он тогда бы рассказал ей все-все… Но не мог он этого сделать и рассказать ничего не мог. Возможно, только матери своей открылся бы во всем Женька Першин, но уж, понятно, не Мизючихе — ведьме с ключом, — разве ж она кому-нибудь мать? И вот ведь как получилось: стоило лишь Полине Карповне потихоньку притворить за собой дверь — у него вроде как рукой все сняло! Женька глубоко и облегченно перевел дух, длинно шмыганул носом, втягивая в себя вместе с соплями ночную стынь, поудобнее умостился на боку — и тут с соседней кровати протянул руку Славка Комов, притронулся к вздрогнувшему Женькиному плечу и еле слышно прерывисто зашептал: — Женька, а Женьк?.. Слышь?.. Ты уж не плачь-так больше, ладно?.. Ты уж лучше, Женька, про себя поплачь или вовсе перетерпи… Со мною ведь тоже… Это пройдет…
5
Вышло так, что ночью было прохладно, пала роса, светили звезды, а утро все же наступило пасмурное. Вернее, на самой зорьке еще показался не видимый за домами и деревьями малиновый окраек солнца, подпалил четвертушку восхода, но затем и его, и все небо заволокло какой-то грязновато-серой пеленою, будто с северной стороны дыма натянуло. Держалась эта пелена высоко, а ниже ее, чуть ли не касаясь верхушек осокорей, проплывали какие-то плоские, бесформенные и клочковатые пятна. Они медленно перемещались в безветрии, отчего под ними, на земле, становилось то темнее, то светлее. Казалось, будто кто-то огромный, одетый в серый стеганый ватник, то неслышно подкрадывался к окну, загораживая его собой, то опять нехотя отступал. И наверное, потому что на улице было совсем уж по-осеннему неприветливо, дремотно, ребята так долго спали в то утро. И даже те мальчишки, которые обычно просыпались раньше остальных, сегодня не торопились выбираться из-под одеял. Пацаны неподвижно лежали на своих соломенных матрацах в ленивом, полусонном забытьи: одни — укрывшись с головой; другие, выставив краешек уха, слушали — не шуршит ли за окнами дождь, — но вставать никому не хотелось. Один лишь Валька Щур поднялся, как всегда, ни свет ни заря, повозился над торбой, пожевал что-то, хоронясь в своем недоступном запечном углу, и начал неспешно собираться на промысел. Штаны он подпоясал веревочкой; старательно намотал и расправил на сгибах предварительно размятые руками портянки; обул удобные, выкроенные из цельного куска сыромятины и стянутые по краям длинными сыромятными же ремешками, остроносые чувяки-постолы; притопнул ими поочередно, пробуя, как сидят на ногах; надел короткополый пиджачишко без рукавов, вроде жилетки; повесил торбу через плечо и тесемочками ее к поясу приторочил, чтобы зря не болталась. На голову Валька приспособил кепчонку с загнутым книзу, обвислым козырьком — и хоть на край света готов. Все на нем было ладно, все к месту — и ничего лишнего… «Разоспались, шмакодявки, — презрительно думал Валька, выходя на крыльцо. — Дождика ждут! А жрать-то надо чего-то… Сама жратва к тебе не придет. За нею дай бог еще сколько побегать нужно, а не спать… Не успеешь притащить, в спальню войти не успеешь — сразу со всех сторон шакалье налетает: «Валька, дай куснуть!.. Валька, оставь корочку!..» А сами-то разве не знают, что оставь уехал за границу, оставил хрен да рукавицу?.. А хрен вот это самый в зубы не хочешь?..» Щур презирал и ненавидел в душе всех этих лодырей и шакалов, что валялись до вечера в спальне, с которыми, однако, был вынужден жить в мире и согласии. А чтобы не восстанавливать их против себя, Вальке приходилось даже делиться изредка с кое-какими пацанами — которые посильнее, конечно, — тем, что удавалось ему добыть нелегким, как он считал, трудом. Валька Щур всегда охотно уходил из детского дома. И едва скрывались из виду городские окраины, а впереди маняще обозначались крыши еще неблизкого села, его охватывало радостное чувство освобожденности. Он мог теперь думать и поступать так, как ему заблагорассудится; у него становилось легко на душе, потому что в любом селе, почти в любой хате люди жалели Вальку, кормили его, наделяли хлебом в дорогу, а ему не надо было ни перед кем притворяться, ни от кого таиться. Он все чаще мечтал о том, чтобы какая-нибудь одинокая тетка оставила бы его у себя насовсем хоть вместо сына, хоть как работника. И когда Щур попадал в хату к такой одинокой тетке, которых было теперь по селам немало, он исподволь приглядывался к домашнему ее достатку, прикидывал в уме, как бы он сам повел это хозяйство, как бы поправил его, если и верно говорят, что колхозов больше не будет. Иной раз Вальке очень хотелось самому напроситься к такой вот тетке, уговорить, умолить, чтобы оставила у себя, сказать ей, что хотя ему еще и четырнадцати не исполнилось, он все умеет и по дому делать, и корову может пасти, и в поле работать получше любого взрослого… Однако всякий раз что-то непременно удерживало Вальку Щура — то сомнения какие-то в нем возникали насчет теткиного достатка, то начинал он опасаться, что не возьмет его к себе эта хозяйка, а прогонит со двора и вдобавок посмеется над ним… Но, несмотря ни на что, Вальке все-таки хорошо было сидеть в чужих хатах, хорошо было раздумывать обо всем этом, шагая в удобных и мягких своих постолах, топча ими плотную, улежавшуюся за ночь пыль, ощущать приятную освобожденность и полное свое одиночество на утренней полевой дороге, где, кроме хохлатых каких-то пичуг, что вертко копошились в бурьяне, расклевывали конские яблоки, никого не было. Спокойно становилось у него на сердце и празднично. А сегодня что-то омрачало всегдашнюю эту, уже привычную праздничность — погода, что ли, была такая хмурая или позабыл он о чем-то важном, снаряжаясь в путь? И Валька никак не мог сообразить, что же угнетает его, покуда не вспомнил: так ведь Славка-то Комов видел вчера, как шурудил он по тумбочкам. Правда, Валька не растерялся, когда ребята пришли, а быстренько шакалу этому пасть горбушкой заткнул. Ну, а если потом Комок все же трепанет кому-нибудь?.. «Ладно, потом и посмотрим, — обеспокоенно думал Щур, ускоряя шаг, и криво усмехаясь. — Потом поглядим… А протреплется Комок — зубы выбью!..»Но Славка. Комов сейчас и не помышлял рассказывать кому-либо о подлости Вальки Щура. У него давно уже из головы вылетело, что вечером он ненароком засек Вальку, когда тот спокойненько шарил под чужими матрацами и проверял прочие «заначки» пацанов. Славку тревожило теперь совсем другое: а не передумает ли Иван Морозовский идти вместе с ним к базару, искать в тех пустых домах какую-нибудь пригодную к употреблению посудину? Ведь иначе же надо будет в одиночку промышлять и мешкать нечего. Времени-то вона уже сколько, светло за окном, а все дрыхнут без задних ног, как убитые. Пора бы, конечно, вставать да отправляться… Славка повернул голову. Сосед его, Женька Першин, лежал тихо, как мышь. Глаза Женькины были закрыты, но веки чуть подрагивали. И Славка догадывался, что он только притворяется спящим, а на самом деле просто, ждет, покуда поднимутся ребята, начнут громко переговариваться, сны свои припоминать да выяснять, кто как храпел и кому что привиделось. Вот тут-то Женька и узнает сразу, кто еще, кроме Славки, слышал его ночной плач, и не станут-ли ребята над ним издеваться. Но, кажется, нынче никто не слыхал Женькиного нытья, а то давно бы уже принялись подначивать — многие ведь не спят. А может, в такую погоду и подначивать лень? Ну что ж, надо, пожалуй, собираться… Однако едва лишь Иван Морозовский заворочался на своей кровати, а потом сбросил одеяло к ногам и сел, Славка почему-то тоже поспешно закрыл глаза и отвернулся к окну. Впрочем, Иван не дал ему долго притворяться. — Кончай ночевать, Комок! — сипло проговорил новый его напарник. — А то все наши горшки расхватают. Вставай, хватит клопа давить. — Да я уже не сплю, — обрадованно отозвался Славка. — Тогда одевайся — и пошли. Они натянули на себя штаны да рубашонки и, не умываясь, — кому охота воду носить в рукомойники? — выбрались на крыльцо. На дворе по-прежнему было пасмурно, хотя вроде бы и не холодно, а так как-то — неуютно, что ли, промозгло, серо… — Во гадство! — невольно ежась и поглядывая на затянутое сгустившейся хмарью небо, сказал Иван. — Как бы дождик нас с тобою не прихватил. Может, нам лучше завтра туда сходить? А, Комочек? — Да нет уж, Мороз… — упавшим вдруг голосом промямлил Славка. — Чего уж там дождь?.. Пошли сегодня… — Сегодня — так сегодня. Айда!.. Ребята миновали ворота и зашагали по безлюдной Селянской улице, в конце которой, на углу, стояла когда-то керосиновая лавка. Испокон веку здесь торговали в розлив золотистой этой, шуршащей пузырьками жидкостью — черпал ее из широкого бака жестяной кружкой, приклепанной к длинному держаку, заросший до узеньких глаз сивой щетиной, весь морщинистый и замусоленный какой-то, обернутый кожаным фартуком человечек по имени Вацек. Пронырливая детдомовская пацанва частенько наведывалась в эту лавку. В ней можно было разжиться по дешевке мягкой проволокой, гвоздями, столярным клеем и разной мелкой железной всячиной, столь необходимой каждому строителю непотопляемых линкоров, авиамоделисту, радиолюбителю — чем едва ли не поголовно занималась ребятня до войны. И если у старого Вацека не находилось под рукой какой-нибудь особо замысловатой штуковины, позарез нужной приунывшему изобретателю, продавец записывал его просьбу на клочке жирной бумаги, засовывал прозрачный клочок под негнущийся свой фартук, а через денек-другой вручал эту самую штуковину счастливому заказчику. Между собой пацаны называли подслеповатого старика Цуциком. Случалось, слегка потешались над ним, снимая с бака висящую на ручке кружку и пряча ее за открытой дверью, но более грубым озорством, не говоря уже о кражах, никогда не обижали. Теперь на месте керосиновой лавки высилась груда обгорелого кирпича, торчали искореженные железные перекрытия, а сам Цуцик сгинул бесследно. Правда, ребята вроде слышали от кого-то, что продавца будто бы не убило, когда немецкий снаряд разворотил лавку. Но и дома, дескать, старик с тех пор не живет, а почему-то скрывается за городом, в наполовину заваленных мусором, заросших кустами волчьих ягод, жасмина и бузины глухих оврагах. Иван и Славка повернули на бывшую улицу Щорса, где сохранилось двухэтажное здание школы, в которой они прежде учились. Ребята мимоходом оглядели ее поклеванный пулями, в рытвинах и щербинах, рябой фасад. Стекла во втором этаже были высажены вместе с рамами, и пустые окна зияли черно, хотя внизу какие-то доброхоты аккуратно залатали дыры фанерой, которую пацаны уже соответственно расписали и разрисовали углем. Можно было бы, конечно, забежать на минутку в школу, пошарить в учительской, в классах, только чего же там нынче найдешь? Обрывки учебников, классных журналов, битые колбочки, растоптанные пробирки, всякое стеклянное крошево, сухие чернильницы-непроливашки, ну и — понятное дело! — две-три закаменевшие кучки на полу посередке… Нет уж, бог с ней, с этой школой!.. Вдоль улицы, до самого костела растянулись приткнувшиеся к обочинам немецкие грузовики с прицепленными пушками в чехлах, у которых суетились солдаты. И тут ребятам тоже ничего не светило. Колонна, видать, стояла уже давненько, и немцы, разумеется, были ученые. Это еще попервости они бросали все в настежь открытых кабинах — и консервы, и сигареты, и хлеб, — а сами отлучались от машин либо по нужде, либо просто беспечно прохаживались в сторонке, наигрывая на губных гармошках. Однако детдомовские умельцы быстро приучили — избалованных, должно быть, по разным Европам всеобщей покорностью и страхом — немецких вояк к тому, что здесь этого делать никак не следует. Ну, а уж коли приспичило тебе отойти от машины, захотелось размяться да на гармошке своей поиграть, то сперва убирай с глаз долой все съестное, курево и прочее плохо лежащее барахло, запирай покрепче кабину или выставляй неусыпный круглосуточный караул… За костелом — через парк — находилась городская больница. Поверху высокого дощатого забора ее была теперь протянута наращенная в несколько рядов и завернутая козырьком внутрь колючая проволока. По углам огорожи поднимались скворечниками смотровые вышки с прожекторами, а возле ворот топали сапогами угрюмые часовые в касках. По городу сначала прополз слух, будто немцы захватили тут много раненых красноармейцев и потому перевели больницу на положение госпиталя для военнопленных. Потом вроде бы раненых куда-то вывезли, и что скрывалось сейчас за тем сплошным забором — этого не знал никто. Люди на всякий случай держались подальше от бывшей больницы. И Славка с Иваном не стали зря глазеть на мерно вышагивающих часовых, а едва ли не рысью ударились по противоположному тротуару… Ребята перевели дух только перед самой торговой площадью, где сегодня не было ни души. То ли день выдался небазарный, то ли еще по какой причине, но ларьки были закрыты, и даже в семечных да молочных рядах — хоть шаром покати. Однако мальчишек это обстоятельство не слишком и огорчило. Ну, нету базара сегодня — завтра, глядишь, соберется. Подумаешь, делов-то!.. Они прошмыгнули мимо плетеных мусорных коробов, доверху набитых всевозможным гнильем, которое словно бы шевелилось и глухо гудело от снующих там, под откинутыми крышками, зеленоватых мух, и оказались на тихой улочке. Вдалеке она впадала в другую такую же улочку, а уже за ней все пространство сплошь заросло садами, и сады эти незаметно сливались с прибрежными левадами, где густо кустились ивняки. По краям левад и в длинных прогалинах между ивняками виднелись капустные грядки. Еще прошлой осенью среди ребят считалось чуть ли не подвигом тайком от воспитателей сбегать сюда, в левады, чтобы надергать из холодной, покрытой осклизлыми синеватыми капустными листьями влажной земли пяток-другой не под самое некуда подрубленных кочерыжек. Хороня добычу за пазухами, ребятня контрабандно доставляла в спальни топорщившиеся усами кочерыжки, где их скоблили осколками стекла, очищали зубами, и эта водянистая, морозно хрупающая во рту, волокнистая и горьковатая кочерыжечная сердцевина казалась тогда счастливым пацанам слаще любых конфет и пряников… А за левадами, за извилистой речкой, на том берегу сгущалась полоска леса. Однажды, ранней весной, кто-то сболтнул на базаре, что будто бы ночью по вздутому уже и рыхлому льду перебралась на городскую сторону и обосновалась в левадах стая волков. Смирные жители тихих улочек по вечерам перестали выходить из домов. Но едва только жуткая эта весть достигла мальчишеских спален, чуть ли не весь детский дом помчался ловить незадачливых тех волков. Объятые охотничьим азартом, ребята ломились напрямую по садам, прыгали через изгороди и скатывались к не вскрывшейся еще речке со свистом, криками, диким раскатистым гоготом, а не на шутку уже перепуганные жители льнули к окнам, высовывались из приоткрытых дверей и форточек, чтобы хоть одним глазком поглядеть — откуда и что за орда такая оголтелая обрушилась на город?.. Пара отощавших на скудных лесных харчишках волков… Необузданная орава взъерошенной детдомовской пацанвы… Да неужто же это были те самые непоправимые напасти и страшные беды, коих следовало так пугаться вконец ошалевшим обитателям тихих, окраинных улочек?!. Но ведь были эти нелепые слухи о волках, были страхи перед «приютской голотой» — все было. И люди здесь жили. Быть может, не столь уж приметные люди. Не так чтобы очень уж передовые, а правильнее сказать, безнадежно отставшие даже от не слишком кипучей городской жизни, однако все-таки жили. А сейчас — ни души… Пусто на улицах, и в домах пусто. Даже в тех, что каким-то чудом уцелели от снарядов и мин, на которые почему-то тут особенно не поскупились подступавшие к городу немцы. Возможно, они полагали, что именно в непролазной зелени здешних садов как раз и находятся главные наши укрепления, штабы и сосредоточены хитро замаскированные войска? А может, просто из озорства палили они по садам и левадам или снаряды у них были лишние? Кто же их поймет — на то они и немцы… Но, захватив город и не обнаружив в погубленных вишенниках ни войск, ни укреплений, немецкие солдаты тем не менее выгнали всех жителей из домов, сноровисто разворотили кладовки, очистили погреба, и стало еще тише на окраинных улочках — мертво… И, ощутив внезапно на себе эту мертвую, давящую на сердце тишину, Иван и Славка, не сговариваясь, пошли осторожнее, словно бы крадучись, и прижимаясь к обломанным палисадникам. Каждое мгновение, при малейшей опасности, ребята были готовы «сквозануть» дворами, «мотануться» за смородиновые кусты, «подорвать» со всех ног в заросшие левады, к речке, а если понадобится — так и через речку, дальше, в лес… Но никакой для них тут опасности как будто бы не предвиделось, и закравшийся было в мальчишеские души страх постепенно ослабел. — Ну, ты как, Комочек, дрейфишь небось? — приостанавливаясь, спросил Иван, попытавшись одновременно придать своему голосу беспечность. — Ты, Комочек, не дрейфь! Вон там вроде бы хата нетронутая… Давай заглянем? — Давай, — не раздумывая, согласился Славка, хотя и без особого воодушевления. — А кого же нам тут дрейфить? Ты чего это, Мороз? — Да так, ничего… Пошли! И Славка пошел. Он не то чтобы страшился этих заглохших улиц и опустевших домов, как страшился обычно забираться в какой-нибудь огород либо протискиваться сквозь заборную щель в чужой сад, где его могли конечно же поймать, могли надрать ему уши, побить могли, натолкать в штаны крапивы, а то и натравить собаку. Люди все могли. И всем этим Славку было не удивить. Ведь не только его, но и любого другого пацана в подобных случаях всегда ожидали хотя и неведомые, однако, в общем-то, вполне конкретные неприятности. Здесь же в этом, так сказать, житейском смысле им было попросту некого опасаться. И все-таки Славка испытывал сейчас какое-то очень уж тягостное, хотя и близкое к привычному страху — но более сложное и гораздо труднее оборимое — чувство опасности не перед кем-то или же перед чем-то возможным и объяснимым, а некой опасности вообще, которая, казалось ему, была способна возникнуть мгновенно, но пока что как бы неотступно следовала за ними и таилась во всем: в буйной огородной ботве, в пустых домах, в обрушенных сараях, в неподвижной листве деревьев и даже в воздухе… Это Славкино чувство можно было, пожалуй, только лишь отдаленно сравнить с той безотчетной тревогой, какая иной раз охватывает уверенного в полнейшем своем одиночестве, задумавшегося человека, когда он, внезапно очнувшись, вдруг затылком, похолодевшими плечами, всей кожей своей ощущает на себе чей-то мучительно-напряженный, проникающий к нему из ниоткуда и пристально его изучающий зрак. Аможет быть, в настороженном его мальчишеском существе пробудился давным-давно утраченный спасительный древний инстинкт, который предостерегал бесконечно далеких Славкиных предков от всего непонятного, угрожающего, несущего в себе неминуемую смерть? Впрочем, откуда же было Славке разбираться тогда в каких-то там смутных предчувствиях да спасательных инстинктах? Ни сном ни духом не ведал он об этом. И не было ему никакого дела до того, что некие незапамятные полудикие предки его в неразумной своей наивности слепо подчинялись велению безошибочного звериного чутья. Однако потому, должно быть, сумели не просто выжить посреди чужой и враждебной природы, но и передать через пропасть веков другим зародившуюся когда-то в глубине их темных умов крохотную искорку ч е л о в е ч е с к о г о с о з н а н и я, проклюнувшийся сквозь заскорузлую корку животной их дикости, грубую свалявшуюся шерсть робкий росток ч е л о в е ч е с к о й м ы с л и, которые потом, спустя многие тысячи поколений, не канули в бездны времен, а были непостижимым каким-то чудом сохранены, взлелеяны и отточены на камнях великих и малых цивилизаций, пройти через школы философов, учения пророков и шарлатанов, через опыт мудрецов и горнила алхимиков, через костры мракобесов, возвышенные утопии просветителей, неистовые души аскетов, слабость тиранов и жестокость праведников, чтобы наконец-то быть переданными ему — неумытому, голодному и не единожды беспощадно поротому детдомовскому мальчишке Славке Комову. Не подозревал он и о том, что теперь уже и от него в какой-то мере будет зависеть — суждено ли неизмеримо малым частичкам той первобытной искорки и того слабого ростка, что теплились в нем, сохраняться и впредь, перейти к последующим людям. Или же, однажды захирев, они вместе с ним навсегда исчезнут с земного лика… Ничего этого не знал все-таки основательно трусивший пацан Славка Комов. И ни о чем таком он вовсе и не думал. Недосуг ему было попусту раздумывать. Славке нужно было только разжиться здесь котелком ли, кастрюлькой, а в крайнем случае хотя бы чугунком. И поэтому великим усилием всей своей мальчишеской воли он кое-как справился с собой, переборол этот навалившийся на него необъяснимый страх и вслед за Иваном направился по выложенной красными кирпичами и поросшей уже травою дорожке к тому невзрачному и угрюмому дому. Ребята сторожко взошли на крыльцо; вздрагивая от скрипа половиц, на цыпочках прокрались сумеречными сенями; нащупали дверь с висящими на ней по косякам клоками зимней обивки, похожей на остатки линялой собачьей шкуры. — Закрыто? — не удержался от вопроса Славка. Ему было неприятно прикасаться руками к этой рыжеватой кудели, что липла к пальцам, как паутина. — Да нет… Подожди… — Иван медленно потянул на себя протяжно зашуршавшую дверь. И уже с порога кухни почувствовали они нежилой запах остывшей золы, плесени и тлена, от которого у ребят засвербило в носу. Славка зажмурился и громко чихнул. — Тише ты, гад!.. — зашипел на него Иван. На треснувшей, горбато вспученной плите и рядом, на полу, валялись черные от сажи конфорочные кольца. Под окном белели осколки тарелок, поверх которых лежали две, будто бы молотом сплющенные, алюминиевые миски. Из выщербленных пазов окантованной угольником плиты торчали рожками концы ржавой крученой проволоки. Иван и Славка обшарили все закоулки, проверили смежные с кухней комнатушки, где тоже повсюду на полу был раскидан всяческий хлам — рваное тряпье, гнутые ножки от стульев, обгорелая бумага, желтые пузырьки из-под лекарств. А вот необходимой ребятам пригодной для варки посудины, пускай даже какого-нибудь завалящего глиняного горшка, нигде в доме не было видно. С каким-то деревянным, скребущим звуком терлись друг о дружку на сквозняке оборванные со стен полосы обоев, под которыми, в пустых выемках от осыпавшейся штукатурки, переломанными ребрами обнажились приколоченные крест-накрест сосновые щепки. — Пошли-ка лучше, Мороз, отсюдова, — сказал Славка, колупая ногтем отслоившуюся известку на плите. — Ни черта у них тут не было… — Погоди, а может, там, где у них летняя кухня, чего-нибудь найдем? — кивнув на окно, неуверенно предположил Иван, выкручивая тугой шпингалет. — Давай во дворе еще посмотрим. Айда!.. Они не стали опять выходить, на крыльцо, а вылезли через окно в сад и, прикрыв рамы, остерегаясь напороться босыми ступнями на не видимые в траве острые стекляшки либо гвозди, прошли по засыпанной шлаком завалинке вдоль стены дома до угла, за которым под перекосившимся, крытым жестью навесом стояла обмазанная глиной летняя печка. Но и во дворе им не повезло. Все здесь тоже было разбито, втоптано в окаменелую грязь, а возле открытого входа в мурованный погреб, откуда веяло леденящей подземельной сыростью, на влажной земле виднелись частые следы чьих-то широких лап, с четко обозначенными круглыми подушечками и стрелками когтей. — Ты погляди, Комок, — волчьи! — авторитетно сказал Иван, и Славка сразу же ему поверил, хотя, по правде сказать, сначала он подумал, что такие следы вполне могла бы оставить и обыкновенная базарная дворняга. Ничего в них волчьего как будто бы не было, а просто — следы как следы. Ребята пригнулись к земле, рассматривая, как теперь уже казалось им обоим, и в самом деле какие-то необычные, подозрительные какие-то отпечатки когтистых лап. И тут издалека, с другого конца улицы, донесся к ним глуховатый рокот мотоцикла, который, впрочем, вскоре затих. Потом ребята услыхали поспешные, бухающие шаги, невнятные голоса и приближающееся металлическое цоканье подкованной обуви уже на выложенной кирпичами дорожке, ведущей к крыльцу дома. Оскальзываясь на мокрых ступеньках, едва не съезжая по ним на задницах, Иван и Славка шустро скатились в погреб. — Ось туточки!.. Ось тут!.. Я ж сама бачыла! — визгливо захлебывалась наверху какая-то тетка. Из погребной темноты ребятам был виден торец дома, глухая серая его стена, и прислоненная к ней лестница, упершаяся в кирпичный карниз под чердачной дверью. Славка решил сперва, что крикливая эта тетка заметила, должно быть, как они входили в дом. Ну, конечно, заметила! Она и потом украдкой подглядывала за ними, а сейчас приведет тех, металлически топавших людей к погребу — и тогда уже никуда от них не денешься, придется отсюда вылезать… — Эгэй! Хто тут е? — громко выкрикнул невидимый мужчина и добавил с угрозой: — Выходьтэ, по-доброму вам кажу, бо зараз стрэляты буду!.. Но никто не вышел из дому и не откликнулся на предложение мужчины, который немного погодя матерно выругался и передернул винтовочный затвор. Славка почувствовал, как неживой подземельный холод начинает накатывать на него, поднимается от омертвелых кончиков пальцев на ногах к самой макушке. Волосы на его голове жестко зашевелились, во рту пересохло, а все тело вдруг словно бы утратило вес и сделалось ватным. Он взглянул сбоку на побледневшего Ивана, у которого, вроде бы в какой-то болезненной усмешечке, кривились дрожащие губы, и, трудно ворочая одеревенелым, непослушным своим языком, еле слышно проговорил: — А может, выйдем наверх?.. Слышь, Иван?.. Может, нам лучше сразу выйти?.. А?.. — Да заткнись ты, гад!.. — тихо выдохнул Иван, все так же кривясь в болезненной той усмешечке, однако с такой мрачной злобою в голосе, что Славка невольно отшатнулся от него и оторопел. — Они же не за нами пришли, дурак!.. Еще разок пикнешь — задавлю, как собаку!.. И только после этих грубых и страшных Ивановых слов он как будто бы очнулся. Лишь теперь Славка наконец-то сообразил, что тетка действительно привела этих людей не за ними, а за кем-то другим. Должно быть, кто-то еще раньше их пришел сюда и сейчас прячется где-то в доме. Ведь и визгливая та тетка, и мужчина с винтовкой, и те, в подкованной обуви, покуда не подходили к погребу, а по-прежнему торчали за углом, у крыльца. Потом ребята услыхали, как в доме хлопнула дверь, как ходили там, внутри, по скрипучим половицам, как громко переговаривались, с дребезгом открывали окна и, наверное, высовывались наружу какие-то люди. Затем в доме опять все стихло. Вероятно, люди выбрались на улицу и вновь столпились на дорожке. — Ни, нэма там никого, — с явным сожалением протянул мужчина, который клацал винтовочным затвором. — Мабуть, вжэ дэсь втик. Ото ж така падлюка!.. — Та вин жэ на гори ховается! — услужливо подсказала визгливая тетка. — Вы щэ ж на гори нэ дывылыся… Вы його там пошукайтэ… — А мы ось зараз и пошукаемо! — с угрожающей веселостью пообещал мужчина. Грохнул выстрел, за ним — второй… Славка подался ближе к Ивану, ухватился за его рукав. Ребята напряженно уставились вверх, со страхом ожидая, когда дойдет очередь до осмотра погреба, и все же надеясь, что эти люди не догадаются заглянуть в погреб, а перестанут стрелять и уйдут. Но вдруг чердачная дверь дрогнула, приоткрылась, и в образовавшуюся щель высунулась всклокоченная седая старческая голова. Седой этот человек, медленно ворочая головой, мутно огляделся по сторонам, потом на миг исчез за дверью, но тут же снова вылез на карачках, спиною вперед, нащупал драным ботинком первую перекладину и принялся спускаться по лестнице, неуклюже горбатясь и вяло переставляя подгибающиеся, нетвердые ноги. Старик, по-видимому, был только что ранен, потому что одною рукой он зажимал бок, а из-под синеватых, скрюченных его пальцев, с черными дужками длинных ногтей, сочилась кровь. Не добравшись и до половины лестницы, он покачнулся, хватая рукой воздух, а затем сорвался с перекладины и без звука, мешком, свалился на землю. Позабыв обо всем, ребята уже были готовы ринуться к нему на помощь, но из-за угла дома, хищно пригибаясь, выскочил мужчина с винтовкой. Он с ходу вскинул приклад к плечу, однако не выстрелил, а неспешно опустил оружие, сделал еще несколько шагов и остановился над стариком, опираясь на винтовку, как на палку. Следом за мужчиной показались два немецких солдата с автоматами. Немцы подходили осторожно, плотно прижимая к животам согнутыми в локтях руками выставленные вперед черные свои автоматы. Подошедший первым солдат, поведя стволом автомата, молча отстранил мужчину, приблизился к скорчившемуся на земле старику, потолкал его носком сапога, затем, упершись посильнее, перевернул обмякшее тело на спину и утвердительно произнес: — Алес, капут… Дас ист юде… партизанен… Сказав еще что-то вполголоса мужчине с винтовкой, он достал пачку сигарет. Напарник его тоже потянулся за сигаретами. Чиркнув зажигалками, немцы закурили, изредка обмениваясь какими-то замечаниями, посматривая вниз, на распростертого человека, и чему-то посмеиваясь. Докурив сигарету, подошедший первым немец щелчком отшвырнул брызнувший искрами окурок и с задумчивым видом лениво направился к погребу. У Славки подкосились ноги, и, чтобы не упасть, он привалился плечами к сырой стене. А Иван лишь дернул вытянутой шеей, сглатывая набежавшую слюну, покрепче стиснул зубы и весь напрягся, задержав дыхание. Солдат подступил к открытой двери вплотную, не заглядывая внутрь погреба, повернулся боком к ребятам, расстегнул штаны и спокойно зажурчал, блаженно жмурясь и негромко насвистывая. Немец журчал долго, и тоненький пенный ручеек, скатываясь со ступеньки на ступеньку, успел достичь босых ног затаившегося Славки. Под оледеневшими пальцами его стало тепло, но Славка не смел даже пошевельнуться, переступить с ноги на ногу, а не то чтобы отодвинуться в сторонку. Наконец облегчившись, солдат сплюнул, поддернул застегнутые штаны и с такою же задумчивой ленцой, не торопясь, прошел мимо дома прямо к ведущей на улицу выложенной кирпичами дорожке. Дожидавшийся солдата мужчина закинул винтовку за спину, крякнув, наклонился, подхватил мертвого старика под мышки и, пятясь и оглядываясь, поволок его через затоптанные огородные грядки. Кудлатая голова старика, с жутко оскаленным почерневшим ртом, запрокинулась и свесилась к плечу; скрюченными своими, узловатыми пальцами он словно бы цеплялся за обломанные будылья; а порванные его ботинки чертили скошенными каблуками по земле, подскакивали на кочках и расслабленно болтались, как у тряпичной куклы… Двор опустел, но ребята вылезли из погреба только после того, как рокот мотоцикла затих вдалеке. Славку колотила нервная дрожь. Он старался унять ее, внутренне напрягался, но стоило ему лишь ослабить усилие, как его вновь сотрясало всего неудержной этой, противной дрожью. Славка ежился и тайком от Ивана шаркал ногами о траву, тер ступнями, как будто бы ненароком вляпался в свежую навозную лепеху. Боясь повстречаться с визгливой той теткой, ребята не рискнули показываться на улице, возвращаться в детский дом по городу, а решили обойти кругом, левадами, чтобы напротив литейного завода проскочить напрямик, огородами. Ни о каких кастрюльках да котелках они больше и не помышляли, а просто спешили поскорее отойти от того страшного места, где недавно лежал на земле убитый старик. Еще когда всклокоченная, седая его голова высунулась неожиданно из чердачной двери, Славке показалось, что это старый продавец Вацек, который раньше торговал на углу Селянской улицы в керосиновой лавке, а теперь, как говорили пацаны, будто бы не жил дома и скрывался от немцев где-то за городом, в оврагах. Ему не терпелось спросить Ивана, узнал ли он тоже убитого старика или нет, потому что Славке сейчас представлялось очень важным выяснить — кто же прятался на чердаке пустого дома и почему немцы хотели поймать того старика? Но, упорно раздумывая над этими, в общем-то, мало что значащими для него подробностями, он тем самым как бы бессознательно защищал себя от какой-то неотступной и мучительной необходимости снова и снова мысленно возвращаться к ужасной сути произошедшего на их глазах — к убийству человека — и пытаться объяснить себе и осмыслить мальчишеским своим умом то, что ни объяснить, ни осмыслить конечно же было ему невозможно… Славке хотелось поговорить с Иваном, однако он опасался, что тот не будет его слушать или же опять станет угрожать и ругаться. Да и говорить-то, пожалуй, было им не с руки. Иван шагал быстро. Широкие, обтерханные понизу его штанины на ходу завертывались вокруг ног, трепыхались, как от ветра. И Славке то и дело приходилось догонять своего друга вподбежку… А погода тем временем начала вроде бы понемножку разгуливаться. Над головами ребят и поодаль, над лесом, все чаще и чаще открывались голубые промоины. И тогда темневший на том берегу речки лес озарялся широким солнечным лучом, словно зеленовато-серые купы деревьев, которые почти сливались с тусклым горизонтом, вдруг окатывало живою водой. Это, будто бы высвеченное мощным прожектором, яркое пятно, плавно скользя по земле, перемещалось наискосок к городу, сверкающе отражалось в дробящейся речке, стремительно проплывало по верхушкам ивняка, приближалось к ребятам — и они вступали в него с приятно замирающими сердцами, ощущая охватывающее их ласковое тепло, как будто бы входили с промозглой улицы в сухую, нежарко натопленную комнату. Ребята были уже далеко от тех покинутых жителями домов, что укрывались в густых садах на тихих улочках и казались отсюда обычными домами, когда Иван наконец-то сбавил шаг, а затем и вовсе остановился, поджидая отставшего Славку и глядя на него исподлобья, с какой-то словно бы смущенной и виноватой улыбкой. — Ну, чего — устал? — спросил он сочувствующе. Славка молча отрицательно мотнул головой. — Ладно, Комочек, скоро притопаем. Да ты на меня не серчай, — сказал Иван, притрагиваясь к его плечу. — Ведь если бы они нас с тобой в погребе нашли, то, считай, все — хана! А ты там заладил: «Давай лучше выйдем, давай выйдем…» Вот и вышли бы… А потом как того деда… — Нет, Мороз, ты что? Я на тебя не сержусь, — проговорил Славка, шмыгая носом. Он прекрасно понимал правоту своего друга, чувствовал его великодушие и корил себя за проявленную слабость. — Ну, а ты-то его узнал?.. — Кого узнал? Цуцика, что ли? Конечно, узнал… — За что они его, интересно… — Да кто ж их знает… — Иван пожал плечами. — Слыхал, что тот немец говорил? «Партизанен», мол… А какой он там партизан, когда такой старый? Может, тоже, как мы с тобой, чего-нибудь искал, а та тетка выдала его, сволочь! — Иван по-взрослому выругался. Он привычно выговорил те непотребные слова, но с такой злобой и презрением, что вроде бы даже задохнулся ими, а в горле у него хрипло заклекотало, словно Иван простудился, стоя в том сыром и холодном погребе. — Ее же убить за это мало, паскудину! Жаль только, что мы с тобой ее не видели, правда? А то потом поймали бы где-нибудь в темном уголке… — Конечно, жаль! — со всей искренностью поддержал товарища Славка. Он тоже был сейчас зол на ту «паскудину», из-за которой застрелили старика и сами они едва не попались на глаза немцу. Славка испытывал к ней еще и какое-то брезгливое отвращение, будто ему лягушку за пазуху сунули, и она там ворочалась, касаясь его тела своей влажной и бугристой кожей. — Мы бы, конечно, ее поймали… Никуда она от нас бы не спряталась!.. Впрочем, Славке трудно было представить себе, что сделали бы они с той визгливой теткой, если бы она и впрямь попалась им в каком-нибудь укромном местечке. Ведь она виделась ему этакой огромной, в испачканном сукровицей клеенчатом фартуке, краснорожей бабищей, вроде тех, что возвышались прежде на базаре в мясных рядах, отхватывали острыми ножами куски мяса, шмякали их на весы или на оцинкованные прилавки, а на вертевшихся рядом пацанят не обращали никакого внимания. «Все равно нам вдвоем с Морозом ее не осилить бы, не справиться с ней, пожалуй, — мысленно прикидывал Славка, едва поспевая за ходко опять расшагавшимся Иваном. — Она-то вона какая, должно быть, здоровенная! Хотя если ребят собрать, тогда, конечно, можно было бы запросто ей морду набить, а еще лучше — мешок какой-нибудь на голову набросить и устроить ей темную…» И, сожалея о том, что они не видели той тетки, а поэтому ни бить ей морду с ребятами, ни устраивать темную им вообще не придется, Славка чувствовал, сколь ничтожна была бы такая расплата за подлое ее предательство, за убийство, которое произошло, несомненно, по теткиной вине. Но для придумывания более тяжкого для нее наказания у Славки просто не хватало никакого воображения. А возможно, он уже смутно догадывался, что на свете нет и не может быть достаточной кары для тех, кто способен пойти на хладнокровное предательство или же вот так, походя, убить старика?.. Но если бы вдруг кто-нибудь предложил ему самому свершить справедливое возмездие, то в беспощадной своей мальчишеской непримиримости он без малейшего колебания покарал бы ту визгливую бабу и стрелявшего из винтовки человека самой страшной, хотя так и не придуманной им для них казнью. И не дрогнуло бы в тот грозный миг его сердце, и рука бы у него не дрогнула… Однако Славку все-таки окатывало жутью, и нечто похожее на сострадание, но не к убийцам и предателям, а к тем ж и в ы м л ю д я м, которых он готов был казнить, закрадывалось в его суровую душу. И он с невольным содроганием думал теперь о том, как будут они потом терзать себя раскаянием, вымаливать себе прощение, сознавая заранее, что вымолить уже ничего не удастся, а нужно держать ответ за свои преступления. А в том, что они непременно будут отвечать перед кем-то за содеянное, что рано или поздно грядет расплата, — и тогда уже за все им воздастся сполна! — в этом Славка ни капельки не сомневался. Должна же существовать на земле справедливость! А Славка был убежден, что она существует. Иначе бы и жить-то не стоило. Вернее, просто невыносимо тяжело было бы жить в таком страшном мире, где нет надежды на справедливость, а вечно и безраздельно господствуют предательство, насилие и подлость… Нигде больше не задерживаясь, ребята миновали прилегающие к разрушенному литейному заводу и давно уже опустошенные детдомовцами огороды, пролезли сквозь дыру в заборе и очутились наконец в своем родном детдомовском саду. И только теперь они с некоторым удивлением обнаружили, что на улице уже вечереет. Низкое, закатное солнце еще косо высвечивало верхушки яблонь, а под ними, на земле, все казалось поблекшим и серым. У печурок и костров кое-где копошились старшие ребята, раздували огонь, чистили картошку. Но девчонок пока не было; и Славка подивился необычному этому обстоятельству, так как девчонки всегда появлялись в саду первыми. Не видать было и малышей, которые неустанно шныряли по вечерам от печурки к печурке, от костра к костру, чтобы не прозевать случая «подшакалить» корочку хлеба, печеную картошку, горстку каши либо честно заработать себе пропитание, сбегав для какого-нибудь щедрого пацана по воду к пустующей столовке, принеся ему охапку дровишек или же справив какую другую нехитрую службу. Но вот не вертелась почему-то нынче под ногами малышня, не мельтешила у костров да печурок, и, должно быть, от этого как-то непривычно тихо было в саду, пустынно и вроде бы даже сиротливо… Только Валька Щур ни на кого и ни на что не обращал внимания. Он уже вовсю раскочегарил свою печурку. Была она у него аккуратно обложена целыми кирпичами, щели замазаны глиной, а на кирпичах лежала половина настоящей — с одной конфоркой — чугунной плиты. Нечего и говорить, капитальная печурка была у хозяйственного Вальки Щура, не на денек-другой приспособленная. И круглый вместительный котелок на ее конфорке стоял как раз над самым жаром, посередке. Булькало в котелке какое-то варево, а из-под дребезжащей крышки вырывался веселый парок. Валька Щур покосился на подошедших ребят и, словно бы ненароком, сунул под тряпочку чистую фанерку, на которой горкой высилось нарезанное сало. Красное от огня, в проступивших мелких конопатинках, ротастое лицо Щура сделалось настороженным. В глазах возник тревожный, недоверчивый блеск. — Здорово, Щуренок! — беспечно сказал Иван. — А где все пацаны? Валька неопределенно мотнул головой и презрительно повел плечами. — А я тебе чего — бегаю за ними, да?.. Ты лучше скажи, Комок, — обратился он к Славке, — когда ты мне хлебушек вернешь? — Щур, очевидно, решил сразу же поставить ребят на место, чтобы они не шибко-то перед ним задавались. — Вон Мороз видел, как ты у меня брал. Скажешь, не видел?.. — Ничего я тебе, Щур, не скажу… Нету у меня сегодня хлеба, — уныло признался Славка, внезапно вспомнив, что со вчерашнего вечера у него и крошки во рту не было. — Да ты не бойся… Я тебе как-нибудь отдам… — Ну что ж, я покуда не голодую… Подожду немного, — снизошел Щур. Славке очень хотелось есть. И он, наверное, не утерпел бы, попросил у Щура в долг до лучших времен хотя бы еще маленький «кусманчик», но не осмелился открыто «шакалить» в присутствии Ивана, одновременно испытывая какую-то виноватую и заискивающую неловкость заведомого бедняка перед сытым и богатым Валькой. А Иван бесцеремонно потеснил Щура, опустился на корточки возле печурки, обжигая пальцы, чуть сдвинул крышку с Валькиного котелка, потянул носом клубящийся парок и, причмокнув губами, в нарочитом удивлении вытаращил глаза. — Ого-го!.. С курятиной!.. Ты где это курочку подшиб? А, Щуренок? Может, нам скажешь? Но Валька не ответил на Иванову подначку. Никакой курятины у него в котелке, понятно, не было. Просто варил себе Щур на ужин картошку и уже готовился салом ее заправлять, как тут нелегкая принесла этих — по ухваткам было видать — не жравших сегодня оглоедов. Одного Славку Комова, конечно, Щур и слушать бы не стал, попер бы его, как миленького, а вот Ивана Морозовского Валька уже попереть не мог — не осилил бы его, пожалуй. Потому он и не послал с ходу нахального Мороза прямиком к его покойной матери — хотя каждому пацану было ясно, что имел он на это полное право, — а лиши опять прикрыл котелок, надвинул крышку прутиком. — Ладно, кончай, Мороз, — миролюбиво сказал Валька. — Ну, чего ты, правда? Кончай… Быть может, Иван так скоро и не отступился бы, малость еще подразнил бы слишком уж мирно настроенного нынче Вальку Щура; возможно, начал бы всерьез придираться к нему, заводить; а может быть, даже по его конопатой роже съездил бы разок: злой был Иван, голодный — да и делать-то все равно нечего! — но тут между деревьями замаячила долговязая фигура какого-то мужчины, который шел к кострам, подныривая под ветки, отводя их руками, и ребята удивленно замерли, распознав наконец-то в долговязой этой фигуре директора детдома.
До сих пор Юрий Николаевич почему-то никак не удосуживался побывать в саду вечером, когда мальчишки возвращались с промысла и разжигали там свои очаги. Почти не появлялся он и в спальнях. А безнадзорная пацанва стала помаленьку отвыкать от его строгого и недремлющего ока, почувствовала слабину. Хотя какая уж там слабина, когда директор — сам по себе, а пацанва — сама по себе? Вольному, как говорится, воля… Он к ним не лезет, и они ему жизнь не портят. К тому же никому еще не известно — остался ли Мизюк пока в директорах или он теперь только от скуки в спальни заходит… Юрий Николаевич приблизился к Валькиной печурке, возле которой по-прежнему сидели на корточках ребята, и остановился чуть поодаль, со скептическим любопытством оглядывая дымящие костры и нарочито беззаботные лица мальчишек. Никто из них не обернулся, не посмотрел на подошедшего директора, как будто бы его тут и вовсе не было, а просто какой-то случайный человек в сад забрел. Остановился в сторонке, глядит? Ну, и пускай себе глядит, если ему так интересно. А мы-то здесь при чем? Ох и хитрецы, ох и чудотворцы!.. Юрий Николаевич мысленно усмехнулся, понимая и принимая эту мальчишескую тактику выжидания. В былые времена, еще издали приметив Мизюка, воспитанники, конечно бы, встретили директора стоя, первыми вежливо с ним поздоровались бы, а сейчас даже и ухом не ведут — ноль внимания. Ну что ж, с их точки зрения все верно… Они — добытчики, люди вполне самостоятельные, а он для них кто?.. Сидят, в огонь смотрят и, разумеется, гадают: с чем пожаловал к ним некий Мизюк и как он нынче себя поведет? Если потребует, чтобы они поднялись, накричит на них, в спальню погонит либо каким-нибудь иным начальственным способом попытается свою призрачную власть утвердить, показать им, что он все-таки директор, — тогда уж эти воспитаннички сами все что угодно ему покажут… Он-то их достаточно изучил, за ними не задержится!.. Правда, Юрий Николаевич вовсе и не собирался, кричать на ребят, а тем более прогонять их из сада. Помедлив еще немного, Мизюк наконец подошел к самой печурке, опустился на корточки рядом с ребятами, руки к огню протянул, потирая ладонью о ладонь, как будто бы они у него озябли, и спокойно, будничным голосом сказал: — Добрый вечер, кашевары. Ну, как тут у вас дела? — Здравствуйте, — не сразу и вразнобой ответили уже приготовившиеся было к достойному отпору, хотя и несколько сбитые с толку непонятным его поведением, слегка взъерошенные пацаны. Лишь Иван Морозовский, как ни в чем не бывало, с самым невинным выражением повернулся к директору: — Да что вы, Юрий Николаевич? Какие у нас могут быть дела? У нас ведь так себе — делишки… — Ну-ну… Зачем же скромничать? — Убаюканный показным их смирением, Мизюк тоже расслабился и поощрительно улыбнулся ребятам. Он больше не ожидал от них какого-нибудь подвоха, а потому и сам невольно поддался этакой беспечной игривости. — Небось уже все огороды вокруг обобрали, а? Иван и Славка отчужденно промолчали. Только показалось Мизюку, что плечи у ребят еще сильнее поникли, спины сгорбились да лопатки острее выперли под рубахами. А Вальку Щура вроде бы кнутом хлестанули. Он зло ковырнул спружинившим прутиком угли и вдруг окрысился на все еще улыбающегося директора: — Ну, и что с того?.. Обобрали! А по-вашему, нам лучше было бы с голодухи подохнуть, да?! Юрий Николаевич и без того уже почувствовал, как внутренне насторожились и словно бы отодвинулись от него неподвижно сидящие у затухающего огня ребятишки. А теперь, после злых слов Щура, поздним умом сообразил, что брякнул глупость, походя обидел мальчишек. Разве кто-нибудь вправе упрекать их сейчас за то, что они лазят по садами огородам, попрошайничают в селах и, конечно, воруют? Что же им еще остается делать?.. От других костров и печурок мало-помалу потянулись к Валькиному огнищу молчаливые пацаны. Любопытно им было поскорее узнать — чего это понадобилось в их владениях директору и о чем у него там со Щуром толковище идет? — Нет, Валентин, подохнуть с голодухи не лучше, — задумчиво глядя на обрушившиеся угли, тихо проговорил Мизюк. — И я это понимаю… Винить вас не в чем. Это наша вина… — Он пожевал губами. — М-да-а-а… Но жить так дальше, как жили вы до сих пор, — каждый сам за себя, в одиночку, — больше не годится. Нельзя так больше жить. Времена для этого не слишком подходящие… Правильнее сказать, ребята, очень уж трудные нам выпали времена… И поэтому нам сейчас, как никогда раньше, нужно друг за дружку держаться. Обо всем вместе думать, обо всех вместе заботиться. Вот и осень на носу, а там настоящие холода нагрянут. У ваших костров да печурок, дети, нам с вами зиму не перезимовать… — Верно, Юрий Николаевич! — с напускной горячностью поддержал все-таки не отказавшегося, видать, от отеческой, доверительной беседы Мизюка появившийся в саду позже остальных ребят Генка Семенов. Шустрый этот парнишка с лету уловил, о чем речь, но терпеливо слушал директора, карауля момент, чтобы вклиниться и по обыкновению затеять балаган. — А ты, Щуренок, не больно-то ерепенься, когда с тобою порядочные люди говорят! Ты слушайся старших и вникай! — На неунывающей Генкиной мордахе блестящими щелками резались хитрющие глаза. — Ведь Юрий-то Николаевич тебе, дураку, дело толкует, а ты, как вшивый фрайер, уши развесил. Нет, братцы вы мои, теперя — все! Теперя, значитца, будет у нас с вами таким манером, — Генка все больше ломался и подмигивал ребятам, — с завтрашнего дня мы уже не всяк по себе, а организованно, общей кодлой огороды шарашить двинем! Ты понял, Щуренок?.. Но опять же — чтобы строем, парами и за ручки… Во, пацаны, когда житуха у нас настанет! Гадом мне быть — помирать не захочешь!.. Генка в мечтательном изнеможении закатил глаза, покачнулся, словно бы падая на спину, а ребята со смехом подхватили его под руки и теснее сгрудились вокруг печурки, не без основания полагая, что это только первая, вступительная часть начатого Генкой представления, за коей непременно последует и вторая. По насмешливым ребячьим лицам нетрудно было определить, что задуманный Юрием Николаевичем серьезный разговор с ними грозит вот-вот обернуться потехой. Но Мизюку не менее ясно было и то, что потакать развеселому настроению не осознающих всей сложности положения и оттого беспечно улыбающихся мальчишек он ни в коем случае не должен. Стоит лишь опять хоть чуточку поступиться, не до конца выдержать характер — и ребята могут превратиться в неуправляемую ораву, с которой потом уже никакими судьбами не совладаешь… — Прекрати паясничать, Семенов, — строго оборвал вертлявого парнишку Юрий Николаевич и поднялся. — Советую-тебе запомнить: в нашем детском доме никогда не было и ни при каких обстоятельствах не будет так называемой кодлы. А всегда был и впредь останется коллектив, — он нажал на последнее слово. — Кроме того, — чеканным директорским тоном продолжил Мизюк, — с сегодняшнего вечера будем кормить вас в столовой. И посему, надеюсь, всякая надобность в ваших организованных похождениях отпадает сама собой. Правда, не стану скрывать — продуктов у нас мало… Но, думаю, мы и в дальнейшем сумеем обойтись без молодецких набегов на окрестные огороды. Вероятнее всего, нам самим предстоит зарабатывать себе на хлеб. Хотя, повторяю, работать будем тоже все вместе, коллективно… — Это как же — вместе? — прикидываясь непонимающим, поинтересовался кто-то из ребят, укрываясь в тени, подальше от хмурого директорского ока. — Раз кодлой нельзя — то как в прежних колхозах, что ли? Мизюк сделал вид, что не придал особого значения сомнительному этому вопросу, и потому не стал вытаскивать из-за чужих спин съехидничавшего парнишку. — Ну, что ж… — Юрий Николаевич неспешно обвел взглядом ребят, на мгновение замялся, как бы прикидывая возможные последствия своего ответа, но все же решился: — Можете считать, как в прежних колхозах… Если вам, конечно, так больше нравится, — осторожно добавил он. — А если нам так совсем не нравится? — с вызовом сказал Валька Щур и тоже поднялся, нахально глядя прямо в насупленное лицо Мизюка. — Между прочим, говорят, что ваши колхозы-то нынче — тю-тю!.. Отменили их теперь… Да мы и сами, без всяких там колхозов проживем. Точно, пацаны?.. Но никто не поддержал нахрапистого Вальку. Ребята напряженно молчали, почувствовав вдруг, что игра кончилась. Наиболее робкие смущенно потупились, стараясь не смотреть ни на директора, ни на Вальку, словно бы в ожидании неизбежной ругани и крика. Даже Генка Семенов явно опешил, сообразив, что пустопорожняя его трепотня неожиданно оборачивается далеко не безобидной стороной, и еще неизвестно, как оно все обернется в дальнейшем. Но смутить Вальку Щура было непросто. Он по-прежнему независимо, с оттенком превосходства разглядывал Юрия Николаевича в упор, как будто перед ним стоял не директор, а безнадежно задолжавший ему, Вальке, какой-нибудь самый распоследний пацан. — Отменили?.. Быть может! Но позволь тебя спросить — кто отменял товарищество, взаимную выручку? Кто? — запальчиво вскинулся было никак не готовый к подобному повороту событий Мизюк. — Ну уж — кто!.. Будто вы и сами не знаете!.. — Валька пренебрежительно скривил губы, отвернулся и длинно цвиркнул сквозь зубы слюной на зашипевшие в печурке угли. — Хорошо… Допустим, в чем-то ты прав, — сбавил пыл Юрий Николаевич, упрекая себя за то, что совершил-таки непростительную промашку и ввязался в какой-то нелепый спор с этим угрюмым и скрытным мальчишкой. — Хорошо… Попробуем подойти иначе… — Директор совсем ссутулился и как-то даже поник головой. — Так вот, вы уже почти взрослые люди. И я нисколько не сомневаюсь, что проживете сами. Кодлой ли, бандой — это уж как вам будет угодно. — Мизюк поморщился, а голос его вовсе потускнел. — Но помимо вас в нашем доме живут еще девочки и младшие ребята, которые нуждаются в защите и помощи. Я всегда считал, что ради них… — Он вяло взмахнул рукой. — В общем, они сейчас ужинают в столовой. Вам я тоже советую отправляться в столовую. Тетя Фрося давно вас ждет… Видимо, Юрий Николаевич хотел добавить еще что-то, но передумал и, пригибаясь под ветками, пошел прочь от кострищ, ощущая за своей спиной недоброе молчание ребят. — Завтрак проспали, обед прогуляли, а ужин — на хрен нужен! — с наигранной бодрецой зачастил Генка Семенов, едва лишь Мизюк скрылся в глубине сада. — Ну, Валька, выдал ты ему… — однако, случайно глянув на поднимающегося с земли Ивана Морозовского, сразу осекся. — А ты, гнида, заткнись… Распустил помело!.. — как-то сдавленно просипел Иван, отталкивая Генку, и, подступив к Щуру, ухватил его за рубаху, рванул к себе. — Ты чего ж это за всех нас здесь распинаешься, а? Валька всхрапнул, попытался упереться руками в грудь Мороза. Но Иван, ловко поднырнув, насадил Щура на калган — ударил его из-под низу темечком в подбородок. Зубы Вальки лязгнули, голова мотнулась вверх. Мирно сидевшие у огня ребята вскочили на ноги. Славка, сжав кулачишки, с замирающим сердцем подскребся поближе к Ивану, затоптался позади него — вроде бы загородил собою на всякий случай, чтобы кто-нибудь не огрел Мороза предательски со спины дрыном. Но ребята мимоходом отшвырнули скачущего взъерошенным воробьем Славку, который отлетел к зарослям бузины, в крапиву, и растащили противников по сторонам. — Да хватит вам!.. Кончайте, пацаны, в натуре!.. Ну, чего вы сцепились-то?.. Котелок вон опрокинули… На сало наступили, — уговаривали ребята, придерживая за руки порывающихся друг к дружке ощетинившихся бойцов. — Ах ты, сволочь!.. Ну, ладно… пусти… — Иван расслабился, перевел дух, и его тотчас отпустили. — Мы еще с тобою где-нибудь стукнемся, гад! — посулил Мороз вытирающему рукавом окровавленную сопатку Вальке. — Ты мне лучше теперь на дороге не попадайся… — Да я же тебя сейчас тут уделаю, оглоеда! — снова полез к нему Щур, но споткнулся о перевернутый котелок, глянул на дымящую под ногами белую горку картошки, на размазанное в виде запятой по фанерке чьей-то грязной пяткой приготовленное для заправки сало и, присев на корточки, принялся спасать остатки своего варева. Мороз харкнул презрительно в его сторону, однако до Валькиного котелка плевок не долетел. — Ладно, хрен с ним… Айда, Комок, в столовку! Может, хоть пожрем там чего-нибудь, — хмуро сказал Иван основательно обстрекавшемуся в крапиве Славке. — Да не чешись ты… Брось!.. Слюной потри, пройдет… На выходе из сада, между сумеречными и расплывчатыми ветками яблонь, все еще виднелась удаляющаяся и, должно быть, от этого какая-то зыбистая фигура Мизюка. — Юрий Николаевич! — окликнул директора Иван. — Подождите! Но Мизюк, наверное, не расслышал оклика, потому что продолжал уходить, и, лишь после того, как Иван позвал его громче, директор остановился. Тяжело опустив плечи и сутулясь больше обычного, он вопросительно смотрел на приближающихся к нему ребят. — Ну, что тебе нужно, Морозовский? А тебе, Комов? Я же вам сказал — идите ужинать в столовую… — Да мы ведь и так идем, Юрий Николаевич, — прерывисто заговорил Иван, переводя дыхание и отпыхиваясь, как будто ему пришлось догонять директора бегом. — А где вы продукты взяли? Ничего же не было… Вам их немцы, выдали? Да?.. Или, может, еще откуда? А, Юрий Николаевич?.. В набрякших усталостью глазах Мизюка отразилась нетерпеливая досада. Но он сдержал себя, и голос его прозвучал по обыкновению ровно: — От новых властей мы ничего не получили. Судя по всему, им не до наших нужд… — А тогда — где же вы все достали? Кто вам дал? Если не секрет, конечно… — Неужели это столь важно? — Мизюк с прежним раздражением воззрился на дотошного паренька. — Впрочем, никакого секрета в этом нет. Могу тебе сказать, изволь. Тетя Фрося, Семен Петрович Вегеринский… ну, в общем, и некоторые другие воспитатели собрали у кого что было дома… Муку, например, картофель, крупы… Запасы невелики, хотя на первых порах и этим как-нибудь обойдемся. При должной экономии, разумеется. — А чего сегодня на ужин? — полюбопытствовал Славка. — Сегодня — ячневая каша на постном масле, — ровным своим голосом сказал Мизюк. — Так. Понятно… Ну, постой же, жмотина, гад!.. Вы извините, конечно, Юрий Николаевич… Это я не про вас, — Иван покосился на слегка изумленного директора и виновато шмыганул распухшим носом. — Это я так просто, про одного нашего хмыря… Ну, чего ты, Комочек, приуныл? Айда, что ли, ячневую кашу на постном масле рубать, а?..
6
С каждым днем теперь на улице становилось все холоднее и холоднее. Часто шли дожди. Вернее, они теперь почти не прекращались. Во дворе повсюду расплывались мелкие серые лужи, подернутые зябкой ветреной рябью. Вся земля в саду была усыпана сорванными ветром, хотя и не пожелтевшими листьями. Она разбухла, холодно и вязко прилипала к босым ногам. Вырытые в щели печурки оплывали и рушились; от залитых седых кострищ пресно пахло намокшей золой. А сплошь затянутое низкими тучами небо беспрестанно сочилось и сочилось морозящей колючей влагой. Слякотно было на улице и промозгло. Но как-то уж очень неприятно ощущалась заоконная эта слякотность и промозглость по утрам, когда наступала пора вставать и напяливать на себя отволглую за ночь, стылую одежонку. Окна в спальне давно уже не открывали. Но к утру комната все равно как бы пропитывалась всепроникающей сыростью, от которой невозможно было, конечно, спастись под насквозь просвечивающими казенными одеялками, и ребята с вечера укрывались поверх одеял всяческим подручным тряпьем. Но особенно туго приходилось в эти непогожие дни Славке. Кровать его стояла у самого окна, и ночной холод как бы стекал на него с подоконника, заставлял скрючиваться в три погибели и лежать неподвижно, чтобы подольше сохранить убывающее, неверное тепло и не прикасаться лишний раз к брезентово отвердевшему от сырости, словно бы остекленелому и скользкому на ощупь, угловато выпирающему краю набитого соломой матраца. Славке и вовсе было бы худо; он наверняка простудился бы, а чего доброго, может быть, даже и заболел бы воспалением легких, если бы сестра не раздобыла где-то для него старушечью какую-то ватную кацавейку. Зоя аккуратно подрубила ее, подвернула и заштопала рукава, залатала, где нужно, и получилась хотя и неказистого покроя, балахонистая, но вполне пригодная к носке одежина — не то долгополый пиджачок, не то укороченный армячишко. Однако не продувало его ветром на улице, дождем не сразу просекало — и то ладно… На ночь Славка укрывался ватным своим армячком, старательно, не оставляя щелки, подтыкал его под себя с боков и быстро засыпал — в тепле, — радуясь втихомолку подвалившей ему удаче, чувствуя виноватость перед сестрой и горячо благодарный ей за любовь и заботу. Вот только, угревшись во сне, он начинал ворочаться; армячок сползал на пол, и тогда Славка просыпался от холода. Не открывая глаз, он выпрастывал руку из-под одеяла и, нашарив подле кровати лежащую горбом одежину, опять тащил ее на себя, вновь сжимался, чтобы поскорее согреться, но сон постепенно отлетал от него. Славка начинал думать о совсем развалившихся своих ботинках, которые чинить было уже бесполезно, а выкидывать нельзя — других-то нету; о теплой, сестрой раздобытой ему одежине и о том, где бы расстараться на завтра хлебушком. В столовке хотя и кормили нынче — два раза на дню кашу какую-то постную, на воде, давали и один раз, в обед, жиденький картофельный супец-рататуй, — но с хлебом в детдоме было худо. Лишь по воскресеньям иногда тетя Фрося пекла в духовке какие-то кисловатые, черные лепешки-коржи — вот и весь тебе хлеб. А о хлебе у Славки была еще и особая печаль. Он ведь до сих пор так и не рассчитался с Валькой, не вернул ему краюху, которую Щур когда-то швырнул Славке на заново набитый соломой матрац, как изголодавшейся какой собачонке. Никак не получалось у него с отдачей долга. Если и заводился порою хлебушек, то самогоЩура почему-то в спальне не было, и тогда Славка, не выдержав искушения, съедал прибереженный ломоть до появления своего кредитора, но чаще всего и отдавать-то было нечего. Правда, Валька Щур не приставал к нему теперь, после драки с Морозом у печурок, в саду, не напоминал о долге, но тем самым как бы держал Славку в кабальной зависимости и в любое время, конечно, мог поставить его на правеж, а иначе говоря, превратить в безропотную «шестерку», в раба, который был обязан с первого же слова исполнять всякое повеление своего хозяина. Сколько таких вот «шестерок» раньше в детдоме бегало, особливо среди малышей! А остальные ребята, настоящие пацаны, всегда относились к ним без какой-либо жалости, презрительно. Ведь долг-то — дело святое. Его или возврати сполна и в положенный срок, или как-то отработай. Но в этом тебе уже никто не поможет. Покуда сам не отквитаешься, никто за тебя пальцем не пошевельнет и от долга твоего не освободит — ни самый твой друг закадычный, ни воспитательница, ни директор, вздумай ты им пожаловаться! Закон тут был простой: брал — отдай. Один разок тебе напомнят, другой, а потом уже пеняй на себя… Но Валька Щур пока не качал над ним права, с уплатой не поторапливал. И Славка Комов тоже помалкивал, хотя причины тому были у них разные. Щур опасался все же, что Славка расскажет ребятам о том, как он застукал его, Вальку, на «тихом шмоне», и сейчас Комку за это даже морду не набьешь. Сильно пошатнулся в глазах пацанов прежний Валькин авторитет. И не только из-за той чепуховой драки с Иваном Морозовским. Нет. Было тому и более веское основание…Однажды заглянул Валька в кухню, хотел у тети Фроси щепотку соли выканючить — и опешил: перед ним, у двери, сидя на низенькой, с подрезанными ножками табуретке, скребла над широким тазом картошку бывшая детдомовская пионервожатая Рита Федоровна. Некогда Валька Щур числился у нее в активистах, слыл образцовым звеньевым. И пионервожатая на отрядных собраниях неизменно приводила его в пример другим своим, нерадивым, звеньевым за исполнительность, высокую сознательность и безукоризненную дисциплину всего звена в целом, не ведая — понятно — того, что едва ли не каждый пацан в том высокосознательном, Валькином, звене ходил у него в должниках неоплатных… Рита Федоровна приветливо, хотя и с некоторой долей смущения, улыбнулась лучшему своему звеньевому, но быстренько пригасила улыбку: что-то, видать, насторожило ее все-таки в глуповато расплывшейся Валькиной физиономии. Смотрел он на Риту Федоровну отнюдь не так, как раньше, без какой бы то ни было почтительности, а лишь удивленно да еще, пожалуй, слегка нагловато. — Тетя Фрося-то где? — помедлив, спросил Валька, не здороваясь с бывшей своей вожатой и никак ее не называя. — Сейчас придет. А зачем она тебе, Валентин? — в свою очередь поинтересовалась Рита Федоровна. — Почему ты со мной не поздоровался? — Мне бы соли немного… — уклонился от ответа Щур, шмыгнув глазами по кухонным полкам. Рита Федоровна молчком поднялась с табуретки, достала откуда-то из-за плиты жестяную солонку и так же, молчком, протянула ее Вальке. Тот нахально сыпанул в карман добрую горсть бесценного по теперешним временам продукта и ушел, не притворив за собой дверь и даже не поблагодарив явно приунывшую Риту Федоровну, отметив, однако, про себя, что бывшая пионервожатая вроде бы чего-то побаивается.
Тихий этот паренек появился в здешнем специализированном детском доме не совсем обычным порядком, незадолго до начала войны, весной. Новичков всегда привозили в детдом по нескольку человек за раз, скопом. А Володя приехал в одиночку. Вернее, привез его сюда Мизюк. Сам еще как следует не оглядевшийся на новом месте, Юрий Николаевич ездил тогда в Киев, «утрясать» кое-какие вопросы, связанные в основном с утверждением его в хлопотной должности директора и посему требовавшие обязательного личного присутствия. На обратном пути завернул он к бывшему своему сослуживцу по давней и нелегкой работе в Чрезвычайной комиссии по борьбе с беспризорностью. Сослуживец к тому времени уже не первый год заведовал знаменитым среди окрестной шпаны детприемником в Пуще Водице. Попасть в Пущу Водицу означало для всякого сорванца, с одной стороны, — весьма лестное самолюбию признание немалых твоих «заслуг» в нарушении закона и общественного спокойствия, но, с другой, — неизбежное расставание на вполне определенный срок со столь желанной свободой, о которой грезили втайне даже упитанные и чистенькие счастливчики из различных образцово-показательных детских домов. Вот этот заведующий и подбил Мизюка взять Володю Лысенко с собой. — Ты, конечно, сам прекрасно знаешь, — увещевал он Юрия Николаевича за стаканом крепкого чая в канцелярии детприемника, — что публика тут у меня подбирается исключительная. Да и крестник этот мой, которого я хочу тебе рекомендовать, прямо скажу, — не голубок сизокрылый. Отменные университеты мальчишка прошел. Но, — как бы тебе это попроще объяснить? — душа у него, понимаешь ли, до конца не очерствела, коркой ледяной покуда еще не покрылась, что ли. Ее отогреть можно… — Так ведь у меня тоже не парник оранжерейный, — попробовал отгородиться неуклюжей шуткой Юрий Николаевич. — Своих архаровцев хоть отбавляй. — Ну, не скажи!.. Твои архаровцы — ангелы непорочные, по сравнению с моими хлопчиками… — Заведующий просительно заглянул в глаза Мизюку. — Возьми к себе паренька, Юрий Николаевич. Тебя-то я знаю, а потому и прошу. Кому бы другому и сам не отдал. Да попади он к какой-нибудь ученой фифе, затюкают его всяческими новомодными методами пер-р-ревоспитания! А ему-то просто-напросто человеческое участие необходимо, внимание и элементарная доброта… Кстати, откровенно говоря, я и права-то никакого не имею отдавать его кому бы то ни было, без надлежащего ходатайства и разрешения свыше, но жаль мальчишку. От нас ему одна дорога — в трудколонию… Там он, вернее всего, «образование» свое довершит — и пойдет-покатится из тюрьмы в тюрьму… Да ты не беспокойся, ходатайство я сам оформлю, комар носа не подточит… — И, заметив протестующее движение Мизюка, заторопился: — Ты погоди, погоди отказываться! Посмотри сперва на парня, а потом уже и решай!.. — Ладно, уговорил. — Мизюк со вздохом отодвинул недопитый стакан, к граненым бокам которого прилипли чаинки. — Веди-ка сюда своего голубя. Погляжу хоть на него для порядка. Но сначала бы с «делом» его познакомиться не мешало… А то ты мне этого фрукта вроде кота в мешке подсовываешь… Заведующий детприемником слишком уж поспешно, опасаясь, наверное, что Юрий Николаевич передумает, достал из шкафа папку с «делом» и, пренебрегая высоким начальственным положением своим, самоходом направился за пареньком. Мизюк же без особого интереса развязал тесемки папки, бегло перелистал несколько страниц, мельком их просматривая, перевернул еще две-три, вчитался — и присвистнул. За круглым сиротой Владимиром Сергеевичем Лысенко, тринадцати с половиной годков от роду, вилась уже довольно-таки длинная цепочка групповых, одиночных, карманных, квартирных, вокзальных и прочих краж. Судя по сжатому между картонными папочными обложками и потому, конечно, отнюдь не исчерпывающему жизнеописанию его, мальчишка был разносторонним и вполне квалифицированным вором. «Нет, не приму я от этого ушлого благодетеля сей подарочек, — твердо решил Юрий Николаевич, откладывая подальше от себя потрепанную папку. — Ну его к лешему! Тут дал бы бог со своими толком управиться…» Возможно, не последнюю роль в непреклонном этом решении Мизюка сыграла и помещенная на первой странице, отблескивающая глянцем, фотография самого обладателя столь содержательного «дела». На Юрия Николаевича угрюмо взирал стриженный наголо, с запавшими, словно от истощения, щеками и безвольно очерченным, капризным ртом типичный беспризорник. К тому же еще — как оговаривалось в отдельной «сопроводиловке», сочиненной, должно быть, на досуге каким-нибудь отставным кабинетным «шкрабом», сиречь школьным работником и, надо полагать, все-таки педагогом, — у данного ребенка многократно наблюдались «отчетливо выраженные признаки умственной ограниченности, усугубленные общей дефективностью…». «Черт знает что! Ересь какая-то, — прочитав «сопроводиловку», язвительно покривился Юрий Николаевич. — Усугубленные признаки, общая дефективность… Ну и мудрецы! Очевидно, попросту истеричный, как всякий малолетний вор, и безжалостно измордованный вольготной жизнью мальчишка. Нет уж, пускай с ним в исправительной колонии маются. Самому брать в детский дом этакое сокровище — слуга покорный…» Однако объектив казенного фотоаппарата оказался все же небезызъянным. Да и крючкотвористое заключение досужего знатока ребячьих душ, адресованное будущим наставникам Володи Лысенко и призванное — по мысли создателя мудреной бумаги — помочь им поскорее вернуть заблудшего огольца на праведную стезю, по всей вероятности, составлялось, когда ученый дядя пребывал не в лучшем расположении духа либо в несчастливый для парнишки день. Как фотография, так и заключение были не совсем в ладу с действительностью. Заведующий детприемником привел в канцелярию ничем особо не примечательного с виду, в меру худощавого, большеглазого пацана. Отросший ежик светлых волос задорно топорщился над безмятежным мальчишеским лбом. Держался Володя непринужденно, спокойно и — как сразу же отметил про себя Мизюк — с ненаигранным чувством собственного достоинства. Лицо открытое, чистое, но в уголках по-детски еще не отвердевших губ уже наметились тонкие бороздки, которые обычно отличают людей независимых и волевых. Даже серая, непокроистая одежка не пригнетала его, а сидела на пареньке ладно и словно бы форсисто. Увидишь такого опрятного мальчишечку возле себя на вокзале, в магазине ли, на улице — и в голову не придет за карманы хвататься. Он вежливо поздоровался с Юрием Николаевичем. Не отказываясь, ловко присел к столу. На вопросы отвечал вразумительно, достаточно откровенно. Володя не суетился, не отводил глаза, не двигал бесцельно руками. И Мизюк как хитро ни пытал его, сколь придирчиво ни приглядывался к мальчишке, никаких «отчетливых», а тем более еще и чем-то там «усугубленных» свидетельств какой бы то ни было ущербности в нем не обнаружил. Наоборот, паренек произвел на него весьма хорошее впечатление. Тем временем заведующий детприемником заложит руки за спину и отступил к окну, отвернувшись от Мизюка и как бы подчеркивая этим полную непричастность свою к дальнейшему развитию событий: дескать, я свой долг исполнил, дорогой мой товарищ, а сейчас уже слово за тобой… «А что?.. Парень-то явно не глуп, уравновешен, хотя и сдержан, себе на уме, подумал Юрий Николаевич, окончательно проникаясь симпатией к мальчишке, ощущая в душе тоже некий молодецкий задор и припоминая, с какими отпетыми урками доводилось ему когда-то возиться, работая в Чрезвычайной комиссии. — Да какой же он, к шутам, дефективный!.. Или ты сам уже обюрократился, домашним жирком оброс? Ведь за такого аристократа, пожалуй, и впрямь есть смысл побороться. Ладно, чем черт не шутит!.. Попробую, рискну…» — Ну, как, Владимир Сергеевич Лысенко, ты согласен поехать в наш детский дом? — с самым серьезным видом спросил Мизюк. И то, что Володя воспринял взрослое обращение к нему тоже серьезно и ответил утвердительно не сразу, а немного помедлив, без показной готовности, за которой, вероятнее всего, можно было бы предположить разве только желание любым способом увильнуть от путешествия в исправительную колонию, также пришлось по сердцу Юрию Николаевичу… В детском доме Володя Лысенко повел себя тихо, скромно. Учился он старательно, однако с одноклассниками не дружил. Больше тянулся к старшим ребятам, хотя и не заискивал перед ними. Мог дневать и ночевать на спортплощадке, без устали вертеться на турнике. Никому не открывал он своего прошлого. Но пронырливая детдомовская шатобратия неисповедимыми путями вскоре вызнала всю Володину подноготную. Даже то, что оставалось до поры неведомым и самому Мизюку: мальчишка давно уже мечтал выучиться на летчика. Именно поэтому он и прибился когда-то к полубродячему провинциальному шапито, где с коронным номером выступали, как извещалось в афишах, «знаменитые воздушные гимнасты братья Корелли», а в миру — проворные хлопцы Козлюченко и Карасюк, не чуравшиеся иной раз, после восторженных аплодисментов публики, прогуляться вдоль базарных рядов под настороженными взглядами недоверчивых торговок. Очень уж жуликоватого облика были хлопцы. Повлекло к ним Володю неотразимое слово «воздушные». Предприимчивые эти братья рьяно взялись натаскивать жилистого огольца на амплуа «летающего мальчика». Со временем, конечно, Володя разобрался, что взмывать на шаткой трапеции к парусиновому цирковому куполу — это одно, а управлять летающим в небе самолетом — совсем другое. Из шапито он убежал. Но жестокие тренировки под неусыпным надзором тяжеловатых на руку гимнастов не миновали для него бесследно. Мышцы Володины развились и окрепли; движения сделались плавными, быстрыми и точными; все тело свободно подчинялось ему; он научился владеть собой и преодолевать обволакивающий страх. Само собой разумеется, что примечательные эти качества впоследствии основательно послужили ему в его былой, опасной и переменчивой, привольной жизни и не единожды спасали увертливого воришку от неминуемой, казалось, беды. А вот в детском доме прямого применения им как будто бы не находилось. Ну, турник там, брусья да еще всякие «живые пирамиды», на которые почему-то неизменно упирал на занятиях по физкультуре детдомовский физрук, паренька нисколько не обременяли. Но даже и эти, не требующие особой сноровки упражнения — когда в исполнении их участвовал Володя Лысенко — вызывали неприкрытую зависть хилой мелюзги из бывших интеллигентных семей и тайное восхищение девчонок. Впрочем, и на то и на другое самому Володе было в высшей степени наплевать. А девчоночье внимание покуда еще вообще не волновало мальчишку. Перед ним маячила возвышенная и, быть может, теперь уже почти достижимая цель, к которой он так неустанно стремился. В школьной и детдомовской библиотеках Володя перечитал все книжки, в каких хотя бы упоминалось об авиации, бредил героями недавних полярных перелетов и мастерил замысловатые модели. — Как вы считаете, Юрий Николаевич, примут меня в летное училище или нет? — не без тревоги спросил он однажды у Мизюка, подойдя к нему после вечерней линейки, когда истомившаяся в неподвижной шеренге ребятня со всех ног кинулась врассыпную: кто в спальни, кто в уборную — покурить перед сном. — А почему бы и нет? Если ты и впредь будешь хорошо себя вести и прилежно учиться, то конечно же примут, — легковесно ответил Юрий Николаевич, озабоченный текущими своими делами и спеша отвязаться поскорее от насупленного парнишки, подошедшего к нему не ко времени со своей пустяковой докукой. В детском доме у Мизюка и так подрастали сплошь летчики, танкисты, моряки и всякие прочие бесстрашные командиры. «Да кто же тогда землю будет пахать, хлеб сеять, на заводах работать?» — в разговоре с ребятами поинтересовался как-то Юрий Николаевич. «А колхозники для чего? Разные там работяги? — бодро откликнулась неукротимая пацанва. — Мы на фронте с беляками драться будем, как Чапаев! Ура-а-а!..» — Ну, вы же знаете, что я раньше… — Володя совсем смешался и понурил голову. — В общем, там, говорят, надо сперва мандатную комиссию проходить. Верно? — А-а-а… Так ты вот о чем… Комиссию, конечно, проходить надо. — Юрий Николаевич, ругнув себя, повнимательнее вгляделся в смущенное Володино лицо и положил ему руку на плечо: «А у этого пилота, видать, нечто более серьезное… Ишь ты, шельмец, уже и про мандатную комиссию успел разузнать у кого-то!» — М-м-м-да-а-а… Я сначала вот что хочу сказать тебе, Владимир. Ты привыкай судить о людях не по их прошлым грехам да заслугам, а по нынешним. Тогда, пожалуй, и люди о тебе так же судить будут. Но о прошлом забывать все же не следует, хотя бы для того, чтобы не повторять былых ошибок в настоящем и будущем. Что же касается мандатной комиссии, то тебе об этом рановато еще беспокоиться. Надо школу кончить. Ты учись, Владимир, пока только учись… Ну, а потом мы постараемся сделать все возможное, чтобы тебя обязательно приняли в летное училище… Да и невозможное — тоже сделаем, — помедлив, с улыбкой добавил Юрий Николаевич. Когда-то Мизюка поражала настойчивость мальчишки и радовало его упорство в постижении школьных премудростей. Ведь прежде-то все у него шло через пень-колоду. Жизненные университеты, конечно, университетами… Быть может, помимо всего прочего, они как-то и способствовали общему его развитию. Но вот обычного, школьного образования было у паренька, как говорится, четыре класса да пятый коридор. Однако даже за эти месяцы, проведенные им в детском доме, стало заметно, как выровнялся Володя Лысенко. Хотя, понятно, он и не сумел догнать своих сверстников, которые, в общем-то, никогда не прерывали учебу… Теперь же окончательно рухнули Володины мечты. Но разве только его одного?! Кто бы мог предсказать, что вскоре все пойдет прахом? Город захватят немцы. Едва ли не половину воспитанников угонят на чужбину. Некоторые сами разбредутся по селам. А те, что покуда еще держатся в детском доме, будут постепенно превращаться в привычных воришек и попрошаек. Впрочем, нет. Почему же — превращаться? Они уже превратились. Да-да… Превратились, как это ни прискорбно. Немало светлых надежд погубила война. Сколько же судеб она исковеркала? Ну, а кое-кого так и вовсе наизнанку вывернула. Как наждаком, со шкурой и мясом, содрала внешний благопристойный лоск и обнажила самое нутро — самое что ни на есть потаенное, во глубине сокрытое и отвратительно смердящее вдруг вывалилось наружу. Вот он я каков — глядите!.. Так неужто все это могло обойти стороной восприимчивые детские сердца, не коснуться незащищенных ребячьих душ? Нет, конечно… От приметливого детского глаза ни единая тайная червоточинка не ускользнет, самый тихий шепоток мимо чуткого уха не пролетит. А память детская как губка — она моментально все впитывает. И нет ничего сверхъестественного в том, что и среди них отыскался такой вот своекорыстный, жестокий и негодный человечек, как Валентин Щур, — между прочим, его, Мизюка, воспитанник!.. Вероятно, ты сам недостаточно сил на ребят тратил, плохо знал их наклонности, характеры, привычки. Вообще невнимательно к ним относился и воспитывал спустя рукава… Но много ли проку казнить себя задним числом? Да и поздновато сейчас казниться. Нужно заботиться о том, как спасать детей… Хотя постой-ка, постой… Спасать?.. От чего? От войны, от угона в неволю, от надвигающейся зимы, от болезней, от вшей, от голода, от подлости?.. Уберечь их как-то от всего этого, укрыть… М-м-м-да-а-а… Спаситель нашелся!.. Но ведь именно это как раз и составляет, к великому сожалению, окружающую ребят нынешнюю жизнь. И разве сможет он либо кто-нибудь другой, пусть более опытный и сильный, уберечь и спасти детей от самой жизни, каковой бы ужасной она ни была? Нет, конечно же это невозможно. От творящегося вокруг зла не отгородишь ребят никакой стеной. Они все увидят, все узнают, все поймут. Важно только, чтобы и в самых тяжких условиях они не потеряли веры в людскую доброту, порядочность и сами оставались людьми… Да-да, людьми… Добрыми и честными людьми. Все они, вот эти оборванные и неприкаянные ребятишки, в чьих не по-детски остывших глазах словно бы прижилась уже какая-то зверушечья недоверчивость, вечное ожидание пинка, окрика, должны сохранить в цепкой памяти своей — для будущего — не одни лишь горестные воспоминания о выпавших им на долю многих мытарствах да невзгодах, но и что-то иное, светлое, быть может; способное затем — в той, будущей и, несомненно, радостной их жизни — бросить на мрачные эти дни теплый отблеск людской заботы, внимания и ласки, чтобы каждый из них не ожесточился в горе своем, не замкнулся, а сумел бы потом приветить обиженного, защитить слабого, накормить голодного… Да-да, каждый из них. Всяк, без исключения. И независимый в суждениях и действиях своих Иван Морозовский; и неунывающий пустослов Геннадий Семенов; и давно смирившийся с убогой своей участью Женя Першин; и слабосильный, но всегда находящий себе покровителя Слава Комов; и покуда еще не осознающий, возможно, всей низости гнусного своего поступка, столь резко отделившийся от остальных ребят Валентин Щур; и нетерпимый ко всякой несправедливости, порывистый Володя Лысенко, который, видать, снова принялся за старое свое ремесло… А последнее обстоятельство особенно тревожило сейчас Юрия Николаевича, потому что в теперешних условиях угрожало весьма серьезными последствиями не только самому мальчишке, но и всему детскому дому. Для Мизюка, понятно, не было тайной, что почти все ребята по-прежнему подворовывали и подкармливались на стороне в меру своих сил. Однако Володя Лысенко не мелочился в семечных рядах на базаре, не растрачивал способности, лазая по садам и огородам, не торчал у дверей маслобойки и, разумеется, не попрошайничал по дворам в селах. Он приноровился кормиться за счет неосмотрительности проезжающих к фронту немецких шоферов. Шарил в незапертых кабинах проходящих через город и оставленных без должного пригляда у обочин грузовиков, в пустых легковушках и в армейских автобусах. Вряд ли, конечно, Володя ясно представлял себе, насколько опаснее стал нынче и без того достаточно рискованный этот промысел. Но вот Юрию Николаевичу подчас и помыслить бывало страшно, чем это может когда-нибудь кончиться. Правда, пока все благополучно сходило с рук удачливому пареньку. Хотя кто же поручится за будущее?.. А ведь не далее как на прошлой неделе, заглянув вечером в спальню старших мальчиков, Мизюк неожиданно угодил в самый разгар настоящего пира. Тесно сдвинув кровати, ребята расположились вокруг Володиной постели, где на прикрытом чистой тряпицей одеяле были щедро расставлены вспоротые банки мясных консервов, лежал не тронутый еще плоский кирпичик немецкого — в вощеной обертке — черного хлеба, Отделенный от горки печенья и шоколадного крошева крупно нарезанными кусками копченой колбасы. Не виданное дотоле в детском доме богатство, как и довольные лица мальчишек, освещалось немецким же сигнальным фонариком, с передвижными разноцветными стеклами и откидным козырьком, хитро приспособленным над рефлектором. Для пущего шику, быть может, ребята надвинули на рефлектор красное стекло и в охотку «гужевались» при неверном этом освещении, убежденные в полной своей безопасности. Спальня благоухала сигаретным дымком. Его даже разогнать как следует не удосужились, и дымок тонкими полосками витал над беспечными мальчишескими вихрами. «Так они, чего доброго, и спиртное однажды догадаются сюда притащить, — подумал Мизюк, хмуро оглядывая пиршественное ложе и торопливо дожевывающих ребят. — Если уже не притащили… Тогда хлопот, с ними не оберешься…» Впрочем, какого-либо иного подозрительного запаха в спертом комнатном воздухе сейчас вроде бы не ощущалось, и у Мизюка немного отлегло от сердца. Да и на физиономиях блаженствующих парнишек не было заметно хмельной бесшабашности, а только некоторое замешательство и легкий испуг. — Откуда взялось все это? — со строгостью в голосе громко спросил Юрий Николаевич, поведя рукой и сознавая наивность непроизвольно сорвавшегося вопроса. Ведь и так нетрудно было понять, каким путем могла оказаться в мальчишеской спальне сия необычная и соблазнительная снедь. Застигнутые врасплох ребята не ответили директору. Они лишь плотнее сдвинулись на кроватях, согнув спины и делая вид, что никак не могут отвалиться от такого обильного стола. Один Генка Семенов, неспешно оборотясь к Мизюку, дожевал что-то, старательно сглотнул, утерся рукавом и расплылся в радушной улыбке. — А-а-а, Юрь Николаич! Здрасьте! Милости просю к нашему шаласю! — Генка живехонько растолкал жмущихся к нему смущенных мальчишек. — Ну-ка, пацаны!.. Лучшее место Юрь Николаичу!.. Вы, Юрь Николаич, не беспокойтесь, — балагурил он. — Мы эту жратву чистяком сработали. Нашли то ись… Пять минут страху — и никакого мошенства!.. Просю!.. — Я вас спрашиваю, откуда и кто принес в детский дом вот эти продукты? — не поддался минутному искушению Мизюк, намеренно не обращая внимания на привычно валяющего дурака Генку Семенова. — Ты, Лысенко? Или ты, Морозовский? Под нахмуренным директорским взглядом ребята и вовсе приуныли, почувствовали себя неуютно. Головы опустили, потупились. И жевать даже перестали. Сидят, как воробьи нахохленные, носами пошмыгивают. Теперь уж сколько ни уговаривай их, с какого боку ни подъезжай, что угодно с ними делай, хоть бери каждого да на кусочки мелкие тут же распластывай, — ничего путного от замкнувшихся мальчишек не добьешься, ни в чем они не сознаются. — Да я же вам сказал, что мы нашли, Юрь Николаич… И отчего это вы нам, бедным, всю дорогу не верите?.. — изображая незаслуженную обиду, затянул было плаксивым тоном скуксившийся Генка Семенов. Но Мизюк и на этот раз успел в самом зародыше пресечь разворачивающуюся комедию: — Довольно кривляться. Не желаете мне отвечать — не надо. Дело ваше. Но учтите, чтобы я больше никогда — ты слышишь, Морозовский? — никогда больше не видел в вашей спальне краденого! Ты меня слышал? — Ну, слышал… А чего я украл-то? У кого? — недовольно пробурчал Иван Морозовский в спину шагнувшему к порогу директору. — Вы сперва докажите… Юрий Николаевич приостановился у двери, недобро посмотрел на сердито насупленного паренька, однако все-таки сдержался — не счел, видимо, нужным усложнять сомнительную обстановку. — Я не утверждаю, что крал именно ты, — медленно, на выдохе, проговорил Мизюк. — Возможно, и не ты принес. Не имеет значения. Но я категорически требую от всех вас, чтобы подобное впредь не повторялось… — непреклонный голос Юрия Николаевича вдруг как бы дал трещинку, смягчился. — Неужели, ребята, вы сами не понимаете, какую непоправимую беду можете навлечь на себя да и на остальных детей, ваших младших товарищей? Подумайте об этом хорошенько, ребята… Так-так… Все ясно. Никто из пацанов, значит, не погорел. Тогда о чем же нам думать-то? Но коль уж Мизюку очень шибко захотелось, чтоб мы думали, могём и подумать. Нам-то чего?.. От этого нас не убудет. А ему, может, и спокойнее станет. Человек-то все же, вишь, как переживает, волнуется… Накрепко умолкла, сильно призадумалась шустроглазая ребятня. И Юрию Николаевичу уходить от них молчком тоже вроде бы неудобно. М-м-м-да-а-а… Положеньице… Сообразительный народ, конечно, эти мальчишки, хотя и неоглядчивый. Ну, какое им дело сейчас до каких-то неведомых грядущих злосчастий, которые, быть может, и совсем не нагрянут, когда вот эта, близкая, и, казалось, неминучая опасность дальней грозой их обошла? Для острастки маленько погуркотело в стороне, пыль да мусор вокруг шальным ветром взмело, глаза кой-кому чуть запорошило, и снова все улеглось. Вона — опять солнышко светит да пташки поют. Полная благодать на душе… Чутко, в момент уловили мальчишки перемену в настроении директора. И задвигались облегченно, умостились посвободнее. А иные уж и заулыбались, шушукаться начали потихоньку, подталкивая друг дружку локтями и косясь исподволь на неиспользованный харч. Руки как будто сами собой потянулись к хлебу, к консервам, к печенью… — Ладно, Юрий Николаевич. Мы вас поняли, — окончательно сминая напряженность, уступчиво сказал Володя Лысенко, возводя на Мизюка невинные глаза. — Ничего подобного в спальне вы больше не увидите. — Ага, Лысый! Точна-а! Мы теперя ученые… Мы Женьку Першина будем в коридоре на шухере держать! — улучив все-таки свой миг, ввернул словцо Генка Семенов под одобрительный смех ребят. И словно бы рухнула, разом исчезла какая-то невидимая перегородка между ним, директором, озабоченным нескладными их детскими судьбами взрослым человеком, и всей этой разудалой братией, для которой в сиюминутном счастливом мире не существует ни войны, ни оккупации, ни страданий людских, ни зла… Да ведь и чего страшного-то произошло? А ничего. Подумаешь, колымагу одну немецкую потрясли! Пускай они там своего часового ставят… Разве же поймали кого-нибудь? Нет, не поймали. Жратва — на всех? На всех. Над головами пока не каплет? Не каплет… Ну, так о чем печалиться-то? Как говорится, тепло, светло и мухи не кусают!.. — Юрий Николаевич, попробуйте колбаски… Мировая!.. — Может, консервы хотите? Да хоть всю банку!.. — Юрь Николаич, а хлебца-то, хлебца?.. Мы себе достанем!.. — Вот, Полине Карповне печенье передадите… — Шоколадку ей от нас!.. Ах, чертенята!.. Чтоб вам пусто было… Ну, что ты нынче с таким народцем поделаешь? Жулики они все, по твердому убеждению завхоза Вегеринского, бандиты и уркаганы… М-м-м-да-а-а… Но ведь и дети еще, помимо всего прочего, самые обыкновенные дети. Только предоставленные на какое-то время самим себе и попросту голодные… — Нет-нет, ребята. Спасибо. Нам с Полиной Карповной ничего не нужно, — снова как бы отгораживаясь от них, отказался Юрий Николаевич и попятился к выходу. — В крайнем случае, вы бы уж лучше завтра с малышами поделились, девочек бы угостили… — Да мы и так им оставили, Юрь Николаич!.. — Вот и прекрасно… Хорошо… Но предупреждаю — чтобы в последний раз!.. — И, выйдя уже за порог спальни, внезапно спохватился, вновь скрипнул дверью, построжавшим оком обвел комнату. Мальчишки по-прежнему пировали. Но Щур почему-то к ним не присоединялся, лежал на кровати в своем запечном углу — спал, наверное. Мизюк вначале и внимания на него не обратил. — Форточку откройте… Курцов выгоню из детского дома в два счета… А консервные банки потом в окошко не выбрасывайте. Спрячьте их… В саду где-нибудь подальше закопайте, что ли… — Не бойтесь, Юрь Николаич, мы их заначим! Порядок будет. Ни один легаш не найдет!.. Юрий Николаевич безнадежно махнул рукой, рывком повернулся и затопал по коридору в свою комнату…
Тщательно вычерпав ложкой расплывшуюся по дну миски жиденькую овсянку, Мизюк поднялся из-за стола. Воспитательницы тоже встали. Столовка тем временем уже опустела. Лишь заплаканная Рита Федоровна, в сердцах грохоча мисками, собирала грязную посуду, совала ее в раздаточное окошко и вытирала тряпкой столы. Выражать бывшей пионервожатой свое сочувствие и поддержку Мизюку показалось никчемным. Ведь словами-то ей все равно не поможешь. «Следовало бы дежурства возобновить, — досадливо морщась, подумал Юрий Николаевич. — Совсем распустились мальчишки… Хотя какие же теперь дежурства? Старшие ребята не сегодня завтра отправятся в село, убирать горох. Вегеринский вроде бы с кем-то там договорился. Обещали за это снабдить детский дом пшеницей. Смолоть ее — дело нехитрое. Значит, хлеб у ребят на зиму все-таки будет… А что, если попробовать пока кого половчее из малышей дежурными назначать? Что ж, труд невелик, пускай приучаются. Да-да… Очевидно, так и придется поступить…» Воспитатели, не торопясь, пересекли двор и уже подошли к первому корпусу, когда Полина Карповна совсем замедлила шаги и тронула мужа за рукав: — Послушай-ка, Юрий, а может быть, тебе все же стоит пойти посмотреть, что там с ребятами?.. Куда-то они запропастились. Как бы беды не натворили. — Правильно! Пойдемте все, Юрий Николаевич! Ну, я вас умоляю! — снова засуетилась Людмила Степановна, нервно щелкая застежками ридикюля, доставая платок и благодарно взглядывая на Полину Карповну. — У меня просто душа не на месте! Вы же еще не знаете — а они к конюшне пошли… Мне девочки сказали… Пойдемте!.. — Ну, нет уж, благодарю… Не нужно меня умолять, — иронически хмыкнув и покачав головой, ворчливым тоном нелюбезно отозвался Мизюк. — Вы уж, Людмила Степановна, пожалуйста, присмотрите лучше за своими малышами, уложите их там поскорей. И не ходите вы никуда, ради господа бога!.. Поля, я через пять минут вернусь… Ни единой мальчишеской души не маячило на сыром — в тускло-оловянных заплатках луж, — продутом ветром и сумеречном детдомовском дворе. И немного поодаль, в саду, на чуть лоснящейся от стекающих дождевых капель блеклой коре яблоневых стволов, на полуоблетевших разлапистых сучьях не было заметно неверно трепещущих отблесков ребячьих костров. Проходя пустынным двором, Юрий Николаевич знобко сутулился и невольно ловил себя на мысли, что успел свыкнуться с этими, красновато мерцающими во тьме и — как называл он их про себя — «первобытными огнищами», без которых оскудевшим детдомовским владениям, казалось, не хватало теперь чего-то существенного, свидетельствовавшего ранее о не совсем еще заглохшей здесь жизни. Как-то слишком уж бесприютно, покинуто — если не сказать безысходно-мертво — представлялось ему сейчас вокруг. Ощущение некой всеобщей погибельной безысходности усугублялось, быть может, еще и тем, что посередке двора нелепо кособочилась порушенная мальчишками дощатая трибунка, с низко накренившейся тонкой мачтой, где когда-то весело трепыхался на летнем ветерке быстро выцветавший флаг. Обшивка трибунки, струганые ее перильца, ступеньки лестницы — все это давно сгорело на кострах да в печурках. Но расшатанные потемневшие столбики и основательно приколоченный к ним железными скобами дубовый настил до сей поры успешно противостояли посягательствам ребятни и прочим налетавшим бурям. Ненадежный этот, дыроватый помост, с хлипкой, перекосившейся мачтой, как бы зыбисто плывущий в сумерках над исхлестанной дождями землей, почему-то неизменно воскрешал в памяти Мизюка картину художника-мариниста, на которой тот изобразил потерпевших кораблекрушение людей. Смытые, наверное, с палубы волной и брошенные на произвол неукротимо разбушевавшихся пучин, несчастные те люди, вопреки всему, отчаянно цеплялись за какие-то балки или бревна, уповая, должно быть, не только справиться с грозной стихией, но и перехитрить судьбу. «Вот уж поистине потерпевшие крушение, — минуя трибунку, обескураженно подумал Юрий Николаевич о некогда незыблемом окружающем бытии, о детском доме-суденышке, ни шатко ни валко бежавшем по мелкой житейской ряби, которое вдруг, — нет, не по его, конечно, капитанскому недосмотру! — швырнуло на пенный гребень, шмякнуло об острые камни, расколошматило в щепки. И теперь он с остатками своей сильно поредевшей команды любыми способами пытается удержать вдосталь хлебнувших лиха ребят на жалких, тонущих обломках. — И ухватиться-то им, бедолагам, покрепче не за что, и берегов не видать… Куда же их потом вынесет, правдолюбцев этих, рыцарей?.. Да и где они сейчас, кстати? В конюшне?.. Что-то долгонько беседа там у них затянулась. Как бы и впрямь не поколотили они мальчишку…» Однако ребята и пальцем не тронули Вальку Щура. Они давно уже поговорили с ним и просто сидели в конюшне на куче прелой соломы, привалившись к стене. Курили себе в тепле, неспешно, по привычке хороня вспыхивающие огоньки самокруток в горстях, и,дабы не учинить ненароком пожара, стряхивали рдеющий пепел на мокрое — под расплющенные, загнутые спереди по-лыжному копыта мерина. И Валька Щур тоже рядком со всеми ребятами пристроился и тоже курил. Мерин изредка, со вздохами, переступал с ноги на ногу, поджимал их поочередно, оседая на бок скошенным крупом; фыркая от табачного дыма и разгоняя его секущим хвостом, хрустел соломой; сыпал исходящими паром катышами и дружелюбно поворачивал голову к ребятам, — должно, любопытно ему было поглядеть да послушать, с чем на этот раз пожаловали к нему мальчишки. Ведь с давних пор именно здесь, в конюшне, под терпеливые вздохи мерина выясняли свои запутанные отношения детдомовские чудо-богатыри: честно спорили и мирились; по закону, до первой кровянки, дрались один на один. Впрочем, на тех, кто воровал в спальнях, кто грешил доносительством, никакой закон уже не распространялся. Таких карали беззаконно — жестоко били по чему попадя, скопом. Однако Володя Лысенко нынче с Валькой Щуром только предварительную беседу провел. Иван же Морозовский и Генка со Славкой молчаливо стояли у двери — ожидали, когда «толковище» закончится. А получилось оно коротким, зато, быть может, чересчур «выразительным». — Для чего же ты, падло, в столовке перед Риточкой выёживался? — намеренно частя сиплым бандитским говорком, спросил Володя, чувствуя, что иными словами Щура не проймешь — не дойдут они до его сознания. Валька было нахально вскинулся, рот уже свой распялил, чтобы начать заедаться в ответ, но вдруг растерянно заморгал, обмяк лицом. Желтые конопатинки яснее проступили на его побелевших щеках. Наверное, Щур все-таки допер, что побывавший в Пуще Водице, а еще до этого немало повидавший и многому обучившийся на кривых перепутьях своей «вольной житухи» Володя Лысенко далеко неспроста заговорил с ним на уличном наречии. Безотказно выручавшим Вальку на прежних ребячьих «толковищах» обычным враньем либо наглым отрицанием: «А ты сам видал?.. Ты сам слышал?.. А чем ты докажешь?..» — сейчас, пожалуй, не отделаешься от сурово сжавшего кулаки пацана. Тут надо или с ходу по морде бить, или просить пощады. — Да ты чего это, Лысый?.. Ребята вот слышали… Я же токо пошутил с нею… Ну, скажите ему, пацаны!.. — Он заерзал глазами от одного молча стоявшего паренька к другому, на всякий случай жалостливо всхлипнул и даже пущенную слезу рукою утер. — Вот гадом же мне быть, пацаны, — пошутил!.. — А ты, Щуренок, и без того уже гад, — жестко сказал ему Володя Лысенко. — Но раз пошутил, так пошутил… Хотя если ты, гад, настучишь про Риточку немцам или чего-нибудь на Мизюка капнешь… — он веско помедлил для большего впечатления. — Век мне свободы не видать! — побожился угрюмой воровской клятвой Володя. — Живым тебе тогда, падло, по земле не ходить. Убью, понял? И совсем уже обалдевший Валька Щур понял: этот хмырь не то что остальные вот эти детдомовские шмакодявки да оглоеды. Этот и в самом деле — убьет. — Да я же говорю тебе, что понарошке, Лысый!.. Когда я на кого стучал?.. Не, ты скажи, а?.. Ну, стучал я на кого из вас, пацаны? — Валька в тоске замотал головой. — Ладно тебе пылить, заткнись лучше, — спокойно посоветовал сникшему Щуру Володя и обернулся к ребятам: — У кого табачок есть, огольцы? Валька мигом выхватил из кармана штанов кисет, рванул зубами натуго зашморгнутый узел и с готовностью протянул Володе, раструсив, однако, над соломой на хорошую завертку настоящего, мелкорезаного самосада. Но Володя не заметил пузатенького Валькиного кисета. Одолжился он у Ивана Морозовского кислым горлодером, добытым из мокрых, раздавленных и заплеванных подзаборных «бычков», перемешанным с бумажной гарью и старательно подсушенным на жестянке. Ребята уселись на солому, привалились боками к стене, беспечно задымили. И Валька Щур к ним подсел. Ну, а чего же ему, столбом торчать перед сидящими пацанами, что ли? Это ведь не у Мизюка в канцелярии нудные нотации слушать стоя. Тут в нескольких словах все, что надо было сказать Вальке Щуру, — сказано. И уразуметь все, что надо было ему, — он вроде бы тоже уразумел. Значит, можно и перекурить. Кончилось «толковище» миром. Славка Комов, правда, хотел уже высунуться вослед с тем, прошлым случаем, когда Валька чужие заначки в спальне проверял, но вовремя передумал. Со Щура и так страху хватит!.. А ребята, конечно, могут теперь спросить: «Почему же ты, Комок, раньше-то помалкивал?.. За пшеничную горбушку ему продался, да?..» Нет, пока помолчать — оно все же вернее… Мальчишки издалека еще услыхали словно бы предупреждающее, глуховатое покашливание Мизюка; не сговариваясь, осторожно поплевали на зашипевшие окурки, не бросили, а бережно спрятали их, поднялись и вышли гуськом из конюшни. Шедший последним Валька Щур малость замешкался — приваливал за ребятами висящую на одной петле дверь. Стылая морось тотчас колко засекла по голым мальчишеским пальцам, хранившим еще слабое тепло тлевших в горстях огоньков, засеребрилась на встопорщившихся бровях, липуче обволокла покрывшиеся пупырышками щеки. И ребята, воротясь от нее, а может, и уклоняясь от вопрошающих глаз подоспевшего директора, засунув руки в карманы, побрели мимо него через сумеречный и бесконечный двор к провально темнеющему окнами корпусу. Юрий Николаевич решил сперва не тревожить парнишек попусту. Слава богу, все целы и невредимы. Как будто и синяков ни на ком не видать, ни ссадин, ни размазанной по физиономиям крови. И рубашки не располосованы, воротники клочьями не болтаются. Хотя отсюда сейчас толком-то и не разглядишь. Но потом укорил себя за неуместное благодушие: «Обрадовался, что не зарезали друг дружку, — вот уже и размяк! Нет, надо все-таки получше на этих бойцов поглядеть…» — Лысенко и Щур, подойдите ко мне на минутку, — не налегая особо на приказные нотки, однако и с должной настойчивостью сказал Мизюк. Ребята словно бы ждали его оклика, приблизились к директору все вместе, кучей. Остановились перед ним, как ни в чем не бывало. Разве только лица у мальчишек какие-то угрюмые, неулыбчивые. Да и держатся они, не в пример обычному, скованно, вроде жмутся слегка. Впрочем, оно ведь и понятно — прохладно на улице. — Надеюсь, вам известно, что днями все старшие воспитанники отправятся в село, убирать горох? Будете работать в поле. Поживете некоторое время в селе… — Он едва не ляпнул, дескать, молочком побалуетесь, отдохнете на природе, но в последний миг спохватился: «Какое же там нынче молочко? Какая, к чертям, природа?!» — М-м-м-да-а-а… Вы уже к этому приготовились? — первое, что пришло ему на ум после заминки, спросил Юрий Николаевич, пытливо — каждого поочередно — оглядывая ребят и постепенно успокаиваясь. Ни малейших признаков побоища — ну, просто прогулялись перед сном, моцион, так сказать, совершили пай-мальчики! Табачищем, правда, от них за версту разит, да это уж ладно… — Известно, Юрий Николаевич, а как же? Мы к честному труду всегда готовы, как пионеры юные! — беззаботно ухмыляясь и почему-то подмигивая Вальке Щуру, не задержался с ответом Генка Семенов. — Верно я говорю, пацаны?.. А ты как, Щуренок, готов? Широкий Валькин рот дернулся, губы презрительно повело на сторону. — Я-то?! Да на кой оно мне, готовиться?! — взъерепенился Щур, но, опасливо покосившись на ребят, сбавил тон и уставился в землю, под ноги Мизюку. — Дак чего я-то?.. Ну, в общем, готов… — То-то же!.. — назидательно заключил Генка Семенов и довольно всхохотнул. — Видали, Юрий Николаевич? Мы со Щуренком завсегда — как штык! — Вот и превосходно. Очень я на вас надеюсь, ребята… «Эко ведь, приструнили они парнишку! — со скрытым удовлетворением подумал Юрий Николаевич о не свойственной упрямой Валькиной натуре сговорчивости. — И поди ж ты, похоже, что без всякого рукоприкладства у них обошлось. Право же слово, умельцы!.. Хотя потешаются они над ним, конечно, напрасно. Потом нужно будет поскорее их от этого отвадить. Иначе совсем заклюют мальчишку…» Однако Володя Лысенко и остальные его дружки явно не разделяли Генкиной веселости. Они по-прежнему стояли молча, пошмыгивая носами. Зябкая дрожь чуть ли не до нутра прохватывала не по сезону — в рубашонки — одетых ребят. Да и скучновато им было зряшную трепотню слушать. И с чего бы это Мизюк к ним прицепился? Что за охота на него вдруг напала языком на холоде с Генкой молотить?.. — Ну, вот что, ребятки… Теперь давайте-ка бегом в спальню!.. Да поживей, — затормошил унылых мальчишек окончательно воспрянувший Юрий Николаевич. — Не то вы у меня и вовсе простудитесь. Быстренько, ребятишки, быстро!.. Продрогшие пацаны, впрочем, не проявили никакой радостной прыти. Как бы с ленцой, неторопко, снова побрели они дальше своим путем — руки в карманах, плечи угловато приподняты, головы понурены. Потопали мальчишки через двор напрямую, даже не обходя мутно белеющих луж. Да и какой же прок их обходить? Ботинки-то все равно такие, что нога сверху вроде и обута, а на след посмотришь — босой… Мизюк не пошел за ними, а повернул к канцелярии, будто бы и раньше туда направлялся. Не было у него сил видеть перед собой понурые эти мальчишеские головы, по-стариковски согбенные детские спины. Но на полдороге он все же не утерпел, оглянулся. В сгустившихся мокрых сумерках ребячьи фигурки уже сливались в неразделимую — неопределенных очертаний — какую-то серую колышущуюся тень, которая, быть может, лишь чуточку выделялась из окружающего сумрака своей подвижностью и густотой. А Юрию Николаевичу почему-то казалось, что ребята сейчас не отдаляются от него, а — наоборот — все ближе и ближе подступают к нему… «Да хватит ли у тебя духу посылать раздетых и разутых детей в такую непогодь на работу в поле? — пережидая под навесом канцелярского крылечка, покуда мальчишки доберутся до корпуса, думал Юрий Николаевич. — Пускай здесь худо-бедно, но хоть крыша над головой у них есть… Ну, хорошо, а что же в противном случае делать? Чем ты их кормить собираешься зимой? Вот то-то и оно…»
7
Но с отправкой старших воспитанников в село Мизюк решил все-таки повременить хотя бы еще денек-другой в надежде, что после неурочных и холодных дождей в конце концов установится долгожданное тепло скоротечной поры запоздавшего нынче бабьего лета. Тетя Фрося и обе воспитательницы согласились с Мизюком. Но завхоз Вегеринский был недоволен решением директора и вечером пришел к нему домой. — Та чего нам ждать, Юрий Николаевич? Чи будет оно, ваше лето, чи не будет — бабка надвое говорила. А с нашими орлами в селе ничего не случится. Черти их не возьмут! Нехай пороблять там трошки, — растирая свою пухлую грудь, пытался он переубедить Мизюка. — Хиба ж они у нас туточки по спальням сидят? Куда там!.. Ведь с раннего ранку до ноченьки поздней на улице. То на базаре валандаются, то у людей по хатам да по каморам шныряют. И не болеют же, не замерзают!.. Вы сами-то слышали, чтобы какой наш босяк лишний разок покашлял? Ни боже мой!.. Ото ж их теперь никакая хвороба не берет. Вот и Полина Карповна вам то же самое скажет… Но жена Юрия Николаевича не поддержала настойчивого Вегеринского. Она пристроилась на диване, в уголке, а перед нею высился целый ворох детской одежды — рубашки, штаны, майки, трусики. Полина Карповна доставала из этого вороха то штанишки, то майку, расправляя, встряхивала, озабоченно разглядывала со всех сторон на свет и соображала — где подшивать, где подштопывать, а где и ставить заплатку. — Нет, почему же, Семен Петрович? — сказала она, хмурясь и скусывая нитку. — Болеют, конечно, ребятишки. Особенно младшие. — Та они же дома остаются. Не о них речь! — не сдавался упрямый Вегеринский. — Как бы мы с вами ту пшеницу совсем не упустили… — Вы уже постарайтесь, Семен Петрович, не упустить… Таланты свои проявите, — слегка польстил несговорчивому завхозу Мизюк. — Вон лошадь берите, поезжайте в село. Попросите там, чтобы еще немного подождали. — Та был я у них позавчера… Просил… — Ну и что? — Мизюк приподнял брови. — Та ничего… Ждут они, понятно. Куда ж им от нас деваться? — Вегеринский, пыхтя, доверительно наклонился к директору: — Зерно-то у них… ну, как бы вам это? — прищелкнул пальцами завхоз, — краденое почти что… Они его из колхозной каморы выгребли и у себя от немцев поховали. Но с дытячим будынком согласны поделиться. Если мы отой треклятый горох уберем. Со старостой ихним я трохи знакомый. Ему немцы строго-настрого приказали все до остатней бубочки с поля собрать и сдать. А рук у його немае — старухи старые да малые дети на печках сидят… Кто же задарма для него такую работу справит, коли мы не допоможем?.. — Вот видите… А вы торопитесь, — успокоительно заметил Юрий Николаевич, очевидно пропустив мимо ушей насчет «краденого». — Та вы чего? Как же нам не торопиться? — Вегеринский заворочался на стуле, громко сопнул носом и приложил руку к сердцу. — А вдруг немцы про той хлеб пронюхают или староста кого другого наймет? — Ну, это маловероятно… — Мизюк вроде бы заколебался, чуть подумал. — Нет-нет, Семен Петрович!.. Все же погодим еще пару деньков… А ты, Поля, отвлекись на минутку, пожалуйста, и согрей нам кипяточку, — попросил жену Юрий Николаевич, давая тем самым понять Вегеринскому, что разговор окончен и что менять свое решение он не намерен. — Вы как к кипяточку относитесь, Семен Петрович?.. Но директор не ублажил Вегеринского даже круто заваренным чаем из довоенных запасов. Завхоз отправился домой сильно раздосадованный. И в самом-то деле, ну что он за человек такой непостоянный, этот Мизюк? То у него одно на уме, то иное… Сначала, видишь ли, хлеб ребятишкам где хошь и как хошь добывай. Торопит, едва ли не в три шеи тебя погоняет… Но когда на мази уже все, — сущие пустяки, можно сказать, остались: пацанов в село спровадить, пшеничку ту у людей забрать да в дытячий будынок тишком-нишком ее привезти, — нет, постой, обожди!.. «Мы с вами не имеем права рисковать здоровьем воспитанников…» Вот так… Опасается, значит, деток простудить, жалеет их… Ну, а он, Вегеринский, выходит, всех этих жуликов да босяков не жалеет? Ему, выходит, Вегеринскому, наплевать на то, что пацанва голяком бегает, голодует? А для какого биса он тогда, спрашивается, как проклятый, по городу да по селам мотается, по крупиночке клюет, что люди добрые подают, достает, меняет, просит? Для себя чи для кого?.. «Мы с вами — персонал, мы обязаны заботиться…» Ага… Да ведь тот «персонал», который поумнее оказался, сразу ноги в руки подхватил — ищи его нынче, свищи! А он, дурачина старый, побоялся тут всякую рухлядь к едреной фене бросить, совестно ему, видишь ли, стало… Вот и бейся теперь один, как та рыбонька на льду, хоть башкою своей дурной в эту вон стенку колотись — ничего не переменится! Даже погоды отой чертовой, может, и до самой зимы ты не дождешься!..Но как бы запропавшее бабье лето, — быть может, на разъезженных, битых войною дорогах где-то застрявшее либо вообще порешившее не заглядывать больше на эту измордованную людьми, разоренную врагом землю, — неяркое в осенней своей застенчивости, однако ласковое и щедрое в нерастраченном, позднем тепле все-таки смилостивилось, пришло. Наступили тихие погожие дни, которые, впрочем, не принесли успокоения завхозу Вегеринскому. Истосковавшаяся по светлому солнышку ребятня с самого утра неудержимо расползалась из детского дома и возвращалась в спальни лишь затемно. Словно сыпучий песок между пальцами, просеивалась за ворота и ненадежную чугунную оградку верткая детвора — покуда спохватишься, а их уже и след давно простыл. Совсем умаялся завхоз Вегеринский, напрасно пытаясь уговорами, посулами безбедной жизни на вольном воздухе добиться от неуловимых мальчишек послушания, склонить их организованно отправиться на горох, чтобы трудом праведным насущный хлеб себе заработать. Вроде бы вот туточки они только что крутились, на пороге кухни околачивались, наперебой лезли пособить тете Фросе, заслужить у нее то грудочку каши, то шматочек коржа, но заикнешься им о том, что пора бы в село собираться, ни единого босяка вокруг. Ну, как будто все разом в преисподнюю проваливаются! Явно отлынивала от честного труда на богатых деревенских харчах, не желала почему-то — пускай и на недолгое время — расставаться со скудной городской жизнью разудалая детдомовская братва. Нечто непонятное взрослым, скрытое от них происходило в детском доме, назревало что-то среди ребят. Старшие мальчишки даже в столовке почти перестали показываться. Малышня да заведомые «шестерки», не таясь, перекладывали на столах порции старших ребят в принесенные с собой котелки или, топыря куцые рубашонки на худых, остро выпирающих пупками животах, прямо в казенной посуде таскали еду своим покровителям куда-нибудь в сад либо на конюшню. Славка Комов с Иваном Морозовским тоже целыми днями слонялись по улицам. Запасливый Иван зорко высматривал под ногами «бычки» покрупнее, подбирал их впрок. А некурящий Славка скучно пялился по сторонам на щербатые стены домов, на обгорелые развалины, на немецкие машины и приземистые — на резиновом ходу — дымящие походные кухни, возле которых, весело гогоча, толпились безоружные солдаты в вольно распоясанных и расстегнутых пропотевших френчах, а то и в серых нательных рубахах. Поживиться тут ребятам было, в общем-то, нечем. Попрошайничать у немцев они не отваживались. И Славка норовил незаметно подвести увлеченного делом своего напарника поближе к маслобойке. Мальчишки привычно просовывали в приоткрытую дверь маслобойки нечесаные свои головы, приглядывались к мужикам, что по-медвежьи топтались у тумбой возвышавшегося посередке, поблескивающего в сумраке пресса, вдыхали запах табака и разогретого подсолнечного масла, соображая, кто из этих хмурых и одинаковых с виду людей подобрее. А если ребятам удавалось еще и разжиться здесь куском свежей макухи, то они — счастливые — торопились за литейный завод, к оврагам, где можно было спокойно поваляться на жесткой и пыльной траве в укромном затишке, отгороженном от всего остального мира кустами жасмина и бузины, пожевать макуху и погреть отощавшие свои бока на неверном осеннем припеке. Правда, добираться сюда нужно было теперь с оглядкой, а еще лучше — прихватив для верности хороший дрын, потому что по пути приходилось то и дело тревожить рывшихся в мусорных кучах бездомных, одичалых собак. Эти поджарые, и облезлые звери, с заметно обозначенными ребрами, зажимая промеж ног жидкие хвосты и в глухом, нутряном рычании роняя с желтых клыков голодную слюну, медленно пятясь, неохотно отступали с дороги в почерневшие, хрустко шуршащие под напружиненными их лапами, уже поникшие стеблями бурьяны, оставляя на цепких репейниках, на обломанных, колких будыльях метельчатой лебеды, на пожухлых сторчках седоватой полыни клочья свалявшейся пегой шерсти. И покуда Иван со Славкой, опасливо косясь на страшно ощеренные псиные морды, покрепче стискивая в руках загодя припасенные палки, петляли по узким тропкам, вытоптанным среди мусорных завалов, бездомные эти собаки, припадая на животы в изреженных бурьянах, неутолимо следили оттуда за мальчишками своими немигающими, воспаленными от гноя, тоскливыми и беспощадными глазами. Ребятня поговаривала в спальнях, что днем одичалые псы людей не трогают, однако по ночам будто бы нападают. Дескать, бродят сворой по улицам, и если увидят какого-нибудь одинокого человека, то бесшумно крадутся за ним, а потом, молча, кидаются на него в темном переулке всей кодлой и рвут горло, как волки. Был даже вроде бы случай, когда они загрызли насмерть какого-то пьяного полицая… Но, несмотря ни на что, именно здесь — за обглоданными дождями и ветром кустами бузины, за мусорными кучами, от которых кисло тянуло прелой кожей, ржавой железной затхлостью и пересохшим тряпичным тленом, — мальчишки почему-то чувствовали себя надежно укрытыми от любых напастей: от злющих собак, от сыто гогочущих немцев, от скорой зимы и от прилипчивого завхоза Вегеринского. Пожевав макухи, ребята блаженно растягивались на земле и, подложив руки под головы, глядели в бездонно-прозрачное, хотя уже по-осеннему блеклое, какое-то выцветшее небо, которое, казалось им, сперва хорошенько выстирали с мылом, затем долго полоскали в проточной водице, тщательно просушили на сквозном ветерке, разгладили каждую морщинку, но вот подсинить как следует отчего-то не догадались. Над запрокинутыми лицами ребят — в самый раз где-то посередке между недосягаемым небом и как бы окутывающей их, податливо смягчающей свою каменную твердь под костлявыми мальчишескими спинами и куда-то бережно увлекающей на себе, теплой и ласковой землей, — наткнувшись на оголенную вершинку куста, прочно там заякорясь, трепыхалась в едва ощутимом снизу, восходящем потоке, рвалась в вышину приставшая к ослепительно блистающей паутиновой нитке какая-то расщеперенная на конце в виде парашютика золотистая былинка. Подобно зависшему на проводах бумажному змею, она неустанно мельтешила перед глазами: крутилась, плавно раскачивалась из стороны в сторону, шныряла то вверх, то вниз, упорно стремясь освободиться от негаданных пут, взмыть в небеса. А у разморенных на позднем солнцепеке ребятишек уже и сил никаких не было, чтобы протянуть руку и помочь пойманной той былинке продолжить свой невесомый полет. Сторожкая тишина опускалась вокруг, наступала во всем необъятном и смятенном мире. И теперь по-особому восприимчивые ко всякому внешнему изменению — к незримым воздушным токам, к теплу и холоду, к свету и тьме, — даже во сне обостренно чуткие к потаенной опасности мальчишки беспечно забывались тут, за городской свалкой, на жесткой траве, в соседстве с одичалыми псами. Звери эти, однако, держались поодаль, не докучали ребятам, должно быть, угадывая в судьбе доверчиво спящих на голой земле парнишек что-то сходное с их собственной нынешней жизнью, одинаково скудной и равно хранимой витающей над ними — бездомными собаками и малыми пацанами — настороженной полуденной тишиной. Ребят не пугал отдаленный хруст, вкрадчивый шорох; не обращали они внимания на ненасытный писк и жадную возню снующих пообочь мышей, на неумолчный пронзительный стрекот кузнечиков, которые, взгромоздясь на трухлявые щепки, все скребли и скребли без устали своими остро зазубренными, как пилы, ножками о стеклянно звонистые, настроенные на разные лады и плотно прижатые к бокам крылья. Иногда, затмевая собою солнце, с шумом и криком обрушивалась откуда-то на пустырь несметная орда воробьев — будто серое одеяло вдруг набрасывали на развороченные груды мусора, пыльный бурьян и кусты. Мгновение оно оставалось недвижимым, обволакивая любую выпирающую кочку, но затем столь же внезапно начинало как бы взъерошенно вспучиваться, опадать и тряско подергиваться, раздражаясь неистовым гамом, чивиканьем, словно тому, кто случайно оказался укрытым шевелящимся тем одеялом, щекотали соломинкой босые ступни, и он корчился там, поджимая под себя ноги, прямо-таки заходясь от безудержного смеха. Впрочем, неугомонный и драчливый этот воробьиный базар не нарушал окружающей тишины, а был ее составной и вроде бы даже необходимой частью. Но едва лишь возникал где-то за невидимым земным окоемом, медленно приближался, нарастал, поднимаясь к солнцу и набирая силу переменчивого шмелиного жужжания, тугой, металлически вибрирующий гуд — все замирало на суетливой городской свалке. Воробьи бесшумно снимались и пропадали. Собаки, торчком навострив уши, нервно порыскав и потоптавшись на месте, забивались в самую гущавину непролазных бурьянов — залегали там в выцарапанных когтями мелких ямках, часто дыша и свесив на сторону бугрящиеся на зубах, плоские свои языки. Нишкло настырное мышиное шебуршание. Постепенно затихали обеспокоенные скрытным передвижением юркие кузнечики. Сухим дождем брызгали они врассыпную из-под собачьих лап, сшибались друг с дружкой в воздухе, ошалело кувыркались, трепеща прозрачными крыльями, и, пружинисто приземлившись, не раздумывая долго, молчком сигали куда-нибудь подальше. А Иван со Славкой, тотчас уловив каким-то краешком не охваченного дремотой сознания переменчивое это и по-шмелиному зудящее: «гжу-у-у… гжу-у-у… гжу-у-у-у…» — и тотчас же, во сне, безошибочно отделив его от всех прочих возникающих звуков, разом поднимали головы, садились и, протерев глаза, напряженно всматривались в блеклую синеву, покуда не различали в ее глубине темные крестики высоко — почти на пределе зрения — проплывающих самолетов. Сотрясая пространство тягучим гулом моторов, словно подтормаживая на крутых спусках, они неспешно — тройка за тройкой — скатывались к чернеющей кромке леса, откуда по утрам восходило солнце, и скрывались там, не достигнув изломанной маревом черноты, а как бы растворяясь где-то еще над нею. Ребята могли бы, конечно, и не глядя, по одному лишь прерывистому гулу, точно определить, что летят это не наши самолеты, а тяжело груженные немецкие бомбардировщики, которых, пожалуй, не следовало сейчас опасаться. Ведь и в самом-то деле, ну с какой же стати было сидящим в кабинах летчикам опять сбрасывать бомбы на однажды уже разрушенный, давно захваченный немецкими солдатами и дочиста ими же распотрошенный тыловой городишко? Но все-таки впервые возникший когда-то под ночными бомбежками, жестоким артиллерийским обстрелом и с той поры глубоко захоронившийся в ребячьих сердцах неизбывный страх перед надсадно воющим, грозно свистящим и оглушительно ревущим небом заставлял мальчишек — да, наверное, и всякую иную снующую поблизости одушевленную тварь — испуганно сжиматься, замирать, напряженно вглядываться в вышину и с облегчением прислушиваться к удаляющемуся, ворчливому погукиванию моторов, что неустанно и свирепо вспарывали винтами разреженный осенний воздух. Последнее звено бомбардировщиков исчезало наконец за лесом, в дрожавшей у края земли синеве. И встревоженные ребята сразу же забывали о заново пережитом страхе: не стали они бомбить — вот и ладно. Пускай себе дальше летят!.. И конечно, обрадованные пацаны вовсе не думали о том, что вот эти — напоминающие чем-то дохлых стрекоз, распяленных в школьной коллекции на синем плюше, — горбатые немецкие бомбовозы, которые только что мирно прогудели над их головами, снова понесли куда-то закрепленную под крыльями и упрятанную в своих по-стрекозиному тонких, меченных крестами туловищах гремучую смерть, теперь уже предназначенную другим, еще не сожженным дотла, городам и другим, пока еще живым, людям… Однако чаще всего получалось так, что никакая видимая угроза не нарушала объявшего городскую свалку безмятежного полуденного покоя. И тогда, повалявшись в охотку на солнцепеке, мальчишки сгребали в кучу бумажный мусор, собирали щепки, ломали сухие будылья и раскладывали в сторонке костер. Как только он разгорался, ребята, пользуясь одиночеством и теплой погодой, живехонько разоблачались, скидывали наземь свою заношенную одежку и оставались телешом. В детдомовских спальнях последнее время раздольно плодилась неистребимая вошь, безжалостно донимала ребят и днем и ночью. С напастью пробовали бороться по-разному: кипятили бельишко в ведрах, даже вонючим дегтем чуть ли не с головы до ног намазывались — никакого сладу с ней не было. А потому мальчишки при всяком удобном случае нещадно палили ее огнем, правда, безнадежно губя подчас вполне еще пригодное к носке шмутье. Увертываясь от дыма и раскаленных искр, колко липнущих к голым животам и ниже, Иван и Славка прикрывались снятым барахлишком, приплясывали вокруг кострища, подобно дикарям, и, обжигая пальцы, тянулись к огню руками, чтобы «прожарить» над языкастым пламенем пощелкивающие на швах майки, трусы, рубашки… Обычно лишь к ужину заявлялась в детдом притомившаяся пацанва. Иные приходили и того позднее. А дабы не мозолить глаза директору, не волновать Вегеринского, сразу заваливались спать. Не то ведь они тут же со своим горохом приставать начнут, не отвяжешься… По мнению завхоза, в отношениях между взрослыми и ребячьей вольницей, не без попустительства Мизюка, теперь окончательно установилась какая-то сомнительная неопределенность, которая в любой момент, разумеется, могла повлечь за собой все что угодно: открытое неповиновение, поножовщину, всеобщий разброд и разбой… Крайне озабоченный этими прискорбными обстоятельствами, завхоз Вегеринский считал, что уговаривать неслыханно распоясавшихся детдомовских босяков и жуликов больше нечего. Надо немедля отправлять их в село, подальше от греха, либо применять к ним самые крутые, соответствующие нынешнему тревожному положению и дозволенные теперешними властями меры телесного воздействия, от коих директор почему-то всячески уклонялся. Но так продолжалось недолго.
В тот день Юрия Николаевича вызывали в городскую управу. И хотя пробыл он там от силы полчаса, изнервничавшийся завхоз Вегеринский успел за короткий этот срок передумать бог знает о чем и вообще уже не надеялся повстречать директора в живых. Но Мизюк вскоре вернулся из управы невредимым. Правда, выглядел он весьма сумрачным, если не сказать — туча тучей. Обойдя безлюдные и притихшие свои владения, где только в комнате малышей, вокруг неизменной Людмилы Степановны, да в спальнях девочек копошился еще кое-какой народец, Юрий Николаевич засел у себя в квартире, откуда не вышел ни к обеду, ни к ужину. Потускневшая Полина Карповна, заодно с «шестерками» и малышами, таскала мужнины порции домой в мисочках, накликав тем самым сочувствующее недоумение ребятни, которая тут же решила, что Мизюка из директоров вытурили, а на его место пришлют кого-то другого. Но поздним вечером, когда собравшиеся на ночлег старшие ребята постепенно угомонились, а некоторые даже млели уже в неглубокой еще, первой дремоте, к ним в комнату неожиданно нагрянул Юрий Николаевич в сопровождении пыхтевшего, как паровоз, завхоза Вегеринского. Быстро прошагав по коридору, Мизюк сильным рывком распахнул дверь спальни. Оттуда крепко шибануло в нос тугим казарменным духом. А неотступно следовавший с керосиновой лампой в руке позади директора завхоз Вегеринский торопливо загородил ладонью мигнувший под стеклом огонек, чтобы тот не угас вовсе. Лампа, однако, не потухла, но из узкой горловины начищенного стекла выдуло все-таки черную струйку копоти, которая тотчас осела, заклубилась внутри прозрачного пузыря и красновато замутила выпуклые его бока. Памятуя прошлый свой приход к старшим мальчишкам, Юрий Николаевич и на сей раз, очевидно, приготовился застать в спальне сытое веселье. Но сейчас он был несколько обескуражен неподдельной тишиной и потому, наверное, слегка замешкался, остановился у порога, как бы свыкаясь с комнатным сумраком. Прикорнувшие на ближних кроватях, обеспокоенные светом ребята заворочались под одеялами, зачесались, приподнимая лохматые головы. С трудом разлепляя заспанные глаза, они удивленно пялились на дверь, на завхоза Вегеринского, который, тесня директора животом, выглядывал из-за плеча Юрия Николаевича и шумно дышал ему в шею. — М-м-м-да-а-а… Так-так… — Мизюк хмыкнул и укоризненно повернулся к завхозу: — Не вовремя мы с вами, Семен Петрович. Может быть, до утра отложим, а?.. — Ни-ни-ни!.. Та чего это вы, Юрий Николаевич?! Хиба ж утречком вы туточка хотя бы одного босяка побачите? — Вегеринский наконец целиком протиснулся в комнату. — Они же ведь, жулики, зараз прикидываются перед вами, а не сплять! Ну-ка, босота, подымайся! Да живенько мне, живо!.. Но сердитое понукание завхоза Вегеринского никак не подействовало на затаившихся в отдалении от двери мальчишек. Только самые робкие — Женька Першин, Славка Комов да еще кое-кто из ребят поплоше, — недовольно бурча, уселись на кроватях, кутаясь в одеяла и поджимая под себя давно не мытые ноги. Остальные даже не ворохнулись на своих койках, словно бы это их не касалось. Юрий Николаевич приглушенно откашлялся в кулак, мельком оглядел сидящих торчком, столбиками, как суслики у нор, нахохленных ребятишек и, стараясь ступать помягче, прошел на середину комнаты. — Ребята, с завтрашнего дня вы и старшие девочки начнете работать в поле. Вместе с вами в село пойдут тетя Фрося, Семен Петрович и Полина Карповна… Пока тепло, ребята, горох нужно убрать. Иначе мы с вами останемся без хлеба. Поэтому с утра никому из детского дома никуда не отлучаться. Позавтракаете — и сразу в путь. Это не так уж далеко, километров пятнадцать… Вот, собственно, и все. Вам ясно? — Дак чего ж тут неясного? Ясно, конечно! — с покладистой снисходительностью откликнулся кто-то из пацанов. — Нам-то один хрен — что в город, что в село… — Ты мне, босявка, хренами не раскидывайся! — засипел от порога возмущенный завхоз Вегеринский. — Ты отуто прямо Юрию Николаевичу кажи: пойдете вы в село чи не пойдете? — Ну, пойдем, пойдем… Юрий Николаевич на всякий случай поискал глазами говорившего мальчишку. Но разве его отыщешь? Да и зачем? Это же он, так сказать, от имени всех присутствующих веское слово молвил и опять нос в подушку зарыл — спит. Взгляд Мизюка натолкнулся лишь на физиономию Генки Семенова. Тот небрежно возлежал на кровати и, подперев щеку рукой, молча, без всегдашней своей дурашливой ухмылки, в задумчивости смотрел куда-то в пространство, мимо замешкавшегося посреди спальни директора. «Ну, вот он, конечно, и высказался. Кто же еще на себя такую почетную миссию возьмет?..» — Значит, договорились, — со вздохом, неуверенно заключил Юрий Николаевич. — Ну, а теперь — отдыхайте. Завтра нам с вами придется вставать пораньше… Мизюк направился к выходу, смутно сознавая, но все же отмахиваясь от мысли, что между ним и ребятами осталась некая недоговоренность, а в мальчишеской покладистости, возможно, таится заурядный подвох. И завхоз Вегеринский, судя по всему, не испытал долгожданного облегчения. Он не поспешил покинуть комнату, а только чуть посторонился, как бы пропуская директора вперед, и поднял лампу повыше — осветил сумрачные углы. Очень уж смущало Вегеринского то, что пацанва, вопреки своему обыкновению, не отнекивалась, не шумела, не спорила. Слишком подозрительной показалась ему эта их готовность смириться с тем, чему они столь упорно противились последние дни. Нюхом он чуял: быть того не может, чтобы все разрешилось вот так просто! И чутье не подвело поднаторевшего в препирательстве с ребятами, многоопытного завхоза Вегеринского. — Ладно, пацаны… Чего там темнить!.. Давайте лучше по-честному, — негромко сказал Володя Лысенко. Он сбросил с себя одеяло и сел на постели. — Так вот, Юрий Николаевич, ни в какое село мы завтра не пойдем. И вообще… — Парнишка вдруг запнулся, опустил глаза, но затем, малость помедлив, вскинул голову и, глядя в хмурое лицо удивленно обернувшегося к нему Мизюка, совсем тихо продолжил: — На немцев, Юрий Николаевич, мы горбатить не будем… Вот… Это уж как вы хотите… Ребята, шурша мятой соломой, разом зашевелились на матрацах, начали подниматься. А те из них, которые уже сидели на кроватях, казалось, еще больше нахохлились. Один Генка Семенов не соизволил изменить небрежно-вызывающей своей позы. Лишь под прищуренными веками его вроде бы промелькнул этакий зловредный огонек: «Ну как, директор, скушал? Теперь утрись и отвали…» — Ото ж такие они бандюги!.. — только и сумел безголосо промямлить ошарашенный завхоз Вегеринский. Левой рукой он ухватился за дверной косяк, а правой, позабыв о лампе, привычно хотел дотянуться до сердца, но резко наклонил булькнувшую керосиновым нутром жестянку, едва не уронил стекло, сдуру цапнул всей пятерней за горячее и затряс обожженными пальцами. Юрий Николаевич пристальнее вгляделся в худых и всклокоченных своих воспитанников, неспешно прошел обратно по притихшей спальне, опустился на край чьей-то смятой постели, поманил к себе Вегеринского. — Семен Петрович, прошу вас поближе. И сядьте, пожалуйста. В ногах-то правды нет. — Мизюк чуть заметно усмехнулся. — И вы, ребята, пододвигайтесь сюда. Да посмелее, посмелее… Недоверчиво наблюдавшие за неторопливыми действиями и внешне невозмутимым поведением директора мальчишки, плутовато ухмыляясь и переглядываясь, с обезьяньим проворством, не касаясь выстуженного пола, перемахнули на карачках с койки на койку и молча расселись вокруг, тесно прижимаясь боками друг к другу. В спальне было все же прохладно. — М-м-м-да-а-а… Итак, вы решили по-честному? Ну что ж, это неплохо. Но прежде всего позволь поблагодарить тебя, Лысенко, за весьма похвальную откровенность. — Юрий Николаевич без малейшей язвительности, в упор смотрел на все еще не ведающего, куда на сей раз клонит директор, а потому и слегка растерянного паренька. — Я тоже буду с вами откровенен. Сегодня меня вызывали в городскую управу. И там поставили в известность, что в городе участились случаи умышленной порчи и воровства принадлежащего местным и оккупационным властям имущества. Постоянно срываются таблички с новыми названиями улиц, перерезаются провода полевой телефонной связи… Кроме того, из проходящих по городу немецких машин нередко исчезают продукты — консервы, хлеб и прочее. — Мизюк выдержал значительную паузу, как бы давая возможность мальчишкам поразмыслить над его сообщением и, коль они того захотят, высказаться. Но ребята благоразумно помалкивали. — Меня также предупредили, что, если хоть один детдомовец будет уличен в диверсии либо в воровстве, к ответу привлекут как администрацию, так и всех без исключения воспитанников, вплоть до самых младших. Ты понимаешь, чем это грозит, Лысенко? Нет? Ну, а вы — Морозовский, Семенов и остальные?.. Вы тоже не понимаете?.. Тогда придется уточнить, — голос Юрия Николаевича сделался жестким, а слова вроде бы пошершавели, стали труднее выговариваться. — Мне было обещано, что карать нас будут по законам военного времени. Теперь, я думаю, вам понятно… Карать!.. Из-за вас могут пострадать даже малыши, которым порой и крошки не перепадает от ваших щедрот. Это первое, почему именно завтра вы все пойдете в село. А второе… — Да разве кто нас поймал? Чуть чего, так сразу все на детдомовцев сваливают… Будто бы других пацанов в городе нету! — лениво потягиваясь и картинно зевая, пропел Генка Семенов. — Тут спать охота, а они пришли и стращают: карать да карать… Пускай поймают сначала!.. А то, вишь, раскаркались, на ночь глядя, аж страх берет… Юрий Николаевич едва сдержал себя. Ему очень хотелось подойти к этому, нахально развалившемуся на кровати, мальчишке, заставить его встать, а потом отвесить хорошую затрещину. Он невольно стиснул в кулак дрогнувшие пальцы. Лицо Мизюка начало медленно бледнеть. А Генка Семенов, взглянув на директора, стриганул из-под одеяла, схоронился за спинами ребят. Юрий Николаевич спохватился, разжал руку и глубоко перевел дыхание. — Когда тебя поймают, Семенов, будет уже поздно, — ровным тоном заметил Мизюк. — Та хиба ж можно, Юрий Николаевич, вот так, по-культурному, балакать с этими уркаганами?! — попер на рожон завхоз Вегеринский. — Ты, жулик, сперва сопли свои подбери, а тоди уже вступай в суперечки со старшими! Погодите трошки, вы еще доворуетесь… Когда-нибудь постреляют вас немцы, как отех глупых перепелов! Ось побачите. При иных обстоятельствах мальчишки, безусловно, не преминули бы вдоволь поизгиляться над вспыльчивым завхозом Вегеринским, а то и довести его до белого каления. Однако на этот раз им гораздо важнее было послушать, что же еще скажет директор в ответ на чистосердечное Володино признание. И потому, должно быть, они помешали Генке развернуть свое обычное представление. — Прикрывай лавочку!.. — Заткнись!.. — Врежь ему по уху, Мороз!.. — Кончай базарить!.. — В натуре, дай же сказать человеку! — дружно зашумела пацанва на опять было высунувшегося Генку Семенова, который уже изготовился выдать сполна ввязавшемуся в разговор завхозу. — Так вот — второе, — выждав тишины, продолжил Юрий Николаевич, словно ничего особенного не произошло. — Я не думаю, что тот, наверное, почти уже осыпавшийся горох, который вам предстоит убрать, принесет существенную пользу нынешним властям. Поэтому, ребята, в первую очередь вы будете работать на себя. Ведь общественное зерно, которое люди, быть может, с немалым риском укрыли от чужих глаз и которым они теперь согласны поделиться с нами, спасет вас зимой от голода… Если мы, конечно, сумеем незаметно доставить его в детский дом и надежно спрятать, — немного помолчав, со значением добавил Мизюк, не без умысла подыгрывая мальчишкам, падким на всяческие скрытные и опасные деяния. — Ха! Было б чего возить!.. — Мы так притырим — с собаками не найдут!.. — Да пускай хоть сто мешков!.. — с лету проглотив подкинутую директором приманку, снова вразнобой загалдели оживившиеся ребята. — Ну-ну… Вот это уже нечто определенное. Будем считать, что часть дела сделана, — с одобрительной, но все же и горьковатой усмешкой оглядывая повеселевших мальчишек, проговорил Юрий Николаевич. — Отак бы и сказали сразу, босяки, — примирительно буркнул насупленный завхоз Вегеринский. — А то все бы вам зубы скалить да в игрушки играться… И Юрию Николаевичу тоже на короткое время подумалось, что ребята просто куражатся и что совладать с этой мальчишеской блажью не составит особого труда. Не надо только пережимать, давить на них строгостью. А лучше всего пошутить, вместе с ними посмеяться — и тогда из каждого сидящего здесь шалопая хоть веревки вей. Он уже совсем приободрился, но, встретив отчужденный взгляд Володи Лысенко, понял, что шуточками тут сейчас не отделаешься. С ребятами придется говорить серьезно и по возможности прямо. — М-м-м-да-а-а… Впрочем, давайте вернемся к вашему непреклонному решению не ходить в село. — Мизюк вновь посмурнел, сдвинул брови. — Не спорю, иногда в жизни обстановка складывается так, что никакой половинчатости быть не должно. С чем-то нельзя соглашаться, а чему-то нужно противиться. Более того, может наступить такой момент, когда возникает необходимость жертвовать собой… Да-да, ребята, именно жертвовать, — глухо повторил Юрий Николаевич. Теперь он говорил, уже не глядя на расположившихся перед ним на кроватях и по-прежнему не слишком опечаленных мальчишек, а словно бы для себя, чтобы рассеять ему одному ведомые сомнения. — Но я полагаю, что всякое сопротивление и любая жертва должны прежде всего быть разумными и оправданными. Иначе даже самый благородный порыв грозит в конечном итогеобернуться трагической бессмыслицей. А совершать опрометчивые поступки мы с вами не имеем права. До сих пор ведь где-то еще на нашей земле грохочет война, рвутся снаряды, падают бомбы, умирают люди… Мизюк внезапно замолчал, плечи его покато опустились. Сам он привычно сгорбился, руки расслабленно покоились на коленях. И оттого, наверное, Юрий Николаевич выглядел сейчас каким-то по-домашнему обмякшим, усталым. — Дак мы ж потому и не хотим идти, что война, — неожиданно полез из своего запечного угла Валька Щур. — Раньше-то нам с утра до вечера про всякое такое геройство долдонили. А нынче, выходит, надо только хвост поджимать и сидеть, не рыпаться! Так, по-вашему, что ли, получается? Или, может, скажете — нет?.. Однако на подковыристый вопрос продувного парнишки Юрий Николаевич ответил не сразу. Он легонько потер ладонями штаны, как будто разглаживая их на коленях, сцепил худые пальцы и затем, не поднимая головы, задумчиво произнес: — Почему вы отказываетесь убирать горох, мне уже известно. А говорю я с вами все же лишь потому, что ни я, ни другие воспитатели никогда не учили вас быть нечестными и трусливыми… Да, мы с утра и до ночи твердили вам, что нет ничего на свете дороже родной земли, которую нужно любить и защищать. Все это я готов повторить кому угодно и повторяю перед вами сейчас. Но мы, к сожалению, оказались в таких условиях, когда одной забубенной смелости далеко не достаточно. Теперь от нас с вами требуется еще и предельная осмотрительность. Разве трудно понять, ребята, что, отказываясь работать в поле, вы вредите самим себе, а продолжая вершить сомнительные уличные подвиги, обворовывать немецкие машины, ставите под жестокий удар уже не только себя, но и всех без исключения своих же товарищей?.. Хотя мне все-таки кажется, что вы согласитесь со мной и перемените свое необдуманное, скоропалительное решение… Юрий Николаевич сделал неторопливое движение, как будто собираясь подняться. И завхоз Вегеринский тотчас же поспешно качнулся вслед за ним. Пухлое лицо Семена Петровича выражало явный испуг. Заплывшие глаза тревожно бегали, а маленький рот был плотно сжат, наподобие куриной гузки. От него к подбородку лучисто расходились мелкие морщинки. Вегеринский недоумевал, что и помыслить о столь опасных речах Мизюка, которые конечно же не окажут на шпанистых огольцов никакого воздействия, но зато могут — не приведи, господи! — навлечь на администрацию детского дома-большую беду. «Неужто напрасная затея? М-м-м-да-а-а… Очевидно, надо было искать к ним какой-то другой подход, иначе выстраивать беседу. Но какой? Как?.. — с обескураживающим чувством полной своей отверженности терялся в догадках Юрий Николаевич, почти физически испытывая на себе угнетающее и упорное молчание ребят. — А может быть, попробовать все сначала?.. Ну, нет уж… Хватит! Не умолять же их, чтоб не крали, в самом-то деле…» — Ну, чего вы, Юрий Николаевич?! Да пускай они там как хотят, а я пойду на горох… И Женька Першин пойдет завтра, и остальные наши пацаны тоже… Сами посмотрите, пойдем! Правда… Вот честное вам слово!.. — нарушил наконец затянувшееся молчание так и не придвинувшийся к другим ребятам Славка Комов. Теперь же, как бы оглушенный собственной прытью, мальчишка вдруг густо покраснел, смутился и вовсе притих на матраце. Он и сам толком не понимал, как это у него вырвалось. Уж очень неловко было ему глядеть на беспомощно сникшего, сумрачного директора. Пожалуй, Славка еще никогда не видал Мизюка таким растерянным. Ну, если не считать, когда старших ребят в Германию забирали… Потому он, конечно, и пожалел Юрия Николаевича, решился, вопреки общему ребячьему сговору, открыто его поддержать. — А ты не тушуйся, Комочек. Ты, в общем, не дрейфь, понял? — веско проговорил Иван Морозовский, ободряюще кивая смущенному своему напарнику. — Так чего, пацаны? Юрь-то Николаич вроде бы все верно обмозговал… И на горох нам, видать, топать нужно. Не то ведь, в натуре, жрать нечего будет. По холоду припухать начнем. А, пацаны?.. Успевшие уже разбежаться по кроватям, ребята громко зашумели, перебивая один другого и споря. Но Мизюк не стал ожидать, чем закончится возникшая меж ними перепалка. Он быстро поднялся и, прямя спину, вышел из спальни. Возле двери своей комнаты Юрий Николаевич остановился, принял из рук завхоза лампу, суховато предложил Вегеринскому зайти, выпить стакан чаю, но Семен Петрович уклонился от не особо радушного директорского приглашения. — Ни-ни-ни!.. Та что вы! Який же зараз тут чай? Большое вам спасибочки… Но я ото ж мерекаю, а не слишком ли вы по-взрослому балакать починаете с нашими босяками? А, Юрий Николаевич? — покряхтывая и грузно переминаясь с ноги на ногу, завел осторожный Вегеринский. — Сам-то я, конечно, ничего не маю против. Боже меня упаси! Ни-ни-ни!.. А ведь они ж-то еще совсем глупые. Хиба ж за ними уследишь? Вдруг какой из них наболтает где не следует? Как бы нам с вами потом горя не було… — Нет, Семен Петрович, не слишком, — терпеливо выслушав сомнения Вегеринского, резко вскинул нахмуренные брови Мизюк. — И хватит об этом. Давайте-ка лучше позаботимся о том, чтобы завтра утром здесь долго не задерживаться. Берите с собой только тех ребят, которые сами согласятся идти в село. Старших девочек, разумеется, всех возьмите. И, как говорится, — с богом!.. Ну, а теперь — честь имею… Доброй вам ночи.
8
Кто же знает, как обернулось бы их пребывание в селе и как протекала бы для ребят эта, безнадежно запоздалая, упустившая самые крайние сроки гороховая страда, если бы рядом с ними не оказалось девчонок. Всех этих слабосильных с виду, неказистых да веснушчатых Светок, Марусек, Зоек и Любок, которых мальчишки раньше либо просто не замечали, либо презрительно сторонились, считая их заведомыми неженками, плаксами и неумехами. Вероятнее всего, бахвалистым, но непривычным к изнуряющей сельской работе мальчишкам пришлось бы гораздо хуже без незаменимой девчоночьей помощи и постоянной заботы. В поле девочки как бы ненароком занимали загонки пошире. И покуда назначенные косарями Иван Морозовский, Валька Щур (Володя Лысенко с Генкой Семеновым остались в городе) и другие ребята покрепче неуклюже размахивали зазубренными литовками, с грехом пополам подсекая и наматывая на косовища спутанные побуревшие и шебаршащие пустыми стручками гороховые плети, девочки сноровисто орудовали серпами, сгребали валки и носили охапками в кучи сжатый горох. И казалось странным, что хрупкие эти девчушки, которые будто бы и вовсе не разгибали худые свои спины, находили еще в себе силы, чтобы покрикивать на ребят, шутя укорять их в нерасторопности и всячески подзадоривать. Может быть, они и впрямь уставали меньше, чем суетящиеся без особого проку мальчишки? Или же в покровительственном этом отношении девочек к ребятам уже тогда проскальзывала присущая большинству российских женщин извечная материнская жалостливость к непутевым и зазнайчивым своим мужикам? Да ведь и как же не попенять им, сердешным, когда они хотя и почитают себя и умней, и сильней, но вот самозабвенной настырности в работе и той двужильной выносливости, чего у любой, даже самой квелой бабы навалом, — этого у них нету… По вечерам, возвратись с поля, девочки сразу же принимались за стирку, латали свои платьишки, и, случалось, чинили одежку порядком-таки обносившихся ребят. Однако возле общего котла, в котором тетя Фрося неизменно варила постный, источенный какими-то черными козявками, сморщенный и шелушащийся прозрачными чешуйками горох да картошку, они без лишних разговоров уступали мальчишкам их законное, мужское первенство. Ночевали ребята в пустой колхозной конюшне, где от щелястых полов, дощатых перегородок и от глубоко изглоданных лошадиными зубами жердин остро разило едким запахом перебродившего навоза, а сквозь лохматые дыры в прохудившейся камышовой крыше серебристо просвечивало густо усыпанное мерцающими осенними звездами небо. Мальчишки натаскали в конюшню ржаной соломы, определив для себя дальнюю от выхода половину помещения, а девчонкам, вкупе с тетей Фросей и Полиной Карповной, отвели ближнюю. Вегеринский же квартировал отдельно, у какой-то древней и подслеповатой бабушки, которую самолично приставил к ребятам за бригадира. В поле она, правда, не ходила, но кормилась вместе со всеми, ссужая тетю Фросю подсолнечным маслом и крупными фиолетовыми луковицами — на заправку. Впрочем, завхоз тоже редко показывался на люди. Днями напролет разъезжал он на кое-как обротанном ветхой упряжью детдомовском мерине, покорно влекущем за собой кособокую, на валких колесах, расхлябанно дребезжащую оторванными железками телегу. Мальчишки догадывались, что Вегеринский уже отвозит помаленьку в детдом ту самую пшеницу, которую им посулили за работу. Потому, должно быть, они и не обижались на смекалистого завхоза, не ругались ему вослед, когда он, притрусив свежим сенцом уложенный на дно телеги мешок, неторопко пылил по накатанной дороге мимо устало копошащейся на бесконечных загонках ребятни. К немалому удивлению Вегеринского, строптивая детдомовская братия не увиливала от работы, не безобразничала в селе по дворам. С первого же дня мальчишки повели себя смирно. И это не предвиденное завхозом, однако благоприятное для него обстоятельство было теперь особенно по сердцу Семену Петровичу, настраивало его на некий созерцательный и прочувственный лад. «Ох, диточки вы мои, диточки!.. Така ж вона ваша сиротынская доля, что с малых годочков треба вам уже самим робить та й робить… Важко вам, бидным, и никто ничем не допоможет, — размягченно думал он, изредка почмокивая губами, подхлестывая сонного мерина и ладясь ожечь отвислое лошадиное брюхо витым, едва ли не до волосяной тонкости доведенным кончиком кнута, после чего мерин обиженно фыркал, нервно подергивал исшарканной на боках шкурой, но шагу все-таки не прибавлял. — Ото ж, мабуть, решили наши хлопчики за ум взяться…» Ведь иначе-то было бы попросту немыслимо оставлять своевольную мальчишескую ораву на попечение слепой бабки либо покидать ребят даже под присмотром тети Фроси и Полины Карповны. Они хотя и пропадали с рассвета до самой темноты в поле вместе с ребятами, но в случае чего, конечно, вряд ли сумели бы совладать с норовистой пацанвой. Правда, и сам Вегеринский не без тревоги в душе сознавал, что если мальчишки вдруг заартачатся, то, пожалуй, ни ему, ни кому-либо другому не удастся легко справиться с ними… Но покуда, слава богу, все складывалось как будто спокойно. А потому Семену Петровичу и обеим его помощницам вроде бы не о чем было слишком печалиться. Ну, разве только о том, как поскорее бы разделаться с осточертевшей уборкой и до наступления настоящих осенних холодов, ненастья и распутицы вернуться в детский дом. Тем более, что и многим ребятам, по всей вероятности, основательно надоела никчемная эта и утомительная возня с пропадающим на корню горохом. Кое-где уже совсем вышелушившиеся, но местами каким-то чудом еще сохранившиеся в буроватых и вроде бы разделенных на пузатые гнездышки стручках, сморщенные горошины звонко шуршали, перекатываясь там, внутри жестких этих стручков, как в игрушечных погремушках, и осыпались на землю, стоило лишь только к ним прикоснуться. Даже ходить по такому полю надо было бы с опаской, а не то что махать тут косой. И очевидная мизерность результатов тяжелого их труда, осознание впустую затраченных усилий отражались, разумеется, на и без того шатком настроении детворы… А вот Славке Комову деревенская эта жизнь представлялась покуда вполне терпимой. Он испытывал даже некоторую душевную приподнятость, оттого, должно быть, что давно уже не ощущал себя таким необходимым для общего дела человеком, как в те нелегкие и нескончаемые дни. Замухрышистая детдомовская мелкота с утра разбредалась по полю за косарями да жницами. Ребятишки — кто граблями и вилами, а иные и просто так, скребя по комковатой земле скрюченными пальцами, — подбирали заплесневелые, обметанные понизу каким-то пепельным налетом, вялые гороховые стебли. Наступая босыми ногами на свисающие с растрепанных охапок и длинно волочащиеся по стерне охвостья, путаясь в них, спотыкаясь и давя пятками слабо пухкающие пыльной трухой вздутые стручки, мальчишки таскали коричневые, как застарелая водяная трава, сжатые эти будылья поближе к окрайку поля. Там их сваливали в кучи, чтобы старухам, которые должны были потом приехать из села на подводах и отвезти горох к амбарам — на ток — не колесить впустую по всем загонкам, а нагружаться возле дороги. Но к вечеру ребята сильно уставали и уже не заботились о благе каких-то никому не ведомых деревенских старух, а бросали свои ноши где попало. К тому же присматривавшие между делом за детворой Полина Карповна и тетя Фрося не понуждали ребят блюсти заведенный порядок, не шумели на притомившихся своих работничков, возможно понимая и жалея мальчишек, а быть может, остерегаясь еще больше озлобить пацанву, нарваться в ответ на непотребную ругань либо накликать открытый бунт. Конечно, и Славка Комов тоже выматывался за день ничуть не меньше, чем другие его сотоварищи. Воротясь на ночлег домой — в конюшню, — он едва добирался до своего закутка и с облегчением опускался на примятую ребячьими боками солому, ничего уже не видя вокруг себя и никого не слыша… А утром ему казалось, что сегодня он и вовсе не сможет подняться на занемевшие от студеной сырости ноги, распрямить исколотые осотом, саднящие и кровоточащие — в ранках от сорванных заусениц, — припухшие свои пальцы, которыми даже к ложке больно было притрагиваться, а не то что браться за шершавый, лишь у комля слегка обструганный черенок тяжеленных граблей. Но когда, наскоро похлебав вчерашнего супу, по привычке, хотя и напрасно, поканючив у тети Фроси добавки, почесываясь и недовольно ворча, ребятня снова отправлялась в поле, Славка все же кое-как осиливал так и не отступившую от него за ночь усталость, перемогал слабость свою и боль и тоже плелся вместе со всеми к околице по зыбко струящейся ему навстречу дороге, которая словно бы вытекала из-под недвижного, близко висящего над землею тумана. Славка и просыпался-то, в общем, окончательно уже в пути. И, шагая по этой зыбкой дороге, он чувствовал, как липнет к босым ногам, щекотно протискивается между пальцами, а затем широкими лепешками отваливается от ступней смоченная коротким ночным дождем или просто увлажненная обильной предутренней росой дорожная пыль. Она вроде бы пружинила под ним, растекалась, смягчая каменную твердость натоптанной колеи. И от этого, наверное, у Славки возникало такое впечатление, как будто шагал он по тонко раскатанному остывшему тесту. Оно отслаивалось от сухой земли пластами, рвалось; толстые его края высоко заворачивались и вязкой своей, как бы омертвелой сыростью знобко прикасались к коже, холодили голое тело, охватывая ноги и дотягиваясь едва ли не до щиколоток… Этот холод, однако, взбадривал Славку; сонливая вялость постепенно покидала его. К нему возвращалось приятное ощущение нужности своей, и он даже об усталости забывал и невольно ускорял шаг, чтобы не слишком отставать от бредущих впереди прерывистой цепочкой вдоль обочины хмурых ребят, от сбившихся суетливым табунком вокруг тети Фроси и Полины Карповны безумолчно гомонящих девчонок, где знакомо мельтешило выцветшим подолом и старенькое Зоино платье… Ведь после того, как Иван Морозовский неожиданно для себя самого был произведен завхозом Вегеринским в косари и тем самым словно бы еще больше возвысился в представлении младших ребятишек над тщедушным своим напарником, как-то уж очень явно определились и возрастное их различие, и прочие несоответствия друг другу. Но сам Иван, пожалуй, не придавал этому никакого значения. Держался он со Славкой по-прежнему дружески, говорил как с ровней, будто бы ничего и не случилось. А вот Славка почему-то с особенной какой-то остротой сразу же почувствовал эту пролегшую между ними грань. И чтобы не усугублять ее, старался лишний раз не докучать бывшему своему покровителю, а как бы нарочно отодвинулся от него, затерялся посреди остальной маломощной детдомовской мелюзги, не способной покуда еще к настоящему мужицкому труду и потому правящей только самую что ни на есть простую работу: бери побольше да оттаскивай подальше… Конечно, утрата эта была для Славки весьма неприятна. Но он быстро примирился с ней и, как сумел, приноровился к осложнившейся обстановке. Теперь он уже не стеснялся перед мальчишками своей сестры. Наоборот, в поле Славка помаленьку отделялся от копошащейся наособицу от девчонок упрямой пацанвы и пристраивался позади Зои. Она не покрикивала на него, не торопила, а, оберегая Славку, сама то и дело откладывала серп, отбирала у какой-нибудь взмокшей от усердия, взъерошенной девчушки грабли и принималась помогать незадачливому сородичу своему сгребать и носить к дороге пожухлую эту гороховую кошенину. Правда, измотанные работой и едва ли не до пределов терпения доведенные скудной кормежкой, мальчишки недобро поглядывали на совсем уже было сникшего, однако сумевшего таки извернуться Зойкиного братца, который успевал тем временем слегка покимарить под сметанным наспех сестрою стожком. Многие ребята в открытую презирали сейчас за это Славку. Потому что, наверное, ничто так не роняет одного трудящегося человека в глазах другого, как явное стремление въехать в рай на горбу соседа… При желании, конечно, любой парнишка мог бы его теперь, пожалуй, безнаказанно побить. Иной раз Славке казалось странным, что обозленные ребята не осуждают его, не требуют ответа за столь откровенную измену нерушимому мальчишескому товариществу и постыдное бегство в чужой, девчоночий лагерь. Ведь раньше-то никому бы такое предательство не простили… Но за последние дни даже самые неуступчивые огольцы заметно убавили петушиной спеси. Возможно, мальчишки осознали наконец всю призрачность хваленого своего мужского превосходства, либо потому, что давно уже опостылевшая эта уборка все-таки неуклонно сближала ребят и лучше самых проникновенных директорских увещеваний постепенно, исподволь сплачивала их в тот самый, спасительный — по мнению Мизюка — коллектив, о сохранении которого в изрядно поредевшем детском доме так беспокоился не решавшийся отчего-то покинуть город Юрий Николаевич. Впрочем, и работать-то в поле ребятам оставалось уже совсем ничего.И вот дня за два, а может, и за три до завершения неурочной этой и основательно подзатянувшейся страды, когда полусонный Славка, заплетаясь ногами, по-лошадиному понуро и привычно тащился вслед за ребятами знакомой утренней дорогой, — впереди него внезапно произошло какое-то необычное замешательство, девчонки остановились, и оттуда, из примолкшего их табунка, донесся слегка встревоженный голос Полины Карповны: — Постойте-ка, ребята! Погодите… А где Женя Першин?.. Что с ним? Почему его здесь нет?.. Девочки, никто не видал Женю?.. Мальчишки недовольно затоптались на обочине. Им, как и Славке Комову, было, конечно, наплевать-на то, что Женька Першин вдруг куда-то запропастился. Ну, притырился пацан где-нибудь в конюшне после завтрака, пригрелся в уголке и заснул. Подумаешь, делов-то сколько! Выспится и приползет, куда же ему деваться? Но Полина Карповна почему-то с прежней озабоченностью продолжала что-то кудахтать там, посреди толпившихся вокруг нее пестрой стайкой девчонок, и это вызывало невольный протест у продрогших на свежем ветерке и уже наладившихся было шагать себе да шагать до самого поля нетерпеливых ребят. — Да черт с ним! Айдате, пацаны!.. — Сколько же нам теперь тут торчать? До самого вечера его дожидаться, что ли?.. — Он и сам дорогу найдет, айда!.. — Нет, ребята, так нельзя, — с укоризной в голосе проговорила Полина Карповна. — Как же вы так можете? А если с вашим товарищем что-нибудь случилось? Нет-нет, так не годится… — Она помолчала, раздумывая, наверное, что же ей лучше предпринять, а потом, приметив позади всех сгорбившегося Славку, неожиданно сказала: — Ну, хорошо, ребята, мы пойдем. А вот ты, Комов, сбегай-ка, посмотри, не остался ли наш Женя дома… Ну, чего же ты стоишь? Давай-ка быстренько — одна нога здесь, а другая там… И Славка, вроде бы не отрешившийся еще полностью от своего полусонного, лунатического какого-то состояния, внезапно ощутил на себе выжидательные взгляды ребят, почувствовал, что и девочки тоже смотрят в его сторону, а то непроизвольное раздражение и даже некая враждебность, которые мальчишки только что испытывали к пропавшему Женьке и воспитательнице, сейчас как бы направляются против него. Он молча повернулся и побрел обратно, стараясь подавить в себе возникшую вдруг какую-то смутную обиду неизвестно на кого и неизвестно за что. Славка отлично понимал, что нет ничего унизительного в том, что за Женькой Першиным Полина Карповна послала именно его. Она ведь могла бы послать и Мороза, и Вальку Щура, и вообще кого угодно. И конечно же никто из ребят — а тем паче девчонок — не посмел бы отказываться и побежал бы в село, как миленький. Но в том, что Полина Карповна тем не менее никого из них не послала за Женькой, хотя прекрасно видела перед собой всех пацанов, которые стояли гораздо ближе к ней, чем он, Славка; в том, что выбор ее пал все-таки на него, — в этом он усматривал теперь нечто для себя унизительное, всеобщее какое-то к нему пренебрежение, окончательно рушащее и без того сильно пошатнувшийся его престиж. Да и мальчишки, пожалуй, тоже словно бы догадывались обо всем, что с ним творилось, чувствовали это мнимое его унижение, потому что кто-то сразу же громко засмеялся ему в спину, а кто-то язвительно прокричал: — Эй, Комок!.. Ты хоть сам-то там не прикимарь! Не слышишь, что ли? Или ты уже на ходу заснул, Комок?! А он, совсем покоряясь горестной своей участи и в самом деле унижаясь перед остающимися на дороге счастливыми ребятами, торопливо оглянулся на чей-то издевательский этот выкрик и с жалкой гримасой, перекосившей будто одеревенелые его щеки, натянуто заулыбался, поспешно закивал в ответ — мол, все будет в порядке, я мигом! — никого и ничего уже, однако, не различая сквозь навернувшиеся на глаза слезы и оттого, наверное, двигаясь как-то боком, семеня не свойственным ему мелким шажком… Правда, пока Славка добирался до конюшни, он почти успокоился, обида его прошла. И сейчас он только все больше злился на Женьку Першина, из-за которого ему довелось выслушать насмешки ребят и подвергнуться открытому унижению. «Ладно, пускай этот хмырь еще поспит… Вот разбужу его и дам в зубы! — все еще изредка смаргивая слезы и хлюпая носом, мстительно думал он о неведомо где укрывающемся Женьке. — Ну, может, и не сразу в зубы, а потом… Но уж по шее-то у меня он схлопочет — это точно…» У Славки Комова сейчас и в мыслях не укладывалось, чтобы Женька мог смотаться куда-нибудь из относительно теплой все-таки конюшни. Да ведь и куда же ему убегать-то, дураку такому? Зачем?.. Хотя, впрочем, Славка теперь припоминал, что в последнее время Женька Першин почему-то держался поодаль от ребят, которые тоже избегали его и говорили, будто от него воняет. Обычно вечерами он хоронился где-нибудь в сторонке, в самом укромном уголке, и хныкал там даже тогда, когда никто его не трогал. И потому, наверное, как-то само собой получилось так, что и ребята старались поменьше общаться с Женькой, лишний раз его не тревожить, вроде бы не замечая того, что парнишка, возможно, не на шутку заболел или же на самом деле д о х о д и т… Должно быть, из-за всего этого Славка и не стал особо долго размышлять над тем, как бы половчее ему добыть хилого пацана. Он с ходу вломился в низенькую дверцу, врезанную в просторные ворота конюшни, и прямо с порога, всматриваясь в безжизненную, пропахшую навозом и хранящую полуночный сумрак пустоту, бодро заорал: — Женька, па-адъем! А ну-ка вылезай!.. Ты где тут притырился, Женьк?! Однако никто не отозвался на его крик. Только по-мышиному шурудившие в соломе, выклевывающие из густых колосьев остатние зерна шустрые воробьи с пронзительным писком всполошенным облачком потянулись вдаль и вверх, словно истаивая по пути и улетучиваясь из-под застрехи, через блеклые и узкие окошки в стенах и сквозь щели в камышовой кровле. Впрочем, те пичуги, которые оказались, видать, посмекалистее, никуда не улетели, а расселись в безопасности, на высоко белеющих стропилах, старательно выковыривая из растрепанных перьев набившиеся под крылья колкие остья, возбужденно чивикая и хорохорясь. Славке отчего-то сделалось не по себе. Он немного помялся возле дверей, вроде бы для того, чтобы свыкнуться с окружающей сумеречностью, а затем настороженно двинулся по широкому проходу в притихшую глубь конюшни, загодя нацеливаясь на самый отдаленный и глухой ее закуток, где стояла раньше дощатая выгородка шорницкой — этакий тесноватый, наполовину разваленный теперь тамбурок, — в котором, по Славкиному соображению, вернее всего было бы нынче притаиться злополучному Женьке… С первого же дня, отправляясь по утрам в поле, ребята никого не оставляли на хозяйстве во временном своем пристанище — ни дежурных уборщиков, ни караульных. Дежурить никто не хотел, а стеречь было нечего, потому что никакого пускай даже мало-мальски соблазнительного для сельского жителя барахла неосмотрительная детдомовская голытьба приволочь с собою не догадалась. Ну, разве что лишь кухонную утварь, которую, правда, девчонки всякий раз притаскивали, а потом опять уносили в хату подслеповатой бабушки. Устраиваясь на ночлег, ребятня кое-как прикрывала солому заскорузлыми, до рогожной жесткости выдубленными старыми мешками, от которых по-хлебному вкусно пахло сухим комбикормом, а сверху наваливала на себя все, что попадалось под руку, — пожертвованные местными сердобольными бабками рваненькие какие-то домотканые ряднушки, пестрые холщовые половички и превшее тут же, в конюшне, бог знает с каких пор раскиданное по разным углам и потерявшее всяческий вид, резко отдающее потом и конской мочой, давным-давно ни на что уже не пригодное шмутье. Иногда случалось, конечно, что какая-нибудь совсем заморенная работой девчушка либо отощавший пацан слегка прихварывали. И тогда день-деньской лежали они здесь в одиночестве или болтались без дела по сумеречной этой казарме, шугали нахальных воробьев. Бывало, что и тетя Фрося, не вытерпев наконец полного пренебрежения неприкаянных огольцов к соблюдению чистоты, к поддержанию жилого уюта, пораньше выгоняла ребят во двор, а сама оставалась на часок, чтобы навести в этом запущенном их логове хоть какой-то порядок: поворошить притоптанную солому, вытряхнуть да проветрить затхлое барахлишко… Однако чаще всего конюшня пустовала А Славке Комову за все это время так и вовсе не подвернулось счастливой возможности поотираться тут в одиночку без какой-либо заботы хотя бы денек. Просто понежиться бы, зарывшись в теплую солому, поспать. Порой ему думалось, что большей удачи для него теперь уже и быть не могло бы… Потому, наверное, сегодня, еще полчаса назад, когда он уходил вместе с ребятами в поле, Славке бы и в голову не взбрело, что это обжитое и знакомое до последней изглоданной колхозными одрами жердины, до каждой отполированной лошадиными боками и принявшей благородный ореховый блеск или облепленной затвердевшими наростами зеленоватого навоза трухлявой доски, — это столь желанное совсем недавно прибежище может показаться ему таким отчужденным и даже пугающе незнакомым, как сейчас: без всегдашней мальчишеской кутерьмы, заполошного девчоночьего визга и незлобивого, окорачивающего тети Фросиного покрикивания… Славка почти бесшумно, на цыпочках, боком протиснулся в бывшую шорницкую. Здесь оказалось еще темнее, чем в самой конюшне. Он опять постоял, невольно косясь на возвышавшуюся в отдалении, около дыроватой стенки, бесформенную груду какого-то хлама, а затем, понизив голое, на всякий случай окликнул еще раз: — Эй, Женька!.. Где ты тут, а, Женьк?! Слышь?.. И снова никто ему не ответил. Славка уже собрался уходить и повернулся, нащупывая босой ногой, куда бы половчее ступить, чтобы не наколоться ненароком на острую щепку либо гвоздь, как вдруг уловил краешком глаза какое-то медленное и — как показалось ему — трудное шевеление посередке этого хлама, услыхал скрипучий шорох соломы и слабо, по-воробьиному пискляво прозвучавший свистящий всхлип. — Это ты, Женька?.. Чего это с тобой?.. — Славка внезапно как будто охрип, в горле у него запершило, он откашлялся и весь подобрался в ожидании ответа. — Ну, давай вылазь… Ты чего там, а?.. Но безответное это шевеление посреди груды хлама все продолжалось и продолжалось. И лишь тогда Славка догадался, что забившийся внутрь этой кучи пацан никак не может теперь из-под нее выкарабкаться. «А если он там помрет? — с мгновенной оторопью подумал Славка. — Или уже помирает?..» Он напрочь позабыл о том, что намеревался со злости, обнаружив Женьку, без всякого снисхождения накостылять ему по шее, и о минутной оторопи своей тут же позабыл — таким ошеломляюще непостижимым было упорное это, молчаливое движение, безнадежное и судорожное подергивание. — Да ты потерпи немножко, Женьк… Я сейчас!.. — не заботясь больше о том, что и в самом деле рискует напороться на гвоздь, Славка налег плечом на податливо рухнувшие остатки ветхой перегородки, отчего в закутке всклубилась пыль, но все-таки сделалось вроде бы посветлее, и низко наклонился над шебуршащимся у ног грязным тряпьем. — Ну, где же ты тут? Ведь совсем задохнешься, дурак!.. Долго не раздумывая, Славка принялся торопливо хватать и отшвыривать в сторону обрывки прелой мешковины, куски плетеных рогож, что-то стеганое, обросшее по краям серыми клочьями ваты, покуда не разгреб широкую нору, из которой на него пахнуло влажным теплом. Сначала он натолкнулся на горячую Женькину руку, потянул за нее, чтобы помочь парнишке встать и стряхнуть с себя остальное наваленное барахло. Однако Женька почему-то не поднялся, а его рука, несмотря на исходивший от нее жар, вдруг представилась Славке какой-то слишком вялой и пугающе неживой. Он поспешно выпустил ее, исхитрился приподнять Женьку под мышки и, напрягаясь, поволок его из гнилостно-влажной этой ямины на свет божий. Только оттащив Женьку чуть ли не к противоположной стене конюшни, под заколоченное крест-накрест планками окошко, он осторожно уложил совсем обмякшего огольца на соломенную подстилку и уже внимательнее посмотрел в его бледное, с выпирающим синевато-прозрачным носом, заостренными скулами и спекшимися губами лицо. И вот лишь после этого Славка Комов испугался по-настоящему. Открытые Женькины глаза были недвижимы, мутны и бессмысленны. Дышал он прерывисто с прежним чуть различимым свистящим писком, который поразил Славку в шорницкой. Однако теперь в воробьиный этот писк вплетался еще и нутряной какой-то, вроде бы даже стенающий хрип, словно в груди у пацана что-то сухо хрустело и перемалывалось. Но все-таки не этот надсадный хрип и не страшное в своей неподвижной отрешенности, бескровное лицо паренька заставили его сразу же, стиснув зубы в немом крике, отшатнуться от беспамятного Женьки, выдернуть свои руки из-под горячих мальчишеских плеч, на карачках попятиться к самой стене и замереть там, в сотрясающем каком-то, невыносимом ужасе, от которого Славку внезапно как будто разом всего перекорежило: мучительно сдавило внутренности, потом вдруг перевернуло их с режущей болью и едва не вытолкало через горло наружу… Славка сглотнул набежавшую слюну и плотно смежил веки. Но и с зажмуренными глазами он все равно видел, как из-под расхристанного ворота Женькиной рубашки, накапливаясь в ложбинках у ключиц и поднимаясь оттуда по истонченной шее, выступающим скулам и впалым щекам, сплошной шевелящейся коркой расползались крупные — в одиночку и слипшиеся попарно, — словно бы скатанные из скользкого воска, оловянно-тусклые вши. Они кучно роились возле ушей, густо копошились на висках и упорно лезли дальше, к бровям, минуя на своем пути расчесанные, гноящиеся ранки, вокруг которых, подобием некоего частокола, торчали заостренные брюшки въевшихся в живое тело насекомых. А из-под спутанных, вернее, сбитых колтуном волос на безвольно запрокинутой Женькиной голове — капля по капле — просачивались на лоб желтоватые потеки, разбавленные розовой сукровицей… Славку опять скрутило жестоким приступом тошноты. Сдержав его в последнем усилии, он перевел дух и с превеликим трудом открыл глаза. Женька по-прежнему лежал, не двигаясь, и даже хрипа от него вроде бы не доносилось. Ухватясь за обломанную решетку яслей, стараясь лишний раз не глядеть в сторону без всякого уже сомнения д о х о д я щ е г о пацана, Славка кое-как поднялся на ослабелые ноги, но совсем выпрямиться ему не удалось. Так, полусогнутым, прижимая ладони к низу отвердевшего, вспученного бугром и словно бы насквозь пронизанного неутихающее болью живота, увязая в соломе, чуть не падая и натыкаясь на раскиданную повсюду рваную какую-то рухлядь, ничего больше, не слыша и не видя перед собой, — еле живехонький Славка медленно поплелся прочь из конюшни… Он только-только успел перевалиться через высокий порог врезанной в ворота двери, как его тут же начало рвать. Потом, все еще содрогаясь и корчась, Славка отступил за угол и в изнеможении прислонился к обшарпанной и забрызганной мальчишками стене. Из глаз у него неудержимо катились слезы, а по всему телу высыпала холодная испарина. Однако здесь — на ветерке, за углом — ему как будто немного полегчало. Боль в животе стала постепенно затихать, спазмы прекратились, а перед глазами прояснилось. Славка неуверенно выпрямился и, как бы стряхивая с себя болезненное наваждение, освобождаясь от тягостного забытья, будто впервые, осмотрелся вокруг. Он увидел над собой клочок затянутого текучими облаками, пасмурного неба, поросший реденьким бурьяном у подножья рыжеватый навозный отвал невдалеке, голый ископыченный двор, по которому там и сям были раскиданы какие-то поломанные деревяшки, растоптанные ящики, осевшие на ступицы тележные передки, разваленные кузова, ощеренные точеными спицами колеса без ободов; заметил на другом конце двора, под сквозным плетеным навесом, сложенные друг на дружку горой старые сани; разглядел пролегшую через весь этот двор, жирно лоснящуюся непросохшей в колеях влагой дорогу, что полого огибала навес, терялась за ним, потом возникала опять, ныряла в ложбинку и уводила в поле… Славка высморкался; высоко заголяясь, ощущая под мышками ветреный озноб, вытер подолом рубахи мокрое свое лицо и лишь тогда вспомнил, для чего посылала его сюда Полина Карповна, которая, наверное, ждет их теперь с Женькой и, сгребая пожухлый горох, давно тревожится за них вместе со всеми остальными ребятами: куда же они оба подевались? что с ними произошло?.. А ведь Славка даже толком не знал, дышит ли еще там, на соломе, покинутый им без присмотра Женька или, может, уже и не дышит. Хотя возвратиться в конюшню, глянуть на него еще раз, он не решался. И как будет объяснять эту свою нерешительность ребятам, Полине Карповне, тете Фросе — тоже не знал. Он только чувствовал, что просто маячить тут столбом дольше нельзя, а надо немедленно что-то предпринимать — бежать ли в поле, к ребятам, либо в село, за подслеповатой бабкой, приставленной к ним завхозом Вегеринским, — звать кого-то на помощь. Да он и побежал бы, конечно, с радостью хоть куда, чтобы побыстрее разделить с кем-нибудь, а еще лучше — и вовсе бы переложить на кого-нибудь другого внезапно, как снег на голову, обрушившуюся на него беду. Но вся загвоздка-то как раз и заключалась в том, что ноги его никак не несли. Славке даже думалось сейчас со страхом, что он вообще больше единого шагу ступить не сможет. Куда уж там было ему теперь бежать… Но все-таки он отлепился от стены и пошел. Сперва не так чтобы очень уж ходко, а скованно, будто по ледяной каткой дорожке, нелепо растопыриваясь, по-утиному колыхаясь с ноги на ногу, но вскоре собрался с силами и припустил валкой трусцой, норовя, как на физзарядке, глубоко дышать носом и прижимать болтающиеся локти к бокам. И чем меньше оставалось Славке бежать, чем отчетливее вырисовывались вдалеке полусогнутые ребячьи фигурки — словно бы из горсти рассыпанные по черной земле под белесым, текучим небом, — тем ужаснее представлялось ему случившееся с Женькой несчастье и тем неискупимее казалась какая-то всеобщая их вина перед ним…
Ополоснув на скорую руку тот самый котел, в котором варился по вечерам траченный козявками и осточертевший ребятам горох, тетя Фрося согрела воды. Малость оклемавшегося Женьку раздели донага, завернули в чье-то не слишком грязное рядно и перенесли на девчоночью половину конюшни, поближе к выходу, где было хотя и прохладнее, но зато просторнее и светлее. Ребята освободили подходящее для купанья место, застелили его свежей соломой, перетащили туда же котел с горячей водой и вмиг раздобытое деревянное корыто. Испытывая теперь уже повышенную ответственность за дальнейшую Женькину судьбу и ощущая себя виноватыми в том, что как бы отвернулись от своего товарища в трудную минуту, позабыли о нем, мальчишки спешили наверстать упущенное и кидались наперегонки выполнять любое распоряжение тети Фроси, которая с непрестанными ахами и охами хлопотала возле безучастного ко всему пацана. Они слетали в село, к подслеповатой бабке, выцыганили у нее бережно хранимый за божницей, обметанный паутиной, треснувший вдоль и поперек твердый обмылок, на обратном пути прихватили на всякий случай безнадзорно стоявшее у стены какой-то хаты долбленое корыто — пригодилось! — зачерпнули в колодце воды, развели костер. Второпях, правда, сунули в огонь и дотла уничтожили всю Женькину вшивую амуницию, которую тетя Фрося непредусмотрительно выбросила за порог, чтобы потом как следует ее прокипятить, а заодно и подлатать. Но и этот их просчет не особенно обескуражил ребят. — Ну, чего там драные шмотки жалеть! Да мы ему новенький костюмчик достанем! Суконный!.. — юлила перед сокрушенной поварихой услужливая ребятня. — Во, гадами будем!.. В натуре, достанем! Век свободы не видать!.. Однако не на шутку обозленную ребячьей беспечностью тетю Фросю не трогала истовая божба пацанов, мало обнадеживали щедрые их посулы. Она была крайне раздосадована и обращалась с мальчишками весьма сурово. — А ну-ка, геть отсюдова, голота треклятущая! — грозно орала повариха на снующих подле двери настырных ребят и выталкивала в шею каждого, кто лез в конюшню поглазеть, что там творится с Женькой и не требуется ли ему еще какая-либо подмога. — Чтоб у меня жодного уркагана туточки не було! Господи, ведь они все как есть попалили… Та вы бы хотя наперед подумали дурными своими башками, во что я его, бидного, потом одягну? Не подумали?.. А на что ж було тоди отой дытячий одяг в огонь кидать? Га, паразиты?.. Явно оплошавшие мальчишки смущенно хмыкали, косоротились, смотрели в землю. И только после того, как Иван Морозовский молчком перемигнулся с двумя-тремя умельцами, опять смотался с ними в село и благополучно приволок оттуда пахнущие недавней стиркой мятые мужицкие штаны, рубашку и даже пиджак — что мирно сохли, должно быть, на веревке в каком-нибудь укромном вишневом садочке и в которые можно было свободно упрятать кроме Женьки еще пару отощавших детдомовских огольцов, — неумолимая повариха немного смягчилась. — У добрых людей, мабуть, позычили, а? — критически осматривая вещи, утвердительно спросила тетя Фрося и, не получив ответа, вздохнула. — Ну, та нехай же вас бог милует, дети… Почекаем трошки, если какая жинка за ними придет, тогда и отдадим… Но, к счастью мальчишек, за барахлом почему-то никто не пришел. Кое-как обкорнав тупыми ножницами свалявшиеся Женькины космы, тетя Фрося наконец как будто успокоилась. Зачерпывая кружкой из поставленного рядом холодного ведра, она принялась разбавлять уже налитую в корыто горячую воду, часто окуная туда свой пухлый локоть и пробуя — не слишком ли горяча. В подспорье себе повариха определила Зою Комову и голенастую ее подружку, что когда-то — по возвращении Славки в детский дом — помогала ему управляться с набитым соломой матрацем. Всех прочих доброхотов тетя Фрося безжалостно выпроводила за дверь. — Давайте-ка, девчаточки, сюда нашего парубка, — деловито повелела повариха. — Подымайте его, берить разом попид руки. Та вы швыдче, не бойтесь… Чего ж тут соромного? Кладить хлопчика в корыто, а я уж тоди буду его мыть. Ото ж такая наша бабская доля… И трудно было поверить в то, что те же самые девчонки, которые не далее как вчера вечером, ненароком узрев оголенный мальчишеский пуп, с деланным негодованием жеманно воротили носы или в притворном стыде начинали заполошно визжать на всю конюшню, теперь сноровисто — с целомудренным женским снисхождением ко всякой мужской слабости, — бережно переворачивали в корыте со спины на живот совсем нагого парнишку, легко и нежно прикасаясь, поддерживали его стриженную «лесенкой» и покрытую уродливыми струпьями голову, терпеливо уговаривали, когда он тихо скулил, просили чуточку еще потерпеть, ласково называли Женечкой и не испытывали при этом никакой неловкости, а только непреходящую жалость и возвышающее душу сочувствие чужой беде. Они словно бы вдруг отрешились от всего, кроме скрюченного перед ними в корыте, сломленного недугом малого человека, которому, должно быть, не меньше неведомых ребятам врачующих снадобий нужны были сейчас участие и ласка. Да ведь кому же еще, как не им — кротким и заботливым женщинам, — искони было написано на роду облегчать на всем этом неласковом белом свете человеческие мучения? И потому, наверное, несмышленые эти девчонки, впервые, быть может, за недолгий свой век подступив столь близко к осознанию великого своего женского предназначения — утолять страдания, привечать немощных, даровать жизнь и обряжать усопших, — с такой самозабвенностью и старанием возились теперь в полутемной конюшне, помогая тете Фросе вытирать мокрого мальчишку, напяливать на него просторную мужичью одежду и стелить постель… К тому времени, как из села приковыляла подслеповатая бабка с неизменным своим узелком, где были у нее луковицы и пузырек постного масла, — запеленутый, наподобие младенца, Женька уже пришел в себя и смирно лежал на чистой соломе. Тетя Фрося дала ему выпить каких-топорошков. Жар у него начал заметно убывать, а глаза прояснились, хотя дышал он по-прежнему тяжело. — Ой, лышэнько ж якэ! Ой, горэнько!.. — сварливым тоном твердила бабка, кидая щепотью себе на грудь мелкие крестики, и было не понять: то ли жалеет она хворого Женьку, то ли сетует, что пришлось ей сегодня плестись сюда зря, потому как гороха нынче детям, видать, не варили, и вдобавок еще повариха перевела на затрушенного хлопчика чуть не все ее, бабкино, мыло. Ребята попробовали разузнать у старухи, куда пропал завхоз Вегеринский, который третьего дня как будто отвез в город последние мешки с пшеницей и с тех пор не показывался в здешних краях, должно быть, твердо уверовав в то, что пацаны окончательно смирились со своей участью и сами, без его неусыпного присмотра, достойно завершат уборку. Однако бабка лишь трясла головой и беспомощно разводила костлявыми руками. — Та хто ж його знае, диточкы мои, дэ вин, отой ваш завхоз… Хиба ж вин мэни докладав, чы що? — виновато бормотала она. — З ранку запряг соби коня та й кудысь на йому поихав… — А когда приедет, не говорил? — Ни, нэ казав… Ничего путного не добились от старушки и тетя Фрося вкупе с Полиной Карповной. Испуганная воспитательница тоже бегала в село, домой к старосте, умоляла его дать подводу, чтобы отправить Женьку в детский дом, но староста ей отказал, ссылаясь на то, что всякое живое тягло мобилизовано властями для вывозки из дальних сел на железнодорожную станцию запасов зерна и прочего необходимого наступающей германской армии фуража и продовольствия. — Пидождить завхоза свого, — угрюмо посоветовал староста, стоя на пороге сеней и не приглашая взволнованную Полину Карповну в хату. — Можэ, вин у завтра, чы там щэ колы, и объявытся… А ось повэрнутся ти наши жинкы до дому, яки поихалы з пидводами на станцию, чы нэ повэрнутся — того вжэ нихто вам нэ скажэ… — Но мы не можем ждать. Вы поймите, мальчику очень плохо, он серьезно болен… Ребята надеются на вашу помощь… Что я им скажу? Они же тогда наверняка откажутся работать. Некоторые, возможно, уйдут… Мы все уйдем, — попыталась даже слегка нажать на хмурого старосту Полина Карповна. — Ну, та й идить соби, куды хоштэ! — равнодушно отмахнулся староста. — Дэ ж я оти кони визьму? Вырожу их отуто вам зараз, чы що? Нэмае в сэли конэй… Нэхай його чорты дозбырують, отой горох… Я й сам, мабуть, тут довго вжэ нэ пробуду… Отак своим хлопцям и скажить… Староста, по-стариковски кряхтя, повернулся к Полине Карповне обвислым латаным задом и, низко наклоняясь под притолокой, скрылся в хате… Ребятня дожидалась воспитательницу, сгрудившись в затишке, подле конюшни. Девчонки, зябко нахохлясь, подпирали боками стену, а мальчишки, хоронясь за их спинами, прятали в рукавах недокуренные «бычки». По сумрачному виду Полины Карповны ребята сразу определили, что к старосте ходила она напрасно. — Да ничего… Вы не расстраивайтесь, — успокаивали они воспитательницу. — Мы и на себе Женьку дотащим… — Носилки сделаем!.. — Во, правильно! Понесем, как раненого!.. — Давай, пацаны, пошли!.. Пожалуй, никто из мальчишек толком не задумывался сейчас над тем, для чего, собственно, понадобилось им без малейшего промедления тащить на себе в город — за целых пятнадцать верст — обезножевшего Женьку, а не погодить, например, еще хотя бы денек-другой, до появления завхоза Вегеринского, который так не к случаю, конечно, сгинул куда-то вместе со своим мерином. Ведь ни фельдшера, ни медсестры в детском доме давным-давно не было; некогда богатый аптечный шкафчик, что стоял под замком в изоляторе, как-то незаметно и вроде бы сам по себе опустел. Точнее говоря, пронырливая младшая ребятня негласно провела на его полках основательную ревизию: сладкие порошки были съедены, микстуры выпиты, а всяческая иная несъедобная дребедень и горечь — мази, таблетки да капли в скляночках — выброшена как имущество бесхозное и больше уже совершенно ни на что не пригодное… Но, очевидно, ребятам все-таки просто невмоготу было неприкаянно болтаться по двору, когда рядом, на глазах у них, можно сказать, пропадал живой человек, которому требовалась срочная помощь. Надо было немедля спасать Женьку. И они теперь стремились сделать для него все, что было в их силах. Причем сделать сразу, не откладывая на потом. К тому же мальчишкам не хотелось упускать заманчивой возможности поскорее вернуться домой. — Я вот как думаю, пацаны. Вегеринского нам ждать нечего. Приедет он — нет, черт его знает! Может, у него колесо сломалось или мерин подох? — рассудительно сказал Иван Морозовский, когда Полина Карповна предложила, чтобы некоторые ребята остались, довели до конца уборку, и девчонки готовы были с нею согласиться. — Так чего там уже убирать? Пускай им на развод будет… Не, пацаны! Двигаем отсюда всей хеврой. Дома и стены помогают… А тут уж если самому старосте на этот горох наплевать, то нам и подавно! — Айда!.. — Верно, Мороз!.. — Да мы мотали старосту и не боялись аресту! — поддаваясь общему возбуждению, не вытерпел Валька Щур и нахально уставился на Полину Карповну, которая, однако, предпочла благоразумно не расслышать залихватскую приговорку явно рвущегося на скандал хамоватого парнишки. Правда, ребята быстренько цыкнули на ни с того ни с сего вдруг раздухарившегося Вальку и поспешно оттерли его на всякий случай подальше от обескураженной воспитательницы. Было им недосуг сейчас разводить попусту тары-бары перед Мизючихой. Идти пора. — Ото ж я зараз как мотану тебя по соплям, паразита! — замахнулась на Вальку Щура подоспевшая от сиротливо покинутого, стынущего кострища тетя Фрося, где она терла золой черные миски. — Ишь, морду отворотил!.. Значит, вот так и побежите, без обеда! Или, может, вам хоть мундерок на дорогу сварить, а? — Да нет, теть Фрось… Мы потом… дома… — Ну, тогда як соби хочите. Потеплее закутанного во всякую пестрядь Женьку положили на длинные — по его росту сколоченные из досок — носилки с четырьмя выпирающими ручками. За каждую чтоб ухватилось по одному огольцу. Иван Морозовский с Валькой Щуром встали впереди. Разом наклонились, по команде подняли, понесли… Остальные ребята, тетя Фрося и Полина Карповна распределили между собой все же бог весть откуда набравшееся кой-какое барахлишко, узлы с кухонной утварью. А прочие не приспособленные к делу, слишком хлипкие мальчишки и девчонки, на которых и вовсе уже ничего нельзя было нагрузить, плотной толпой окружили носилки. Мешая друг дружке, они тянулись поддерживать ненадежно поскрипывающее и зыбкое Женькино ложе, усердно подтыкали с боков и поправляли свисающее с него наземь тряпье. Славка Комов суетился за плечами Ивана Морозовского, жался поближе к Женькиному изголовью и путался в ногах у шагавших следом за ним ребят. Впрочем, нерасторопного Комка все-таки не выталкивали на обочину, щадили, потому что ведь как-никак, а он-то первым разыскал доходившего хлопца, оказал ему посильную помощь, потом поднял на поле перед воспеткой страшный шухер, напугал ее едва не до смерти, но тем самым, быть может, даже отвел от пропадавшего огольца неминучую гибель… А сам Женька Першин — не приученный жизнью к подобной заботе и уже совсем подавленный общим участием, — с виноватой беспомощностью в глазах, лишь совестливо улыбался ребятам синеватыми своими губами, иногда силился приподняться на локоть да чуть слышно просил: — Ну, чего это вы, пацаны?.. Мне уж лучше… Я уж сам как-нибудь пойду… В натуре, пойду… А, пацаны?.. Однако эти слабые просьбы его звучали втуне. Мальчишки только смущенно хмурились, с напускной злостью одергивали Женьку: — Да ты не шебаршись там!.. Носилки сломаешь… Тебе говорят — не ворочайся, хмырь!.. — и, часто сменяя на ходу один другого, тащили его дальше… Никто не обгонял ребят, не попадался им навстречу. Пасмурно и пусто было под низким небом, в этих сумрачных полях, где не высилось ни золотистых соломенных скирд, ни старательно обложенных черной землей свекольных буртов. Лишь там и сям между глубокими рваными колеями, которыми вдоль и поперек исполосовали безжизненные эти нивы громыхавшие по ним тяжелые военные машины, горбатились бурые кучи прелой ботвы да виднелись кое-где серые островки неубранных, полеглых и вытолоченных хлебов. Молча, словно ветром подхваченные, косо летели с дороги взъерошенные галки. А вразнобой бредущие вдоль проселка, груженные нехитрым скарбом и оборванные ребята напоминали, наверное, со стороны уныло плетущихся в некогда покинутые ими родные края изможденных беженцев, безлошадных цыган либо погорельцев… Потому-то, должно быть, когда — по обыкновению легонько подхлестывая сонного мерина — завхоз Вегеринский на обратном пути из детдома в село неспешно перевалил через пологий изволок и разглядел за ним, на поросшей редкими вербами луговине, разномастную какую-то и понурую вереницу людей, он сначала принял их за спешившихся цыган. «Куда их черти-то несут? Неужто в город? — удивленно подумал завхоз. — Там же их, дурней, немцы враз усех переловят… Или, может, это беженцы какие вертаются?.. Щось они на цыган вроде бы не дуже похожие…» Но вот основательно уже притомившаяся ребятня еще издали узнала неторопкого своего мерина, расхлябанную детдомовскую колымагу и невозмутимо восседающего в ней тучного завхоза Вегеринского. Позабыв об усталости, мальчишки радостно замахали ему руками, заорали и, побросав узлы, с гиканьем и свистом кинулись наперехват. «Господи!.. Да никак то наши хлопчики идуть?.. Чего же это такое с ними приключилось?» — сердце у Семена Петровича испуганно замерло. Он выпучил водянистые свои глаза, привстал на телеге и что было силы вытянул ни в чем не повинного мерина кнутом…
9
Теперь ребята старались как можно реже выбираться на улицу, больше сидели в спальнях или слонялись по коридору: нагрянули настоящие предзимние холода. Затяжных промозглых дождей и распутицы, которых со дня на день тревожно ждали и опасались взрослые люди — покуда кое-как одетая и разутая детвора работала в поле, — в том тяжком году так и не наступило. Правда, после возвращения ребят в детский дом, с недельку еще примерно покрапало, поморосило да обило ветром с оголенных деревьев последнюю жухлую листву. И на этом все кончилось. Но затем однажды ночью сплошные облака будто нехотя расступились, и в образовавшемся между ними провально-черном разрыве с высоты бело и мощно засияла луна. Ничем не замутненный ее свет вдруг как бы наполнил сырой и мягкий осенний воздух звонкой упругостью, сделал его по-зимнему студеным и резким. А выскочивший в то позднее время на улицу по малой нужде заспанный и продрогший Славка Комов — топоча босыми пятками по обжигающе стылым ступенькам крыльца и поглядывая изредка в задумчивости на небо — самолично видел, как внезапно вылупившаяся из-за туч луна, оставаясь на одном месте, стремительно понеслась куда-то посреди взлохмаченных, голубовато и нежно подожженных ею спереди, молочно-сизых глыб, которые — словно бегучая волна остроносую лодку — плавно обтекали ее выпукло обозначенный, грозный и нестерпимо сияющий лик. К утру на присмиревшую землю и на все, что сейчас недвижимо и безжизненно покоилось на ней вокруг, пал серебристый иней. В детдомовском саду — под яблонями — на рубчатых краях свернутых трубками пегих листьев, на кое-где все еще мокро зеленеющей траве и на обломанных тонких стеблях встопорщились мелкими иголками пушистые наросты. Берега незамерзших луж во дворе как бы посыпали солью; они вроде подсохли, растрескались и затвердели, а от них робко потянулись во все стороны стрельчатые полоски прозрачного льда, еле приметные на темной и спокойной воде… Похолодало, конечно, и в ребячьих спальнях. И если раньше мальчишкам удавалось кое-как отогреваться под потертыми казенными одеялами да всяческим подсобным тряпьем, то теперь без горячей печки приунывшим пацанам уже никак нельзя было обойтись. С наступлением крепких заморозков особенно много хлопот добавилось старшим ребятам, которым Юрий Николаевич вменил в обязанность обеспечивать топливом кухню и прочие детдомовские помещения. Из старших воспитанников один только Женька Першин, которого вообще перевели в спальню малышей, под опеку неутомимой Людмилы Степановны, был освобожден от этой всеобщей дровяной повинности. Впрочем, он покуда едва-едва лишь начинал ходить, и поэтому проку от него все равно не было никакого. Очень туго было в детском доме с теплой одеждой, а еще хуже — с обувью. Некоторые ребятишки, правда, сумели-таки сберечь довоенные свои ботинки или загодя раздобыть себе на стороне хоть какую ни есть обувку: сыромятные постолы, ватные бурки, старые галоши… Теплым барахлом, равно как и обувью, ребятня пользовалась в основном поочередно. И кое-как снаряженные общими усилиями мальчишки по-прежнему с рассвета и дотемна рыскали по городу. Пацаны, однако, шныряли теперь повсюду уже не только в поисках съестного, а и в надежде надыбать в каком-нибудь глухом закоулке нетронутую деревянную огорожу, за коей не таилось бы ни свирепого пса, ни злющего хозяина с дрыном; углядеть да выворотить подгнивший стояк давным-давно сгинувших ворот либо разыскать где-нибудь на задворках благополучно улетучившегося в нети бывшего присутственного учреждения никем ранее не обнаруженную кучку затоптанного и перемешанного с землей каменноугольного крошева. Везло, конечно, далеко не всегда и не всем ребятам. В нетопленых комнатах продрогшая пацанва нередко «играла на зубариках». Но труба над крышей детдомовской кухни победно дымила каждый день, а это было сейчас, пожалуй, главным…Вечерком иной раз в спальню к старшим мальчишкам наведывался Юрий Николаевич. По-домашнему распоясанный, плохо бритый, облаченный в пузырчатые на коленях штаны, растоптанные валенки и донельзя затасканный свитер, из глубоко отвислой горловины которого торчала тонкая и длинная, как у гусака, жилистая шея; в наброшенном на острые плечи стеганом ватнике, — совсем исхудавший и нестрогий с виду директор зябко потирал руки, легонько хукал перед собой в пустоту и, узрев в неверном свете коптилки клубящийся возле губ парок, сокрушенно покачивал головой. — М-м-м-да-а-а… Что-то прохладненько нынче у нас с вами, ребята, — трогая чуть нагретую жесть обшарпанной круглой голландки, с какой-то стеснительной виноватинкой в голосе замечал Мизюк. — Ну, да ничего, дети… Придется еще немного потерпеть. Семену Петровичу обещают в управе выдать ордер на дрова. Тогда мы с вами, ребята, поедем в лес, сами себе нарубим, привезем… — Ага, они ему выдадут!.. Пускай карманы шире держит, — недоверчиво гундосил какой-нибудь вовсе простуженный и сопливый шкет. — Что ж, вполне возможно, — не вступал в спор покладистый директор. — Но давайте-ка, ребята, все-таки будем надеяться на лучшее. Да-да, ребята, будем надеяться… — Ну вот, огольцы!.. А я вам про чего говорил? Сначала в поле нас погнали, теперь — в лес… В чем же-нам туда ехать-то? Голыми да босыми, что ли? — вяло принимался за свое неугомонный Генка Семенов и, отворачиваясь от Мизюка в темноту, потише уточнял: — У нас вон и без того — один рубит, а семеро в зуб трубят… — Что-что ты сказал, Семенов? — не расслышав как следует, директор настороженно клонил к нему оттопыренное и прозрачно-розоватое против мигающего света коптилки, поросшее волосинами ухо. — Так ты утверждаешь, что уже рубят?.. Кто рубит? Где?.. — Да нет!.. Он ведь просто шутит, Юрь Николаич!.. — сдерживая ухмылки, мальчишки торопились направить вдруг опасно вильнувшую беседу снова в нормальное русло. — Разве у нас холодно? Нам тут лишь бы до лета как-нибудь перекантоваться… Мы завтра так накочегарим — жарко будет!.. Верно, пацаны?.. — Ну-ну, посмотрим… Мизюк успокоенно присаживался на чью-нибудь постель. Ребята окружали его, и мало-помалу затевался ставший уже привычным для всех заманчивый и неспешный разговор о том, какая сытная, привольная и безоблачная житуха наступит у них с приходом лета… — Вишни начнутся, яблоки… — Не, сперва черешня поспеет… — Пускай хоть и черешня… Купаться пойдем на ставок! Загорать будем… — Картошки молодой нароем!.. — Не, пацаны… Вы как хотите, а я по солнышку в Бессарабию рвану, — задумчиво глядя на огонек коптилки, изрекал Валька Щур. — Почему же непременно, в Бессарабию? — интересовался Юрий Николаевич. — А там, я слыхал, всю дорогу тепло и мамалыгу в каждой хате на обед варят, — серьезно объяснял Валька. — Я, пацаны, очень мамалыгу люблю… Мальчишки беззаботно скалились. Юрий Николаевич тоже посмеивался вместе с ребятами. Хотя в этих редких вечерних беседах Мизюка неизменно настораживала и беспокоила какая-то слишком уж легкомысленная мальчишеская беспечность. Он не сомневался в искренности доверчиво льнущей сейчас к нему раздетой и разутой ребятни, которая хорошо понимала, конечно, что даже самый ближайший, буквально завтрашний день не сулит ей ничего утешительного, а только новые заботы да невзгоды. И тем не менее мальчишки явно предпочитали уповать лишь на отдаленное и весьма туманное будущее, нисколько не задумываясь над тем, чтобы по мере возможности хоть как-то облегчить и устроить свое настоящее. Более того, Мизюк полагал, что оно, это настоящее, — со всеми его несчастьями и тяжкими бедами: войной, оккупацией, вшами, холодом и голодом, со знакомой ранее пацанам разве только по книгам о гражданской войне, но вдруг возродившейся въяве из каких-то петлюровских времен городской управой, с недавно открытой «национальной школой», каковую зачем-то пышно нарекли гимназией, в которую, однако, никто из детдомовцев всерьез не поверил и ходить в нее не пожелал, — это настоящее как бы не существовало для ребят вовсе или же казалось им чем-то нарочно придуманным. Вернее, вся эта страшная и противоестественная жизнь, что ежечасно вершилась вокруг и называлась «новым порядком», несмотря на жестокую и кровавую ее реальность, упорно воспринималась ребятами как что-то призрачное, временное, чему суждено если не сегодня, так завтра бесследно исчезнуть… Но самое страшное, с точки зрения Юрия Николаевича, заключалось для него сейчас, пожалуй, в том, что и сам он — пожилой и опытный человек — в глубине души невольно соглашался с ребятами и испытывал нечто сходное с этим, крайне опасным в теперешних условиях, легковесным мальчишеским отношением к окружающей их всех; тревожной действительности. Разумеется, он не был столь наивным, чтобы полностью принимать на веру сообщения местной газетки об окончательном поражении большевистской армии, взятии Москвы и скорой блистательной победе немецкого оружия. По всей вероятности, наши войска до сих пор продолжали отступать и военный успех оставался на стороне немцев. В городе они, во всяком случае, чувствовали себя безраздельными хозяевами, как будто обосновались тут навечно. Однако совершенно уже невозможно было представить себе, что немецкие солдаты будут когда-нибудь так же спокойно расхаживать по улицам и деловито распоряжаться чужим добром в городах и селах за Москвой, за Уралом, в Сибири… Не отторжимой от самой малой своей малости и поистине бескрайней казалась отсюда Юрию Николаевичу родная его русская земля, которую на протяжении веков не один раз безуспешно пытались прибрать к рукам ближние и дальние ее соседи: и литовцы, и поляки, и шведы, и французы, и немцы… И, сидя теперь в холодной детдомовской спальне напротив чадящей коптилки, слушая вполуха неумолчный говорок напропалую размечтавшихся мальчишек, столь понятных ему и близких в их недетских радостях и печалях, он словно бы еще крепче, утверждался в своем скептическом отношении к ныне установленному недоброй волей бесчеловечному порядку вещей. В такие минуты директор был готов чуть ли не во всем поддерживать своих неприкаянных воспитанников: прощать им глупое озорство со срыванием уличных табличек, на которых, вместо когда-то примелькавшегося «вул. Селянська», «им. Щорса», сейчас полновесно значилось «вулыця гетьмана Скоропадського», а то и самого Адольфа Гитлера, — кражи продуктов из проходящих через город немецких машин и даже «рвать по солнышку» с этой неукротимой братией куда ей заблагорассудится, хоть в ту самую Бессарабию… А ребята тем временем расстилали на соседней кровати тряпицу и доставали из печки улежавшуюся под теплой золой сахарную свеклу. Отколупывая ногтями кое-где толсто обуглившуюся, а местами снимая только лишь слегка поджаристую, в липучем коричневом соку, тоненькую кожицу, — они проворно очищали увесистые корневища и щедро раскладывали перед задумавшимся о чем-то директором. — Угощайтесь, Юрь Николаич!.. — О-о!.. Откуда же такое богатство? — с привычной подозрительностью спрашивал Мизюк, надкусывая приторно-сладкую, отдающую горчинкой, свеклу. — Да нет… Мы не у немцев… Мы ее вчера на базаре натырили, — поспешно заверяли мальчишки. — А эти вот, — они откладывали на край тряпицы парочку свеколок помягче, — передадите Полине Карповне… Берите, Юрь Николаич, чего вы?.. У нас еще есть… — Ну что ж… Спасибо вам, дети, — растроганно улыбаясь, благодарил мальчишек смущенный директор. — Да-да… Большое вам спасибо… Словно бы по какой-то взаимной молчаливой договоренности, и ребята, и Юрий Николаевич старались избегать, не касаться в этих «мирных» вечерних беседах всего того, о чем, правда, с оглядкой, шепотком, однако уже начинали поговаривать в городе: о будто бы раскиданных в воскресенье по всему базару каких-то тетрадочных листочках, на которых от руки было написано, что никакой Москвы немцы не взяли, а наоборот — скоро они сами побегут прямиком в свой Берлин; о вроде бы слышанной прошлой ночью частой пулеметной стрельбе где-то за речкой, в лесу; о некоем нашем пленном летчике, что ухитрился выкрасть с немецкого аэродрома настоящий самолет, взлетел на нем, но был сбит из пушки, выпрыгнул с парашютом и теперь прячется едва ли не в самом городе, около базара, а полицаи вместе с немцами ловят его уже целую неделю и никак не могут поймать… Впрочем, иногда все-таки случалось, что какой-нибудь продувной парнишка, не утерпев, подкидывал на прощанье Мизюку тот или иной заковыристый вопросик. Чаще всего о том, когда — по его, директорскому, мнению — закончится война и кто победит. Юрий Николаевич отвечал уклончиво, неопределенно: дескать, мне трудно судить, я человек невоенный… Но, сами видите, у немцев очень хорошая техника, все на колесах… Хотя опять же, если принять во внимание те огромные пространства, которые еще предстоит одолеть этой технике, то времени, конечно, пройдет порядочно… Кроме того, общеизвестна храбрость русского солдата, его замечательная стойкость, например, в рукопашном бою — это давно признано во всем мире, в том числе и самими немцами… Ребята как будто довольствовались подобными расплывчатыми ответами, не тормошили Мизюка. Они словно догадывались, что ему, директору доверена какая то важная тайна, разглашать которую перед ними он не имеет права. Но когда в разговор вмешивался обычно помалкивавший Володя Лысенко, на душе у Юрия Николаевича становилось особенно тревожно. — А мы слыхали, что позавчера за городом немецкая легковушка на мину наскочила. В ней офицеры были, их всех поубивало. Это правда? — требовательно спрашивал Володя, строго глядя на Мизюка. — М-м-м-да-а-а, говорят… Я тоже, кажется, слыхал что-то в этом роде… — А как вы думаете, кто ей на дорогу ту мину подложил? Может, партизаны? — Не знаю, не знаю… Возможно… Однако уже поздно, дети. Пора спать. Ложитесь, отдыхайте… Выходя из спальни, Юрий Николаевич приостанавливался в дверях, пожимал плечами, смущенно улыбался, вроде был в чем-то виноват перед мальчишками, желал им спокойной ночи. Ребята дружно орали в ответ, зазывали приходить снова и понимающе переглядывались… Вскоре после того, как Лысенко со своими приятелями провел в детдомовской конюшне памятную для Вальки Щура «предварительную беседу» — когда тот надумал в столовке пугануть бывшую пионервожатую немецкими приказами об учете комсомольцев, — а затем отказался идти вместе с ребятами в село убирать горох, Юрий Николаевич начал подмечать в Володином поведении кое-какие не свойственные ранее ему черточки, по которым можно было предположить, что паренек вот-вот покинет детдом. Правда, мальчишка этот всегда держался вроде бы на отшибе, но теперь и вовсе отдалился от остальных воспитанников. К тому же Лысенко стал нередко исчезать куда-то, пропадал по нескольку дней кряду, чего прежде за ним никогда не водилось. Зная Володины наклонности и неустойчивую его натуру, Мизюк не без основания беспокоился, что рано или поздно он попадется какому-нибудь немецкому шоферу на воровстве, и тогда мальчишке будет уже несдобровать. Юрий Николаевич не однажды пробовал поговорить с пареньком, вызвать его на откровенность, но тот лишь угрюмо замыкался либо молол заведомую чепуху. — Да чего вы так переживаете, Юрий Николаевич? — с нарочитым удивлением, строя невинную рожу, вопрошал пацан, когда Мизюк, в очередной раз подкараулив его возвращение, принимался за «проработку». — Никаких немецких машин я больше не курочу… Даже близко к ним не подхожу. На кой они мне?.. Где я был-то? По селам, конечно, ходил. Где же еще?.. Побирался. Хлебушка-то вона скоко насшибал! — Володя хлопал рукой по доверху набитой своей торбе. — Может, горбушечку хотите?.. Мизюк суховато благодарил, отказывался. Он ни на минуту не мог допустить того, что удачливый и отчаянный этот мальчишка вдруг так легко и просто оставил свою давнюю рискованную «профессию» ради более спокойного и верного ремесла, хотя доказательство тому — полная торба хлеба — было, как выразился бы завхоз Вегеринский, налицо. — У кого ты теперь ночуешь, Лысенко? Если ты встретил каких-то людей, которые согласны взять тебя из детского дома к себе, скажи мне об этом прямо, — отринув всякую дипломатию, наседал на увертливого парнишку Юрий Николаевич. — Я должен знать, Владимир, где ты собираешься жить, чем думаешь заниматься. Смею тебя уверить, это не праздные вопросы. В конце концов всю ответственность за твои поступки несу пока что я… — Да никого я нигде не встретил… Вы чего, совсем уже, что ли?.. — прятался за умышленной грубостью упрямый пацан, не желая даже смотреть на привязавшегося ни с того ни с сего директора. — Хожу себе по хатам, как все… Чего же вам за меня отвечать-то?.. А потом… Потом Володя Лысенко постучался вечером к Мизюку в комнату. Полины Карповны дома не было. Директор коротал время в одиночестве. Сидел на стуле перед лампой и неумело ковырял крючковатым шилом прохудившийся валенок — прилаживал на задник кожаную нашлепку. Юрий Николаевич отложил работу и с критическим любопытством оглядел нежданного гостя. Мальчишка был одет в короткую ватную телогрейку, старую шапку-ушанку, наполовину оторванное ухо которой косо свисало на щеку; латаные-перелатанные спереди штаны заправлены в голенища довольно крепких еще с виду яловых сапог; великоваты они ему, правда, — эка, носы свои кверху позадирали! Где он только себе такую знатную обувку справил? Подпоясался Володя широкой тесьмой из лампового фитиля, а через плечо у пацана на такой же тесемке — сумка. Сразу понятно: не в ближний путь снаряжался человек. — Ну, с чем ты ко мне пожаловал, Владимир? Раздевайся, вешай все там на гвоздь и проходи, — благожелательно, как ни в чем не бывало, предложил Мизюк, чувствуя, однако, что Лысенко явился к нему в такой час неспроста. — Спасибо… — Володя чуть замялся, потянулся было к шапке, но раздумал: убрал руку за спину, зашевелил там пальцами, вроде бы высунувшийся из узла кончик тесьмы подоткнуть решил. — Я к вам не надолго. Мне уже уходить нужно, Юрий Николаевич… Вот я и подумал зайти, чтобы вы потом не беспокоились… — Так-так… Похвально… Но постой-ка, куда уходить? Почему — нужно? — все-таки заметно растерялся директор и вдруг вспылил: — Сейчас же марш в спальню, раздевайся и ложись! Завтра поговорим! — Да нет… Вы, наверно, не поняли, Юрий Николаевич, — тихо сказал Володя, продолжая теребить опояску. — Я ведь совсем ухожу… Ну, помните, вы говорили, если я кого-нибудь встречу, чтоб вам рассказал?.. Вот я теперь, значит, и встретил… — И кого же ты встретил? Где?.. Не на базаре ли подобрал себе компанию? — с ехидцей глядя на понурую голову мальчишки, не удержался от обидной колкости Мизюк. — Для чего вы так, Юрий Николаевич?.. Ведь не только я, а и все пацаны вас очень уважают… И вообще… Мы же давно знаем, что ваш сын на фронте против немцев воюет. И вы сами за наших… — Володя, словно тяжелую торбу с себя скинул, облегченно перевел дух, выпрямился и, уже без утайки, посмотрел на директора, что сгорбатился перед ним на стуле, покато опустив плечи. — Ну, в общем, я тоже хороших людей нашел. Они меня к себе зовут… Им пацан нужен, чтоб везде мог проходить… — Паренек смущенно попятился, медленно отступая к двери. — До свиданья, Юрий Николаевич. А ребятам, если они у вас спрашивать станут, скажите, что я в какое-нибудь село ушел. Насовсем, скажите, ушел… Ладно?.. — Господи!.. Ты же еще вовсе ребенок, Володя, — с мукой в голосе, трудно выговорил наконец Мизюк, не надеясь словами образумить мальчишку, не пытаясь шуметь на него, чтобы за этим хоть как-то скрыть свою постоянную тревогу о нескладной его судьбе, и не в силах больше противиться навалившейся слабости. — Господи… — глухо повторил он. — Ты даже не представляешь, за какое опасное, недетское дело берешься… Ты не торопись, Володя. Ты сперва подумай, пока не поздно. Иди и подумай… — Хорошо, я подумаю… Мизюк стиснул голову ладонями и сидел так, покуда дверь за парнишкой не притворилась. «Ну вот, это уже второй близкий мне человек, которого пришлось проводить в солдаты, — снова оставшись в одиночестве и принимаясь за прерванное Володиным приходом занятие, раздумывал Юрий Николаевич. Однако теперь в мыслях его не было и тени той, прежней, приподнятости, какую он испытывал когда-то, отправляя великовозрастных некоторых своих подопечных на действительную службу, что раньше воспринималось теми, счастливыми, парнями — да и им самим тоже! — чуть ли не как долгожданная поездка на веселый праздник. Нынче же Мизюку думалось об этом с какой-то тоскливой обреченностью, и он понимал сейчас всякую военную справу вроде бы старорежимно, по-мужичьи — как тяжкую обузу в дому, суровую повинность и неизбывное мирское лихо. — Да-да… Это уже второй мой солдат. Первый был сын, Ильюшка… Как он радовался, что принят в артиллерийское училище! Ему тогда едва исполнилось восемнадцать. И многим в ту пору казалось, что война отодвинулась куда-то далеко-далеко… Ну, а где же теперь Илья? Да и жив ли он вообще?.. Кто сумел бы предугадать в те летние дни, что этот мир рухнет так скоро? И вот — кругом немцы… А второму моему мальчику, Володе Лысенко, нет еще и четырнадцати лет!.. Куда он все-таки ушел? Надо было попробовать расспросить его подробнее. Хотя вряд ли он сказал бы… Но разве тебе и без того не ясно — куда? Ведь на всей земле бушует беспощадная, не веданная человечеством по своей жестокости, страшная бойня, каковой не бывало еще во веки веков, за всю его многострадальна и кровавую историю… Сходились меж собой в честно́м бою славные богатыри; дружина в чистом поле шла на дружину; несметное войско противостояло столь же несметной силе… Но кто же знал, что когда-нибудь настанет черед детей?.. Даже детей…» Давно предполагаемый Мизюком, но тем не менее все же внезапный для него и — главное — такой необычный Володин уход из детского дома окончательно выбил директора из колеи. Он сильно разволновался, отставил к порогу так и недочиненный валенок, сунул ноги в просторно разношенные ботинки: позабыв о шапке, набросил старенькое зимнее пальто, с облезлым по краям барашковым воротником, и, не дозволяя себе заглядывать в ребячью спальню, дабы не тревожить понапрасну уже, наверное, уснувших мальчишек, бесшумно прошагал по коридору и вышел на улицу. Во дворе было темно. Но от легшего накануне да так и не растаявшего за день снега как бы истекало слабое свечение. И должно быть, от этого окружившая Юрия Николаевича ночная темень не казалась ему непроглядно-враждебной. Она только как всегда настораживала все его чувства — заставляла обостреннее ощущать студеную крепость недвижного воздуха, четче различать податливый шорох мерзлой травы и едва уловимый морозный хрупт упругой белизны под ногами, зорче всматриваться в себя и вокруг. Он неторопливо проходил вдоль витого чугунного детдомовского заборчика и словно бы видел сейчас за ним притаившиеся во тьме безлюдные городские улицы, угрюмых немецких часовых у ворот бывшей больницы, слепые дома, к глухим стенам которых лепились на задворках крытые седыми ошметками толя дровяные сараюшки, а дальше — припорошенные снегом окраинные огороды, где по бокам протоптанных уже межевых тропок бугристо выпирали острыми хребтинами черные комья стылой земли. И еще почему-то виделось Мизюку, что где-то там — за незрячими этими домами, дощатыми сарайчиками и полого сползающими к реке черно-белыми проплешинами огородов — бредет, теряясь в безмолвной ночи, невеликий парнишка с холщовой торбой через плечо… Не замечая покуда холода, Юрий Николаевич прошел мимо сада, где на разлапистых яблонях, в ложбинках между кривыми сучьями, будто клочки новогодней ваты зацепились; подумал о том, что как ни крути, а придется, очевидно, вырубить сад на дрова, и медленно обогнул весь двор. Было на нем пустынно и голо. От некогда порушенной ребятами трибунки, над которой высилась косо накрененная мачта, что вызывало раньше в памяти Мизюка писанную художником-маринистом картину кораблекрушения, нынче и вовсе никаких следов не осталось. Выкорчевали ребята столбики, сломали мачту, расколошматили непотопляемый дубовый настил — все это давным-давно сгорело в печках. Да, все сгорело… Все прахом пошло. И совсем уже не за что ухватиться тем, гибнущим на картине мореплавателям. Барахтаются они посреди сокрушительных стихий, словно кутята, кто во что горазд: обессилев, погружаются в пучины, судорожно выныривают, молят о помощи и тонут молчком… Вот и у него в детском доме на одного такого «мореплавателя» уменьшилось. Оторвало парнишку от ненадежной опоры и унесло. Пропадет ли он в неведомых безднах, на твердой ли суше окажется — поди-ка тут угадай… К тому же и не последний он, конечно, из тех мальчишек, кому еще доведется вскоре покидать детдомовский кров. Хотя кто теперь за Володей Лысенко последует и к какому берегу прибьется — этого ему, директору, к сожалению, знать не дано. Юрий Николаевич направился обратно к первому корпусу. В его черно-смоляных окнах, уже тронутых понизу каемкой волнисто растущей наледи, блеклыми крупинками отражалась бесчисленная звездная мелочь. «Что-то вроде бы рановато в нынешнем году морозец прижимать начинает, — озабоченно думал Мизюк, чувствуя, что у него слегка пощипывает кончики ушей, невольно ускоряя шаг и придерживая обеими руками полы распахнутого пальто. — Как бы все-таки нам, грешным, с топливом вывернуться? Вот если бы удалось Семену Петровичу торфа раздобыть, тогда, пожалуй, и яблони можно было бы пока не трогать… Только где же его сейчас достанешь, этот торф? Не существует больше такового в природе, как, впрочем, и всего остального… А Людмила Степановна каждый день плачется, что малыши у нее все время зябнут да простужаются… Что ж, ничего мудреного нет… К утру в ребячьих спальнях немногим теплей, чем на улице. И в комнате малышей, и у старших… М-м-м-да-а-а… Никуда не денешься — всем худо, всем тяжело», — подвел итог невеселым своим раздумьям Юрий Николаевич.
10
Беспокойство одолевало в ту ночь и Славку Комова. Он часто просыпался, с трудом разлеплял глаза, приподнимался, хватаясь за спинку кровати, смотрел в окно — не светает ли? — опять валился на жесткую свою соломенную подушку, натягивал на голову раздобытый для него Зоей и всегда безотказно выручавший Славку армячок, а потом вновь замирал в чуткой дреме. Нет, не брезжила покуда за темным окном блеклая синева — и это было хорошо. Очень уж не хотелось Славке, чтобы наступало утро. Однако даже во сне он тоскливо сознавал, что рассвет неотвратимо приближается. И от этого тягостно становилось на душе у парнишки, как перед ожидаемым вызовом в канцелярию к директору, когда не знаешь точно, по какому случаю тебя туда потребуют, но уверен, что неприятностей не миновать. Совсем измаялся Славка Комов в неверном полузабытьи, под ватным своим армячком. Даже самый сладкий, предутренний сон не принес мальчишке облегчения, а словно бы только добавочной усталостью придавил. Да оно и не диво. Потому что затосковал Славка еще с вечера, сразу после того, как удалось собрать у ребят, которые вернулись с дневного промысла, недостающее ему для завтрашней вылазки в город как бы ничейное, а правильнее сказать, «обобществленное» пацанвой, барахло — подходящие по размеру обутки, портяночки широкие и вроде без особо больших дырок, вполне сносную шапчонку… Тогда ушами хлопать было недосуг. Не один же ты такой шустрый промеж ребят за освободившейся той, ничейной, одежкой по спальне рыскаешь. И посему Славка вон из кожи лез, чтобы везде успеть первым. Ведь это лишь Вальке Щуру — ну, может, и еще двоим-троим «богачам», которые пожмотистее, — наплевать было на ежевечерний дележ общей амуниции. У них-то у каждого свои шмутки припасены — никто к ним не касайся! Остальная же братва за любой тряпкой — чуть не в драку кидается. Но лучшее, понятно, прямо из рук в руки передается настоящим пацанам, таким, к примеру, как Иван Морозовский, а всяческой мелкоте — чего поплоше, рваненькое… Вот с той поры и стали томить Славку разные насущные заботы. Надо было суметь пристроить в середку прилаженной у голландки полочки мокрые ботинки — поближе к печному зеву — и караулить, не то другой такой же шкет их мигом оттуда спихнет, дабы собственные штиблеты всунуть. Кроме того, следовало и кровную свою, и взятую у ребят обмундировку, не суетясь, у коптилки со всех сторон осмотреть, при надобности — починить, в божеский вид ее привести; быть может, к шапчонке завязочки на всякий случай приспособить. А уже после всего этого, перед самым сном, расстелить поверх матраца — под себя — сырые портянки. И когда влажную их знобкость своим теплом перешибешь, угреешься, не запамятовать, что на них лежишь, — пореже ворочаться с боку на бок. Иначе они в ноги сползут, к краю собьются либо вовсе на пол упадут и, коль никто их втихаря не уведет, проваляются там без пользы — не просохнут. Впрочем, главная причина нынешней парнишкиной маеты заключалась, однако, в другом. С одежкой-то у него вечером как будто бы не хуже, чем обычно, обошлось: все, что ему требовалось для ближнего похода, он себе достал, кое-как починил, сушить пристроил… Если же честно признаться, то затосковал Славка Комов из-за того, что как раз на сегодняшнее утро выпадал ему черед по мере сил обеспечивать кухню дровами. Хотя и тут, казалось бы, не таилось для него большой беды. Ну, велика ли в том разница — что побираться по дворам, что промышлять топливо? Таскать разве потяжелее. Но, по его, Славкиному, разумению, выходило, что велика. И не в тяжести суть. Потому как всякий, даже самый затрушенный детдомовец знал, что удача в хлопотном дровяном деле зависит уже не только от тебя, а и от того — с кем ты пойдешь и куда. Именно последние эти соображения и не давали покоя ночь напролет Славе Комову. И почему он такой невезучий? Остальные пацаны вроде бы как-то вместе, кучно держатся — все давно скорешевались кто с кем, приноровились один к другому, подыскали себе постоянных напарников. А он по сию пору как пустой желудь в проруби болтается. То сперва к Ивану Морозовскому прильнул; потом чуть было к Женьке Першину не присоседился; затем наконец и о Зое вспомнил, о родной своей сестре. Дак ведь и спохватился-то он о том, что у него сестра имеется, лишь когда самого припекло, жареный петух в зад клюнул: невмоготу довелось в поле, а сейчас они опять — словно бы и не родня… Или просто не хватает ему какого-то постоянства в тяжкой этой жизни? Должного упорства в характере нету, что ли? И потому, наверное, труднее надежную опору среди людей себе отыскать? Ну, кто ж его знает… Не поймешь… А может, так и должно быть?.. Вот и после возвращения в детдом с гороховой той уборки не заладилась трещинка в дружбе у Славки с Иваном. Правда, они не сторонились друг друга, и Мороз по-прежнему в обиду его никому не давал. Но чтобы как раньше было — все на пару, — такого меж ними больше не водилось. Да-а… Тут к кому ни толкнись — нигде тебе ничего не светит. Снова к Женьке Першину подвалиться? Нет, он, бедолага, и сам едва-едва до уборной добирается. В город Женька покуда не ходок — тощего такого огольца на улице ветерком унесет. К сестре?.. Зоя бы, конечно, и в теперешнем горе не оставила, помогла бы брату. Но какой же дурак решится с девчонкой — пускай она тебе и родня — за дровами пойти?.. То-то и оно… Как ни прикидывал в уме Славка, как ни примерялся мысленно в напарники то к тому, то к этому пацану — все равно у него получалось так, что придется ему топать сегодня на промысел в одиночку. И прискорбное сие обстоятельство, понятно, не предвещало ничего хорошего приунывшему парнишке. Но что же тут поделаешь? Да ничего. Вон и другие ребята — на которых нынче пала дровяная забота — зашебаршились в потемках на своих кроватях, к печке потянулись за обувкой. Значит, пора и тебе вставать, собираться. Хошь не хошь, а идти надо. Твой черед…По серой рассветной стыни — полностью снаряженный в недальний путь — Славка Комов явился в кухню. Не первым, однако. Здесь уже пристроились у пошкрябанного ножами разделочного стола все сегодняшние дровоносы — Генка Семенов, Валька Щур и те ребята, что вечно перед ними крутились, особенно подле Вальки Щура: шестерили ему, шакалили у него помаленьку. Теперь были заняты делом все пацаны — молчком гужевались над мисками. Тетя Фрося по утрам досрочно кормила своих добытчиков и накладывала им, не скупясь, чтоб — от пуза. Если картошка варилась в котле — уминай картошку; овсянка ли там, пшенка ли булькала — лопай ее, сколько в тебя влезет. Это уж на что попадешь. — А ты чего, воробей, так поздно? Заспал чи шо? — Тетя Фрося взяла пустуюмиску, шмякнула в нее целый черпак перловки, аж пухлая поварихина рука вместе с миской книзу подалась, — улыбчиво глянула на Славку и еще четверть черпачка добавила. — Или ты, может, простудился? Занедужил, а?.. — Да нет, теть Фрось… Я так… — Ну, тоди сидай соби на оту лавку, рядком со своими шаромыгами! — Тетя Фрося от щедрого сердца облила кашу постным маслом и в кругло вознесшийся над миской перловый этот взлобок ложку воткнула; потом повариха отступила на шаг от плиты, легонько двинула рукой — и днище миски скользко шваркнуло о столешницу. — Ну-кось, хлопчики вы мои, давайте еще одному парубку место! Посуньтесь-ка, деточки, трошки… Мальчишки нехотя заелозили задами, чуточку потеснились на просторной скамье. На явление Славки Комова никто из них и ухом даже не повел. Не до него было ребятам. Они старательно частили ложками; верхние пуговки на штанах расстегнули, ремешки да завязки свои рассупонили; шапки в сторонку отложили — совсем упарились работнички! Славка тоже снял шапчонку и, неторопко, без нахальства присел с краешку к столу. Из противоположного конца кухни, где стоял посудный шкафчик, опасливо косилась на жующую пацанву заспанная Рита Федоровна. Она только-только вошла и, углядев среди мальчишек Вальку Щура, с ходу сунулась к шкафчику, закопошилась в нем, делая вид, что кружки-миски там пересчитывает. Да кто ж их оттуда у нее, дурехи, упрет? Неужто думает, что они кому-нибудь понадобятся — пустые?.. — Чи ты спишь, хлопче? Ты кушай швыдчей, кушай! — подгоняла медлительного Славку тетя Фрося. — Во гляди, твои дружки вже кончают… Ото ж они зараз управятся и сами пойдут, без тебя! — Ничего, я их догоню, — невнятно, с полно набитым ртом, успокоил повариху Славка. Ведь тете Фросе, конечно, было невдомек, что с разудалой Валькиной компанией ему не по дороге. Да и знать поварихе об этом вовсе не обязательно. Потому что если б он и захотел к ребятам сейчас примазаться, Щуренок бы его в момент шуганул! Он же злопамятный, Валька… Небось спит и во сне жалеет о пшеничной той краюхе, которую когда-то ему, Славке Комову, с перепугу скормил: на кровать кинул, будто собачонке, чтобы он пацанам не открыл, как Валька в спальне по чужим тумбочкам шарит… Нету уже тех тумбочек, на растопку сгодились — сухие были… А долг на Славке так и остался, висит… Когда б не Мороз, Щуренок давно бы его за это в свою «шестерку» превратил, в раба. Тут и думать нечего! Теперь же Валька не допустит его в свою кодлу. Хлебушек, скажет, сначала верни, который ты сожрал, оглоед… Так что спешить пока некуда. За пацанами все едино не угнаться. Они вон уже и мисочки свои вылизали… Славка едва не по крупиночке кашу подбирал, с зуба на зуб во рту ее переталкивал. Он уже наелся, не мог больше и время тянул — ждал, покуда Валька Щур завтракать кончит. А тот глотал себе да глотал, согнувшись по-паучиному, да на Риту Федоровну иногда значительно поглядывал. — Компоту бы кружечку!.. — мечтательно проговорил Генка Семенов и лениво потянулся, зевая. — Рит Федорна! А компотику у вас там, в заначке, не отыщется? Валька Щур громко засмеялся, ложку свою в пустую миску бросил. И ребята заулыбались Генкиной шутке. А бывшая пионервожатая вдруг споткнулась в счете, слезливо заморгала и выронила миску. — Вы ей за кашу спасибо кажить, обормоты! — Повариха постаралась загородить Риту Федоровну от возможных подначек натолкавшей брюхо и потому, видать, разохотившейся до всяческого озорства ребятни. — Ишь, чего вже панычам закортелося — компоту им подавай!.. Ось, бачите, у порога холодная вода в ведерочке стоить? Ото ж берить и пейте ее, хоть усю до капелечки! — Не, мы воды не хотим. Спасибо вам, теть Фрося… Айдате, пацаны, — решил за всех Валька Щур. Мальчишки вразвалку полезли из-за стола. Деликатно отворотясь от Риты Федоровны, все одежки свои не спеша застегнули, потуже подпоясались, шапки нахлобучили и поплелись друг за дружкой к выходу. А то, что Комок там еще возле миски пыхтит, остатнюю кашу со дна выскребает — это уже не их забота. Им-то Комок этот вообще без разницы — что есть он на белом свете, что его нету… — Ешь вода и пей вода — спать не будешь никогда! — выдал на прощанье Генка Семенов и скоренько в дверь юркнул, чтобы тетя Фрося ненароком скалкой либо еще чем-нибудь потяжельше вдоль хребтины не достала. Спустя же малое время, когда и Славка Комов наконец тоже выкатился за детдомовские ворота, никого из ребят на улице уже не было, ну, впрямь-таки как ветром сдунуло пацанву! Славке даже любопытно сделалось, куда они могли все разом сгинуть? А ему-то самому в какую сторону лучше топать? Он еще недолго постоял у ворот, раздумывая над этим, повертел головой, наклоняя ее по-воробьиному то вправо, то влево… И потащило его, словно бы какой-то непонятной силой поволокло нахоженной дорожкой к базару… Впрочем, Славка и не пытался пусть хоть как-то противиться необоримому этому влечению. Просто он пошел себе да пошел потихонечку знакомым путем, вроде бы ни о чем вовсе не беспокоясь. А куда же еще-то было ему направляться? Во всем городе, считай, кроме как к базару, одиночному пацану шагать больше некуда… Потому и побрел он мимо развалин керосиновой лавки; мимо оштукатуренной, застекленной с фасада и подновленной известной школы-гимназии, где в нижних окнах темными шарами уже чьи-то стриженые головы реденько торчали; мимо запертого, — должно быть, по причине раннего часа — старого костела, в коем прежде располагалась скобяная мастерская, а нынче его в церковь перелицевали, и самый настоящий поп стал здесь служить; мимо бывшей городской больницы, за колючей огорожей которой из железной — на растяжках — трубы котельной в иной день с утра и до вечера валил какой-то черно-копотный и вонючий дым. Ребята говорили, будто немцы в котельной всякую рвань жгли — мазутные тряпки, негодные противогазы да автомобильные шины… Только для чего же им было там резину-то жечь? Поди, у немцев и без того никаких забот о топливе не возникало. Да ведь и случись у них с дровишками, допустим, какая нехватка, сами они, конечно, добывать их не попрутся, а прикажут в управе — им сколько угодно привезут. Нигде тут Славка даже не приостановился. Все миновал, не испытывая особого интереса к недоступным этим и громоздким кирпичным строениям. Лишь около кинотеатра задержался маленько. Был этот кинотеатр приземист, длинен и напоминал собою барак. Городские власти слепили его на скорую руку в канун войны. Правда, успели устроить торжественное открытие. Духовой оркестр играл, речи с крыльца говорились. А томившихся перед главным входом, в пыльном скверике, празднично наряженных детдомовцев потом бесплатно пустили на первый сеанс. Картину тогда мировую показывали, очень ребятам понравилась. Называлась она «Если завтра война…». Через месяц к городу подступили немцы, начались бои. Во время одного обстрела шальным немецким снарядом от кинотеатра заднюю стенку вместе с дощатым скворечником аппаратной будки начисто оттяпало. Но крыша и прочее уцелело. В сумеречной его утробе еще долго белел располосованный поперек экран и стояли ряды свинченных стульев с откидными сиденьями, покуда люди добрые не догадались их развинтить да по хатам своим расставить… Совсем недавно домашняя и детдомовская ребятня, когда на улице невтерпеж прихватывало, спокойненько забегала сюда по большой нужде. Но сейчас уже не забежишь. Все тут опять на должном месте — и стенка, и дощатая будка вверху. А к ее дверце крутая лесенка ведет — из звонких сосновых досок, с новыми обструганными перильцами. На сучках да в трещинках желтая смола не просохла. На картины же ни городским жителям, ни тем паче детдомовцам и вовсе ходу нету. Кино только для немцев крутят, о чем извещает теперь прикрепленная над главными дверями приметная табличка. Славка Комов кинотеатр с тыла обошел. Огляделся. Поблизости вроде никого не видать. Бочком подобрался к лестнице, взошел на нижнюю ступеньку, каблуками на самый краешек ее надавил, слегка попружинил на нем полусогнутыми ногами: сковырнуть попробовал — не подалась дощечка. Крепко, должно быть, ее присобачили. Тогда он с этаким ленивым видом за перильце взялся, словно бы в шутку, толканул его от себя — один разок, другой… Покачнулось оно будто бы под руками. Парнишка уперся плечом, налег посильнее — и, раздирая загнутыми концами свежую древесину, со скрипом тронулись, выползая из стояков на свет божий, как червяки после теплого дождичка, синевато-каленые гвозди… Нет, он ничего не заметил, не услыхал и даже не почувствовал. А просто неким трепетным осязанием, тончайшим ли каким-то, сверхострым нюхом уловил, что там, наверху, в дощатом скворечнике, затаился кто-то живой, коего пацану надо было опасаться… И когда взъерошенным медведем вывалился из будки, что-то гельгоча по-своему, прогрохотал по ступенькам подкованными тупыми сапожищами толсторожий немец в распахнутом френче, а вослед ему из-за болтающейся на петлях дверцы испуганно женщина какая-то растрепанная высунулась и тут же опять внутри исчезла, — Славку Комова уже ровно на крыльях несло. Только полы армячка от секущего ветра заворачивались да соплю из правой ноздри на щеку выдувало. Сперва он рванул к костелу, благополучно между деревьями через парк прошмыгнул — как раз на угол больничной огорожи выскочил, подальше от часовых, — а там у него дело проще пошло: переулками и дворами — к базару. Лишь здесь, на затоптанном пятачке, посреди немноголюдных сегодня рядов, Славка малость перевел дух. Ноги у мальчишки дрожали, в боку покалывало. И весь он был еще как травимый охотой звереныш: насторожен, восприимчив к любой неожиданности, готов к бегу. Однако тут как будто бы никто на него внимания не обращал и ловить не собирался. Дак ведь и немец-то, немец тот толстый небось и не думал за ним по всему городу гоняться, а сразу к покинутой тетке вернулся, обратно в будку свою залез. Хотя кто ж его знает, конечно, что у него на уме… Может, он еще и сюда припрется? Нет, пока и тут нужно в оба глядеть. Мало ли чего!.. Недаром же говорят: береженого и бог бережет… Славка медленно направился в обход базара. Вокруг не происходило никакого подозрительного движения, ни шума не было, ни суеты. У входа, как обычно, старушки с семечками над отвернутыми мешками дремали стоя; поодаль две молодухи барахлишко какое-то женское — трусы, что ли? — на свет перед глазами трясли, друг дружке под нос его совали, перекрикивались без особой злости; а их мужья — сельские, наверное, с кнутовищами под мышками, — отойдя в сторонку, о чем-то беседовали меж собой, мирно покуривая. От прилавка к прилавку кое-какой пришлый народ неспешно слонялся — вот тебе и все торжище. Но Славка Комов тем не менее на всякий случай за обмерзлый короб с отбросами схоронился. Как бы от ветра, присел за ним на корточки, чтобы окончательно отдышаться и поразмыслить: куда ему теперь дальше-то идти? Корил он себя и ругательски ругал за то, что по собственной дурости к немецкому кинотеатру завернул, на сосновые дощечки позарился. Ну, много ли ты дровишек наломал бы с того перильца хреновского? На кой вообще тебе ходить туда понадобилось? А если бы у того немца пистолет с собой был? Или автомат? Если бы он стрелять из него начал — тогда чего бы ты делал?.. Валялся бы сейчас где-нибудь мертвым на улице. Лежал бы, к примеру, за костелом — весь в кровище, руки-ноги подвернуты, ничком в размокшем и грязном снегу… Очень тоскливо и жалко себя сделалось Славке, едва лишь представил он ужасную эту картину. А еще жальче — когда подумал о том, как дошла бы весть о его смерти в детдом, как запечалились бы о нем сестра Зоя, тетя Фрося, которой он дров не добыл… Может, и Юрий Николаевич опечалился бы, Мороз и остальные пацаны… Но сам он об этом так никогда и не узнал бы и никого из них не увидел, потому как — насовсем помер… Да-а… Плохо, конечно, лежать мертвым. Хужей-то и вовсе уже некуда… Глаза у парнишки слегка увлажнились, защипало под веками, в носу засвербело. Но все-таки Славка не дал воли своей жалости, шмыгнул носом и рукавом утерся. Хватит нюни-то распускать! Не маленький. Ничего страшного с тобою не стряслось. Чего ж без толку живьем себя оплакивать? Целый ты и невредимый. А поэтому о другом надобно заботиться, покуда живой, — о деле мозгами шевелить. Не приволокешь на кухню дровишек, ребята тебя в покое не оставят. Вот тогда и нанюнишься, сколько твоей душеньке будет угодно… Славка выбрался из-за короба. Глянул вокруг — тихо, Расслабясь телом, всей одежкой своей разом, по-собачьему, встряхнулся, чтобы закравшийся под тряпки холодок прогнать. И, ни о чем больше не раздумывая, решительно зашагал к тем домам, которые сохранились на кривых забазарных улочках и раньше тут пустовали. В то время, летом еще, когда Славка с Морозом годную на костер посудину здесь промышляли и от немцев в погребе прятались, — на улочках этих и повсюду разного деревянного хлама было невпроворот… Теперь, однако, нигде ни щепочки нету. Разбитые дома по бревнышкам растащили, а в уцелевших — какие-то люди давно уже обитали. Прежние ли хозяева в них возвратились либо новые прижились — значения для парнишки это не имело. Важно было то, что у некоторых домов да сараев едва ли не под самые крыши громоздились аккуратно выложенные поленницы. Со стороны посмотреть — прямо завидки берут: живут же люди! По одному хотя бы полешку с каждой такой горушки снять — убыль невелика. Впрочем, подобраться к дровам с улицы незамеченным почти никакой надежды не было. То бабка в окошко зырит, то в открытых сенях ведрами стучат, то во дворе кто-нибудь топчется. Но чем черт не шутит!.. И, продвигаясь от дома к дому, Славка Комов зорко дворы и поленницы эти оглядывал, выискивая безопасные к ним подступы и прикидывая возможные пути отступления. Снова нарываться на неожиданности было ему не резон. И так страху вдосталь натерпелся. Опыт — он даром никому не дается. А Славка сейчас полагал себя умудренным этим опытом, ученым, и действовать хотел наверняка. Вот тут-то с ним чудо и произошло. — Мальчик! Подойди-ка ко мне, мальчик! — приятным голосом кликала кого-то вышедшая на крылечко дома чисто одетая, нестарая женщина, явно не здешнего, забазарного, вида. — Я же к тебе обращаюсь, мальчик. Разве ты меня не слышишь?.. Ковыляя потихоньку мимо ее двора, Славка Комов пусто так на женщину эту, чистую, глянул, но затем его все же любопытство одолело: какого такого мальчика она там зовет? Он совсем сбавил шаг, завертел головой, аж шапочные завязки разлетелись, но никого вблизи не увидел. Стран-но это было и непонятно. А женщина та, не здешняя, доброжелательно улыбалась кому-то, — должно быть, тому пацану, который у него за спиной теперь дурака валял, — и призывно тонкой ручкой своей помахивала… Вконец растерялся парнишка, столбом застрял посреди улицы, напротив калитки. — Ну, что же ты стоишь?.. Не бойся, мальчик, входи, — приятно сказала женщина. И только тогда Славка кое-как сообразил, что улыбка ее ободряющая, и плавные жесты, и мягкие слова — все это относится именно к нему. «Ишь ты!.. Мальчик…» — Славка недоверчиво хмыкнул и носом повел. Давненько его никто таким словом не называл. Чаще, как завхоз Вегеринский: босяком, уркаганом да еще шаромыжником. Чегой-то ей от него потребовалось? А вдруг это та самая тетка, что с немцем в будке была?.. Да нет, не похожа она вроде… Тощая уж больно… От такой он всегда сквозануть успеет… Славка опять исподлобья окинул ее критическим взглядом и, успокоенный, но все-таки слегка дичась, прошел через двор по дорожке, вступил на крыльцо. — Ты не смог бы мне помочь, мальчик?.. Вот… — Женщина отодвинулась и указала на пол в сенях. Там, в просторном оцинкованном тазу, спутанный по ногам обрывком грязного бинта, смирно лежал, завалясь на бок, пышной золотисто-бархатной расцветки петух. Шея его была длинно вытянута, острый клюв широко открыт, одно крыло косо распущено. А из-под свесившегося и кроваво набрякшего рубчатого гребня он вопрошающе жег мальчишку еще не пролитой каплей черного глаза. По всему было видать — долгонько маяться пришлось повязанной птице в тазу… — А чего это с ним? Заболел он у вас? — участливо полюбопытствовал Славка. — Или уже подох? — Подох?.. Почему ты так думаешь?.. — Женщина чуточку замялась, тревожно склонилась над поверженным петухом, выпрямилась и ручонками своими нервно засучила. — Нет-нет… Он еще живой… Но, понимаешь, мальчик… Его необходимо зарезать… Ножом, быть может… Или топором как-то голову ему отрубить… Не знаю, не знаю… А сама я не могу… Ты понимаешь, мальчик?.. — Чего ж тут не понять-то? Кхм-кхм!.. — Славка покашлял для солидности. — Ну, а ты его… можешь?.. — Женщина смотрела на парнишку просительно, хотя вместе с тем в глазах у нее уже заметалось пугливое сострадание к петуху, проскользнула затаенная, барственно-пренебрежительная неприязнь к жестокому этому оборвышу. Но десятилетний детдомовец Славка Комов как раз пока сам тоже не знал: сможет ли он живого петуха ножом полоснуть или не сможет. Никогда еще не доводилось ему собственноручно кого-либо жизни лишать. Случалось, конечно, что пулял он по воробьям из рогатки. Подшиб даже двух-трех, кажется, — но издали. Вшей на себе, правда, много поубивал — это было! В огне их палил, сволочей, меж ногтями щелкал… Ну, дак то ведь — вши!.. А чтобы вот так, запросто — ножичком кухонным по теплой петушиной горлянке… Но женщина эта, не здешняя, — что ответа от него ждала, а потому в нетерпеливом возбуждении, должно быть, с едва приметной брезгливостью в уголках губ, как-то извилисто, вроде бы муха на кислом сухаре, тонкими ручонками своими впродоль сучила, — с иной, наверное, колокольни взирала на возникшие у мальчишки сомнения и оттого истолковала Славкину нерешительность на другой манер. — Да ты не беспокойся, мальчик. Я тебе уплачу… То есть накормлю, конечно… Хлеба с собой дам, — великодушно посулила она, тщась упрятать поглубже неприязнь, что прорвалась все-таки наружу во взгляде и нервных ее движениях. Хотя где уж ей — чистенькой — было провести на мякине стреляного детдомовского шкета! Парнишку единым мигом до нутра проняло этим снисходительным и брезгливым к нему отношением. И как бы обманутый в мнимой своей равности с этой женщиной, которая только что помощи у него просила и которой он помог бы, разумеется, — отчего ж не помочь? — и униженный ею, Славка тоже вдруг почувствовал к ней вражду, не веря больше ни посулам ее, ни хрупкому виду, ни приятному голосу. Ему показалось даже, что он уже раньше где-то видел эту тонкую женщину. Ну конечно же видел!.. Она еще у немецкой комендатуры с офицерами в легковушку садилась — топталась возле открытой дверцы, юбку на тощем заду оглаживала, чтоб не помять… Парнишке очень захотелось харкнуть ей под ноги, не медля повернуться и уйти. Пускай она сама ручонками своими костлявыми башку тому петуху откручивает. Пускай хоть живьем зубами горло ему рвет!.. А жратва-то ее не больно и нужна. Да он ни крошечки от нее не примет… Но Славка не плюнул и не ушел. Он успел уже, правда, облюбовать тут, во дворе, покуда тащился от калитки к крыльцу, верный как будто бы подступ к сложенным стенкой около сарая, поколотым и лучисто треснувшим с торцов березовым чуркам. Однако, наученный недавней осечкой, — черт же его знает, может, и у нее в дому какой-нибудь немец засел! — и чтобы не бегать от него после, не спасаться, парнишка втайне надеялся сейчас ценою петушиной гибели заполучить пяток-другой сухих этих полешек. То-то тетя Фрося им обрадуется! Молодец, скажет, хлопчик… И еще каши навалит… А потому он в самом зародыше подавил обуявшую его было гордыню. Да и всякие прочие точившие душу сомнения заодно отринул. — Не-е… Не надо мне хлеба, — покорно промямлил Славка, словно бы ощущая уже, как трепыхается у него под рукой заходящееся петушиное сердце, и думая о том, что женщине этой все равно ведь, чем откупаться. — Вы дровишек дайте… Мне немного, охапочку… — Дровишек? — удивилась женщина. — Ты что, мальчик?.. Каких тебе еще дровишек?.. — А тех, что у сарая… — Ну, хорошо, мальчик… Как хочешь… Только ты их потом возьмешь, — все же с некоторым подозрением взглянув на Славку, не жмотничая, однако, легко согласилась женщина: нет, не сама она, видать, добывала да колуном по тем березовым чурбачкам тюкала, а ей добывали и кололи. — Постой здесь, мальчик, подожди. Я нож принесу… Обойдя таз, она направилась в кухню. А Славка по укоренившейся в нем побирушечьей привычке, со всегдашней опаской, что застукают его на чем-нибудь, изловить могут, зыркнул по сторонам, на таз покосился — и зарябило у него перед глазами, какие-то разноцветные круги по голым стенам и затоптанному полу медленно расплылись. Где что она тут в сенях своих держит, сослепу не разберешь… А все это мельтешение — от жаркого петушиного пера, должно быть… — Да нет… не надо ножа… Вы мне топор давайте! — с отчаяния, грубо брякнул он в сутулую спину перешагнувшей уже через кухонный порог женщины, которая оглянулась на мальчишку словно в испуге. — Я его лучше топором. …У сарая, в мусорном раздолье, Славка разыскал мягкую проволоку и туго-натуго — чтобы при дальней ходьбе не растрясти — оплел ею уложенные острыми ребрами внутрь, притиснутые впритирку одно к одному стылые поленца. Ладная получилась у парнишки вязаночка, обхватистая. Свисала, правда, с нее лохмотьями, бугрилась кое-где наростами завитая в трубку, рваная кора, но в этом беды особой не было, а наоборот, — может, дровяную жесткость маленько смягчит, не так сильно горб тебе намозолит… И все это время, покуда Славка проволоку искал, выбирал себе чурбачки поровнее и колдовал над вязанкой, — он то и дело украдкой посматривал на открытую дверь сеней, откуда изредка ветерком рыжие перья выносило. Женщина там уже петуха своего дощипывала, даже кипятком не обдав. Заранее кастрюльку воды на плиту поставить не догадалась, что ли… Хотя зачем же ей было его ошпаривать-то? Он и так, наверное, захолонуть у нее не успел… Только на то место, где возле не под самый комель срезанного и рогато растопыренного узловатого — в потеках клея — вишневого пенька, с которого потом сорвалась безголовая птица и, плотно колотясь всем телом оземь, недолго еще вскидывалась там на спутанных ногах, переворачиваясь и с треском ломая хлопающие крылья, — вокруг по белому снегу будто кто-то щедро спелой ягодой сыпанул, — туда парнишка старался не смотреть вовсе. Обходил он это место глазами либо скользил по нему мельком, словно никакого интереса оно для него не представляло. Торчит там какой-то разлапистый чуть не посередке двора — ну, и пускай себе торчит… И женщина та, не здешняя, совсем на крыльцо не высовывалась: то ли в кухню ушла, петуха своего ощипанного варить, то ли по какой другой причине — Славке было неизвестно. Но ему почему-то казалось, что она нарочно в дому укрылась и ждет, когда же он наконец со двора уберется. А на дровишки эти ей, конечно, наплевать — да и сколько он на себе их упрет-то? — не жалко… Ни она видеть его не хотела, ни он ее. Сейчас, когда все было сделано, Славка понимал, что скрывать свою брезгливую неприязнь к нему эта женщина больше не станет, а вот-вот прогонит его взашей. И потому, взвалив на плечи туго упакованную вязаночку, он торопливо потопал мимо крыльца на улицу, воротясь от распахнутой двери, — а вдруг женщина эта передумает и скажет, чтобы он дрова обратно положил? Муторно было на сердце у паренька, и даже удача не радовала. Не терпелось ему поскорее отойти подальше от подворья не здешней этой женщины, вроде бы содеял он там что-то преступное, осквернившее душу его на веки веков и от чего не имелось уже никакой возможности избавиться. Будто от коричневых пятен на руках, когда с грецких орехов сочную кожуру обдираешь, — потом ни песочком от пятен этих не отскрестись, ни мылами не отмыться. «А-а, подумаешь, делов-то!.. Экая важность — петуха на пеньке зарубил! — отмахивался от тягостного этого ощущения пригнетенный вязанкой Славка, часто подергивая плечом и подкидывая дровишки себе на горб, повыше. — Вона тогда на той улочке, через огород отсюдова, старого Вацека из винтовки застрелили… И на фронте небось тоже каждый день людей убивают… Ну, может, на фронте-то и не совсем чтобы людей, а врагов — да не все ли равно?..» Однако не обретал он себе утешения в отвлеченных своих раздумьях, не снисходило на мальчишку от них покоя. Ведь что же с того, если какому-нибудь полицаю или немцу старого человека убить — как два пальца за углом обрызгать? Гробанут и забудут обо всем тут же. А вот ему самому от петуха этого, проклятущего, до сих пор не отделаться. Так и мерещится, как он, лежа на боку, когтистыми своими лапами снег от себя отбрыкивает — ра-а-аз, ра-а-аз… И пацану думалось теперь, что перед ним до скончания его дней будут неотступно маячить — и снег этот белый, и красные капли на нем… Лишь одно немного взбадривало Славку Комова, заставляло на некоторое время забываться и шагать веселее, — грядущая тети Фросина похвала. Впрочем, надеялся он и на более существенную поварихину благодарность: перловки утрешней мисочку думалось ему получить, потому что тетя Фрося обычно не всю кашу пацанам за завтраком из котла выгребала, а оставляла маленько на донышке, чтобы подкормить самых добычливых своих дровоносов, — либо, на худой конец, хотя бы в обед добавочный черпачок супу у нее выканючить. Вот это-то главным образом и тешило сейчас замученную Славкину душу, словно тонким лучиком высветляло в навеки омраченных ее закоулках некие таящие нетраченую радость уголки. Шлепал он домой прямиком по расквашенному снегу — межевыми огородными тропками, минуя оплывшие мусорные кучи городской свалки, через разрушенный литейный заводик, ни от кого не таясь и таща на горбу з а к о н н у ю вязаночку сухих березовых дровишек. Не шибко обескураживало паренька и то, что в ботинках у него хлюпала вода, штаны отсырели чуть ли не до колен, студено облипали ноги — за ночь в спальне все просушится. Отобедает он, разденется, ничейные шмутки ребятам отдаст — и под одеяло завалится, а сверху сестрин армячок набросит, ухо ватным уголком прикроет. Ни о чем ином Славке теперь уже не мечталось.
Еще не пройдя садом, Славка разглядел из-за голых яблоневых веток высокие брезентовые балаганы над рубчатыми бортами немецких грузовиков, что заполнили, как показалось ему, весь детдомовский двор, Возле машин топтались безоружные солдаты, выгружали из кузовов какие-то ящики, железные коробки, складывали их друг на дружку штабелями, подальше от облепленных грязью колес, а обернутые пятнистой камуфляжной тканью пухлые тюки — с постелями, наверное, и прочим немецким барахлишком — сразу же, чтобы не подмочить ненароком, заносили в настежь распахнутые двери жилых детдомовских помещений. Там, у крылечек и снаружи вдоль стен, грудами лежали выброшенные из комнат ребячьи пожитки. Копошились над ними кто во что горазд, наспех, одетые пацаны — вытягивали из сваленного хлама годное на себя тряпье, испуганно поглядывая на чужих солдат, что по-хозяйски располагались в теплых корпусах. А немцы вовсе не обращали внимания на оборванных и продрогших ребятишек, которые молча толпились вокруг, либо глядели на них, как на пустое место. Солдаты равномерно топали сапогами по ступенькам крыльца, входя и выходя из дверей. Неторопко, без суеты, слаженно и аккуратно исполняли они свою работу, И если только какой-нибудь замухрышистый шкет старался ужом проскользнуть в спальню за покинутыми в суматохе своими вещичками и с налету всполошенно совался под руку тяжело груженным поклажей солдатам, немцы приостанавливались, коротко выкрикивали: «Век!» — и отшвыривали с пути нерасторопного огольца, будто шелудивого кутенка. Славка не заметил во дворе ни завхоза Вегеринского, ни директора, ни Полины Карповны, ни поварихи. И старших пацанов тоже не было — одни лишь девчонки да мелкота. Попрятались куда-то все они, что ли?.. Только около закутанных в одеяла малышей, которые, подобрав босые ноги, сидели рядком на распластанных в талом снегу соломенных матрацах, неотступно хлопотала — с горячечной исступленностью в глазах — одинокая Людмила Степановна. Она поминутно щелкала застежками своего ридикюля, вытирала детишкам мокрые носы, какими-то шерстяными лоскутьями шеи им обматывала и, кидаясь от одного пацана к другому, успокаивала хныкавших ребят, как могла. Пальто на воспитательнице расстегнулось, кофта была расхристана, платок съехал к затылку, и нечесаные волосы спадали на ее впалые щеки. Лицо у Людмилы Степановны было такое, что Славка решил к ней лучше и вовсе не подходить. Не зная, куда ему теперь подаваться, он некоторое время недоумение пялился по сторонам, но потом все-таки здраво рассудил, что вернее всего, пожалуй, пробираться в кухню, под тети Фросину опеку. Может, немцы-то повариху пока еще из кухни не вытурили? В спальню, видать, никакого ходу уже не было, да и не оставил он там вроде бы ничего такого, из-за чего стоило бы сейчас дразнить немцев, переть на рожон. Хоронясь между неплотно поставленными машинами, парнишка осторожно двинулся через двор. Славка почти совсем миновал последний грузовик, когда из его кабины вдруг высунулся прыщавый немец в очках — шофер, должно быть. Углядев сквозь очки Славку, немец спрыгнул на землю, хлопнул дверцей и поманил паренька к себе. — Ком! — строго сказал немец и, пошевелив в раздумье толстыми губами, неуверенно добавил: — Пистро! Пистро!.. Славка замер от неожиданности. Все в нем привычно напряглось, сердце под ватным армячком застигнутой птахой встрепенулось — но бежать было некуда. На слабеющих ногах он приблизился к неподвижно стоящему шоферу. Тот не спеша, как бы в задумчивости, обошел мальчишку со спины, а затем, ловко подцепив вязанку длинными пальцами за проволочное ушко, неуловимо смахнул ее со Славкиного плеча. Небрежно, словно чемоданчиком, покачивая упакованными дровишками и насвистывая какой-то веселенький мотивчик, шофер зашагал к первому корпусу. — Па-а-ан!.. Ты чего?.. — слезливо моргая, заскулил Славка вдогон уходящему немцу, не сознавая еще толком всей беды, какая с ним приключилась. — Это же дрова, па-а-ан!.. Ты не видишь, что ли?.. Дрова-а-а… Отда-а-ай!.. Сгоряча пареньку было подумалось, что немец отобрал у него вязанку понарошке — из простого озорства, чтобы попугать, или по ошибке. Дак ведь и впрямь-то: ну, для чего ему дрова? Не в мотор же их совать? Это наши машины раньше почти сплошь на березовых чурбачках ездили. А у них-то, у немцев, каждая, поди, на чистом бензине работает… Может, не разглядел он как следует через свои окуляры крепко стянутые проволокой полешки и решил, что такую ладную упаковочку Славка мог только из его машины выудить? Ну, конечно, ошибся этот немец очкастый!.. Бросит он сейчас на землю ненужные ему дровишки, плюнет и пойдет себе дальше, насвистывая… Но солдат вроде бы совсем не слышал мальчишкиного скулежа и бросать вязанку явно не торопился. Он преспокойненько уносил з а к о н н у ю Славкину добычу, будто ничего особенного не произошло. Этот невзрачного вида, густо поклеванный на щеках волдырями шофер удалялся теперь от машины словно бы даже с некоторой игривостью в движениях, как бы с умыслом подыгрывая себе на ходу угловато встопорщенными плечами. Ноги он держал широко, враскоряку, высоко поднимал в коленях и ставил на землю не гнучко, а вроде бы топким болотом пробирался — задирал их по-аистиному. И оттого, должно быть, глядя на немца со стороны, могло показаться, что он не начищенные сапоги свои бережет, мокрое обходит, а вышагивает с этакими вывертами по детдомовскому подворью от избытка нерастраченной молодой силы, от распирающей его душу веселой сытости и чванливого довольства собой… Правда, вконец обескураженный негаданно разразившейся над ним бедой паренек самого-то немца как раз будто бы и вовсе не примечал. Он лишь видел, как безвозвратно уплывают от него нелегкими трудами добытые березовые поленца, за которые, значит, ни каши нынче у тети Фроси не получишь, ни добавки супу в обед. А потому, позабыв обо всем на свете и больше уже не владея собой, Славка впритруску побежал за очкастым тем шофером, догнал его неподалеку от крыльца, изловчился ухватиться за свисающее с полешек корье и, обрывая шуршащие под пальцами белые полоски, торопливо дернул вязанку. — Отда-а-ай дрова-а-а, па-а-ан!.. — как можно жалостливее загундосил мальчишка, пуская слезу. — Ну, на что они тебе сда-а-ались?.. Слышь, па-а-ан… Отда-а-ай… Немец, удивленно остановился. На его бугристом от налитых прыщей, но в общем-то не слишком сердитом лице промелькнуло ироническое любопытство: мол, это же откуда еще такое взялось? Потом, досадливо морщась, он учительским жестом подтолкнул на место скользнувшие к кончику прыщавого носа очки, назидательным тоном строго бормотнул что-то укоряющее на непонятном своем наречии, — дескать, ай, как нехорошо ты ведешь себя на улице, мальчик, ведь нельзя же противиться старшим! — и, налаживаясь продолжать дальнейший путь уже без всяческих сторонних помех, несильно потянул вязанку к себе. Славка Комов лесным клещом шустро вцепился в качнувшиеся дровишки… Вполне возможно, конечно, что немец этот и в самом деле не был злым человеком. Может, у него дома дети оставались? Или пожалел он неразумного дровоноса? Позабавиться ли ему малость захотелось?.. Но как бы там ни было, а шофер, слава богу, не двинул тут же настырного огольца по неумытой его детдомовской роже начищенным своим сапогом, не заорал на него благим матом и не стал для устрашения на поясе у кобуры шарить. А просто, вроде бы цапнувшего по глупости тряпичный шнурок и зависшего на нем острыми, как шильца, зубами щенка, поволок Славку за собой через двор по размякшему снегу под поощрительные возгласы и насмешливые замечания таскавших барахлишко солдат. Они даже работу свою на минуту покинули, задымили пахучими сигаретами, обрадованно тыча пальцами и подзадоривая — кто шофера, а кто и пацана. Им-то, немцам, тоже потешно, наверное, было на всю эту возню смотреть. Да и наскучило, видать, солдатам ящики железные ворочать. А тут — хоть какое ни есть развлечение. Но шофер тем временем начал уже, по всей вероятности, терять остатки терпения. Он громко засопел, напыжился. На его отвисло набрякшей коже, поверх натуго зашморгнутого крючками жесткого воротника френча, резко обозначился на шее багровый рубец. Немец недовольно фырчал, нервно дергал вязанку, будто бы норовя стряхнуть с нее намертво прилипшего к дровам паренька. И кто же знает, конечно, чем бы могло все это кончиться, если бы внезапно на Славку не набросилась сзади, вынырнув откуда-то из-за кучи малышей и толпившихся подле них растерянных девчонок, взъерошенная и растрепанная его сестра Зоя. — Ты что ж это делаешь-то, дурак?! — со злостью и страхом в глазах надсадно кричала она, то принимаясь колотить по спине кулаками ничего уже не соображающего и бесчувственного своего брата, то стараясь оторвать его руки от несчастной вязанки. — Да пускай он ими подавится!.. Ты оглох, что ли?.. Отпусти дрова, горюшко ты мое!.. Или тебе жить надоело, дурачина?! Приунывшие было солдаты опять оживленно задвигались, загалдели веселей… А с другого конца двора, от витой оградки, торопились на шум только-только вступившие на детдомовскую территорию и перепуганные, должно быть, творящейся здесь суматохой и заполошными Зоиными криками бледные и пришибленные с виду Мизюки — Полина Карповна с Юрием Николаевичем. Директор едва не бежал, нелепо размахивая, руками и спотыкаясь. Тотчас же возникший вслед за ними на пороге кухни тучный завхоз Вегеринский сперва тоже сунулся по направлению к машинам, но потом на всякий случай благоразумно замешкался возле крыльца, застрял на одном месте, хватаясь за сердце и вроде бы в приступе одышки беззвучно разевая и закрывая округлившийся рот. Однако Славка сквозь слезы плохо различал спешивших через двор директора и воспитательницу, а завхоза Вегеринского так и вовсе не видел. Просто плясало над вязанкой, за рукавом шофера, что-то расплывчатое, колыхалось впереди какое-то мутное пятно, а что там такое маячит — толком не разглядишь. Не доходили до него Зоины крики, и уговоров ее он не слыхал. Да и того, что она изо всех сил дубасит его кулаками по спине, совсем не чувствовал. Снаружи Славкино тело словно бы костяной коркой сплошь покрылось; вся требуха внутри от непрестанных всхлипов тряслась. А потому, наверное, дышать ему было невмоготу — воздуху парнишке не хватало — будто в горло кто-то сухой ваты напихал… — Стойте, спокойно, ребята!.. — еще издалека сиплым голосом взывал к и без того недвижимо сидящим на своих матрацах испуганным малышам взволнованный Юрий Николаевич. — Успокойтесь, дети!.. Нам разрешили занять другое помещение!.. Сейчас мы все переберемся в столовую и в кухню!.. Я прошу вас, ребята, сохраняйте спокойствие! Быть может, от непривычно звучащего срывающегося и сиплого директорского голоса, от крепких ли Зоиных тумаков, но Славка мало-помалу очухался, стал осознавать происходящее вокруг. И, понимая теперь, что со здоровенным немцем ему все равно не совладать, а слезами его не разжалобишь, — мальчишка наконец расцепил свои добела занемевшие пальцы… Правда, удержаться на ногах после всей этой передряги пареньку так и не удалось. Выпустив из-под рук шаткую опору, Славка, клонясь, будто с разбегу, и слепо шаря перед собой, проковылял еще несколько шагов за спокойно, как ни в чем не бывало уносящим вязанку прыщавым шофером, а затем плюхнулся лицом вниз, прямо в ожегшую его холодными брызгами и колко царапающими льдинками грязную снеговую жижу. Кинувшаяся к брату Зоя и подоспевшая к ней на подмогу Полина Карповна не сумели в нужный момент подхватить неожиданно сковырнувшегося парнишку. Обе они ахнули в один голос, бросились к нему, подняли и, толкая друг дружку, потащили через двор в кухню, даже мерзлое крошево со Славкиного лица и одежды не отряхнув. А сам он, обвиснув у них на руках, лишь безвольно мотал головой, слизывал стекавшую на губы со щек солоноватую воду, судорожно сглатывал ее и, силясь выговорить что-то, выталкивал из горла бессвязный какой-то мык, словно язык у него вдруг отнялся…
Поздним вечером, когда улеглась и затихла на расстеленных по полу столовой матрацах кое-как обихоженная девчонками и воспитательницами малышня, Юрий Николаевич собрал в кухне на совет весь свой наличный персонал и старших ребят. Надо было немедля решать, каким образом побыстрее перекочевать в предоставленное управой детскому дому помещение бывшей начальной школы, которая находилась на другом конце города и теперь пустовала. — Тех ребят, у которых нет одежды и обуви, придется пока разместить в ваших домах, — обращаясь к заранее согласно кивающим завхозу Вегеринскому и тете Фросе, утвердительным тоном, как о чем-то само собой разумеющемся, негромко говорил Мизюк, болезненно щурясь на свет лампы. — Благо, что вы живете под боком. Сначала перетащим к вам малышей… Кровати и прочие громоздкие вещи постепенно перевезем на подводе. Ну, а остальное придется таскать на себе… Учтите, ребята, что завтра утром, — Юрий Николаевич пристальным взглядом поочередно обвел сумрачно поникших мальчишек, — никто из вас — я повторяю, никто! — не имеет права уходить из детского дома по своим делам. Сейчас наше спасение зависит от того, будем ли мы все делать сообща, помогать друг другу, заботиться о своих младших и слабых товарищах или же беречь лишь собственную шкуру… Поверьте мне, ребята, поодиночке мы с вами непременно пропадем. Только оставаясь все вместе, мы сможем успешно противостоять любым несчастьям. Ни на минуту не забывайте об этом, дети… Помните и о том, что впереди у нас с вами долгая зима, которую нам надо одолеть, не имея запасов продовольствия, полураздетыми, без медицинской помощи, без топлива… Мизюка как будто внезапно прорвало. Он все говорил и говорил о выпавших на их долю тяжких житейских испытаниях, о незаменимости взаимной выручки, о беспощадной жестокости военного времени, о каком-то человеческом долге по отношению к какой-то земле… Судя по всему, директор и сам еще толком не знал, как ловчее выкрутиться им из беды, и потому он словно бы отгораживался от нее, прятался за разными, быть может, и справедливыми словами в надежде, что вот-вот придет ему в голову какое-то, пускай и ускользающее от него пока, но тем не менее существующее на свете спасительное решение, способное раз и навсегда оградить вдоволь хлебнувших лиха детдомовских ребятишек от торжествующего вокруг насилия и бесконечно творящегося в мире зла. Но такого всеобъемлющего решения у согбенно приткнувшегося к обшарпанному кухонному столу и как бы вдруг постаревшего на добрый десяток лет Мизюка, по всей вероятности, никак не находилось. Вид у директора был совсем неважный. Лицо казалось изможденным, в свете керосиновой лампы — изжелта-белым; шершавые щеки ввалились: под напряженно сощуренными глазами припухли морщинистые мешки, а от подернутых пленочкой жара, синеватых губ пролегли к остро выпершему и плохо бритому подбородку глубоко прорезанные бороздки. Но все же складно говорил Юрий Николаевич, проникновенно. Негромкий голос его звучал порою требовательно, порой просительно, жалостливо, а то и вроде бы даже со слезой. И взрослые, и ребята слушали Мизюка внимательно. Обе воспитательницы вместе с Ритой Федоровной у посудного шкафчика жались друг к дружке. Тетя Фрося возле них загорюнилась, голову рукой подперла. Завхоз Вегеринский в забывчивости грудь свою под расстегнутой рубахой щупал — томно ему, видать, было. Никто из мальчишек не встревал с шуточками, не вертелся в нетерпении. И девчонки не шушукались, как обычно, понимая, наверное, всю ответственность момента и трудность создавшегося положения. А вот Славка Комов как ни старался, не мог вникнуть в смысл прочувственной директорской речи. В мозгу у парнишки будто все перемешалось, расплылось. И произносимые Юрием Николаевичем, в общем-то, правильные, должно быть, и необходимые теперь слова, не затрагивая Славкиного сознания, утекали куда-то мимо, свергались в какую-то туманную, запечными сверчками пронзительно тюрлюкающую в мальчишкиных ушах провальную пустынь. И хотя сидел он сейчас в тепле, у края плиты, которая покуда еще не остыла и приятно согревала на нем отволглую за день одежонку, Славку время от времени до самойпоследней его, самой тонюсенькой жилочки пробирало безудержной ознобистой дрожью, руки-ноги сводило ломотой, а непослушное тело обволакивала сонливая вялость. Он медленно смыкал и размыкал веки, незряче всматривался в сидящих напротив ребят, опять на секунду-другую, как думалось ему, покорно закрывал глаза — и тогда отчего-то возникали перед ним вперемежку то ухмыляющийся недобро староста Осадчук, то запрокинутый, черно оскаленный лик убитого старика Вацека, то обезглавленный золотисто-бархатной расцветки петух на белом снегу, то горько рыдающая у раздаточного окошка столовой, напуганная Валькой Щуром, бывшая пионервожатая Рита Федоровна… — Нет, но я просто не понимаю, почему только к Семену Петровичу и тете Фросе? — как раз звонко вопрошала она у ссутулившегося Мизюка. — Ведь часть ребят можно разместить у меня дома. Мама с радостью их примет. У нас целых две свободных комнаты! — В тягостные эти минуты Рита Федоровна, очевидно, взбодрилась, силу в себе почувствовала и с прежней непреклонностью, как на торжественных сборах, стоя посреди кухни, рубила спертый воздух рукой. — Я считаю это своим долгом! Да-да, Юрий Николаевич, долгом!.. Ребята, кто пойдет ко мне?! Мальчишки заерзали на табуретках, переглянулись в некотором недоумении. Девчонки быстренько наклонились одна к другой, ткнулись носами в плечи и залопотали обрадованно, залопотали… — Да погодите вы со своими комнатами, с долгом… — устало отмахнулся от предложения Риты Федоровны озабоченный директор. — И потрудитесь, пожалуйста, сесть… Никто из старших ребят к вам не пойдет. Все они будут работать. Вещи носить. Помещение убирать. Поймите вы наконец — о малышах сейчас главная забота, о тех, кому на себя надеть нечего. К вашей маме при всем желании разутыми да раздетыми детей по снегу не поведешь… Рита Федоровна, очевидно, хотела что-то возразить непонятливому Мизюку, гневно тряхнула коротко стриженными своими волосенками, остренький носик ее заалел, но потом до нее все же дошло — она внезапно осеклась, смущенно потупилась и молчком убралась на место. А очнувшийся было от недолгого забытья Славка снова поплыл куда-то из душной кухни на вольный воздух. Стало ему хорошо и виделось лето. Солнышко ласково припекало непокрытую парнишкину голову, теплый ветер легонько шевелил волосы. Под босыми ногами мягко пухкала дорожная пыль, а по обе стороны накатанного проселка раскинулось цветущее гречишное поле. Рябило у Славки в глазах от розовато-белого цветения. Гуд пчелиный над полем стоял, от которого маленько в голове шумело, однако опять же — не тяжело, а приятно. И в самой что ни на есть поднебесной голубой выси, меж двух неподвижных облачков, заливался, вызванивал в серебряный колокольчик веселый жаворонок. Рядом по проселку шла сестра Зоя, изредка нагибалась, срывала хрупкие стебельки, давала Славке понюхать как бы медом залитые соцветия и рассказывала о чем-то занятном — как переезжать они куда-то будут, о школе какой-то говорила. Правда, голос у Зои был почему-то невнятный, словно бы даже вовсе не ее голос, а Вальки Щура, и к тому же — визгливый… И вновь Славка вынырнул, выпутался из цепких тенет гнетущей его тело сонливости. Слизнул с губ вроде бы оставшуюся на них сладковатую горечь, слюну сглотнул — больно. Кое-как продрал глаза, огляделся по сторонам, но сначала не сообразил — где он находится и во сне ли все это с ним было, наяву ли… Но сидел он в кухне, по-прежнему у плиты. Хотя теперь что-то переменилось вокруг. Ребята уже не горбатились на табуретках неподвижно, а возбужденно галдели, едва не наскакивая друг на друга. Девчонки испуганно сбились в кучу возле воспитательниц, а еще сильнее побледневший Юрий Николаевич старался образумить расходившихся мальчишек: — Тише, дети! Спокойнее… Дайте и ему сказать. Не мешайте, ребята!.. — А чего мне говорить? Ну, был я в той школе, видел. Окошек там нету, дверей… Все одно что на улице! — срывался на крик Валька Щур. — По мне, пацаны, дак все же лучше — кто как сумеет… А чего?.. У кого шмуток нету — тот пускай в хаты идет! Вон, хотя бы и к Риточке!.. Ведь подохнем мы там, пацаны! Гадом мне быть, замерзнем!.. — Не подохнем! Мы фанеры достанем, окна заделаем!.. — А шмутки теперь будем на всех честно делить — у кого что есть!.. — Точно! Давно тебя раскулачить надо, Щуренок! Правильно, Юрь Николаич? — позабыв о своей дружбе с богатым Валькой, услужливо полез наперед Генка Семенов. — Да мы его сейчас тут же под ноготь прижмем — как класс!.. — А по харе не хочешь?! — Не-е-е, ребята… Мы лучше по хатам пойдем… — Кончайте, пацаны! — Иван Морозовский боком соскочил со стола, цепляясь за чьи-то ноги и опираясь на плечи ребят, он качнулся ближе к Вальке Щуру. — Мизюк же дело тебе говорит, дурак!.. Надо в школу перебираться… Куда же мы поодиночке?.. А остальные — куда?.. Нет, всем вместе надо держаться, пацаны!.. — Ну и подыхайте вы там все вместе! — остервенело орал в ответ Ивану тоже вскочивший со своего места Валька. — Подыхайте!.. Я тогда один пойду! Да на хрена вы мне все тут сдались, оглоеды?! — Тише, дети!.. Прекратите!.. — Да пошел ты!.. Валька Щур, прижимая к подпоясанной телогрейке скомканную свою торбу, мелкими шажками отступал к двери, брызгал слюной, взахлеб частил матерным приговором. Тетя Фрося попыталась изловить мальчишку, но по пути натолкнулась на завхоза Вегеринского, чуть не уронила его на пол. Тот охнул, обхватил повариху обеими руками, потянул ее за подол. Она, не глядя, ненароком съездила Семену Петровичу по уху… Но прежде чем Славку скрутило окончательно, прежде чем повлекло его опять куда-то вдаль от всего этого шума и крика — а отяжелевшая голова паренька медленно, как показалось ему, очень медленно, легла на угол вроде бы докрасна раскаленной теперь плиты, — он еще успел увидеть, успел запомнить на всю свою жизнь, как, затмив мутное пятно лампы, мимо него промелькнуло перекошенное в злобе лицо Ивана Морозовского и как по-лягушачьему широко распялился в неслышном крике белеющий ощеренными зубами тонкогубый рот отпрянувшего к порогу Вальки Щура. Больше Славка Комов ничего не видел и ничего уже не помнил…
Почему-то в тот день Валентин Яковлевич с самого утра испытывал некоторое недомогание. Страшного с ним, разумеется, ничего не стряслось. Вероятно, менялась погода, прыгало давление, а поэтому он и чувствовал себя несколько не в форме. Проще всего было бы, конечно, в течение дня заглянуть в поликлинику. Однако Валентин Яковлевич опасался напрасно докучать заведующей отделением, громогласной Руфине Семеновне, которая, блюдя его здоровье, потом не отстанет — замучает обязательными процедурами, начнет на работу звонить, если забудешь, — а у него и без того забот по горло. И, поразмыслив таким образов, он просто решил вернуться домой пораньше и как следует отдохнуть. Ведь и так всю неделю напролет не вылезаешь из редакции, торчишь в ней с утра до вечера, как проклятый! А тут вроде бы подвернулась вполне уважительная причина — грех упускать. Имеет же он в конце-то концов право хотя бы однажды за три года сказаться больным и приехать домой не к полуночи, а как все прочие нормальные люди. Да-а-а, смешно подумать, но с той поры, как его утвердили главным редактором областной газеты, он позволяет себе подобную вольность, пожалуй, впервые. Ну что ж, пусть хоть раз полосы уйдут в машину без его бдительного редакторского ока… Правда, номер этот с самого начала складывался как будто спокойно. Все официальные материалы были тщательно вычитаны, остальные стояли прочно, никакой серьезной ломки вроде бы не предвиделось. Впрочем, зам, Афанасий Никитич, старый газетный служака, мог бы прекрасно справиться со всеми неожиданностями своими силами и подписать полосы вместо него. Но Валентин Яковлевич все-таки отнюдь не собирался устраняться полностью. Он был твердо убежден в том, что нельзя давать людям повода для превратных суждений о нем и пускать дело на самотек. А посему, отбывая из редакции, Валентин Яковлевич просил зама и ответственного секретаря не церемониться, звонить ему в любое время. От домашнего телефона он отлучаться не будет, а сверстанные оттиски и подписные полосы непременно подбрасывать к нему на квартиру — редакционная «Волга» остается в их распоряжении. В общем, он надеется быть постоянно в курсе. Жена, Елизавета Михайловна, слегка встревожилась столь раннему его появлению дома, Валентин Яковлевич наскоро успокоил ее, заверил, что все в порядке: немножко загрипповал — и только. На кухне, по настоянию жены, он выпил горячего чаю с малиной, потом переоделся, прошел к себе в кабинет, включил телевизор и прилег на тахту. В эфир давали квартальные итоги областного соревнования передовиков животноводства. Недовольно морщась от нарочито заинтересованного тона отутюженного диктора, Валентин Яковлевич попытался сопоставить в уме произносимые с экрана фамилии и цифры с теми, которые были заверстаны в таблице на второй полосе газеты, но припомнить их никак ему не удавалось. Вставать же и ворошить бумажные завалы на письменном столе было лень. Он повернулся на бок, прикрыл ноги шерстяным пледом, который заботливая жена набросила на спинку стоявшего рядом кресла, и, намереваясь добросовестно прослушать программу, умостился поудобнее… Спустя десять минут Елизавета Михайловна заглянула в кабинет мужа, ступая на цыпочках, приблизилась к телевизору и осторожно выдернула шнур из розетки, чтобы щелчком выключателя не потревожить отдых Валентина Яковлевича. Пускай поспит перед ужином. Совсем замотался он, бедный, в своей редакции. Нет, что бы там ни говорили, а в облсовпрофе ему было все-таки не в пример спокойнее. Да и стоило ли вообще давать согласие на бесконечную эту нервотрепку?.. Возвращаясь, Елизавета Михайловна заодно прихватила с собой из кабинета телефон и перенесла его в кухню. Покрутив зубчатое колесико, врезанное в днище польского аппарата, убавила громкость сигнала, Незачем трезвонить на всю квартиру, не на пожар. Быть может, поэтому она и не расслышала сразу дребезжащий шелест телефонного звонка. Надеясь, что звонившему вскоре надоест, Елизавета Михайловна повозилась еще у плиты, но потом все же не спеша сняла трубку. Как она и предполагала, звонили из редакции. Афанасий Никитич был, по обыкновению, любезен до приторности, справился прежде всего о ее здоровье, затем спросил, как чувствует себя Валентин Яковлевич, порекомендовал ни в коем случае не манкировать — бывают ужасные осложнения! — а обязательно вызвать врача, но от предложения перезвонить через часок отказался наотрез: — Да что вы, Елизавета Михайловна? Как же можно, помилуйте! Я потерплю — время-то, время не терпит! Полосу, конечно, я сейчас же к вам подошлю… Нет, нет, поговорить с Валентином Яковлевичем мне крайне необходимо. Что поделаешь — газета… Вы уж простите великодушно… Отвязаться от него не было никакой возможности. Пришлось переносить телефон обратно в кабинет, будить мужа. Он тяжело уселся на тахте — грузноватый, взлохмаченный, обрюзгший со сна, в глазах досада. А и то сказать, кому же такое понравится, когда даже дома тебя дергают чуть ли не каждую минуту? Валентин Яковлевич молча взял трубку, прижимая ее плечом и клонясь на бок, потянулся к клешненогому журнальному столику. Елизавета Михайловна помогла ему, чиркнула зажигалкой. Он кивнул, благодарно улыбнулся, запыхкал дымом. Елизавета Михайловна вышла. — Да-да, слушаю… А, это ты, Афанасий Никитич!.. Ну, что там у нас новенького?.. Дверь в кабинет оставалась полуоткрытой, и Елизавета Михайловна по укоренившейся привычке краем уха ловила хрипловатый голос мужа: — Что, что?.. «Правда» дает? Сообщение или некролог?.. Так… А ты на какую полосу ставишь?.. Застигнутая врасплох словами мужа, Елизавета Михайловна замерла посреди кухни, дрогнувшим сердцем ощутив, как внезапно напрягся, стиснул телефонную трубку Валентин Яковлевич. У Елизаветы Михайловны у самой вдруг словно бы руки занемели, в голове все кругом пошло, даже дыхание перехватило. Господи, да что же там такое случилось?.. Боже упаси, если некролог на первую полосу… И надо же было именно сегодня, когда Валентин не в редакции, дома… Только этого еще недоставало… — Погоди, погоди ты, Афанасий Никитич!.. Постой, не пори горячку… Ты лучше меня послушай: ставь на четвертую полосу, вниз. Понял?.. Ну и что, если просили из отдела пропаганды… Кто тебя просил?.. Нет-нет… Читатели и там все, что надо, увидят, — голос Валентина Яковлевича заметно окреп, звучал уже не хрипло, в нем появилась всегдашняя уверенность. — Незачем нам слишком афишировать. И у Елизаветы Михайловны тоже постепенно откатило от сердца. Она открыла холодильник, закопошилась в его переполненной утробе. Слава богу, кажется, ничего страшного на сей раз не произошло!.. Но ведь так и инфаркт не долго заработать… Куда же все-таки эта сметана исчезла? — Ну, хорошо, хорошо, — совсем умиротворенно рокотал в кабинете Валентин Яковлевич. — Нет уж, Афанасий Никитич, ты мой спорт, пожалуйста, не трогай. Я тебя прошу. А вот заметки фенолога — в загон! Да-да… Фенолог как-нибудь перебьется. Ну, все. Договорились. Присылай. Я жду… Валентин Яковлевич вошел в кухню, приглаживая рукой седеющие на висках волосы. Присел к столу, облокотился на край и снова потащил из кармана пижамы свои сигареты. — Не слишком ли много ты стал курить, Валя? — участливо обратилась к мужу Елизавета Михайловна. — Опять у тебя начнется одышка… — Но выдержать избранный тон до конца ей оказалось не под силу. — Ну, что там такое? Скажи… У меня душа не на месте… — Ничего особенного. Ты не волнуйся… — Валентин Яковлевич слегка нахмурился, будто в раздумье, потер переносицу указательным пальцем. — В «Правде» помещено сообщение о катастрофе самолета, которая случилась у нас… Ну, как принято в подобных случаях, несколько строк — создана комиссия, ведется расследование причин аварии… Теперь выяснилось, что среди пассажиров находился некий московский журналист, летел к нам в командировку. Поэтому отдел пропаганды обкома просил нас дать небольшой некролог, почтить память коллеги. Вот, собственно говоря, и все. Я и сам толком не пойму, почему так засуетился наш Афанасий Никитич… Елизавета Михайловна медленно опустила на стол сплетенную из лыка корзиночку для сахара, опоясанную поверху серебряным ободком, искоса посмотрела на мужа. Крупное его лицо, с отвердевшими складками у губ, резко очерченным подбородком, прямым носом и глубоко посаженными глазами уже утратило остатки сонной расслабленности и приобрело привычное выражение спокойной уверенности. Именно такое выражение лица Валентина Яковлевича всегда нравилось Елизавете Михайловне. Он казался ей тогда похожим на какого-то киноактера, броско мужественным и волевым. Впрочем, сегодня в его лице была какая-то излишняя жесткость. — Ну, а остальные пассажиры? — глуховато спросила Елизавета Михайловна, вздрогнув плечами от пронзительно грянувшего в прихожей звонка. Ведь тысячу раз просила поставить другой звонок, потише — все некогда. — Неужели ни один из них так и не спасся?.. Кто они такие?.. — Ты задаешь мне странные вопросы… — Валентин Яковлевич с легким удивлением развел руками накоротке, неторопливо поднялся из-за стола. — Как говаривали когда-то: имена их — у господа еси, — повторил он недавно вычитанную и понравившуюся ему фразу. — Нет-нет, ты не ходи… Это, конечно, Василий привез полосы. Ничего не скажешь, оперативный парень, молодец. Я сам сейчас открою… Валентин Яковлевич направился в прихожую, включил свет, звякнул дверной цепочкой. В кухню тотчас долетел бодрый голос редакционного шофера. Елизавета Михайловна представила себе, как муж, озабоченно хмурясь, пробежал глазами жирно чернеющие заголовки, приложил газетную полосу к стене и размашисто подписал. Фамилия у него была простая, коротенькая — Щур. Тем не менее Валентин Яковлевич ухитрялся удлинять ее кудрявыми завитушками и росчерками, как затем сам повторял со смехом: «разгонять на семь квадратов с четвертью». Иногда, после неурочно затянувшихся заседаний и совещаний, Валентину Яковлевичу не удавалось заскочить в редакцию. И тогда, чтобы не задерживать типографию, он подписывал полосы дома, не читая. Но, отправив их с шофером, тут же принимался внимательно штудировать пробные оттиски у себя в кабинете, названивал ответственному секретарю, заму, спорил с ними, нервничал, что-то правил, уточнял… Этих оттисков обычно привозили ему домой целый ворох. Через несколько минут он вернулся в кухню, неся под мышкой свернутые в мятый рулончик, пахнущие типографской краской оттиски. Кое-как расправил их, прикрыв почти половину сервированного стола, сел, вчитался… До сих пор Валентин Яковлевич свободно обходился без очков, и это было предметом некоторой его гордости — не только перед знакомыми и сослуживцами, но и перед женой. — Так-так… Ну вот, посмотри… Теперь, кажется, все в порядке… — Валентин Яковлевич облегченно откинулся на стуле, чуть прихлопнул ладонью. — На сорок девятом году жизни… Трагически погиб при выполнении редакционного задания… Вот здесь, вот, в рамке… Однако был еще молодой… Да-а-а, ничего не поделаешь… Коротко и ясно. Жил человек — и нету. — Наверное, было бы лучше напечатать с фотографией, как ты думаешь? — сказала Елизавета Михайловна, подходя и напряженно взглядывая из-за мужниного плеча-на вспучившийся буграми на тарелочках и чашках газетный лист. — Интересно, а как его фамилия? — Дома Елизавета Михайловна не скрывала своей близорукости. — Ты считаешь, с фотографией?.. — в снисходительном голосе Валентина Яковлевича прорезалась ироническая нотка. — Ну, нет… До фотографии он, видать, малость недотянул… Постой, а как же его?.. Ага, вот… Некто Комов Ярослав Всеволодович… Вам, женщинам, непременно подавай всякие фотографии и прочие знаки благосклонного внимания. Елизавета Михайловна непроизвольно отстранилась от ласковой и требовательной руки мужа. — Ты его случайно не знал? — Кого? Комова этого? Нет, конечно… Фамилию, кажется, раза два где-то встречал. Где уж нам, бедным, со столичными знаменитостями знакомства водить! Прилетел бы он благополучно, тогда, возможно, и познакомились бы… А чего? Пригласил бы его в гости. Глядишь, он и на тебя произвел бы впечатление. Ну, что скажешь, а? Снисходительно-игривый тон мужа коробил Елизавету Михайловну, вызывал в ней подспудный протест, представлялся неуместным и едва ли не кощунственным. Но она прекрасно сознавала, что возражать мужу сейчас, а тем самым обострять с ним отношения, вряд ли имело смысл. — Прости, Валя, но мне тоже что-то нездоровится, — смягчая улыбкой возникшее в ней раздражение, сказала Елизавета Михайловна. — Давай мы с тобой скорее поужинаем и отдохнем. Прими, пожалуйста, свою газету. Валентин Яковлевич с готовностью состроил сочувственную мину, без малейших препирательств сгреб со стола оттиски и неожиданно встал. — Ты знаешь, Лизонька, я лучше пойду к себе, почитаю полосу… Пропал аппетит, извини. А сама ты поешь, обязательно поешь… Елизавета Михайловна убрала со стола, машинально оглядела кухню — все ли горелки выключены, плотно ли прикрыт холодильник, не открыты ли дверцы подвесных посудных шкафчиков, поправила, перекосившуюся пленку, на скатерти и ушла в ванную. Там, набросив халат, она приблизила лицо к зеркалу, внимательно вгляделась и ахнула в душе. Господи! Постарела-то как!.. Вот уж действительно стала похожа на грымзу. У висков и под глазами — сплошные сетки, щеки одрябли, висят… А шея-то, шея… Бр-р-р!.. Елизавета Михайловна почти с отвращением отшатнулась от зеркала, зябко сжала у горла воротник халата. У нее не было никакого желания ни накручивать волосы на бигуди, ни накладывать маску. Да и зачем это все?.. Для кого?.. Отчего-то вспомнилось вдруг, как девчонкой, на студенческой практике, работала в колхозе. Целый день пеклась на жаре, нос лупился картошкой, руки в цыпках, ногти грязные, обломанные… Ужас!.. А прибежишь в избу, где ютились вшестером у какой-то невзрачной старухи — да полно тебе, старухи ли? — просто обычной военной вдовы, в расколотое зеркальце на себя глянешь — щеки тугие, красные, так и пышут… И без всяких заграничных кремов превосходно обходилась… Потом с Валентином познакомилась… Да, но это уже на третьем курсе… Вот тогда и возникла перед ними первая серьезная проблема: ребенок или учеба? На всю жизнь осталась бездетной. Глупая, конечно, была, совсем дура… Господи! Что еще за чушь на тебя накатила? Дети?.. Ну, уж нет… Ты на улицу посмотри. Да что там — на улицу! Жил у них в прошлом году на каникулах милый племянник Жорочка. Если бы не положение Валентина, не его связи, никому не известно, где бы он сейчас находился, этот джинсовый шалопай. Благодарю покорно… Елизавета Михайловна тщательно привела себя в порядок, клоня шишковатую от бигуди, повязанную полотенцем голову, засеменила через холл в спальню. Из кабинета мужа, сквозь неплотно притворенную дверь, просачивался слабый свет — горела настольная лампа. Елизавета Михайловна подумала, что надо бы заглянуть к нему, пожелать спокойной ночи, но у нее уже язык от усталости не ворочался. Нет, спать, спать, спать!.. Она юркнула в постель, потушила недавно купленный и очень симпатичный гэдээровский ночничок, свернулась калачиком, затихла. Пускай уж сидит себе подольше! Неужели он не слышал, как она в спальню прошла?.. Странно, на него это не совсем похоже… Но Валентин Яковлевич и в самом деле ничего не слыхал. По обыкновению, он принялся за полосу со спорта. Порадовался достижениям местных футболистов — в высшую лигу метят ребята. Правильный взяли курс, молодцы! Лишь бы в последнем туре не сорвались. Кто там у них соперник — «Шинник» или «Карпаты»? «Шинник» вроде бы… Ничего, победят… Кое-как одолел театральное обозрение, продрался через тассовскую подборку интересных новостей… Однако что-то мешало ему сосредоточиться, воспринимать слова и фразы в первозданном значении, вникать в их очевидный, но, возможно, — не дай бог, конечно! — и заключенный в них иной, даже не предполагаемый автором, никому не нужный, а порою и, несомненно, чуждый и вредный смысл. «Что за ерунда со мной?.. А тут еще журналист этот московский как банный лист пристал… Почему она решила, что я должен обязательно его знать? — Валентин Яковлевич попытался объяснить нынешнее свое состояние праздным вопросом жены. — Вечно она суется под руку со всякими вопросиками, предложеньицами… Фотографию увидеть ей захотелось!.. Еще чего!.. Как же там его?.. Ага, Комов, Комов… Так-так… Да-да, кажется, встречал под какими-то опусами подобную подпись. Где же он все-таки, черт его возьми, подвизался? В «Известиях»?.. Нет как будто… В «Соц. индустрии»?.. Так, в некрологе же об этом прямо сказано, балда!.. Вот, пожалуйста, читай: «последние годы Ярослав Комов работал… «Ярослав Комов?.. Постой, постой… Ярослав, — значит, Славка?.. Комов?.. Тот самый?.. Однокашник?.. Детдомовский шкет?.. Комо-о-ок?!. Быть того не может!..» До сих пор Валентину Яковлевичу ни разу и жизни не доводилось встречать никого из тех бывших мальчишек и девчонок, с кем он воспитывался в детском доме. Даже слыхом ни о ком из них никогда не слыхивал! И первым осознанным чувством, которое — после схлынувшего потрясения — испытал Валентин Яковлевич, была радость. Словно бы он старого, закадычного друга — да что там друга! — брата родного, самого близкого на земле человека вдруг повстречал. Наконец-то хоть один из них объявился! И надо же — Комок! Валентин Яковлевич едва не кинулся в спальню, поделиться с женой неожиданной этой радостью, но вовремя спохватился: «Минуточку, минутку… А не совпадение ли?.. Да нет, пожалуй… Имя, возраст — все сходится… И фамилия, главное. Ведь не часто такая попадается. Редкая, можно сказать, фамилия… Как же я сразу-то не догадался, а?..» Он вроде бы позабыл о тех обстоятельствах, при которых возникла перед ним эта фамилия. А потом, когда немного успокоился и снова взглянул на газетную полосу, на траурную рамку внизу, — сердце у него тоскливо заныло: «Эх, Славка ты, Славка!.. И как же тебя угораздило на этом самолете лететь?.. Купил бы билет на другой рейс. На поезде бы поехал. Пешком бы, черт, пошел!.. — Валентин Яковлевич горестно покривился, пристукнул по газетному оттиску кулаком. — Не тот билет тебе выпал? Да нет, брат, это не лотерея — судьба… А могли бы встретиться, на улице допустим… Столкнулись, узнали бы друг друга!.. Ну, как же, как же!.. Комок-то?.. Ушастый такой пацанчик, стриженая головенка, круглая, на цыплячьей шее, нос — запятушкой… Да ты что это? Совсем с ума спятил? Какой же он тебе пацан? К полусотне мужичку подвалило… Любопытно, как он все же теперь-то выглядел?.. Фотография?.. А что, если…» Валентин Яковлевич торопливо, соскакивая пальцем, навертел номер домашнего телефона Афанасия Никитича, — поздно, конечно, да шут с ним! — чтобы справиться, не было ли в редакции снимка к некрологу. Но, послушав щелчки и шорохи мембраны, не дожидаясь гудков вызова, придавил пальцем рычажок и положил трубку. Чудить начинаешь! Откуда же у них в редакции снимку-то этому оказаться? Не в тех чинах пребывал покойный детдомовец Славка Комов… Нет, не в тех, когда с портретами в газетах дают. Пускай на том свете и за куцый этот поминальник кому-то свечечку поставит. Ведь она-то, смерть, тоже, небось и там нынче по рангам распределяется. А жизнь? О жизни и говорить нечего… Да-а-а… Хотя что поделаешь? Без этого, видать, пока еще тоже нельзя… Впрочем, оно же ведь к лучшему, что Комок не был в чине. В противном случае прилетел бы он, допустим, благополучно, а его бы сразу под белые руки — и в автомобиль, мимо… А так газетной редакции Славке никак было бы не миновать. Потом я его домой бы затащил, посидели бы вечерок, водки выпили, вспомнили бы с ним обо всех и обо всем… Эх, черт!.. Валентин Яковлевич поднял голову, напряженно уставился в незашторенное окно, за которым по пустынному проспекту изредка проносились гулкие машины, с металлическим шелестом и подвывом скользили, как бы насквозь прозрачные, безлюдные троллейбусы, громоздились невидимые дома, обозначенные лишь холодной, какой-то по-звездному отчужденной от земных тревог и печалей и от самой себя, молчаливой россыпью равнодушных огней. И потянулось одно за другим, потянулось, будто за ниточку дернул, что высунулась из клубка… Сиротство, детский дом, война, оккупация, голодуха… То, о чем всегда было тяжело и больно вспоминать, однако о чем уже почти никогда не вспоминалось. Таилось все это где-то под сердцем застарелой болячкой, с которой свыкся: заденешь нечаянно — почувствуешь, а нет — ничего, жить можно… И уж совершенно некстати выплыла вдруг откуда-то та, глупейшая, история с пшеничной горбушкой, которую он когда-то Славке Комову по дурости своей скормил. Бог ты мой! Ведь сто лет прошло, а не забылось. Да-а-а… Жестокое было время, страшное. Не за банку икры, не за ковры да квартиры — за черствую корку, за жизнь зубами цеплялись, рвали друг у друга, кто как мог… Сколько же горя хватить довелось! Разве забудешь, чем вытравишь из памяти хотя бы тот, последний, вечер в детдомовской кухне? Бросилось тогда на него чуть ли не все шакалье — Мороз, Генка Семенов… А директор — Мизюк, кажется? Ну да, Юрий Николаевич… Чеховский такой интеллигентишко, беспомощный, жалкий… Мямлил еще: «Дети, дети!..» Да они же, оглоеды, до смерти забить могли! Еле-еле отмахался тогда от них, за порог выскочил, вся рожа в крови… Они в тепле остались, а он побрел куда-то вон со двора, один. Мимо немецких грузовиков, мимо часовых — как только не подстрелили? — по мокрому снегу, в ненастье, в темень, в ночь… Валентин Яковлевич глубоко вздохнул, обеими руками пригладил к затылку упавшие на лоб и глаза седеющие волосы. Сейчас он гнал от себя эти, вроде бы давным-давно бесследно сгинувшие, но внезапно восставшие перед ним из небытия, мучительные картины, за которыми, однако, брезжило что-то утоляющее, спасительной лампадкой мерцало какое-то утешение, способное возвратить ему отлетевшие мир и покой. Но что это было за утешение, понять он покуда не мог. Может, то, как он опять в детдом пришел и никто из ребят даже не пикнул? Нет-нет, чепуха! При чем тут это?.. И Валентин Яковлевич, пугаясь и радуясь зарождающейся в нем мысли, которая все более и более крепла, умиротворяла его, снимала горечь и душевную боль, думал теперь о том, что судьба все-таки пощадила его, оградив от никчемных и тягостных встреч с бывшими детдомовцами. Ведь у каждого из них своя жизнь, и ничто их больше не связывает. Пускай и живут себе где-то там, в неизвестности… Зачем ему что-то знать о них? Для чего? Ну, увиделся бы теперь со Славкой Комовым, а дальше что? Позавидовал бы ему, что он столичный журналист? Глупости, конечно… Да мало ли этаких-то по столицам околачивается? Никто их там не знает, и никто о них никогда не вспомнит… Сошка пишущая, мелкота, массовка… Как жил Комок в неизвестности, так и помер — исчез, испарился. Нету его. И слава богу! Не то, быть может, действительно пришлось бы с ним встречаться, принимать дома, делать вид, что рад встрече, и под водочку перетряхивать прошлое? Нет, брат ты мой, каждый из нас свой билетик вытащил, и обратно их не сунешь. Вот так-то. О чем тогда нам с тобой говорить? Не о чем. Разные мы с тобой люди, Комок… А огни за окном постепенно гасли, редели, темень густела. И если бы не жиденькая цепочка притушенных фонарей вдоль умолкшего проспекта, то все вокруг давно бы покрыл ночной, осенний, непроницаемый мрак.





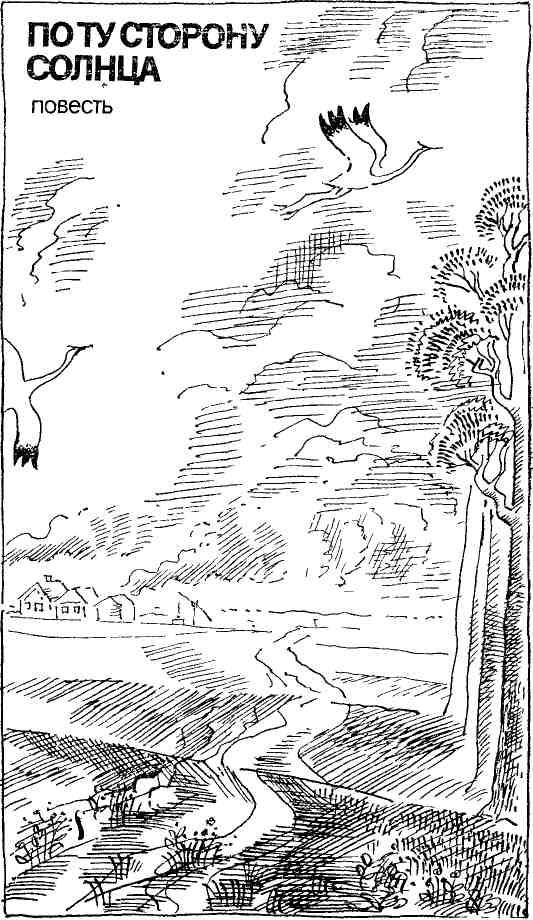
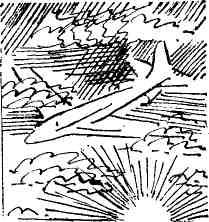
Последние комментарии
1 день 20 часов назад
2 дней 25 минут назад
2 дней 2 часов назад
2 дней 3 часов назад
2 дней 4 часов назад
2 дней 5 часов назад