«Приключения, Фантастика» 1991 № 06 [Юрий Дмитриевич Петухов] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Журнал «Приключения, Фантастика» № 6 (1991)
Общесоюзный литературно-художественный журнал
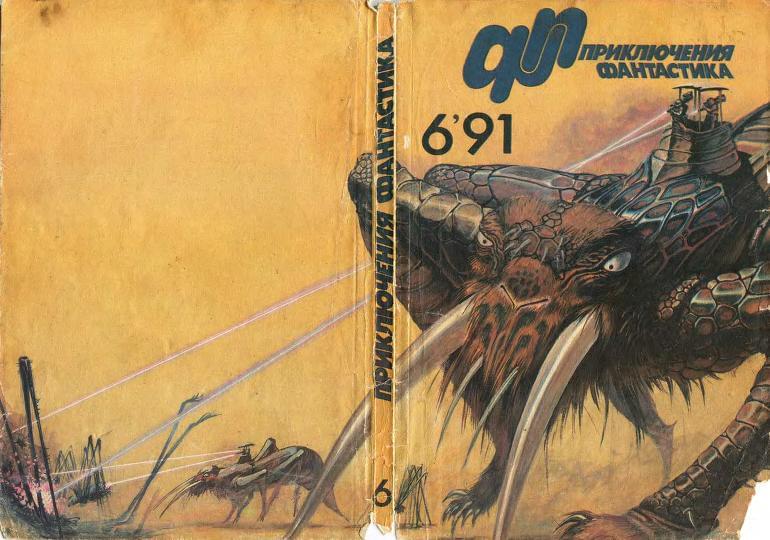

Юрий Петухов
Круговерть
 В голове, сполохами разрывая липкое забытье, вертелись навязчивые слова: «С завтрашнего дня, с завтрашнего…», а что именно, что «с завтрашнего дня»! – Николай вспомнить никак не мог. День вчерашний, сегодняшний день, а заодно с ними и несуществующий, далекий день завтрашний сплетались в единую серую круговерть сменяющихся дней и ночей, не несли ничего нового – все один к одному: удручающе тяжкие с утра, терпимые к полудню и блаженно-тоскливые по вечерам.
Он сделал отчаянную попытку выковырнуть из залубеневшей памяти хотя бы число, день недели. Попытка успеха не принесла, зато отозвалась а затылке тупой корежащей болью. Захотелось выть: тихо, протяжно, на одной ноте, не умолкая до тех пор, пока не придет облегчение. Но то, что облегчение само собою не явится, Николай знал точно. Знал и другое – чем дольше будет лежать расслабленный, под натиском гнетущих мыслей, тем большую власть возьмут они над телом, волей и не будет уже сил им противиться. А тогда… Николай не мог себе представить, что будет тогда, – сознание ставило барьеры, уводило мысли в сторону. Не мог он решиться и на единственное: совладать с собой, вырваться из омута бессилия, встать.
Не мог, откладывая все это на потом, оттягивая мучительные минуты и оттого мучаясь еще сильней.
Стоило закрыть глаза, и в черной пугающей тьме, выныривая откуда-то сбоку, возникал клубок бешено извивающихся красных червячков, вспыхивали, разрывая мрак, белые и голубые молнии. Червяки вспышек не боялись, не отступали, и чем дольше Николай не разжимал век, тем быстрее были их движения, конвульсивнее, и уже не клубком копошились они, а свивались в подобия чьих-то лиц, тел… Видения судорожно сменяли друг друга, пугали своей реальностью.
Он разлепил вялые набухшие веки, вырываясь из власти наваждения, скосил глаза на будильник, стоящий на полу у изголовья, – в каком бы состоянии Николай ни возвращался к себе, будильник заводить он никогда не забывал. Это был один из рефлексов, выработанных за последние годы, с тех пор как они расстались с женой. Сколько же прошло? Два, три? А может… Нет! Два с половиной, точно – два с половиной года! Николай смотрел на тусклый циферблат и не мог справиться с мельтешением стрелок. Опять усилие, опять боль в голове – стрелки показывали десять минут девятого. Рано. Слишком рано! Он в лютом изнеможении мотнул головой по подушке и уставился в стенку, на жирное пятно, расползшееся по обоям.
Пятно было похоже на старческий ведьмачий профиль с хищным заостренным книзу носом. Сейчас на этом носу сидела омерзительная муха и старательно вычищала задними лапками свое зеленое шевелящееся брюшко. Николай явственно слышал скрежет, издаваемый наглой тварью. Стало противно до тошноты. Но мысль о том, что можно двинуть рукой, прогнать нахалку, убить ее, наконец, размазать ударом ладони по ведьминой морде, была еще противней, рождала брезгливое бессилие.
Он отвернулся от стены, уставился в потолок. Боль отпустила затылок, и на ее месте в мозгу поселилась унылая пустота.
Комната, в которой лежал Николай, была так же пуста и уныла. Залежанный диван, прожженный в нескольких местах, засаленные тусклые обои, висящие по углам клочьями, да три гвоздя в стене. На двух – пиджак и спецовка, уворованная со стройки, где он работал как-то с неделю, пока не выгнали, на третьем – криво наколотая репродукция с картины Рембрандта «Автопортрет с Саскией», выдранная из «Огонька», – подарок Витюни. Николай давно собирался снять ее, но по утрам было не до картинки. А вечерами, когда он заявлялся в свою конуру в приподнятом настроении и художник со стены, обнимая сидящую у него на коленях аппетитную женушку, приветствовал вошедшего поднятым кубком, все виделось в ином свете. Николай подмигивал Рембрандту, приговаривая: «Ничего, мы еще им всем…», плюхался на диван и, если не проваливался сразу же в забытье, курил, зажигая одну сигарету от другой до тех пор, пока последняя не вываливалась из руки – благо, что гореть в комнате, кроме дивана с лежащим на нем хозяином, было нечему.
Единственное богатство, неприкосновенное и служившее мостом в прошлое, состояло из книжной полки, притулившейся на полу в противоположном от дивана углу комнаты. Книг было немного – около тридцати. Но это были те книги, которые Николай зарекся трогать. В самые светлые свои минуты он подходил к полке, садился возле нее на корточки и, отодвинув стекло, любовно водил рукой по корешкам. Читать их, перечитывать он давно уже перестал.
Когда им завладела вновь навалившаяся полудрема, неожиданно по ушам ударил заполошный дребезг дверного звонка, вогнал в грудь тупую иглу и вышиб из кожи лба капли холодного пота. Сердце екнуло и, захлебнувшись внезапно прилившей кровью, забарабанило в грудную клетку, пытаясь вырваться наружу. «Ну, кого еще там несет?!» – с мучительной досадой и страхом подумал Николай. Но тут же воробышком трепыхнулась надежда. Надежда на то, что его еще помнят. Кому-то он нужен. Кто-то может помочь, спасти…
Надо было идти к двери, открывать, ловить мимолетный кивок судьбы, если только он был возможен вообще.
Николай сел на диване, уперся в него обеими руками. В глазах поплыло. «Слава богу, одеваться не надо – все на себе», – подумал он и попытался встать. Качнуло, ноги не слушались. «Сейчас, сейчас! Не уходи, погоди малость, иду уже!» – молил он неизвестного вслух, шевеля обтрескавшимися сухими губами.
Опираясь о стены, он добрел до кухни. Крутанул кран и подставил рот под струю воды. В желудке заурчало. Стало немного полегче. «Сейчас, иду иду же…» – снова зашептал он, осторожно передвигая дрожащие, слабеющие ноги. Сердце подкатывало к горлу вместе с выпитой водой. Перехватывало дыхание. В глазах опять поплыли зеленые и синие круги. Все это было знакомо ему, но опыт облегчения не приносил – каждое утро липкий страх сковывал голову обручем, заставлял прислушиваться к ударам сердца – живо ли оно, сколько сможет еще выдюжить? Слабость, изнуряющая, опутывающая все члены слабость приносила мучения неизмеримо большие, чем любые, даже самые жестокие боли. Николай знал лишь одно средство, от которого зависела его жизнь, и средством этим был заветный эликсир, в любом его виде – лишь бы он был! Был, и ничего другого не надо! Ничего! Все остальное придет потом, после…
Надежда довела его до двери. Минута, в течение которой он проделал весь путь от дивана, через кухню, сюда, была минутой для кого угодно, для всех, но не для него – сердце, пытаясь обогнать само себя, успело отмерить гораздо больший срок, словно жило оно в своем измерении.
Николай нащупал в темноте головку замка и повернул его. Свет с лестничной клетки ослепил, заставил прищуриться, сквозняк обдал холодом мокрую от пота грудь, рубаха облепила ее и начала темнеть.
На пороге стоял Витюня – друг, приятель, братан, один из тех немногих, кто еще разделял с Николаем заботы, жил его жизнью. Витюню украшал свежий вчерашний синяк под левым глазом. Он разлился поверх позавчерашней, уже пожелтевшей отметины. Подбитый глаз был характерным отличием Витюниного лица. Лишь временами синюшное пятно сменяла распухшая губа или кровоточащая бровь. Бывало и так, что они соседствовали, но обойтись вовсе без таких красот Витюня не мог, характер не позволял – весь день искал он того, кто смог бы доставить ему это удовольствие, а получив свое, вновь становился кротким, смиренным и вполне безобидным человеком. Лет сорока с виду, невысокий, коренастый, но уже заметно обрюзгший Витюня был чрезвычайно деятельной личностью, без которой Николай не мыслил себя, – приятель неизменно появлялся в тот момент, когда он уже опускал руки и уходил в себя. Счетов между ними не было. Все добытое Витюней проматывалось с невероятной быстротой, безо всяких сбережений на потом.
Николай скривился, пытаясь выдавить улыбку.
– Привет, старик! – гнилозубо ощерился приятель. И даже в темноте прихожей стало видно, как заиграли на его лице краски: свекольные щеки и нос выгодно оттенялись радужными переливами фингала. – Ты только погляди – кого я тебе привел! В голосе играли благодетельские, отеческой заботой пропитанные нотки,
Витюня скользнул в прихожую и, не глядя, ткнул рукой в выключатель. Свет еще раз резанул по близоруким глазам Николая. Они заслезились, и уже словно сквозь пелену он разглядел стоявшего за Витюниной спиной парня. Тот был в светлом легком костюмчике, выглаженный, выбритый, очень чистый. В его левой руке покачивался черный «дипломат». Смотрел парень на Николая недоверчиво, будто решая – заходить внутрь или же уносить ноги, пока не поздно.
– Давай, давай – чего в дверях-то стоять! – командовал Витюня. Рвение так и распирало его.
В глазах парня Николай отчетливо прочитал, что тот думает о них. «Теперь этого не скрыть, – невесело и равнодушно подумал он, – да и ни к чему!»
– Здрас-те, – неуверенно произнес молодой человек и оглянулся назад, будто высматривая пути к отступлению.
Николай нервно дернул головой, получилось что-то наподобие кивка. Слова застряли в горле. Он посмотрел с надеждой и тревогой на Витюню – в чем дело? Тот подмигнул, буркнул в сторону парня: «Момент!» – и потащил Николая на кухню, дыша в ухо густым многолетним перегаром.
– Везуха, Колюня, гулять будем! Я ему еще вчера про твое добро намекнул – возьмет, точно возьмет! – Витюня по-хозяйски распоряжался чужим имуществом – сам отдавал все, ничего не прося взамен, потому и от других ожидал того же. – Вчера, как тебя отволок, тут его и встретил. В соседнем подъезде живет. Ну, слово за слово – и вот…Чего молчишь?
– Нет, не годится… – вяло проговорил Николай. В голове у него стоял дым, смрад. Думалось лишь об одном.
– Да не психуй ты, не все же он их уволокет, ну две, три, а может, вообще, одну тока!
– Не пойдет, нет, – Николай боролся с собой, голос его пресекался, звучал квело, – да и все равно рано еще, сам знаешь.
– Ну, это не твоя забота!
Витюня, почуяв слабину, счел, что разговор закончен, и хлопнул Николая по спине.
– Все будет в самом лучшем виде, не отчаивайся, Колек!
Николаю захотелось врезать Витюне в рожу, под правый глаз, чтобы установить наконец симметрию на ней. Но зная, что от размаха упадет сам, стоял на месте, руки тряпками болтались вдоль тела.
– Э-э-э-х-э… – выдохнул он и уныло мотнул головой. Витюня осклабился, бросился назад в прихожую, на ходу толкнув ногой дверь в комнату. Та, скрипнув, неохотно распахнулась.
– Пошли!
Парень сделал вид, что вытирает ноги о скомканный протертый половичок в прихожей, потоптался и побрел за Витюней. Ему было не по себе. Но это быстро прошло. Увидев полку, он оживился, глаза засияли внутренним светом. Он не стал приседать перед полкой на корточки, а отошел на два шага назад, согнулся в поясе, заложив одну руку за спину, другой упираясь в поставленный на пол «дипломат», и уставился на книги.
«Брюки боится помять, пижон!» – злобно подумал Николай и поглядел на свои штаны, в которых спал, наверное, дней пять кряду. На них стрелка угадывалась с трудом, да и была, по сути дела, не стрелкой, а так – какой-то темной жирной линией, оставленной неизвестно кем на серединах брючин. Он сидел на диване, стараясь сдержать нервную дрожь, пробегающую от левого виска через все лицо, вниз, к шее, к нарывающей там тонкой дерганой жилке.
А Витюня хлопотал около покупателя и не знал, куда руки деть: то удовлетворенно потирал ими перед своим сизым носом, то прятал назад, за спину, но и там продолжалась суетливая игра коротких отекших пальцев.
Парень оказался шустрым.
– Вот эти бы я взял… – начал он уверенно, не ожидая возражений.
– Одну! – твердым голосом оборвал гостя Николай. Парень недоуменно уставился на сидящего. В комнате повисла тишина. Витюня с лицом, выражающим отчаянную тоску, крутил указательным пальцем у виска. Нужно было разрядить обстановку, но…
– Одну, – повторил Николай. Решительность уже оставила его, и он, опустив глаза, принялся разглядывать что-то несуществующее под ногами на полу.
Парень покачал головой, перевел взгляд на Витюню. Тот разводил руками, но в то же время успокаивающе кивал: «Ничего, все уладится, не спеши».
– Тогда вот эту, – в руках у парня оказалась книга в дорогом, прекрасно сохранившемся черном переплете.
Николай поднял голову и исподлобья уставился на руки покупателя. В них была зажата «Жизнь двенадцати цезарей» Гая Светония Транквилла. Парень выбрал явно не лучшее из содержимого полки. «Ладно, лишь бы сейчас ожить, перетерпеть утро, а там наверстаем», – без особого воодушевления подумал Николай. Парень ждал. Нужно было что-то сказать, но Николай не знал что.
– Экх-мэ-э! – прочистил горло Витюня. – Червонец!
Слова его прозвучали как-то излишне уверенно, выдавая в Витюне человека, не знающего цены товара. И парень не замедлил воспользоваться этим.
– Нет, больше пяти дать не могу.
В его голосе были участие и сожаление, но «что поделать рад бы, ребята, да большего она и не стоит». Николай захлебнулся от обиды – на черном рынке такую вещь с руками бы оторвали за четвертной. Парень, несмотря на молодость и внешнюю застенчивость, показал себя хватом.
– Ставь на место и уматывай! – раздраженно буркнул Николай и отвернулся к стене, к «ведьме». Муха как ни в чем не бывало продолжала сидеть на ее носу и не спешила закончить свой утренний туалет.
Времени не существовало, застывший миг длился нескончаемо.
Парень растерянно шагнул к выходу, но Витюня заслонил ему дверь своим могучим торсом.
– Ну, чего ты, в натуре? – сипел он. – Ну, давай семь, и порядок, ну, в натуре?! Мы же интеллигентные люди!
Витюня нервничал, книга была в его руках, и он настырно тыкал ею в нос молодому человеку, так что тому приходилось отодвигать голову назад, закидывая вверх костистый подбородок. Видно, задетый тоном Николая и чувствуя, что без него все равно дело не обойдется, парень метнул недобрый взгляд в сторону хозяина, процедил:
– Пять!
Витюня метался глазами от одного к другому. Растеряный, ошеломленный, но несдающийся, он искал выход из положения.
– Ладно, годится! – наконец выкрикнул радостно, будто его осенило. – Пошли! Коляня, я мигом, не отчаивайся!
– Книгу оставь, падла! – в бессильной ярости сорвался на крик Николай, но опоздал – дверь захлопнулась.
Без взмаха, коротким ударом ладони хлестнул он по ведьмачьему носу и почувствовал под рукой противную мокроту раздавленной твари. Нос стал еще отвратительнее, гаже – теперь на нем красовалась бугристая желто-зеленая бородавка с двухкопеечную монету. Николай уткнулся лицом в колени и заплакал. Это был не плач даже, а просто сухое содрогание тела, внутренний душевный озноб, истерика без слез.
Витюня примчался, как и обещал, мигом. Дверной звон вернул Николая к действительности. Всем своим видом Витюня являл подарок: «Нате, берите, вот он я!»
– Ну что?! – Николай задрожал от нетерпения. – Что?!
Витюня улыбался, кривя толстые черные губы. Руки его, глубоко засунутые в карманы брючин, жили там своей жизнью.
– Во! – восторженно дохнул он в лицо Николая, вытягивая левую руку с зажатыми в ней двумя новенькими трешками.
Николай повел по сторонам пустыми глазами и уже с почти безнадежной тоской опять выпялился на Витюню.
– И – во!!!
В правой руке приятеля подрагивал на треть опустошенный флакон одеколона. Николай облегченно вздохнул и вцепился в дверной косяк – слабость вновь лишила ног.
– Я сразу унюхал: ну, думаю, несет от тебя, парень, видать, после бритья мажешься, – тараторил Витюня. – Тоже мне, пижон! Но молодчага, не поленился, сбегал к себе на третий этаж. Так что живем, Колюнчик!
Витюня хмыкнул, отодвинул Николая с дороги и уверенно зашагал на кухню, крича на ходу:
– Для него это наружное средство, а для нас, хе-хе, в самый раз внутрь будет. А то я уж совсем собирался было коньки откидывать, хе-хе!
Руки Николая затряслись крупной рваной дрожью. Не в силах справиться с замком, он всем телом толкнул дверь, минуту постоял, пришел в себя и пошел вслед за Витюней, опасаясь, что чудное видение растает и он вновь окажется наедине с самим собой и нечеловеческой мукой, поселившейся в теле.
Витюня стоял, согнувшись над подоконником, пытался сдержать возбуждение и разлить содержимое флакона в два мутно-белесых стакана. Николай с напряжением следил за ним, машинально отмечая, что ни единая капля не проливается мимо. По шее и затылку у него побежали мурашки, спина одеревенела.
Отставив флакон, Витюня потянулся к чайнику. Плеснул из него понемногу в стаканы. Замер благоговейно. Жидкость на глазах окрасилась в молочный цвет. Готово! Теперь оставалось последнее, самое главное – донести все это до рта, не дав рукам-предателям расплескать драгоценную влагу. Тогда все!
Николая передернуло. А Витюня присел у подоконника, вцепился в стакан обеими руками. Голова его замаячила на уровне посудины, на коротко остриженном затылке выступили капли пота.
– Ну, вздрогнули! – прохрипел он, выдохнул гулко и, закинув назад голову, резко опрокинул содержимое стакана в себя. Отодвинулся.
Николай проделал то же. Зубы лязгнули, в голове помрачилось, и… по телу побежал живительный огонек. Николай замер, ожидая «прихода», прислушиваясь к глубинным изменениям внутри своего полумертвого тела.
Витюня сидел с выпученными глазами, также вглядываясь в себя. Стало совсем тихо, будто даже на улице все замерло и остановилось в осознании торжественности момента. Сейчас, еще миг!
Николай постоял немного, расслабился и блаженно плюхнулся на табурет, чувствуя, как постепенно, не вдруг в ноги вливается сила, проясняется голова. «Теперь можно жить! Хватит ненадолго, конечно, но это потом, все будет потом, а теперь…» И еще – «Пропил я „Цезарей“, пропил!» – сверкнула беспощадная мысль. Сверкнула и погасла, ушла туда, откуда столь внезапно вынырнула.
– При-и-ишло!!! – застонал в экстазе Витюня. Счастливая слеза задрожала на его дряблом нижнем веке. – Да мы с тобой, Колюнька… – начал было он, но захлебнулся в собственном восторге, жалостливо всхлипнул и умолк.
И Николай его понимал. Хотелось плакать от счастья, петь, улыбаться, целоваться со всем светом. Окружающее вновь обрело свои краски, заиграло, обнадеживающе повлекло к себе. Он приподнялся, упираясь руками в колени, и пошел в комнату. Будильник показывал без десяти девять.
Николай присел перед полкой. Он не видел корешков книг, все внимание притягивало к себе пустое место. То место, где стоял проданный Светоний.
– Нас утро встречает прохладой! – заполошно завыл с кухни Витюня. – Эй, кудрявый, что делать-то будем?!
Николай сидел перед своими книгами и беззвучно смеялся. По щеке, оставляя промытый светлый след, ползла мутная слезинка.
В голове, сполохами разрывая липкое забытье, вертелись навязчивые слова: «С завтрашнего дня, с завтрашнего…», а что именно, что «с завтрашнего дня»! – Николай вспомнить никак не мог. День вчерашний, сегодняшний день, а заодно с ними и несуществующий, далекий день завтрашний сплетались в единую серую круговерть сменяющихся дней и ночей, не несли ничего нового – все один к одному: удручающе тяжкие с утра, терпимые к полудню и блаженно-тоскливые по вечерам.
Он сделал отчаянную попытку выковырнуть из залубеневшей памяти хотя бы число, день недели. Попытка успеха не принесла, зато отозвалась а затылке тупой корежащей болью. Захотелось выть: тихо, протяжно, на одной ноте, не умолкая до тех пор, пока не придет облегчение. Но то, что облегчение само собою не явится, Николай знал точно. Знал и другое – чем дольше будет лежать расслабленный, под натиском гнетущих мыслей, тем большую власть возьмут они над телом, волей и не будет уже сил им противиться. А тогда… Николай не мог себе представить, что будет тогда, – сознание ставило барьеры, уводило мысли в сторону. Не мог он решиться и на единственное: совладать с собой, вырваться из омута бессилия, встать.
Не мог, откладывая все это на потом, оттягивая мучительные минуты и оттого мучаясь еще сильней.
Стоило закрыть глаза, и в черной пугающей тьме, выныривая откуда-то сбоку, возникал клубок бешено извивающихся красных червячков, вспыхивали, разрывая мрак, белые и голубые молнии. Червяки вспышек не боялись, не отступали, и чем дольше Николай не разжимал век, тем быстрее были их движения, конвульсивнее, и уже не клубком копошились они, а свивались в подобия чьих-то лиц, тел… Видения судорожно сменяли друг друга, пугали своей реальностью.
Он разлепил вялые набухшие веки, вырываясь из власти наваждения, скосил глаза на будильник, стоящий на полу у изголовья, – в каком бы состоянии Николай ни возвращался к себе, будильник заводить он никогда не забывал. Это был один из рефлексов, выработанных за последние годы, с тех пор как они расстались с женой. Сколько же прошло? Два, три? А может… Нет! Два с половиной, точно – два с половиной года! Николай смотрел на тусклый циферблат и не мог справиться с мельтешением стрелок. Опять усилие, опять боль в голове – стрелки показывали десять минут девятого. Рано. Слишком рано! Он в лютом изнеможении мотнул головой по подушке и уставился в стенку, на жирное пятно, расползшееся по обоям.
Пятно было похоже на старческий ведьмачий профиль с хищным заостренным книзу носом. Сейчас на этом носу сидела омерзительная муха и старательно вычищала задними лапками свое зеленое шевелящееся брюшко. Николай явственно слышал скрежет, издаваемый наглой тварью. Стало противно до тошноты. Но мысль о том, что можно двинуть рукой, прогнать нахалку, убить ее, наконец, размазать ударом ладони по ведьминой морде, была еще противней, рождала брезгливое бессилие.
Он отвернулся от стены, уставился в потолок. Боль отпустила затылок, и на ее месте в мозгу поселилась унылая пустота.
Комната, в которой лежал Николай, была так же пуста и уныла. Залежанный диван, прожженный в нескольких местах, засаленные тусклые обои, висящие по углам клочьями, да три гвоздя в стене. На двух – пиджак и спецовка, уворованная со стройки, где он работал как-то с неделю, пока не выгнали, на третьем – криво наколотая репродукция с картины Рембрандта «Автопортрет с Саскией», выдранная из «Огонька», – подарок Витюни. Николай давно собирался снять ее, но по утрам было не до картинки. А вечерами, когда он заявлялся в свою конуру в приподнятом настроении и художник со стены, обнимая сидящую у него на коленях аппетитную женушку, приветствовал вошедшего поднятым кубком, все виделось в ином свете. Николай подмигивал Рембрандту, приговаривая: «Ничего, мы еще им всем…», плюхался на диван и, если не проваливался сразу же в забытье, курил, зажигая одну сигарету от другой до тех пор, пока последняя не вываливалась из руки – благо, что гореть в комнате, кроме дивана с лежащим на нем хозяином, было нечему.
Единственное богатство, неприкосновенное и служившее мостом в прошлое, состояло из книжной полки, притулившейся на полу в противоположном от дивана углу комнаты. Книг было немного – около тридцати. Но это были те книги, которые Николай зарекся трогать. В самые светлые свои минуты он подходил к полке, садился возле нее на корточки и, отодвинув стекло, любовно водил рукой по корешкам. Читать их, перечитывать он давно уже перестал.
Когда им завладела вновь навалившаяся полудрема, неожиданно по ушам ударил заполошный дребезг дверного звонка, вогнал в грудь тупую иглу и вышиб из кожи лба капли холодного пота. Сердце екнуло и, захлебнувшись внезапно прилившей кровью, забарабанило в грудную клетку, пытаясь вырваться наружу. «Ну, кого еще там несет?!» – с мучительной досадой и страхом подумал Николай. Но тут же воробышком трепыхнулась надежда. Надежда на то, что его еще помнят. Кому-то он нужен. Кто-то может помочь, спасти…
Надо было идти к двери, открывать, ловить мимолетный кивок судьбы, если только он был возможен вообще.
Николай сел на диване, уперся в него обеими руками. В глазах поплыло. «Слава богу, одеваться не надо – все на себе», – подумал он и попытался встать. Качнуло, ноги не слушались. «Сейчас, сейчас! Не уходи, погоди малость, иду уже!» – молил он неизвестного вслух, шевеля обтрескавшимися сухими губами.
Опираясь о стены, он добрел до кухни. Крутанул кран и подставил рот под струю воды. В желудке заурчало. Стало немного полегче. «Сейчас, иду иду же…» – снова зашептал он, осторожно передвигая дрожащие, слабеющие ноги. Сердце подкатывало к горлу вместе с выпитой водой. Перехватывало дыхание. В глазах опять поплыли зеленые и синие круги. Все это было знакомо ему, но опыт облегчения не приносил – каждое утро липкий страх сковывал голову обручем, заставлял прислушиваться к ударам сердца – живо ли оно, сколько сможет еще выдюжить? Слабость, изнуряющая, опутывающая все члены слабость приносила мучения неизмеримо большие, чем любые, даже самые жестокие боли. Николай знал лишь одно средство, от которого зависела его жизнь, и средством этим был заветный эликсир, в любом его виде – лишь бы он был! Был, и ничего другого не надо! Ничего! Все остальное придет потом, после…
Надежда довела его до двери. Минута, в течение которой он проделал весь путь от дивана, через кухню, сюда, была минутой для кого угодно, для всех, но не для него – сердце, пытаясь обогнать само себя, успело отмерить гораздо больший срок, словно жило оно в своем измерении.
Николай нащупал в темноте головку замка и повернул его. Свет с лестничной клетки ослепил, заставил прищуриться, сквозняк обдал холодом мокрую от пота грудь, рубаха облепила ее и начала темнеть.
На пороге стоял Витюня – друг, приятель, братан, один из тех немногих, кто еще разделял с Николаем заботы, жил его жизнью. Витюню украшал свежий вчерашний синяк под левым глазом. Он разлился поверх позавчерашней, уже пожелтевшей отметины. Подбитый глаз был характерным отличием Витюниного лица. Лишь временами синюшное пятно сменяла распухшая губа или кровоточащая бровь. Бывало и так, что они соседствовали, но обойтись вовсе без таких красот Витюня не мог, характер не позволял – весь день искал он того, кто смог бы доставить ему это удовольствие, а получив свое, вновь становился кротким, смиренным и вполне безобидным человеком. Лет сорока с виду, невысокий, коренастый, но уже заметно обрюзгший Витюня был чрезвычайно деятельной личностью, без которой Николай не мыслил себя, – приятель неизменно появлялся в тот момент, когда он уже опускал руки и уходил в себя. Счетов между ними не было. Все добытое Витюней проматывалось с невероятной быстротой, безо всяких сбережений на потом.
Николай скривился, пытаясь выдавить улыбку.
– Привет, старик! – гнилозубо ощерился приятель. И даже в темноте прихожей стало видно, как заиграли на его лице краски: свекольные щеки и нос выгодно оттенялись радужными переливами фингала. – Ты только погляди – кого я тебе привел! В голосе играли благодетельские, отеческой заботой пропитанные нотки,
Витюня скользнул в прихожую и, не глядя, ткнул рукой в выключатель. Свет еще раз резанул по близоруким глазам Николая. Они заслезились, и уже словно сквозь пелену он разглядел стоявшего за Витюниной спиной парня. Тот был в светлом легком костюмчике, выглаженный, выбритый, очень чистый. В его левой руке покачивался черный «дипломат». Смотрел парень на Николая недоверчиво, будто решая – заходить внутрь или же уносить ноги, пока не поздно.
– Давай, давай – чего в дверях-то стоять! – командовал Витюня. Рвение так и распирало его.
В глазах парня Николай отчетливо прочитал, что тот думает о них. «Теперь этого не скрыть, – невесело и равнодушно подумал он, – да и ни к чему!»
– Здрас-те, – неуверенно произнес молодой человек и оглянулся назад, будто высматривая пути к отступлению.
Николай нервно дернул головой, получилось что-то наподобие кивка. Слова застряли в горле. Он посмотрел с надеждой и тревогой на Витюню – в чем дело? Тот подмигнул, буркнул в сторону парня: «Момент!» – и потащил Николая на кухню, дыша в ухо густым многолетним перегаром.
– Везуха, Колюня, гулять будем! Я ему еще вчера про твое добро намекнул – возьмет, точно возьмет! – Витюня по-хозяйски распоряжался чужим имуществом – сам отдавал все, ничего не прося взамен, потому и от других ожидал того же. – Вчера, как тебя отволок, тут его и встретил. В соседнем подъезде живет. Ну, слово за слово – и вот…Чего молчишь?
– Нет, не годится… – вяло проговорил Николай. В голове у него стоял дым, смрад. Думалось лишь об одном.
– Да не психуй ты, не все же он их уволокет, ну две, три, а может, вообще, одну тока!
– Не пойдет, нет, – Николай боролся с собой, голос его пресекался, звучал квело, – да и все равно рано еще, сам знаешь.
– Ну, это не твоя забота!
Витюня, почуяв слабину, счел, что разговор закончен, и хлопнул Николая по спине.
– Все будет в самом лучшем виде, не отчаивайся, Колек!
Николаю захотелось врезать Витюне в рожу, под правый глаз, чтобы установить наконец симметрию на ней. Но зная, что от размаха упадет сам, стоял на месте, руки тряпками болтались вдоль тела.
– Э-э-э-х-э… – выдохнул он и уныло мотнул головой. Витюня осклабился, бросился назад в прихожую, на ходу толкнув ногой дверь в комнату. Та, скрипнув, неохотно распахнулась.
– Пошли!
Парень сделал вид, что вытирает ноги о скомканный протертый половичок в прихожей, потоптался и побрел за Витюней. Ему было не по себе. Но это быстро прошло. Увидев полку, он оживился, глаза засияли внутренним светом. Он не стал приседать перед полкой на корточки, а отошел на два шага назад, согнулся в поясе, заложив одну руку за спину, другой упираясь в поставленный на пол «дипломат», и уставился на книги.
«Брюки боится помять, пижон!» – злобно подумал Николай и поглядел на свои штаны, в которых спал, наверное, дней пять кряду. На них стрелка угадывалась с трудом, да и была, по сути дела, не стрелкой, а так – какой-то темной жирной линией, оставленной неизвестно кем на серединах брючин. Он сидел на диване, стараясь сдержать нервную дрожь, пробегающую от левого виска через все лицо, вниз, к шее, к нарывающей там тонкой дерганой жилке.
А Витюня хлопотал около покупателя и не знал, куда руки деть: то удовлетворенно потирал ими перед своим сизым носом, то прятал назад, за спину, но и там продолжалась суетливая игра коротких отекших пальцев.
Парень оказался шустрым.
– Вот эти бы я взял… – начал он уверенно, не ожидая возражений.
– Одну! – твердым голосом оборвал гостя Николай. Парень недоуменно уставился на сидящего. В комнате повисла тишина. Витюня с лицом, выражающим отчаянную тоску, крутил указательным пальцем у виска. Нужно было разрядить обстановку, но…
– Одну, – повторил Николай. Решительность уже оставила его, и он, опустив глаза, принялся разглядывать что-то несуществующее под ногами на полу.
Парень покачал головой, перевел взгляд на Витюню. Тот разводил руками, но в то же время успокаивающе кивал: «Ничего, все уладится, не спеши».
– Тогда вот эту, – в руках у парня оказалась книга в дорогом, прекрасно сохранившемся черном переплете.
Николай поднял голову и исподлобья уставился на руки покупателя. В них была зажата «Жизнь двенадцати цезарей» Гая Светония Транквилла. Парень выбрал явно не лучшее из содержимого полки. «Ладно, лишь бы сейчас ожить, перетерпеть утро, а там наверстаем», – без особого воодушевления подумал Николай. Парень ждал. Нужно было что-то сказать, но Николай не знал что.
– Экх-мэ-э! – прочистил горло Витюня. – Червонец!
Слова его прозвучали как-то излишне уверенно, выдавая в Витюне человека, не знающего цены товара. И парень не замедлил воспользоваться этим.
– Нет, больше пяти дать не могу.
В его голосе были участие и сожаление, но «что поделать рад бы, ребята, да большего она и не стоит». Николай захлебнулся от обиды – на черном рынке такую вещь с руками бы оторвали за четвертной. Парень, несмотря на молодость и внешнюю застенчивость, показал себя хватом.
– Ставь на место и уматывай! – раздраженно буркнул Николай и отвернулся к стене, к «ведьме». Муха как ни в чем не бывало продолжала сидеть на ее носу и не спешила закончить свой утренний туалет.
Времени не существовало, застывший миг длился нескончаемо.
Парень растерянно шагнул к выходу, но Витюня заслонил ему дверь своим могучим торсом.
– Ну, чего ты, в натуре? – сипел он. – Ну, давай семь, и порядок, ну, в натуре?! Мы же интеллигентные люди!
Витюня нервничал, книга была в его руках, и он настырно тыкал ею в нос молодому человеку, так что тому приходилось отодвигать голову назад, закидывая вверх костистый подбородок. Видно, задетый тоном Николая и чувствуя, что без него все равно дело не обойдется, парень метнул недобрый взгляд в сторону хозяина, процедил:
– Пять!
Витюня метался глазами от одного к другому. Растеряный, ошеломленный, но несдающийся, он искал выход из положения.
– Ладно, годится! – наконец выкрикнул радостно, будто его осенило. – Пошли! Коляня, я мигом, не отчаивайся!
– Книгу оставь, падла! – в бессильной ярости сорвался на крик Николай, но опоздал – дверь захлопнулась.
Без взмаха, коротким ударом ладони хлестнул он по ведьмачьему носу и почувствовал под рукой противную мокроту раздавленной твари. Нос стал еще отвратительнее, гаже – теперь на нем красовалась бугристая желто-зеленая бородавка с двухкопеечную монету. Николай уткнулся лицом в колени и заплакал. Это был не плач даже, а просто сухое содрогание тела, внутренний душевный озноб, истерика без слез.
Витюня примчался, как и обещал, мигом. Дверной звон вернул Николая к действительности. Всем своим видом Витюня являл подарок: «Нате, берите, вот он я!»
– Ну что?! – Николай задрожал от нетерпения. – Что?!
Витюня улыбался, кривя толстые черные губы. Руки его, глубоко засунутые в карманы брючин, жили там своей жизнью.
– Во! – восторженно дохнул он в лицо Николая, вытягивая левую руку с зажатыми в ней двумя новенькими трешками.
Николай повел по сторонам пустыми глазами и уже с почти безнадежной тоской опять выпялился на Витюню.
– И – во!!!
В правой руке приятеля подрагивал на треть опустошенный флакон одеколона. Николай облегченно вздохнул и вцепился в дверной косяк – слабость вновь лишила ног.
– Я сразу унюхал: ну, думаю, несет от тебя, парень, видать, после бритья мажешься, – тараторил Витюня. – Тоже мне, пижон! Но молодчага, не поленился, сбегал к себе на третий этаж. Так что живем, Колюнчик!
Витюня хмыкнул, отодвинул Николая с дороги и уверенно зашагал на кухню, крича на ходу:
– Для него это наружное средство, а для нас, хе-хе, в самый раз внутрь будет. А то я уж совсем собирался было коньки откидывать, хе-хе!
Руки Николая затряслись крупной рваной дрожью. Не в силах справиться с замком, он всем телом толкнул дверь, минуту постоял, пришел в себя и пошел вслед за Витюней, опасаясь, что чудное видение растает и он вновь окажется наедине с самим собой и нечеловеческой мукой, поселившейся в теле.
Витюня стоял, согнувшись над подоконником, пытался сдержать возбуждение и разлить содержимое флакона в два мутно-белесых стакана. Николай с напряжением следил за ним, машинально отмечая, что ни единая капля не проливается мимо. По шее и затылку у него побежали мурашки, спина одеревенела.
Отставив флакон, Витюня потянулся к чайнику. Плеснул из него понемногу в стаканы. Замер благоговейно. Жидкость на глазах окрасилась в молочный цвет. Готово! Теперь оставалось последнее, самое главное – донести все это до рта, не дав рукам-предателям расплескать драгоценную влагу. Тогда все!
Николая передернуло. А Витюня присел у подоконника, вцепился в стакан обеими руками. Голова его замаячила на уровне посудины, на коротко остриженном затылке выступили капли пота.
– Ну, вздрогнули! – прохрипел он, выдохнул гулко и, закинув назад голову, резко опрокинул содержимое стакана в себя. Отодвинулся.
Николай проделал то же. Зубы лязгнули, в голове помрачилось, и… по телу побежал живительный огонек. Николай замер, ожидая «прихода», прислушиваясь к глубинным изменениям внутри своего полумертвого тела.
Витюня сидел с выпученными глазами, также вглядываясь в себя. Стало совсем тихо, будто даже на улице все замерло и остановилось в осознании торжественности момента. Сейчас, еще миг!
Николай постоял немного, расслабился и блаженно плюхнулся на табурет, чувствуя, как постепенно, не вдруг в ноги вливается сила, проясняется голова. «Теперь можно жить! Хватит ненадолго, конечно, но это потом, все будет потом, а теперь…» И еще – «Пропил я „Цезарей“, пропил!» – сверкнула беспощадная мысль. Сверкнула и погасла, ушла туда, откуда столь внезапно вынырнула.
– При-и-ишло!!! – застонал в экстазе Витюня. Счастливая слеза задрожала на его дряблом нижнем веке. – Да мы с тобой, Колюнька… – начал было он, но захлебнулся в собственном восторге, жалостливо всхлипнул и умолк.
И Николай его понимал. Хотелось плакать от счастья, петь, улыбаться, целоваться со всем светом. Окружающее вновь обрело свои краски, заиграло, обнадеживающе повлекло к себе. Он приподнялся, упираясь руками в колени, и пошел в комнату. Будильник показывал без десяти девять.
Николай присел перед полкой. Он не видел корешков книг, все внимание притягивало к себе пустое место. То место, где стоял проданный Светоний.
– Нас утро встречает прохладой! – заполошно завыл с кухни Витюня. – Эй, кудрявый, что делать-то будем?!
Николай сидел перед своими книгами и беззвучно смеялся. По щеке, оставляя промытый светлый след, ползла мутная слезинка.
На улице было пусто, лишь какая-то бабка, спешившая из булочной со своей увесистой авоськой, косо дернула глазами в их сторону и затрясла подбородком. Мамаши, прогуливающиеся обычно во дворе с колясками, видно, еще не проснулись, а если и проснулись, то выходить не спешили. Рабочий и служивый люд схлынул, заняв свои места по заводам, фабрикам и учреждениям. Было свежо и вольготно. Сверху, из окна на восьмом этаже, вырывались магнитофонные вопли: Ян Гиллан безуспешно рвал голосовые связки, пытаясь образумить человечество. Но здесь на него не обращали внимания. – Студент резвится, – доверительно шепнул Витюня, указывая глазами на окно, – знаю его, он под эту музыку по утрам здоровье зарядкой гробит. – И добавил ни с того ни с сего со злобой, нажимая на «р»: – Мр-рракобес! Николай почуял, что Витюня заводится, – не обойтись ему и сегодня без тумаков. Но до битья далеко, а вот как сподобиться в этот ранний час прожить шесть рублей, лежавших в Витюнином кармане, об этом надо было думать сейчас, не откладывая. Не сговариваясь, оба повернули в сторону магазина, закрытого для них до двух часов. Николай шел ссутулившись, заложив руки за спину, стараясь придать лицу благонамеренное выражение, – привычки потомственного интеллигента все еще довлели над ним. Витюня был проще – рубаха расстегнута до пупа, благо июнь на дворе, руки в карманах. А в руках этих два заветных «трюльника», наверняка давно утративших свою хрупкость и провонявших потом Витюниных ладоней. – Ну что… – прохрипел Николай и надрывно закашлялся, побагровел от натуги, вытаращил налившиеся кровью глаза так, что Витюня даже испугался за него, принялся наколачивать по спине. Но Николай отмахнулся от него, отпихнул рукой и просипел-таки сквозь слезы слабеньким прихлюпывающим голоском: – Ну что, попробуем? – Чего это? – удивился Витюня. – Сам знаешь чего! – Опять дуришь? Николай дернул носом, заморгал. – Не, друг Колюнька, завязывать мы с тобою начнем со следующей недели, лады? Или завтрева! Сегодня чего-то не в кайф. А с завтрева – точняк завяжем! Ну че ты, в натуре, у меня слово – кремень, сам знаешь, ежели чего порешил и сказал, так заметано! Мы с тобой зазря, что ли, этому хмырю отвратному наши книжки загнали, а?! – Это какие такие наши? – не понял Николай. – Да ладно уж, – замял дело Витюня, – не важно! Ты тока гляди у меня, не подведи! Чтоб с завтрева как начнем завязывать, чтоб ни-ни! Понял?! А сегодня уж гульнем, Колюнька, напоследочек! Отведем души наши немытые! И снова потянулось резиновое тягучее время. – Пойду студенту харю бить, – вдруг сорвался Витюня. Заколебал своими буржуазными идолами! Под взглядом Николая он постепенно остыл, махнул рукой: – Хрен с ним, пускай загнивает. Была охота с молокососами связываться! Николай старался избегать соседей и вообще тех людей, которые его знали прежде. Сознание собственной неприглядности угнетало его, пригибало к земле и угасало только к вечеру, с наступлением темноты. Но вечер в июне не близок, и потому Николай чувствовал себя неуютно под немыми взорами пустых глазниц дома. За каждой занавеской мерещились чьи-то любопытствующие глаза. В ушах стоял ехидный шепоток: «Вот он – забулдыга, пьянь подзаборная!» Виделись торжествующие женские лица, и читалась в них убежденность: «Уж своих-то мы не упустим, катись, катись, алкаш, подальше отсюда!» Мужчины за этими занавесками представлялись безропотными, молчаливыми. Но все это казалось только – окна были пусты, у хозяев квартир были свои насущные проблемы, к тому же в этот ранний час большинства из них и не было дома. – Во! Гляди-ка, Борька! Ну, ежели он нас не выручит, то я не знаю… Витюня не пояснил, чего он «не знал» насчет Борьки. С Борькой было тяжело, и хотя в конце концов он всегда выполнял просьбы клиентов, но покуражиться при этом успевал вдосталь. Вот и сейчас Борька, будто не замечая надвигающейся на него парочки, стоял на своем ежедневном месте среди заваленного пустой тарой заднего входа в магазин. В заскорузлом черном халате на голое тело, взъерошенный, с «беломориной» во рту. И во всем его облике ощущалась вальяжность и ублаготворенность. – О себе он, скотина, не забывает, – зловещим шепоточком гудел Витюня, своротив губу в сторону Николая. – Ну, выпьет он у меня теперь за наш счет, жлоб поганый! Борька скосил глаз, и Витюня тут же расплылся в самой искренней, непритворной улыбке. Замахал рукой. Борька сделал вид, что собирается уходить. Витюня вприпрыжку бросился к нему, на ходу сгибаясь все ниже и ниже, приобретая гнусный, подобострастный вид. «Тварь, у-у, тварь!» – подумал Николай. Борька всегда вызывал в нем отвращение своими замашками. «Ничтожество, а тоже – строит из себя благодетеля!» Было стыдно за Витюню, а еще больше за себя, несмотря на то, что знал – самому в прямой контакт с грузчиком магазина вступать не придется. Но омерзение не проходило. Выпитое с утра улетучивалось, дрожь снова начинала занимать свои позиции в конечностях. Николай присел на пустой дощатый ящик из-под бутылок и, не удержавшись, заискивающе кивнул Борьке. Тут же ругнул себя за это. Остальное было делом Витюни. Он справится! – Молиться за тебя буду… – Не, сегодня никак. – Спасай, Боря, погибаем. Вон Коляня уж и стоять не может, ты глянь только. – Ни-е-е. Слова обрывками долетали до Николая, раздражали, нагоняли дикую злобу на Борьку. «Ведь самому выгодно, гаду, – не в ущерб себе приторговывает-то. Не прохлаждался же он тут, не зря стоял – поджидал ведь нас да других таких же, чтоб с утра ручонки свои шелудивые погреть. И сколько же за день через них проходит, с ума сойти! Сука!» Николай заводил себя, закипал. – Не, не могу… А Витюня потел, махал трешниками перед Борькиным носом, постыдно клянчил, пуская слезу. И старался не понапрасну. Минут через десять Борька, видимо усладив свое непомерное честолюбие, небрежно сунул деньги в карман халата и шмыгнул за дверь. – Паскуда! – с ненавистью глянув на захлопнувшуюся дверь, проскрипел Витюня и облегченно вздохнул, присел рядом с Николаем. Все его словесные запасы вылились на Борьку, и теперь он молчал. Грузчик вышел скоро, ждать себя не заставил. В руках его был большой кулек. В кармане халата угадывался стакан. – Только, мужики, давай подальше отсюдова, – сказал он и пошел вперед, в уголок двора, к старенькой беседке, заслоненной от посторонних взоров густой кроной раскидистого клена. Шел он, пританцовывая, подпевая неумолкающему магнитофону, – зарядка у студента что-то затянулась. В кульке оказалась четвертинка водки, две бутылки пива, хлеб и тонко нарезанная колбаса, граммов на сто, не больше. «Уплыли наши денежки», – с тоской подумал Николай и судорожно сглотнул слюну. В животе опять заурчало. Он сплюнул и громко выдохнул, избавляясь от тошнотворных остатков выпитого одеколона. Во двор начали выходить первые утренние мамаши со своими чадами в колясках. Мамаши щурились на солнце, поправляли что-то внутри колясок и не спеша, с горделивым видом, направлялись к скверику, не замечая, а может, и просто не обращая внимания на троих мужчин, что-то делающих в это утро в беседке. – Мне чуток! – брезгливо поморщился Борька, однако стакана не отодвинул, и треть содержимого бутылки оказалась в нем. Витюня угодливо осклабился, подморгнул. «Благодетель» с кислой физиономией, оттопыривая корявый мизинец, выцедил водку, нюхнул хлеба и положил его обратно, на мятую бумагу бывшего кулька. Оставшиеся капли он небрежно стряхнул на пол беседки, поставил стакан на скамейку и ушел, не сказав ни слова. – Ну и черт с ним, – вяло проговорил Николай. – Давай расплескивай – у меня что-то опять мандраж пошел. Он не помнил, когда перешел на это язык, поначалу так коробивший слух. Не помнил. А теперь сам не замечал словечек, вросших в него. Так было проще – ведь не станешь же в чужом племени изъясняться на своем языке – все равно не поймут. А может, и начинал забываться уже тот, свой язык? Может быть, но так было проще, так его понимали и он понимал с полуслова, так можно было выразить целую гамму чувств и ощущений одним коротким словом. Да и не нашлось бы уже в голове прежних слов. Для пущей убедительности он вытянул руку. Пальцы подрагивали. Посмурневший Витюня первым делом откупорил пиво, глотнул из бутылки, выругался матерно и стал аккуратно разливать водку, показывая, что он все-таки не такой наглец, как Борька, и обделить друга себе никогда не позволит. Это Витюнино качество было хорошо знакомо Николаю, за него он и питал что-то навроде уважения к приятелю, которого уважать-то, собственно, больше было не за что. Витюня разлил и протянул наполненный наполовину стакан. «Ну, цезари, – еще раз за вас!» – мысленно произнес тост Николай, а вслух сказал: – Чтоб ему провалиться! Витюня одобрительно хмыкнул и недобро уставился на груду искореженных деревянных ящиков, догнивающих у черного входа. Через десять минут Николай забыл окончательно, что утром он еле встал и готов был прощаться с жизнью. Будто не было этого. Он разрумянился, стал смотреть веселее. Витюня не долго предавался созерцанию природы из беседки. Он был «мотором» в их небольшой компании. Николаю же доставалась роль балласта, в лучшем случае подручного. – Все. Хватит. Пошли. Николай покорно встал, ожидая, куда его повлечет неугомонный приятель на этот раз. Витюня направился в сторону мебельного магазина. Они там бывали часто. Когда появлялась необходимость быстро сшибить деньгу, мебельный выручал. Тамошние рабочие-грузчики пренебрегали мелкой работенкой, когда, например, нужно было перенести тумбочку, пару кресел или стулья на небольшое расстояние. Они не разменивались, как сами говорили, на пустяки. Тут-то и нужно было ловить момент. И хотя грузчики не жаловали чужаков, но когда заказ не сулил им крупных барышей, они закрывали глаза на всевозможных витюнь. Магазин был открыт. Даже больше того – часть товара уже красовалась перед входом – три дивана с красной броской обивкой, пара столиков, трюмо. Рядом суетливо прохаживались хозяева, которым доставка силами магазина сулила увидать приобретенную вещь в своей квартире не ранее, чем через два-три дня. Витюня подмигнул Николаю. – Вот он, народец, измученный материальным благополучием. Стоят, родненькие, нас дожидаются. Но когда Николай сделал попытку выйти из-за угла, Витюня одернул его, приструнил: – Ну чего ты, как первый раз замужем. Приглядеться же надо. А то захапают за милую душу, оглянуться не успеешь! Николай находился в том блаженном расположении духа, когда ему было совершенно безразлично, что с ним будет дальше. Но Витюню он послушался, спрятался за кирпичную стену и даже вытащил из кармана очки, надел их. Окружающий мир сразу же приобрел четкие очертания. – Вроде тихо, нет никого, – проговорил наконец Витюня. Но тут пришла очередь Николаю одернуть приятеля. То, что он увидел, выбило его из колеи. Но все же решил приглядеться повнимательнее – вдруг ошибся. Он чуть приподнял очки и отодвинул их на сантиметр от переносицы, так было резче, лучше видно. Нет! Ошибки никакой не было – это она, его жена, Ольга. Что могло привести ее в этот час сюда? Николай точно знал, что живет она совсем в другом районе. За два с половиной года разлуки он не только не встречался с ней ни умышленно, ни случайно, но даже не звонил ни разу. Сердце защемило. Подойти? Николаю до невозможности захотелось сделать это. Услышать хоть слово из ее уст. Вглядеться в лицо. Ведь он, несмотря ни на что, продолжал любить, думал о ней. Подойти сейчас же! Николай уже сделал первый шаг, но вовремя опамятовался – ничего, кроме отвращения, жалости, а может, и презрения, он не мог вызвать своим теперешним видом. Он ударил ребром ладони в стену. Лицо исказила гримаса боли. Но боль была не физическая, не от удара о кирпичи. – Да чего ты? – Витюня был удивлен. – Молчи! Поняв, что тот не шутит, Витюня прикусил язык и уселся у стены на корточках, прислонившись к ней спиной. Он сидел и поцокивал языком, будто осуждая приятеля за раздражительность, пустую и бестолковую, на его взгляд. А Николай следил за каждым движением Ольги. Он и радовался, замечая, что она совсем не постарела, даже, напротив, изменилась в лучшую сторону, стала женственнее, стройнее, вновь обрела свою, знакомую со студенческой скамьи живость, и злился одновременно, чувствуя, что пропасть, разделяющая их, становится все глубже, все шире. Он различал даже ее голубые, сияющие глаза, когда она поворачивала лицо в их сторону. Ольга его не видела. И Николая вдруг ожгла мысль – а узнала бы, если даже и подошла совсем близко, вплотную? А вдруг нет? Вдруг скользнула бы равнодушным взглядом и отвернулась, приняв за одну из тех теней, что маячат в подворотнях и боятся дневного света? Могло быть и так. Он уже совсем успокоился, и все чувства, овладевшие им поначалу, перелились в одно – в режущую, томительную печаль, когда произошло то, что его окончательно добило. Из магазина вышел лысоватый мужик в синей футболке с надписью «Адидас» и джинсах, под мышкой он держал две чешские книжные полки в пенопластовой упаковке и с яркой зеленой наклейкой. Николай сперва не придал значения этому покупателю. Но когда тот подошел к Ольге, поставил полки на асфальт, придерживая их телом, и взял его жену, его Ольгу за локоть, а та в ответ чмокнула незнакомца в щеку, Николай не выдержал. Он отвернулся, зашел за угол. И опустился рядом с Витюней. – Да чего ты в самом деле? – Витюню не на шутку встревожило поведение приятеля. – Жена… – выдохнул Николай, ничего не поясняя. – А-а-а-а, – многозначительно, с уважением протянул Витюня, – тогда другое дело. Он не смог сдержать любопытства, выглянул за угол. – Это беленькая-то? С фрайером этим? С полками? Николай кивнул. Причем кивнул он один раз, но голова сама по себе склонилась второй, третий, задрожала будто лист лопуха под порывами ветра. И он не сразу смог унять дрожь. – Ушли. Полки купили и ушли. А ты чего переживаешь, расстались, и бог с ней! Николай промолчал. Он смотрел вдаль и ничего там не видел. – Знаешь, Коляня, как говорят англичане, – снова подсел к нему Витюня, – если леди выходит из дилижанса, дилижанс едет быстрее. Хе-хе! И сам же засмеялся первым. Один из грузчиков, вышедший покурить и случайно подслушавший разговор, придвинулся ближе, долго смотрел на Витюню и вдруг, поперхнувшись дымом, залился высоким пронзительным смехом. – Ну, пошли, что ли? Николай не прореагировал, казалось, что он заснул. – Да не бабься ты! Пошли, пока работенку не увели из-под носа, – настаивал Витюня. – Не пойду! – ответил Николай. Он встал и направился во двор, к беседке. Витюня вприпрыжку следовал за ним, жужжал на ухо: – С тобой не разбогатеешь. Пить-то хочешь! А вкалывать тебя нету, книжки продавать – нельзя! Я что тебе, в няньки нанялся? Николай резко повернулся к нему: – А ты вспомни – сколько моего добра пропили, а? Ты тогда по-другому что-то пел. А сейчас, как у меня пустые стены остались, так в няньки, говоришь? Витюня стушевался. Он знал, что когда Николаю попадет шлея под хвост, с ним лучше не связываться. Они молча вошли в беседку, сели.
До открытия магазина оставалось чуть больше трех часов. Надо было что-то предпринимать. Предпринимать сейчас, пока в жилах после выпитого играет кровь. Позже будет тяжелее, придет надоевшее бессильное уныние, тоска, которую недаром называют зеленой. И оба прекрасно это понимали. Но каждый по-своему: Витюня горел от нетерпения, ерзал на лавочке, чесался, пыхтел; Николай, напротив, оттягивал всяческую суету на потом – хотелось продлить блаженное ничегонеделание, сладкую пустоту. Он сидел, прижмурив глаза, радуясь утреннему ласковому солнышку, переваривая свои ощущения. Долго ему пребывать в таком состоянии не пришлось. – Лафа! – радостно всхлипнул Витюня и вскочил с лавки. Вот это, корешок, то, что нужно! Николай разлепил веки. Долго блуждал непонимающим взглядом, пытаясь уловить направление, обозначенное Витюниным пальцем. Уловил. У дальнего подъезда стояла женщина, в ногах у нее покоилась какая-то здоровенная коробка. Надписи на картоне отсюда разобрать было невозможно. – Ну, полетели! Витюня дернул приятеля за рукав, да так, что тот чуть было не свалился с лавочки. – Догоняй! И перед Николаем только мелькнула широкая спина. Витюня уже был около подъезда, что-то говорил, сочувственно кивал головой. Когда Николай подошел ближе, он расслышал: – Эх, хозяюшка, это горе – не беда! Считай, что тебе, красавица ты моя, крупно повезло, поможем от всего сердца. Лады? Николай неуверенно топтался рядышком, стараясь не глядеть на женщину. – Понимаете, – обратилась она к нему, – на двери объявление, мол, стиральная машина, в отличном состоянии, недорого. Ну вот я и пошла, – она всхлипнула, – договорились мигом, и правда недорого. Мне такая как раз нужна. Что с того, что подержанна. Они даже мне эту дуру здоровую вытащили и на лифте спустили вниз. А потом «привет» говорят – и домой. А я? Николай укоризненно покачал головой, но в разговор вступить не решился. – Да уж сама виновата, надо раньше было думать, а сейчас и муж на работе, и вообще никого нигде. Хоть назад возвращай! «Надо же, какая разговорчивая! – подумал Николай. – И чего объясняется?!» Ему стало не по себе. И если бы рядом не было Витюни, он бы и один поволок эту машину куда надо. За так, даром. – Вы уж помогите мне, пожалуйста. – Женщина затеребила сумочку, пытаясь ее открыть. – Не печалься, хозяюшка, три рублика подкинешь – все будет на мази. Витюня уже примеривался к коробке, будто вопрос был решен. – Да тут же… – женщина обомлела, – вон мой дом, соседний. Николай опустил глаза. Витюня с пониманием развел руки, горестно вздохнул. Трояк заработали мигом. Вернулись. Уселись на лавку. Музыка не кончалась. Можно было ни о чем не думать, а просто слушать. Слушать, слегка покачиваясь в такт ударнику, не замечая окружающего. Это было на самом деле приятно. И Витюне понять этого было не дано. Мамаши со своими колясками попрятались по квартирам, наверное, увезли детей на второй завтрак. И во дворе стало совсем пустынно. Лишь на короткое время промаячила вдоль кирпичных стен сутулая фигурка участкового, так что даже пришлось пригнуться в беседке – не дай бог увидит. Но сегодня капитан Схимников не заметил притаившейся парочки, прошел мимо. – И слава богу и всем чертям в преисподней, – проводил его Витюня, – нас голой рукой не возьмешь! – Потом вздохнул с присвистом. – Что ж это за жизнь собачья? И-эх! А Николай вдруг вспомнил, что пивной бар уже десять минут как открыт. И от мысли этой даже облился весь потом. – Может, в автопоилку, – робко спросил он, – по кружечке? Ну чего ждать, пока магазин откроется?. – А мы на все согласныя, – пропел в ответ Витюня, сплюнул, выбил руками по груди, а ногами по скамеечным доскам какую-то немыслимую чечетку. – Потопали, может, кого из мужиков стренем, поутряночке они, голуби, все там. Может, и сгоношим чего! Николай скривил губу. Надеяться на мужиков особо не приходилось – такая же голь перекатная, как и они с Витюней. А вот уплывут три заветных рублика, где тогда новые искать? Деньги в это утро на дороге не валялись. И все же в пивнушку тянуло очень. До судорог в желудке. Неожиданно Витюня хлопнул себя по лбу. – Фу-ты, черт! Забыл совсем. Слушай, Коляня, мне тут на секундочку домой забежать надо. Подождешь? Николай промолчал. – Я мигом! – бросил Витюня уже на ходу. «Да бог с ним, – подумал Николай, – куда он денется!» Хотя его и кольнуло то, что деньги-то были у Витюни, а значит, беречь его надо было пуще зеницы ока – мало ли что! Задним умом он постиг это, забеспокоился, только поздно. Витюня всегда опережал его своими действиями. Николай и сам стал замечать – последнее время соображает туго: не поймать, не собрать сонных мыслей. Витюня, когда ему попадались собеседники, любил поплакаться, выжать слезу. Николай наизусть знал все его бесчисленные истории: и о трагической любви без взаимности, и о травле на работе за правду, за критику начальников, и многие другие. Рассказывал Витюня всегда с жаром, в лицах. И сам верил всему рассказываемому. Но Николай-то знал, что правда была только в том, что Витюня был в свое время первоклассным столяром, и в том, что вышибли его за длительные запои. А все остальное – накипь, легенда, которую Витюня придумал не столько для слушателей, сколько для себя. Не было ни роковой любви, ни жены – мучительницы и изверга, не было правдоискательства и несправедливостей, не было гонений за критику. А было то же, что и у всей их братии, – постепенное и, главное, постоянное «принятие», которое затмило собою все. Но Витюня свою легенду лелеял и чем больше разукрашивал ее, тем больше в нее верил. Романтик! Николай предпочитал молчать. Он не любил распространяться о себе. Хватит того, что сам знает правду. И какое дело до нее другим! Прождав Витюню с полчаса, он совсем отчаялся, встал и побрел домой. Он не думал, зачем его туда несет, просто не сиделось. Идти Николай старался как можно ровнее, не покачиваясь, хотя ноги ему отказывали. И не от выпитого, а от слабости, может быть, и оттого, что он уже давненько не ел по-настоящему. Только есть ему не хотелось, аппетит пропал давно, да так и не появлялся с тех пор. Хотелось полежать, отдохнуть, а уж потом во что бы то ни стало разыскать Витюню, пока деньги еще целы. Если они целы. Он услышал за спиной легкие шаги, сдержанный смех. – Дядь, почем пол-литра? Николай вздрогнул, но не обернулся. Детский высокий голос вонзился иглой в затылок. – А он язык проглотил – вместо закуски! – раздался второй голосок, звонче прежнего. Чуть сбавив шаг, Николай прислушался. Он различал шепот, которым мальчишки переговаривались между собой. – Ну его, Петька, чего связываться! – шептал один. – Испугался? – подтрунивал другой. – Да ты что! – Не бойся, он же еле на ногах стоит. Даже если распсихуется – нас не догонит. – Да-а, вон длинный-то какой, ноги как ходули, – гнул свое первый. – Дурак ты, Петька! Эти пьянчуги все хилые, погляди-ка, он даже и догонит, так ничего не сделает, слабак. – Не слабей нас. – Да я ему головой в живот ткну, он… «Какие же они жестокие! – подумал Николай и тут же стал себя успокаивать: – Все дети жестоки, они не понимают, что причиняют боль. Мучают родителей, учителей, терзают кошек. Меня вот…» Объяснить словами можно было все на свете, но понять, оправдать? Николай не мог. Ему было мучительно жалко себя, своей беспомощности. На детей ему было наплевать. – Шли бы вы домой, уроки учить! – крикнул он, обернувшись. Голос сорвался, прозвучал хлипко и неуверенно. Мальчишки захохотали, они рассчитывали на реакцию и добились своего. Николай понял – он допустил ошибку, промолчи он, и они бы вскоре отцепились. Теперь другое дело. – Нашелся учитель какой! – Сразу видно – сам в школе отличником был! Николай заставил себя не оборачиваться больше. Ему очень хотелось поймать мальчишек, хотя бы одного, оттрепать за уши. Но он знал – не выйдет, и они были уверены в своей безнаказанности. – А ну кыш, мелочь пузатая! – прикрикнула с лавочки одинокая бабуся, давно наблюдавшая за событиями во дворе. – Чего к человеку причепились?! У Николая от сердца отлегло – какая-никакая поддержка, все легче, а вот попробуй он проучить мальчишек, погнаться за ними – и бабка шум поднимет, сразу же примет сторону его несознательных мучителей. Ребята притихли. Но ненадолго. На всякий случай перешли на другую сторону улочки, подальше от скамеек, стоящих у подъездов. – На троих сообразим? – снова пропел звонкий голос. – Дядь, давай споем «Шумел камыш», – вторил другой. Мальчишкам было лет по двенадцать, не больше. Проводя каникулы в городе, они жаждали развлечений и завидовали тем, кто сейчас в пионерскихлагерях. – Не споткнись, дядя! Николай, как нарочно, чуть не упал посреди улицы – нога подвернулась. Это его разозлило. Но все же он не оглянулся назад. Ему показалось вдруг, что нечто подобное с ним уже происходило. Остро резануло под ложечкой. Он напряг память, силясь зацепить кончик ускользающей нити. Было, было точно! Но что, когда, где? Вспомнить он, как ни старался, не смог. – Ха-ха-ха! – в два голоса прогромыхало за спиной. – Вот я вас! – крикнула издалека бабка. Вставать ей было лень, но видно, глаза у нее оставались достаточно зоркими. Ребята на окрик внимания не обратили – бабка была далеко. Но она не могла смириться с тем, что ее слова не имеют должного действия, – бабуся была суровая. – Вот я вашим родителям-то все расскажу! – пустила она в ход свое самое верное оружие. Ребята перестали хихикать. – Ладно, ну его, пойдем лучше в теннис сыгранем! – Ща, Петька, – обладатель звонкого тенорка нагнулся. Дядь, лови подарок! Николай почувствовал боль между лопаток – консервная банка с рваными краями, отскочив от спины, загремела по асфальту. Он все-таки обернулся, стараясь унять трясущиеся губы. Ребятишки с нарочито громким смехом, размахивая руками и строя на ходу рожицы, убегали от него в сторону спортплощадки. Домой идти расхотелось. Он злобно пнул ногой консервную банку и быстро зашагал обратно к беседке. Со стороны могло показаться, что у идущего человека нервный тик: при каждом шаге правое плечо его резко вздрагивало, поднималось кверху, а голова закидывалась назад. Прошло это не сразу. Витюня уже был в беседке. – Ну чего, перепугался? – захихикал он. – Нет, ты скажи думал, денюжки тю-тю? Он перестал улыбаться, поскреб ногтями волосатую грудь. – Доверять надо друзьям. Ладно, на первый раз прощаю, пошли в автопоилку. Николай сунул руки в карманы. – А ты чего убежал-то? Витюня сплюнул, сказал, нервно подергивая губой: – Да соседке-заразе замок починял. Договаривались на рупь, а как сделал, говорит, нету сейчас, потом отдам. Знал бы, я ей так бы починил, она у меня бы домой к себе не попала неделю, стерва! – Да ну ее, не переживай. – Чего? Я? Ни в жисть. Пошли-ка! По дороге к бару Витюня деловито застегнул пуговицы на рубахе, однако голая жирная грудь не хотела прятаться под выцветший ситчик – пуговиц не хватало. Это Витюню нисколько не расстроило – мало ли, ерунда какая. Он даже насвистывал, наверное и сам не замечая этого, одну из привязавшихся мелодий нетерпимых им «буржуазных идолов» со студенческого магнитофона. Получалось неплохо, пожалуй, даже бодрее. Николай с трудом отмечал все это. К горлу опять подкатывала тошнота, голова кружилась. Ног он не чувствовал, они были сами по себе, где-то внизу, доступные глазам, но не связанные с телом. Такое приходило не впервые и всегда до жути пугало, Николаю казалось, что он вот-вот умрет. Еще немного, совсем чуть-чуть… Но он не умирал, да и ноги топали, не сбиваясь с выбранного направления. И страх слабел. Скукоживался. Но никогда не исчезал насовсем. Идти было надо, и он шел, почти как путник в пустыне, который знает, что если он остановится, то никогда не добредет до спасительного оазиса, и от этого будет хуже только ему и никому больше на целом свете. Надо было идти. Заветный оазис уже замаячил на горизонте. И чем меньше до него оставалось расстояния, тем шире становился шаг жаждущих. – Тока по одной! – с серьезным видом предупредил Витюня и шумно сглотнул слюну. Так, что Николай понял – пока они не просадят в пивнушке все имеющиеся три рубля, они ее не покинут. – Угу, – сказал он. «Голуби-мужики» в баре что-то не проглядывались. Зато в углу, сдвинув три столика кряду, веселилась пестрая компания молодых людей. На их лицах было написано, что им очень хорошо. Ребята стояли, облокотившись на столик и оттопырив зады, облепленные фирменными джинсами, – будто напоказ выставив разнообразнейшие броские ярлыки. – У-у, – протянул Витюня, – и здесь эта студенческая поросль. Нигде от них спасу нету! – Брось, – обрубил его Николай, – лучше вон погляди на себя в зеркало. Витюня намека не понял. Пошел разменивать рубль. Ребята не слишком дружелюбно покосились на вошедших – их мир был красив, моден, молод, им не нравилось, что в него без спроса входят какие-то серые, помятые личности с клеймами неудачников на лицах. Но длилось это не больше секунды, смотревшие отвернулись, и Николай смог наконец поднять глаза. Даже теперь, зная почти наверняка, что путей-то назад нету, он не мог задавить в себе стыд. И от этого страдал втрое. Николай не в первый раз видел этих ребят в баре. Он был здесь постоянным клиентом, и многие лица уже давно примелькались. Да, Витюня прав, это студенты. Опытным взглядом человека, когда-то вкусившего плоды студенческой жизни, Николай мог четко определить: первый-второй курс, не старше. Сам он начал баловаться пивком только на последнем. Тогда они, студенты начала шестидесятых, были другими. – Держи монету, – пробасил Витюня, протягивая двугривенный и одновременно пытаясь почесать подбородок, на котором удобно устроилась маленькая желтая мушка. В другой руке Витюня нес пару кружек, – второй не получишь, как уговорились. Струя шваркнула из автоматного соска, и из кружки полезла пена. Казалось, что, кроме нее, в стеклянном бочоночке ничего нет. – Ведь во, заразы! – восторженно хмыкнул Витюня. – Ведь во чего придумали, чтоб трудовую копейку у рабочего человека вышибать. Да с таким напором за ту же цену можно и по четверти порции наливать. Ну дают, торгаши! Гривастые головы вновь обернулись, теперь они смотрели почти с одобрением, ожидая, что же дальше будет. Но на большее Витюни не хватило. Он неожиданно засмущался, умолк. В один присест вылакал содержимое, стер тыльной стороной ладони пену с губ, выдохнул и скосил глаза к полу. – Спекся оратор, не доорал! – съязвил кто-то из соседей. – Придется еще по одной?! – будто не слыша обращенных к нему слов, предложил Витюня. Николай кивнул. И они перешли к другому автомату. Тот оказался сознательнее – выдал почти все, что ему полагалось выдать. С кружками в руках приятели пристроились у окна. Закурили. Потом взяли еще по одной, потом еще и еще раз… С последней решили не спешить, Николай отставил свою кружку, присел на парапетик у оконной рамы. Его разморило. Со стороны можно было подумать, что человеку плохо, что надо вызывать неотложку, по крайней мере помочь ему добраться до дому. Но Николаю было хорошо, именно сейчас ему было очень хорошо – он переступил порог, за которым уже не было ни болей, ни страха, ни слабости. Он опять чувствовал свое тело и боялся пошевельнуться, прислушиваясь к току крови в жилах, боясь спугнуть «второе пришествие». И он не хотел верить, что это все ненадолго. Живи, пока живешь, остальное потом. Витюня испытывал примерно то же самое, но был при этом более непробиваемым и самокопаниями не увлекался, его тянуло к действию. И что именно делать, для него не было столь уж важным. Просто не сиделось. Он дважды подходил к студентам, пытаясь поговорить по душам, не вышло, отбрили, у них были свои темы. – Уйди, старичок, – сказали они ему в последний раз, не прерывая игры в подкидывание над столом спичечного коробка, – и не мозоль нам глаза, добром просим. Витюня знал, что такое «просить добром», а потому и удалился безропотно. Он умел быть послушным, когда того требовали обстоятельства. Но тосковать на пару с унылым приятелем ему было не по силам. Взгляд его начал шарить по столам. Наконец на чем-то остановился. – Ну-ка, поглядим! – прошептал Витюня. Он разворотил на одном из ближайших столиков кучу мусора, объедков, скомканных бумаг, и глаза его просветлели. – Во! Витюня помахал у Николая перед носом полуобглоданным хвостом воблы. Сделал попытку разломить его пополам. – Не нужно, – отвернулся Николай, он не любил нищенских замашек приятеля. – Хозяин – барин, – довольно проговорил тот. – Ох, хороша рыбка! Облизнулся. Придвинул кружку ближе и намочил губы. – Рыба посуху не ходит, Колюня, хе-хе. Управился с находкой он быстро. И снова затосковал. Выручил случай. Откуда-то из-за двери, на которую Витюня глядел с затаенной надеждой, вдруг вылетел белый теннисный шарик и, пролетев через весь зал (а Витюня цепко проследил за его траекторией), звонко шмякнул одного из студентов прямо в лоб. Из дверей раздался оглушительный хохот, и одновременно там же возник и хохотавший – очкастый рыжий парень с кожаной сумкой через плечо. – Привет от ректора! – восторженно заорал вошедший. – Я там за них на семинаре отдуваюсь, а они пивко сосут. Парень быстро приближался, потрясая в воздухе ярко-красным пластмассовым пистолетом, из которого, по всей видимости, и вылетел шарик. Он был настолько рад этой безобидной детской игрушке, что сам казался непомерно большим и безобидным дитем. Витюня не мог оторваться от происходящего, прислушивался к обрывкам фраз, долетавшим до него. И уж совсем защемило в его груди, когда он увидал, как парень достает из своей сумки одну за другой целых три бутылки портвейна. Кадык судорожно заходил в моментально пересохшем горле, перед глазами замелькали черные и красные точки. Витюня отмахнулся от них, задел локтем дремавшего Николая. – А-а-а, че-ерт слепой, – простонал тот и тоже уставился на ребят. Одна из бутылок тут же была разлита по пустым кружкам и выпита. Вторая ополовинилась и вместе с еще не початой третьей исчезла в сумке пришедшего. – Вот ведь малышня, – просипел Витюня, – и выпить-то по-людски не могут. Полторы бомбы на столько рыл. И-эх! Его тянуло к этой черной сумке, но подойти просто так, ни с того ни с сего, Витюня опасался. И поэтому страдал молча. А рыжий не унимался. – Все коробочек подкидываем? А еще интеллектуалы называются! Дедовскими игрищами забавляемся?! Чего б вы без меня делали, мелюзга? В его руке вновь появился пистолетик. Рыжий крутил игрушку на пальце, поминутно целясь то в одного, то в другого. Чувствовалось, что он уже навеселе. – Предлагаю новый аттракцион! Давай пустую кружку! Все кружки были под пивом. Головы завертелись. И тут не оплошал Витюня: – Сей момент. – Он уже был возле сдвинутых столиков и услужливо протягивал посудину. – Опять ты! – раздраженно проворчал здоровенный детина в джинсовой куртке. – А ну… – Да что ты, Петенька, – мягко оборвал его рыжий, – старших нужно уважать. Давай-те кружечку. Вот так. – А здоровому добавил еще: – Этот дядя нам может очень сгодиться, Петя. – Я сгожусь, – подобострастно хихикнул Витюня и поглядел на рыжего влюбленными глазами. – Ну вот, видишь! Рыжий отошел метров на семь и с ходу, не целясь, влепил шарик в пустую кружку, да так, что тот зажужжал в ней словно озлобленный дикий волчок. – Учитесь, салаги! «Салаги» загомонили восторженно, захлопали кто чем мог, кто в ладоши, кто кружками по столу. Рыжий остановил их порыв, к себе не подпустил, пистолетика не отдал. – Это все семечки, – проговорил он сквозь зубы, чуть оглянулся, заметив, что из разменного окошечка высунула голову любопытная буфетчица, подмигнул ей, отчего та неожиданно покраснела, и кивнул Витюне: – Скажи-ка, дядя?! – Чего? – навострил тот уши. – Обещал сгодиться? – Ну, – Витюня был смекалистым малым. – Спорт требует твоего носа в жертву, дядя! Ну чего тебе нос, зачем он тебе?! Усек? – Э-э, не-е, – заупрямился Витюня, – такого уговора не было. Парень выразительно покосился на сумку. – Смотри, дядя, просить не станем. – У, черти, – взвизгнула от восторга буфетчица, – ведь чего делают! – Я согласный, – скороговоркой прокричал Витюня, – только наперед стакашек протвишку для храбрости и устойчивости. – Не пропадет за нами, старичок, становись в позу! Витюня вытянулся и замер. Лицо его побагровело. Николай в своем углу громко сплюнул на пол. Ребята молчали. Рыжий поднимал пистолет не спеша, щурил глаз, кривил губы, короче, играл на публику. Это был его «звездный час». И когда Витюня уже не ожидал выстрела, его по носу пребольно щелкнул шарик, так что из-под набрякших век сами собой брызнули слезы. Он опустил голову, плечи затряслись. – Маэстро, туш! – Рыжий был на вершине успеха. – Впрочем, не надо оваций. – Он ленивой походкой пошел к столу. – Кто повторит? Ребята молчали. Витюня стоял словно каменный истукан. – Да вы чего? Это же совсем просто! Чик и… – Да брось ты, – вяло оборвал его здоровяк Петя и повернулся к Витюне: – А ты давай иди отсюда, дядя. Рыжий сник, как-то завял сразу, зло обжег глазами Витюню. Потом достал из сумки начатую бутылку, налил полкружки, молча двинул ее по столу в направлении своей бывшей мишени. – Ну чего вы, ребят? Он откупорил последнюю посудину, подождал, пока допьют пиво, налил всем. Выпили молча, оглядываясь на дверь, из-за которой в любую минуту могла появиться фигура дежурного милиционера. – А ну его, – снова пробасил Петя, – давай забирай свое, дядя. Витюня опомнился и торопливо схватился за кружку. – А я ничего, ребят. Да это ж игра такая. Чего мне – носа жалко?! Он жадно хлебнул. Покосился на Николая. Тот смотрел в угол, на мусорный бачок. Витюня торопливо допил содержимое кружки и поплелся к приятелю. Присел рядом с ним. Николай отодвинулся. – Не обижайся, Колюнь, что не оставил. Я ж страдал, а ты… ты ведь и не поддержал словечком даже. Он всхлипнул, размазал слезы по щекам, потупился. Веселье в компании было нарушено. Студенты потянулись к выходу, шли, не глядя на тех двоих. Только рыжий задержался. – Я, мужики, сейчас, мигом, догоню, только в туалет сбегаю. Он и вправду скрылся на минуту за дверью туалета. Но тут же вышел, убедившись, что в зале никого, кроме него самого и двух забулдыг, нету. Подошел к Витюне. – Ну что ж ты, дядя? – просипел он. – Чего ж ты меня так подвел? Схохмить не мог, жертву из себя корчить начал? Всю затею мне опошлил, изломал, алкаш, так?! Витюня виновато развел руками, скроил жалкую улыбку. – Это хорошо, что ты сам осознаешь свою вину, дядя! Только таких, как ты, учить надо. Он без размаху, резко и зло ткнул кулаком в лицо Витюне. Тот качнулся, привстал, выкинув от неожиданности ладонью вверх правую руку. Парень быстро вытащил что-то из кармана и пришлепнул протянутую ладонь. – Опохмелись-ка, дядя! Ты честно заработал это. Сверкнув глазами по Николаю, он быстро вышел. – Ведь чего делают?! – уже в экстазе выдохнула буфетчица. – И куда только милиция смотрит! У Николая от сердечного перестука потемнело в глазах. Ему случалось быть битым. Били на глазах и Витюню. Но так расчетливо и холодно это не происходило никогда. Он не мог отличить яви от какого-то сумасшедшего бреда, творившегося то ли взаправду, то ли нет. А Витюня чему-то молча улыбался и глядел своим вытаращенным даже сквозь оплывший синяк глазом на металлический рубль, лежащий на его широкой ладони. «А ведь я трус, – подумал Николай, – самый что ни на есть трус!» Ему стало мучительно жалко себя. Не Витюню, а именно себя. «Дошел! Казалось, некуда уже, ан нет! Есть куда. Еще катиться и катиться! А ну и хрен с ним! Что с того, что трус? Ну что?! А эти лучше? Не-ет, пускай каждый сам себя жалеет!» Он выхватил из Витюниной ладони рубль и пошел его менять. – Шли бы вы отсюдова! – проворчала буфетчица. – Вот придет участковый, он вас наладит! – А мы его и дожидаемся, – ехидно улыбнулся Николай и сгреб обменные двадцатники. Откуда-то вдруг стал прибывать народ. Бар заполнялся. Дымовая завеса становилась гуще. Гул десятка голосов колебал воздух над столиками, убаюкивал. Николай с Витюней выпили еще по кружечке. Ничего не изменилось. – Ладно, пойдем, – сказал Витюня и осекся: – А впрочем, постой. Он подбежал вдруг к столикам, за которыми недавно стояли студенты. Что-то блеснуло в его руках. Николай особо не присматривался к приятелю и его суетливым движениям, но когда подошел ближе к размену, обратил внимание, что Витюня там чего-то выклянчивает: – Ну, приглядись, хозяйка, это ж не просто так – фирма! Та водила носом и даже не глядела на зажатые в руках посетителя очки. Витюня настаивал, лебезил. И, как всегда, добился своего. – Ладно, давай. Трояка тебе с лихвой хватит! – Да ты чего, мать? Это ж маде ин оттуда, гляди, и стеклышки затемненные. – Ты лучше-ка скажи, кто их темнил, да и вообще, откудова они у тебя, а? Ни за что б не взяла, если б ребятишки поскромней себя вели, вернула бы. Да уж пускай получают, чего заслужили, в воспитательном плане, на пользу пойдет. Только по этой причине и беру. – А-а, годится! – вздохнул Витюня. На улице припекало. От свежего воздуха застучало в висках, в глазах зарябило. Немного постояли в тени, привыкая к свету, к зелени, к чистоте. Солнце забралось повыше, и лучи его били почти в самую макушку. Легкий ветер играл податливой листвой. Надо было что-то придумывать, но думать не хотелось. Даже Витюня ненадолго скис. – Эх, Колюнька, у меня от кислорода этого спазмы в мозгах, – прогундосил он, – хочется, знаешь, к выхлопной трубе припасть. Невдалеке от пивного бара темнел небольшой овражек. Туда они и свернули. Захотелось отдохнуть. Поваляться на пригретой травке. Народ в овражек не захаживал, да и постовые с участковыми были там не частыми гостями. Тихое место. Николай прилег за чахлыми кустиками, вздохнул облегченно. Теперь он чувствовал себя почти в норме. А когда это случалось, на подвиги еще не тянуло. Витюня мусолил в руках трехрублевую бумажку, пересчитывал мелочь. Через полчаса отдых ему приелся – деньги руки жгли. – Ну, ты как хочешь, а я пошел, – сказал он, – только не линяй никуда. – Ладно, уговорил, – вяло промолвил Николай, – не слиняю. И Витюня убежал. А Николай погрузился в сладкую дрему, даже и не подумав, почему он решил прикорнуть тут, неподалеку от людной улицы. Почему не пошел домой, подальше от чужих глаз? Ведь дома было бы спокойней и вообще… Но он и не хотел думать о таких мелочах, не желал, и все тут. Здесь было хорошо, а больше ничего и не требовалось. Впервые за последние дни и ночи ему снился приятный сон. В чем заключался этот сон, Николай навряд ли сумел бы объяснить, но было в этом наваждении что-то чистое и безмятежное, не связанное со всеми его нынешними хлопотами и невзгодами. Может быть, это было далекое лучистое детство, граничащее с младенчеством, а может, и вообще что-то потустороннее, не передаваемое словами. Лишь в самом конце сновидения кое-что прояснилось. Словно подернулась рябью, а затем спала совсем розоватая дымчатая пелена. Вместе с ней тело покинуло оцепенение. Вялость и безмятежность улетучились. И Николай почувствовал себя сильным, необыкновенно добрым. Он вдыхал полной грудью воздух и радовался тому, как он свеж, как напоен резкими, пронзительными запахами жизни. Он стоял во дворе своего детства. И деревья-исполины нависали над ним могучими зелеными кронами, и небо было высоким-высоким, ослепительно голубым. Краски, которых он не ощущал последние годы, обрушились на него лавиной, ошеломили. Но он не почувствовал даже легкого головокружения, он принимал весь этот пробудившийся мир как нечто должное. Вот она, жизнь! Наконец-то! Все, что было прежде, лишь жуткий кошмарный сон. Да-да, именно затянувшийся сон, от которого, казалось, невозможно избавиться. Но он прошел, он кончился и больше никогда не вернется! Сердце забилось ровно, успокоенно и перестало ощущаться, его затравленная, измученная жизнь осталась позади, в прошедшем кошмаре, а теперь оно стало упругим, молодым. Николай провел рукой по груди, мышцы напряглись, ожили. Словно со стороны он вдруг увидел себя – загорелым, стройным, крепко стоящим на ногах. Глаза голубой прозрачностью наполняли чистое спокойное лицо, на котором была улыбка – безмятежная и легкая. Вот она, вот его жизнь! Теперь это навсегда! Этому не будет конца, это вечно! Он упал лицом в густую траву, и кожа тут же впитала в себя терпкую зеленую прохладу. Перед самыми глазами на упругом порыжевшем стебелечке висел вниз головой кузнечик. Его матовые темные бусинки удивленно пучились на странное существо, упавшее сверху, неестественно выгнутые назад голенастые лапки подрагивали в напряжении. Николай дунул на кузнеца, и тот исчез. Зачем? Куда ты? Николай любил сейчас и это бессмысленное создание, и щекочущие его кожу травинки, и землю, и небо, и высоченные деревья. Он перевернулся на спину, замер. Издалека донесся детский смех и оживленные женские голоса. Меж деревьев взметнулась стайка птиц и тут же растворилась в синеве. Да, это именно тот самый, незабываемый двор его детства. Двор, в котором все манит, влечет, в котором все интересно. Как же он очутился тут? Мысль мелькнула и пропала. Разве это важно?! Ведь он здесь, он снова живет, это главное, все остальное – суета, детали: где, что, почему? Да какая разница! Лишь бы оставалось все так, как есть. И больше ничего не надо! Николай снова уткнулся лицом в траву, застыл. Нет! Надо, обязательно надо! Первым делом разыскать Олю, вернуться к ней. Без нее весь этот яркий, радостный мир будет не полон, без нее… И еще – институт, его институт, где друзья, работа, где все, что ему дорого и интересно. Обязательно туда, к ним. Но ведь он же и не расставался с ними, ни с Олей, ни с друзьями, ни с работой! Ведь это был липкий сон! И ему по-прежнему двадцать шесть. И как только могло привидеться такое, почти десять лет мрака, страха, животного оцепенения и нескончаемой муки? Он отряхивался от остатков жуткого кошмара, сдирал с себя, как омертвевшую кожу. Свободен! Все впереди. Ничего и не кончалось. В голове было ясно и светло. Послушное тело ждало приказаний, было готово на все. Сейчас. Еще немного. Николай упивался своей легкостью, здоровьем. Сейчас. Хватит валяться на травке. Пора туда, к людям. Пора! Он привстал, уперевшись локтями и коленями в землю. Но какая-то сила бросила его назад, распластала. Что такое! Он сделал еще одну попытку подняться, потом еще и еще… Но его снова и снова бросало на землю. Он не мог ни на сантиметр оторваться от нее. За что?! Немой бессильный вопль застыл в горле. Почему?! Николай не прекращал борьбы, почти не замечая, как потускнели все краски и уплыл куда-то такой знакомый двор с голосами и птицами. Он лежал на голой бурой земле. И руки – чем сильнее они упирались в эту землю, тем глубже погружались в нее. Не хочу! Земля уже была не землей, а вязкой хлюпающей трясиной, вбирающей в себя понемногу все тело. Она леденила, чавкала, чмокала, пузырилась. Она была не только внизу, но и с боков, и сверху. Она была всюду! Не хочу! Смертельный ужас охватил Николая. Он уже не мог и даже не пытался отличить, где сон, где явь. Его трясло и засасывало. Он кричал, бесновался, звал на помощь. И не мог вырваться из цепких объятий трясины… Пробуждение было как удар молота. В мозгу что-то разорвалось, лопнуло – пронзительная боль застряла в затылке. Сердце стучало не только в груди, но и в висках, в глазах, в желудке – все тело было одним загнанным, тяжело бьющимся сердцем. Николай перевернулся на бок и, с трудом встав на четвереньки, пополз по склону оврага наверх. Перед глазами все мельтешило, вертелось, не могло стать на свои места. Боли он уже не чувствовал, какое-то странное отупение взяло над ним власть. Сверху кто-то звал, говорил что-то. Но Николай не мог различить ни слова. Все звуки сливались в неясное бормотание, издаваемое кем-то расплывчатым, похожим на человека. Николай не мог окончательно прийти в себя, он все еще оставался в щупальцах наваждения. Пытался вырваться из них и потому-то карабкался по склону, в кровь обдирая руки, уродуя давно не стриженные ногти. – Руку, руку давай! – доносилось как сквозь вату. Николай сощурил глаза, всмотрелся – там наверху сидел на корточках старик и тянул ему широкую узловатую ладонь. Именно эта живая, подрагивающая ладонь и убедила Николая в том, что сон позади, что он выкарабкался из черного омута. И это было как открытие, он перестал рваться наверх, сразу ослабел, сполз на дно оврага и, уткнувшись лицом в землю, беззвучно зарыдал. – Да ты чего? – неслось сверху. – Чего с тобой? Ну, погоди, я спущусь! Николай не слышал слов. Истерический припадок был позади. И он уже забыл, как катался по земле несколько секунд назад. Все отступило перед одним – сон, до последней его фазы, был настолько явственным, что Николай уверился в нем, уверился в своем здоровье, в своей силе… И теперь, после того как он почувствовал себя, пусть ненадолго, пусть во сне, но все-таки человеком, возвращаться к своему обыденному состоянию было невыносимо! Почему, почему он не умер в этом сне?! За что он должен снова возвращаться в себя, в свое изношенное, истерзанное тело! Он рыдал и рвал руками траву. Растоптать, уничтожить все вокруг, взорвать этот мир! Весь! Но его сил не хватало даже на то, чтобы выбраться из оврага. – Эй, дружок! Да ты здоров ли? Николай почувствовал на своем плече тяжелую ладонь. Старик все-таки спустился вниз и теперь хотел помочь ему. Но Николай помощи ни от кого принимать не желал. Желание было одно – остаться в этом овраге навсегда. Умереть в нем. – Уйди! – сквозь зубы бросил он старику и дернул плечом, стряхивая ладонь. Но она даже не шелохнулась. – Ух ты, горячий какой! – Что вам от меня надо? – не выдержав, закричал в голос Николай, чувствуя бессильную, закипающую мутной пеной ярость. – Ну-у, теперь точно вижу, перебрал парень. Я-то сомневался поначалу, а теперь… Я-то думал, вдруг приступ какой, падучая, к примеру. Ну да чего там, вставай! Николай отвернулся, вцепился в траву. – Подымайся-ка, нечего тут, пойдем. – Старик просунул руку под мышку Николаю и приподнял его. – Раз уж я к тебе слез сюда, так чего ж, бросать? Пошли! Николай понял, что старик вредный, прилипучий, от такого не избавишься. Он поддался. Встал, оперся на плечо. В голове сильно гудело, но ноги ничего, ноги держали. – Вот и молодец! – обрадовался старик. – Пошли-ка, посидим на скамеечке, отдохнешь. Совсем в себя придешь. Ох ты, дела! Николай уперся и недоверчиво посмотрел на старика. Тот был пониже его, в соломенной шляпе и с короткими сивыми усами. На лацкане буклястого серого пиджака поблескивала медаль ветерана. – Да ты не пугайся! Тут наверху лавочка есть, за деревьями. Посидишь проветришься… – Там милиция, – хрипло выдохнул Николай и стал вырывать руку. – Дурачочек! Да тебе самому надо к ним идти, там определят, направят лечиться… Николай рванулся сильнее. В глазах его застыл испуг, ноги ослабли, стали разъезжаться в стороны. – Да не ершись ты! Я ж тебя никуда силком тащить не собираюсь, дурачина. Пошли. Они долго, оскальзываясь и опираясь временами о кочки, придерживаясь за жидкие кустики, выбирались наверх. Старик взмок, сдвинул шляпу на затылок. Он тяжело дышал, с присвистом, с надрывом. – Садися! Николай плюхнулся на скамейку, вытянул ноги. Его охватило полнейшее безразличие ко всему и прежде всего к себе. Зачем с ним возятся? Какой толк от этой возни? Как они не понимают сами! – Вот и порядок. – Старик стер рукавом испарину, приободрился. – Что ж ты с собой делаешь? Ведь молодой еще! Небось, немногим за сорок перевалило? – Тридцать шесть, – машинально ответил Николай. Старик покачал головой, промолчал. – Я пойду, – попытался встать Николай. Но старик дернул его за рукав, и он не удержался на ногах – спинка скамьи больно ударила в спину. – Ну куда ж ты пойдешь, куда! Они просидели молча несколько минут. Николай чувствовал себя не в своей тарелке, но не мог ничего связного проговорить – и мысли и слова путались в голове, язык не слушался. – Я вот уже седьмой год на пенсии, – начал старик, подергивая просмоленный ус, – не поверишь: шесть классов образования, всю жизнь формовщиком, а тут так увлекся книжками ни днем, ни ночью оторваться не могу. Гулять и то себя силком понуждаю. Всю сыновью библиотеку перечел, за внуковы книжки принимаюсь. Он большой уже у меня… Николай согласно кивал, не вслушиваясь в слова. Его совершенно не интересовали ни сам старик, ни его увлечения, тем более какие-то книжки, внуки. Николай страдал, он жалел, что всю мелочь оставил Витюне и сейчас даже не на что сходить выпить кружку пива. – … не поверишь – Достоевского, Федора Михалыча, от корки до корки все собрание осилил. Матерый мужичище был, надтреснутый, правда, с болью большой в сердце, но матерый… Какой Достоевский? О каком Достоевском мог рассуждать этот старик с шестью классами! У Николая отчаянно ломило в висках. И размеренный неспешный голос сводил его с ума, забивая гвоздями в раскаленную голову каждое слово. Но он не мог собраться с силой и прервать рассказ своего «спасителя». Где же Витюня, где черти носят этого предателя?! Николай в бессилии заскрипел зубами, ударил кулаком по лавке. – Ты чего? – испугался старик. – Ты не шебурши, брось! Он тут же успокоился, видя, что Николай не собирается ничего предпринимать, а сидит тихо. – Так он ведь как писал – наш человек душевный, понимающий человек наш, весь народ наш такой, у него и преступник, у народа-то, и пьяница пропащий, он прежде всего несчастный. Он, конечно, преступник, и наказан поделом, и пьяница, он тоже не в почете. Но нашего-то человека, народ наш, он за несчастных их считает, он не отказывается от них. Ты только встань на путь честный, будь пьяница, преступник, все тебе позабудется, коль увидят люди, что за ум взялся, все простят и еще теплее встретят… Как верно пишет, а! Только я еще скажу, от себя – терпение-то не бесконечно у людей, не надо его, терпение-то, испытывать. Николай был готов встать и убежать. Но куда бежать, что делать – он не знал. Старик говорил ему то, что он хорошо понимал, о чем читал не раз, да и в самом народе слышал. Но почему-то именно эти негромкие, глуховатые стариковские слова звучали убедительнее, чем призывы самых красочных и пугающих плакатов. – Я вот до войны-то, помню, по-другому было. Я тогда в деревне еще жил. Сейчас, как говорят, вся Русь-матушка испокон веку топит себя в питии хмельном, мол, обычай, то да се… Неправда это. Сколько в деревне жил – не помню, чтоб пьяный хоть раз появился на людях, на праздниках и то больше пели, чем пили. Да и мать моя и отец то же про старину сказывали. Обычай?! Враки все – нету такого обычая! Старик разволновался, даже привстал со скамейки. – А вот с вас почему-то пошло-поехало, с после войны. Ведь казалось, живи да радуйся, все есть, чего нету – то будет, вкалывай себе, солнышку да миру радуйся! Ну нельзя так. Тридцать шесть всего-то! Да это же… Николая начинал снова одолевать сон. Он был согласен со стариком. Согласен полностью, с каждым его словом. Но ему хотелось выпить, заглушить боль, слабость, отчаяние… Или провалиться в забытье, чтобы ничего не чувствовать, чтоб уйти из этого жуткого мира, хоть ненадолго, но уйти. – … сам себя через неделю не узнаешь, другим человеком почувствуешь. Да что там другим – просто человеком! Ведь ты сейчас кто… Николай уронил голову на грудь. Он еще не спал, но уже и не мог справиться с дремотой, высасывающей остатки сил. Слова еще долетали до него, но он уже не был в состоянии осмыслить их. Через минуту он потерял и возможность слышать. Он провалился в бездонный мрак, пустоту, без сновидений, без слов, без мыслей. Старик рассуждал еще долго, он не остановился даже когда заметил, что его не слушают. Старику надо было выговориться. И говорил он не столько для незнакомого спящего мужчины, сколько для себя. Двенадцать лет назад у него погиб сын, по пьянке. Старик говорил и для него, он до сих пор не мог смириться с бессмысленной смертью, не верил в нее. Он просидел еще полчаса. Помолчал, думая свою думу. Потом вытащил из кармана яблоко, обтер его о рукав, положил рядом с Николаем. После этого ушел, держась рукой за сердце и чуть прихрамывая. А Николай спал, развалившись, подергивая временами то рукой, то ногой. И никто его не обеспокоил, никто не потревожил его сна. Ни участковый Схимников, ни один из вечно меняющихся постовых, ни случайный прохожий. Николай проснулся сам. Рядом уже сидел Витюня. Увидев, что друг открыл глаза, он ласково, с хрипотцой протянул: – Баю-баюшки-баю, слушай песенку мою. Николай, отгоняя дурман, весь превратился во внимание. Порадует ли его приятель, может, разжился чем? Он ощупывал глазами карманы брюк, заглядывал за пазуху. Но ничего не мог обнаружить. – Ага, вот и закусь! – сказал Витюня, заметив яблоко, лежащее подле Николая. И быстро сунул его в карман. Николай чувствовал себя значительно лучше, чем после первого пробуждения в овраге. Сон возвратил ему силы, прояснил голову. Не совсем, конечно, совсем она не прояснялась уже давно, очень давно, – но все же до терпимой степени. Он был готов к новым поискам, хождениям, ко всему тому, что он называл про себя «трудностями». – Не отчаивайся. Все путем, поводов для беспокойства никаких, – частил Витюня, поглаживая через ткань брюк яблоко. – Помыть бы… Николай выдавил ехидную улыбку, глядя на давно не мытое лицо приятеля. – Да у тебя, Витюнь, такой иммунитет, что ты вперед от него дуба дашь, чем от любой заразы. Говори лучше толком как у тебя? Витюня заегозил. – Ничего… Николай встрепенулся, застыл. – Ничего у меня не вышло, но не беда, корешок, через три минуты магазин открывается. Давай очухивайся. Винные пары еще не выветрились, но тело уже было не то, опять возвращалась слабость. Николай встал, деланно бодро потянулся. Махнул рукой. Разбухший, заполнивший собою весь рот язык только мешал говорить. – Пошли! У магазина их ожидал неприятный сюрприз, на двери висела табличка: «Буду через полчаса. Уехала на базу». Витюня присвистнул. – До другого переть – не меньше выйдет. Ну чего, будем ждать? Чтоб не мозолить глаза прохожим, они зашли во дворик. Николай при каждом шаге громко шаркал стоптанными подошвами и сам не замечал этого. Закрытый магазин его расстроил окончательно. – Вот ведь невезуха, ну не прет… И тут Витюня разинул рот. Николай не мог понять его изумления. Насторожился. – На ловца, Колюня, и зверь бежит. Гляди-ка – старая знакомая. Эту мы счас в оборот возьмем! Витюня, подтолкнув приятеля локтем, устремился к груде порожних ящиков. Его стриженый затылок вновь залоснился, побагровел. Ловец! Николай последовал за ним, вжимая на ходу голову в плечи. Наконец он увидал, что привлекло Витюнино внимание. Это была женщина неопределенного возраста, примостившаяся среди ящиков, невзрачная, из тех, от кого сразу же отводят глаза, будто боясь испачкаться. На людных улицах таких встретишь не часто. – Здрасьте вам наше с кисточкой! А ты все хорошеешь, Зинулька! Женщина, не поднимая головы, исподлобья окинула недобрым взглядом подошедших. Восторга от встречи она не испытывала. Николай заметил, что Зинулька торопливым жестом спрятала что-то в свою видавшую виды суму. – Чего надо? – спросила она неожиданно сиплым голосом. И Николай понял – это наша, отмеченная особой печатью, а значит, и пыжиться перед ней не стоит – глаз был наметанный. – Да так, ничего, Зиночка. Посидим, покумекаем. Мы тут с приятелем гоношим… Может, и ты в компанию войдешь? – Еще чего?! – женщина отвернулась. Витюня вытащил трешку и полпригоршни мелочи. Тряхнул все это на ладони. – Боюсь, самим многовато будет. Если чего – присоединяйся! В глазах, почти прикрытых пухлыми верхними веками, блеснул интерес. – Вам верить – себе дороже. – Ну, как хочешь, нам больше достанется. У Коляньки вон еще рублец есть. Да и я недаром бегал – вон, взгляни, в ящичке, почти под тобой, левей, левей – шесть бутылок из-под портухи и пара с-под пива. Женщина придирчиво осмотрела содержимое ящика. Сокрушенно покачала головой. – Эх, раньше б знала… Николай в разговоры не вступал. К чему эта лишняя обуза им? Да и, честно говоря, делиться предстоящей «покупкой» не особо хотелось. К чему? Но Витюня повел себя иначе. – Зин, я ж тебя чую, доставай – чего там припасла. Да не боись – все честь по чести будет. Мне не веришь, вот Коляне поверь – да он прирожденный интеллигент. Такой не подведет. Николай кивнул. Его не прельщало пить в обществе незнакомой грязной бабы. Но действовала мужская солидарность. Да и выпить хотелось очень сильно. – А чего это у твоего интеллигента все ручищи в земле? Ой, да и кровь на них запеклася! Ты чего? Николай смутился и спрятал руки за спиной. – Сходил бы сполоснул, хоть в луже, – и то дело! – Не графья! – вставил Витюня и выразительно уставился на сумку. – А, была не была! – Женщина достала бутылку «Белого крепкого». – Но глядите! После первого стакана она подобрела, разулыбалась: – Пропади все пропадом, эх, мать ты моя. Давай по второму, чего тянуть? Продавщица из магазина не подвела – ровно в тридцать пять минут третьего она уже была на месте. Общих денег хватало на бутылку водки и бутылку портвейна, черного, как смоль, девятнадцатиградусного. Все это перекочевало в Зинкину суму. – С вами еще влипнешь. Пойдем ко мне – все равно украсть нечего. И они пошли. Зинка чуть впереди. А они сзади, оглядываясь, шаря глазами по каждому кустику, будто ожидая, что оттуда вынырнет ни с того ни с сего фигура милиционера и сорвет им предстоящий праздник. Идти было недалеко. Но у самого подъезда неизвестно кого дожидавшийся капитан Схимников остановил Зинку: – Опять ты тут?! – А где ж мне быть? Вы меня, товарищ участковый, не трожьте. Инвалид я, на законном отдыхе. – Знаю я про эту инвалидность. И про то, чем ты себя до нее довела, тоже знаю! Твое счастье, что последние полгода от жильцов жалоб не поступало… Зинка сделала вид, что хочет отпихнуть милиционера плечом. Тот невольно отшатнулся, и она прошла, помахав ручкой на прощание. Схимников только головой вослед покачал, прошептал: «Дождешься ты у меня». И пошел своей дорогой, хлопот у него хватало. Витюня с Николаем заблаговременно спрятались за углом дома, притихли. Вся показная веселость и бесстрашие мгновенно слетели с Витюни. Он побледнел, челюсть затряслась. Николаю тоже было не по себе. Глаза его забегали и совершенно случайно остановились на коричневой доске объявлений, висящей тут же на стене. Обычно там красовались беленькие четвертушки листа, вещавшие о ремонте, отключении воды и злостных неплательщиках. Но сейчас Николаю в глаза бросился красный цвет, которым была выведена Витюнина фамилия. – Гляди! – Чего там еще? – Витюня с уходом Схимникова ожил, нахальство и безмятежность вернулись к нему. Николай указал пальцем. Объявление гласило: «Четырнадцатого числа в ДЭЗ-37 состоится разбирательство антиобщественного поведения гр. Жбанова В. А. Явка…» У Николая мурашки побежали по спине. Но все же он вздохнул с облегчением – мимо него прошли, есть еще время. Он затравленно оглянулся, вздрогнул от прикосновения к плечу Витюниной руки. Витюня стоял и чесал загривок, шумно, не щадя кожи. – Что будешь делать? – спросил Николай. Витюня расплылся, хлопнул себя по жирным бокам. – А я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, – просипел он, безбожно коверкая какой-то знакомый мотив, – а от вас, дорогие общественнички, и подавно уйду! Николай поежился, смолчал. – Ну, чего вы там? – раздался тихий голос из окошка второго этажа. – Смелей давай. Зинка жила в коммунальной квартире. Она и предупредила об этом сразу же, без намеков. – Ежели чего – глядите! Убранство в ее комнатушке было несравненно богаче, чем в квартире Николая. Особенно его поразил дешевенький электрофон с колонками. Под ним лежала куча пластинок. Лежала вповалку. Посреди комнаты стоял круглый стол, и бутылки уже покоились на нем, не откупоренные, но очень аппетитные. Витюня потер ладони. В углу примостился диванчик, а у стола стояли два обшарпанных стула и какое-то казенного вида кресло. Зинка тщательно заперла дверь. Сдвинула занавески. И от этого Николаю стало как-то не по себе, он вдруг почувствовал себя взаперти, в клетке. Захотелось сбежать. Но бежать было некуда и поздно. И Николай взялся за бутылку. – Не, мальчики, – вдруг сказала довольно-таки звонко Зинка, – начнем с беленькой. Ну, а не хватит – залакируем. И не спешите. Пускай сегодня все как у людей. – Она полезла под столик за пластинками, и Николай увидал ее еще совсем приличные, крутые даже ноги. – Ну вот. – Она помедлила. – А ты чего ошалел, милок? И не узнал, что ли? Зинка смотала с головы платок, похожий скорее на помойную тряпочку, и по плечам ее рассыпались не очень чистые, но еще густые светлые волосы. – Ты не смотри на лицо-то, Коленька ты мой Новиков, думаешь, старуха-алкашка? – Она расхохоталась, действовало выпитое. – Да я же, отличничек ты мой, на класс моложе в одной школе с тобой училась! Она снова засмеялась. А Витюня стал заговорщицки подмигивать, подтверждая Зинкины слова кивками. – Это ж ты у нас один такой слепенький, ничего не помнящий. Тетерюшка ты наш. Весь двор, да и вся улица с прилежащими, все тебя знают. А ты крадешься все по закоулочкам, секретного агента из себя делаешь. А ты плюнь, голубь! Ты гордись и плюй в их поганые рожи. Ежели нам такая житуха нравится – наше дело. И стыдиться тут нечего. Понял?! Она поставила пластинку на вертушку. Звук был неважнецкий, но настрой он поднимал. По комнате приглушенно растекалась какая-то цыганщина. – А ну, Витька, разливай! – Было заметно, что Зинка не просто навеселе, а уже хороша. Первые полстакана она выпила не присаживаясь. Витюня задрал кверху большой палец: – Молоток, Зинуха, – и, выглотав свою долю, перевел дух. Николай никак не мог решиться, он знал, что уж эта доля, не полстакана, конечно, а все предстоящее, выведет его из колеи надолго. Но взвешивать свои поступки он отвык, соблазн был сильнее. Водка даже не обожгла неба, протекла внутрь, как вода. – Вот это по-нашему, не люблю кислятины. Витюня подобострастно хихикнул. Получил в свою сторону одобрительный взгляд хозяйки и потянулся опять к бутылке. Закуской шел еще не совсем квелый лук, полбуханки черняги да разрезанное на три части стариково яблоко. – Не гони коней, еще на заходик оставь! Зинка, так же небрежно, как и платок, сбросила свой полинялый плащ. Оправилась. Под плащом был мятый цветастый халатик с пуговками сверху вниз, из тех, что носят не слишком опрятные домохозяйки. – Ох, мужички-мужички, хошь какие, а все веселей. – Она расслабилась, лицо размякло. – Да чего уж там, выбирать не приходится, и сама… Зинка сбилась и зашлась в приступе плаксивого смеха, отчего складки и морщины на ее лице стали глубже, обозначились даже те, что не были заметны до этого. Щелки глаз сузились, у переносицы выступило несколько крупных слезинок. Они подрагивали на пористой, шелушащейся коже щек в такт захлебывающемуся смеху, похожему на частую и крупную икоту. Николай скосил глаза в сторону – зрелище было настолько неприглядно, что он не мог его выдержать дольше. Витюня же смеялся вместе с Зинкой. Он вообще отличался смешливостью, именно про таких говорится – покажи палец… Витюне было смешно, и это почему-тобесило Николая. – Ну ладно, хватит. – Зинка перебарывала приступ, продолжая часто и порывисто вздыхать, подергивая вверх головой. Она уже не хохотала, как прежде, но все тело ее не переставало содрогаться, будто по нему волнами прокатывались судороги. – Хорошо, повеселились, и будет. Я вам сейчас кой-чего расскажу забавная штука. Я как вспомню, так прям удержаться не могу. Витюня замолк. Потянулся к горбушке черного хлеба, надломил ее, начал терзать короткими опухшими пальцами кусок, кроша на скатерть, на пол. Нижняя челюсть у него отвисла, глаза подернулись мутной пленкой, стали бессмысленными, но внимающими, ждущими чего-то. – Вот слушайте. – Зинка придвинулась ближе к столу, наваливаясь на него своей могучей оплывшей грудью. Грудь заходила ходуном, словно растревоженный студень. Но рассказчица не обращала на это ни малейшего внимания. – Живет тут у нас один, ха-ха. Этажом выше. Зашибала. Не может пить, щенок. Все пьют. И мы пьем. Только мы ж умеючи, нормально. А этот огрызок – молодой, но дурной, свет таких не видывал. Как наберется, себя не помнит, не соображает ни на грош. Я-то поначалу, когда они к нам переехали, приглядывалась что к чему. Думала, может, случаем он такой бывает. Так нет. Раз в неделю, как штык, нарезается до помрачения. Остальные-то дни сухой ходит, трезвый. А по пятницам волю себе дает, праздник устраивает… – Чего воду толчешь! – стукнул ладонью по столу Витюня, он не любил длинных и подробных повествований. – Не мешай, – отмахнулась от него Зинка, – сиди и не вякай, имей к хозяйке уважение. Голос ее звучал прерывисто, со взлетами и падениями, сказывалось и выпитое, и расшатанные нервы, и еще невесть что. – Так вот. Года два назад, может, меньше, первый раз он с осоловелых глаз этажи перепутал и ко мне ломится. Мол, я здеся живу. Я ему культурно так, дескать, давай проваливай, щенок, пока шум не подняла. – Зинка передохнула, уставилась на пустые стаканы, но налить не предложила. – И что вы думаете? Утром встречаю его, заговариваю – ничего не помнит. Бог ты мой! Ну, думаю, погоди – ты у меня память-то обретешь, прочухаешься. Николая стало утомлять бестолковое лопотанье хозяйки. Он даже чуть было не задремал. Но вовремя спохватился – спать нельзя, а то допьют без него, будить не станут. Он с трудом переборол сонливость, попытался вслушаться. – Разика два-то я еще пропустила, для проверки. А потом… – Зинка снова захлебнулась смехом, но быстро оборвала захлеб, даже ухватилась рукой за щеку, будто сдерживая себя. Глаза ее сузились еще больше, не стало видно даже зрачков. Только какие-то вспыхивающие зеленые искорки пробивались из-за сомкнувшихся век. – А потом заходит в один распрекрасный вечер, опять со стуком, мол, моя квартира! А я дверь распахиваю да с ходу ему кулаком в лоб! Да по носу!

Витюня вздрогнул, оживился, заерзал на стуле. Глаза его прояснились. – Ну, Зинка, ну, молодчага! Зинка подняла руку ладонью к Витюне. На лице ее появилось самодовольное выражение, щеки зарозовели. – Погоди! Слушай дальше, – продолжала она. – Тут он и остолбенел. Глядит – не кумекает ничего, как с потолка сверзился. А я еще разок, да еще! Рука у меня тяжелая, – она вытянула руку, и Николай убедился – не врет, не рука, а ручища, целая лапа, набухшая, красная, с сетью склеротических синих вен. Витюня одобряюще зачмокал губами. В его глазах Зинка приобретала все больший вес. – Вот так. Он у меня мигом свой дом нашел. Да не поумнел. Не буду врать, не каждую пятницу, но раз в месяц точненько прет ко мне. А я ему в рожу, да в поддых, да коленкой, да с лестницы спускала сколько. Лучше всякой комедии и цирка, не соскучишься! У Николая начинало нарастать зло к Зинке. Он не мог больше терпеть этого смакования издевательств над бесчувственным, пускай и пьяным, человеком. Он даже поставил себя на место Зинкиного соседа, и ему стало жутко. Ведь он тоже теряет память после больших возлияний, он тоже не в состоянии вспомнить, что с ним было в предыдущий вечер. А эта! Нет, надо заткнуть ей рот, заставить помолчать. Но когда он уже собирался осуществить свое намерение, его будто громом ударила мысль – тогда его прогонят, не дадут допить. Это было страшнее любого другого наказания. И он смолчал, даже заставил себя несколько раз улыбнуться натянутой, заискивающей улыбкой. А Зинка вошла в раж. Глаза расширились, блестели и казались уже не просто пьяными, а безумными. – Тихо, тихо! – вещала она, боясь, что кто-то перебьет ее несвязную речь. – Тут главное не в этом. Тут соль-то в том, что не помнит ни хрена! Я у него утром-то, после каждого такого случая спрашиваю, мол, Толь, а Толь, чегой-то у тебя синячище такой огромадный да шишка на лбу? Ой, да и хромаешь ты маленько? Чегой-то? Да ты никак с лестницы упал иль еще откуда? А сама хохочу про себя. А он говорит, упал вчера, случайно, мол. А сам смущается, не помнит, хоть расшибись в лепешку! А я ему – ну, ну, гляди, милый мой, больше не падай, что ж ты такой неловкий?! А сама… Витюня взвизгнул и задохнулся от восторга, выпучив покрасневшие белки. С полминуты они с Зинкой молча глядели друг на друга какими-то родственными, одинаковыми глазами, а потом снова и надолго зашлись в хохоте. Николай вежливо, замученно улыбался и думал про себя: «Сволочи! Оба сволочи!» Внутри у него все дрожало, и он боялся, как бы переполнявшее его раздражение не вырвалось наружу. Даже мысленно давая определения своим собутыльникам, он пугался этих мыслей, отгонял, спохватываясь ежесекундно не произнес ли их вслух. Все горело в нем, все содрогалось. Но на лице застыла подобострастная, виноватая улыбочка. Николай пытался вспомнить эту женщину, точнее, ту девочку, которой она когда-то была. Ведь не врет же она про школу! Неужели эти недолгие годы могли сотворить такое? Не верилось. Когда он ее увидал впервые у ящиков, дал бы полсотни с лишком, ну никак не меньше. Эх, время, что же ты делаешь?.. Нет, время здесь ни при чем. В этом надо признаться честно хотя бы самому себе – тоже мальчик какой, спортсмен выискался! Он чувствовал, как хмель забирает над ним все большую власть. Но отмечал при этом, что напарники его тоже не трезвеют. Зинка что-то нашептывала на ухо Витюне, обтираясь об него своей свободно колышущейся под халатиком грудью. По щекам ее струились слезы. Витюня сочувственно кивал, не проявляя при этом никакого оживления, и любострастно глядел на бутылку. – А ведь я… ведь за мной… – бубнила Зинка. Николай не мог уловить окончаний предложений, да и не пытался этого сделать. Он думал лишь об одном: сидеть бы так подольше, да чтоб никто не беспокоил, не тревожил душу – в этом, наверное, и заключалось для него счастье на сей момент. Убедившись, что растрогать Витюню не так-то просто, Зинка расплескала оставшуюся водку по стаканам. Сменила пластинку – воздух сотрясло что-то напоминающее «диско», что именно, Николай понять не мог, а Витюня тем более. После этого хозяйка вернулась к столу и, уже покачиваясь, но одновременно наполняясь какой-то неуемной удалью, зацепила, чуть не расплескав содержимое, свой стакан. – Да неужто вас ничем и не расшевелить! – хохотнула она. – А ну, пить со мной! – Подождала пока Витюня с Николаем опорожнили свое, лихо залила в горло синеватую жидкость, брякнула стакан об стол и, к ужасу Николая, рванула на себе халат сверху донизу, от ворота до подола. – Полюбуйтесь-ка на Зинку! А?! Есть еще на что поглядеть!? На что поглядеть действительно было. Николай уже не помнил, когда в последний раз видел обнаженное женское тело. Его захолонуло. Да и Витюня сидел выпучив глаза. – Вот так и пропадает, – Зинка запахнулась, – даже и показать-то некому. Где вы, мужики?! Ох же, как тоскливо бабе, да откуда вам понять-то это! Она торопливо запахнулась еще раз – пуговиц как не было. – А и черт с ним! – Зинка мигом откупорила бутылку портвейна, разлила по стаканам, выпила, не дожидаясь остальных, сделала звук в проигрывателе погромче и сказала, махнув рукой, так, что полы халата совсем разлетелись и открытая тяжелая грудь заходила ходуном. – Давайте-ка плясать! Или на это уже не способные? Витюня скосился на свой стакан, будто не слыша призыва. И получил в ответ презрительный, брезгливый взгляд хозяйки. Зинка направилась прямиком к Николаю. Он сидел как завороженный, не в силах оторваться от этого колышущегося тела. Стакан все же отставил в сторону. Встал. Мягкие руки обволокли его шею, плечи. – Ну как, мой милый? Николай молчал. От всей его былой уверенности в отношениях с женщинами не осталось и следа. Зинка обволакивала его все сильнее. – Мужикам без баб – тоска, – слюнила она в ухо, – ну а нам и вообще в петлю впору. Ты не гляди на Витюню, хрен с ним. Ее руки становились настойчивей. – Погоди. – Николай на долю минуты вырвался из объятий, отхлебнул половину из своего стакана и вновь прильнул к женщине. Халатик с нее к той поре окончательно слез. А в глазах появилась мольба. И вдруг Николай понял, что это не только пьяная блажь. Она хотела тепла, настоящего мужицкого тепла. И как раз в эту минуту он подумал – а почему бы и нет?! – Выйди! – сказал он Витюне. Тот оторвался не сразу, не спеша прихлебывая свое пойло. – Тоже мне цаца нашлась, не помешаю. – А ну рви когти отсюда! – взбеленилась Зинка и вдруг успокоилась, глядя восторженными глазами на Николая. – Зайдешь через полчасика. Витюня нехотя побрел к двери, озираясь на остаток в бутылке.
Очнулся Николай в кресле. Времени, наверное, прошло уже довольно-таки много. Это было видно по солнцу, проглядывавшему сквозь ветви приземистых деревьев за окном. Он долго не мог понять, где находится. Тело ломило, в голове стоял звон, заглушавший все на свете. Николай с силой потер переносицу, удивленно поглядел на свои исцарапанные, грязные руки. Память путала все: что было сегодня? что вчера? Он даже пугался скосить глаз в глубь комнаты, опасаясь чего-то такого, чего не переживет. Лишь одно знал Николай твердо, будь то сегодня, будь хоть неделю назад, а то и год, – в переделки он никогда не встревает. Никогда, в каком бы состоянии ни был! Вот Витюня, тот другое дело. Но Витюня мастак из них выкручиваться, прямо талант. А синяки да шишки для него ничто. Но разве дело было в Витюне, по сути, Николаю на него было плевать, он повернул голову. Сразу вернулась память, от сердца отлегло, но и стало вместе с тем малость тоскливо. Все было безразлично и неинтересно, кроме боли, засевшей в голове, и слабости во всем теле. Все! На диванчике, в уголке комнатушке, лежала Зинка. Как он ее оставил, так и лежала – в чем мать родила. Она спала, постанывая во сне. Разлохмаченная, какая-то обрюзгшая и еще более старая, потрепанная, чем каких-то несколько часов назад. Рядышком пристроился бочком Витюня. И осторожно, боясь разбудить, шарил ладонями по ее телу. Он не замечал, что Николай проснулся, да и навряд ли это смутило бы его. Витюня был увлечен. Он сопел, пыхтел, обливался потом, стараясь ухватиться сразу за все, за что только можно, вжаться в спящую бабу всем телом. И тут Николаю стало его жалко. Он понял, что приятель на большее и не способен. А он-то его считал почти всемогущим. Вся эта возня продолжалась бы еще долго, если бы не Витюнин внушительный вес. Он явно переборщил со своими ласками спящая проснулась. – И-и-и, – непонимающе проверещала она, тихо, будто в удивлении случайном. – А ну-у!! Слов Зинке явно не хватало. Но возмущение ее захлестнуло. Это было видно по быстро, отрывисто вздымающейся груди. Она отпрянула к валику у стенки, поджала колени. Витюня моментально сел подальше, но совсем дивана не покинул. Молчание длилось с полминуты. Николай щурил глаза, показывая, будто он ничего не видит, спит. Но все кончилось довольно скоро. – У, мерин! – вырвалось какое-то злобное, не же некое. В воздухе мелькнула голая, толстая нога. И пятка впечаталась Витюне под тот же самый злополучный левый глаз. Он повалился на спину, вцепившись руками в подушку. – Пошел вон, падаль! Лицо кричавшей было искажено гримасой дикой злобы. – Ну, чего ты, в натуре? – только и успел выдавить Витюня, скрываясь за дверью. Тон его был обиженный, жалобный. Зинка уселась на диване, широко расставив ноги и уперевшись в них локтями. Лицо ее покрывали красные пятна. Николая она будто и не замечала. И он затаился. Выжидал, что же будет, напрягаясь до дрожи. Однако гнев Зинкин был обращен только на Витюню. – Вот всегда так, – проговорила она жалобно. Что именно «всегда так», Николай не понял, а переспрашивать не решился. Одеваться Зинка, по-видимому и не собиралась. Она отошла к столу. Села за него и откуда-то из-под низу достала бутылку, пустую на треть. – Ну, за приятное знакомство? – улыбнулась криво. Молча выпили. Николай не знал, куда ему деваться. Мало того, что он был не в себе от выпитого прежде, но он к тому же совершенно не мог заставить себя смотреть на эту нахально развалившуюся бабу. Не мог, и все тут, хотя совсем недавно лежал рядом и даже, помнится, шептал что-то ласковое. – Ну ничего, ничего, – сказала она, – не сразу к дружке дружка притирается. В этих словах послышалось что-то зловещее, то, чего Николай не хотел, то, за что уже корил себя. Он не желал ее видеть больше никогда! Однако вино выпил и сказал полувопросительно, срывающимся тенорком: – Ну, я пошел? Робко встал, не оглядываясь, двинулся вперед. Она его проводила до прихожей, по-прежнему голая, размякшая, с тоскливо-измученным лицом. И уже там в прихожей, Николай понял, что хоть и училась она в той же школе на класс моложе, сейчас она была старше его, намного старше. – Ох и обрыдло все, надоело, – запричитала она в дверях, – удавиться мало! За что, за что, Господи, наказание мне, черт бы вас всех побрал!
Витюня ждал у подъезда. И это оказалось очень кстати Николаю была нужна помощь. Мало-помалу, но за день спиртного набралось с лихвой, и он уже не очень ясно представлял себе сейчас дорогу к дому. – Это ты? – бессмысленно пролепетал он. – А кто же, ну даешь! Витюня вел себя так, будто у Зинки ничего не произошло. «Непробиваемый, – смутно подумалось Николаю, – как же ему хорошо, все нипочем». Они поплелись, раскачиваясь из стороны в сторону, спотыкаясь, стараясь держаться в темноте. Солнце уже село. Но фонари не включали. На улице сгущались сумерки, и только в прогалах между деревьями высвечивалось тусклое, постепенно темнеющее небо. – Куда мы идем? – неожиданно спросил Николай. – К тебе, куда еще! Витюня начинал злиться. Ему не улыбалось растягивать путешествие, он надеялся успеть еще кое-что сделать в этот вечер. – Стоп! Они остановились. – Не хочу. Не хочу домой. Не веди меня туда, мне страшно. – Ох ты, напугался, корешок. Не боись, пока со мной. Они зашли на детскую площадку и уселись на деревянный барьерчик, огораживающий песочницу. Посреди серой, перепаханной кучи песка торчал одинокий, кем-то забытый, совочек. Он уже не отбрасывал тени – темнота сгущалась все больше. Усаживаясь, Николай потерял равновесие и чуть не опрокинулся назад. Удержался с трудом, и тут же его облило холодным потом, сдавило в висках. Он вцепился руками в деревянные края с такой силой, словно кто-то пытался его оторвать от песочницы и увлечь куда-то далеко, в страшные мрачные места, откуда не возвращаются. – Знаешь, Витюнь, – выдавил он не своим, глухим голосом, – умру я. Витюня качнулся и ударил плечом в плечо Николая, затрясся в мелком козлином блеянье. От толчка Николай съежился и напрягся еще больше. – Гляди-ка, шустрый какой, – проговорил Витюня, – а обо мне подумал? – Ты не пропадешь, ты деловой. А я – точно дуба дам. Витюня забеспокоился, лицо его пугливо сморщилось, глазки забегали. – Ты это брось, ты что! Ишь ты какой – он загнется, а меня тягать начнут: что, мол, да откуда, по какой причине? Ты и не думай об этом! Николай понял, что Витюня заботится только о своей шкуре, дрожит за нее. Такое отношение к его «предстоящей смерти», а значит, и к нему самому, его покоробило. – Пошел ты! – резко сказал он, не поворачивая головы. Ну почему рядом нет Оли? Почему нет рядом никого из тех, кого считал самыми близкими друзьями? Почему он так привязан к этому подонку, шагу ступить без него не может? Почему? Обида захлестнула сознание. Николай почувствовал тяжесть в затылке. Она нарастала, становилась нестерпимой. Совсем неожиданно из носа хлынула кровь, прямо на рубашку, на брюки. – Ты чего? Чего это? – Витюня быстро вытащил из кармана скомканную тряпочку, вложил ее в руку Николая и вместе с рукой поднес к носу. Николай ничего не слышал, не чувствовал. Он машинально прижимал тряпочку к лицу. Она становилась все влажнее, пока совсем не намокла и с нее не стали стекать темные капельки. – Ну, я побежал! – заторопился вдруг Витюня. – Ты посиди тут, отдохни… Он встал и быстро скрылся из виду. Николай остался один. Первые звезды высыпались белыми крупинками по темному полотну неба. Они становились все ярче и многочисленнее. А все вместе напоминало летнюю южную ночь, что для этих краев было явлением не частым. Но Николай не замечал внешних красот. Он сидел, уткнувшись лицом в ладони. Кровотечение прекращалось, стихало и наконец совсем прошло. Он ощутил легкость в теле, голова прояснилась, стала будто бы прозрачной, продуваемой всеми ветрами. Казалось, что она оторвется сейчас и взлетит вверх, будто воздушный шарик. «И чего это я окрысился на Витюню? – подумал. – Он, что ли, виноват во всем? Такой же…» А голова становилась все легче и яснее. Она тянула вверх. И Николай задрал голову к небу, к звездам. Как только сделал это, его опрокинуло назад, и он упал спиной в песочницу. Широко раскрытыми глазами он глядел в темную бездонную пустоту и ничего не видел. Лишь намного позже стал различать отдельные звезды. Он напряг зрение, и они проступили отчетливей. Неожиданно на улице, за деревьями вспыхнули фонари. Николай вздрогнул, несмотря на их тусклый свет, он ощутил себя как под прожекторами на сцене. Приподнялся на локтях, сощурил глаза. Голова закружилась сильнее. Но то, что открылось его взору, остановило головокружение, он застыл, боясь пошевельнуться. По улице шли дружинники. В свете фонарей их красные повязки бросались в глаза. Их было трое, и они не спешили – негромко переговаривались, посматривали по сторонам. Николай, собрав остатки сил, перевалился через барьерчик песочницы и пополз в сторону, к кустам. Охватившая тело дрожь изнуряла его. Но он полз. Пять-шесть метров дались ему с невероятным трудом. Воздуха не хватало, и понапрасну раздувалась и сокращалась грудь – он никак не мог отдышаться. Ноги онемели и плохо слушались. Панический, животный страх сковывал все существо Николая. Неожиданно севший на руку ночной мотылек заставил его содрогнуться всем телом, поверг в ужас. Дрожь усилилась и не думала прекращаться. Он на все лады проклинал покинувшего его Витюню. Дружинники заглянули на площадку, но, ничего не заметив, ушли. У них был свой маршрут, свой район патрулирования. Николай знал, что они вернутся через некоторое время, и все же, выждав минут десять, он приподнялся на четвереньках. Потом – медленно, придерживаясь за куст, встал в полный рост. Качнулся, утверждаясь на слабых ногах, и поплелся к песочнице. На песке было мягче. Он снова лег спиной в серую кучу, уставился в небо, пытаясь усмирить бешеный галоп загнанного сердца. Чем дольше он всматривался в звезды, тем беспокойней становились они, начинали срываться со своих мест, кружиться, пока не слились все в едином необузданно-стремительном хороводе. Николай быстро, но сильно протер глаза. Не помогло. Звезды не останавливались, совсем наоборот, они словно посходили с ума и уже не только вращались вокруг невидимой оси гигантского небесного водоворота, но и надвигались на него, обрушивались сверху вниз, грозя раздавить, расплющить. Они уже не были просто звездами. В своем мельтешений они образовывали непонятные, пугающие силуэты. И падали, падали… Но самое ужасное было то, что они обрели голоса. Они кричали в уши, не щадя барабанных перепонок. Они давили своими угрожающими пронзительным тембрами, многоголосицей, сливающейся в невыносимый вопль: «Ты еще жив? Почему, почему ты еще на этом свете?! Тебе нет места на нем! Ты умрешь! Ты уже умираешь! Ты уже умер, окочурился, сдох!!!» Николай с силой сдавил ладонями уши, зажмурил глаза. Но ни видения, ни голоса не пропали. «Тебя нет! Нет! Нет!! Нет!!!» Такой неистовой нереальной пытки Николай не переносил еще никогда. Совершенно отчетливо представилось, что он и на самом деле умирает. Сознание оцепенело, истерически зарыдало: «Не хочу! Нет! Не надо!» Но звезды не слушали, да и не слышали его. Они надвинулись вплотную, оставался один миг. Николай резко выбросил руку в сторону, хватая торчавший в песке металлический с деревянной ручкой совок, и швырнул его вверх, в своих мучителей. Почти сразу же он почувствовал острую боль в подбородке – совок вернулся назад и ударил его своим острием. Николай смахнул совок с груди, не обращая на ссадину внимания. Приподнялся на локтях. Видения исчезли. Звезды, как им и положено, висели в недоступной высоте. Некоторые из них будто подмигивали Николаю, напоминая о том, что привиделось. Через полчаса пришел Витюня. – Балдеешь? – спросил он. – А я думал, тебя того… Ну да ладно. Гляди, чего у меня. Николай с надеждой уставился на руки Витюни. Но в них был всего-навсего небольшой белый листочек. – Повестка! Соседка-стерва передала. Там без меня участковый приходил. Обложили со всех сторон! – Везет дуракам, – прошептал Николай. – Это почему же? – На «дурака» Витюня не обиделся. – Ты знаешь. Пускай, силком, но на ноги поставят. Сами-то мы… – Николай не договорил, махнул рукой. – А чего сами? – встрепенулся Витюня. – Мы ж договорились – завтра, как штык, в диспансер. Николай иронически ухмыльнулся. – Крест на пузе! Ты мое слово знаешь, – божился Витюня. Да ежели я со своего сверну, да мне… – Он захлебывался в собственном хмельном красноречии, путался, сбивался, но всячески пытался доказать, настоять на том, что его слово нерушимо. Николаю эта болтовня надоела. С Витюней или без Витюни, но он завтра обязательно пойдет, так он решил. Во что бы то ни стало! – Ладно, пойдем, – проговорил он, опираясь на жирное плечо. На этот раз Витюня не бросил его. Силенки хватало, вот он и тащил обезножевшего приятеля, в голове которого все помутилось окончательно. Они долго возились у входной двери, искали ключи. Наконец ключи нашлись. Николай успокоился, огляделся, будто не у себя, и побрел на кухню. Там он смочил голову под краном, но от этого мысли его не посвежели. Войдя в комнату, по привычке приветственно помахал Рембрандтову автопортрету, попытался улыбнуться, мол, не все еще потеряно. – Да ты ложись, Колянь! – Витюня услужливо подвел его к дивану. Николай оттолкнул приятеля, подошел к стенке и зачем-то поправил висевшую на гвозде спецовку, отчего та совсем перекосилась, сползла на пол. Николай поднял ее и снова накинул на гвоздь. Спецовка опять упала. Так повторилось трижды, после чего Николай оставил гвоздь в покое и натянул, с трудом попадая в рукава, спецовку на себя. – И на работу, обязательно на работу, – тоном, не терпящим возражений, проворчал он, – заново эволюцию проходить от… хмэ, неважно, до человека. Только труд! Он сполз по стене на пол. Витюня снова подхватил его под мышки, подтащил к дивану. – Не надо! – отмахнулся Николай. Он выпрямился, немного постоял, будто прикидывая, что еще осталось несделанным. Поглядел в окно и зевнул. Рухнул на свое лежбище Николай сам, без посторонней помощи. Он даже успел нашарить под диваном будильник, старательно завел его, разговаривая с бессловесным механизмом, как с живым существом. О Витюне он позабыл.
Было уже совсем поздно, когда Николай разлепил глаза. Он тихонечко завыл, увидев перед носом привычный ведьмачий профиль, заскрипел зубами и перевернулся на другой бок. Перед ним с двумя бутылками в руках на корточках сидел Витюня. – Вставай, болезный ты мой, нетрезвый! – Витюня был, как всегда, в духе. – Можешь, Колянька, поздравить нас… Николай пришел в оживление при виде бутылок. Но что-то было такое в Витюнином голосе, что его насторожило. Что – он понять не мог. На полу лежала газета, сплошь заваленная мелкими, вялыми кильками. – Откуда такое богатство? – спросил Николай, сам не узнавая своего голоса. – Да ты ешь-пей! Потом спрашивать будешь. Одна из бутылок была откупорена, и Николай глотнул прямо из горлышка. В голове прояснилось. – Ну вот, давай мне! – Витюня облизнулся. – Обмоем мою повесточку, а заодно и наш завтрашний поход. И тут Николай увидел откуда растут ноги. Его полка, книжная полка была больше чем наполовину пуста. – Где?! – спросил он. – Только спокуха, только… Витюня быстро вытащил из кармана четыре червонца. – Это ж нам на неделю! А потом и оставшиеся пристроим. Все заходило ходуном перед глазами Николая, он вырвал деньги из Витькиных лап, бросил их на пол. Потом свернул газету и вместе с кильками выбросил ее в распахнутое окно. – Мотай отсюда. – Ты чего? – в голосе приятеля сквозило явное непонимание. – Не догадываешься?! – угроза зазвучала серьезней. Николай вдруг четко осознал, что последний мостик горит, дотлевает уже. И в этом, как показалось ему, виноват был Витюня. Он подошел ближе и, не выпуская из кулака бутылку, размашисто шлепнул костяшками левой руки под правый глаз оторопевшему от неожиданности Витюне. Симметрия на его лице восторжествовала. Николай сам видел, как не сразу, постепенно наливалась опухоль вокруг глаза. Видел и довольно улыбался. – Ну все! Ну все! – Витюню, кажется, это доконало. Не оборачиваясь, он вышел из комнаты, громко хлопнул входной дверью. А Николай, успокоенный и сразу обессилевший, опять лег. Он пил из горлышка портвейн, курил одну за другой, не глядя, куда падают угольки. И думал, что не все еще потеряно, что нечего из мухи слона лепить – ведь не такой же он алкаш, как этот прохвост Витюня! Он сумеет выправиться и еще заживет на зависть прочим. Да так заживет, что ахнут! Он обретет прежнее уважение и не будет никого и ничего бояться. Он не будет пугаться каждого шороха и вздрагивать при виде собственной тени. Он пройдет по улице прямо, гордо подняв голову и не отводя от прохожих глаз. Все будет, все… От этих мыслей становилось теплее, легче. Убаюкивая себя, он рисовал перспективы… И продолжал посасывать из горлышка. И с каждым глотком планы становились шире и объемнее, надежды радужнее. Ему казалось даже, что он уже начал эту новую светлую жизнь. Что он уже живет в ней. И только совсем крохотный, почти погасший уголечек, где-то на окраине сознания, жег, напоминая, что никогда он не сможет, никакими силами, ни отчаянными понуканиями одряхлевшей, расслабленной воли избавиться от Витюни, от этих сулящих хмельное липкое забытье сорока рублей, а главное, от самого себя. Не сможет никогда! Ни за что! И только затуманенное воображение насылало дурман, льстило: «Все будет хорошо, ты еще успеешь, еще сможешь взять себя в руки!» Портвейн подкреплял эту веру. А потому он прикладывался все чаще. Пил и мечтал. И опять пил. И все казалось не таким уж и страшным, преодолимым. Он даже простил Витюню за проданные книги. И окончательно уверился в том, что завтра тот сдержит свое слово. И снова пил, Пил и курил долго. И под конец решил завтра! И уснул с этой мыслью. Снилось ему что-то легкое, смутное, как в детстве, о котором он почти ничего и не помнил. И лишь иногда, совсем нечасто, это забытье сполохами разрывали навязчивые слова: «С завтрашнего дня, с завтрашнего…»

Дверь в иной мир
 С самого утра Сашка был настроен необычайно решительно. Все! Хватит! Пора точку ставить! И решительность эта не угасла в нем к концу рабочего дня. Он шел к Светкиному дому, распаляя себя на ходу. В тоже время он смутно ощущал в себе нечто похожее на гордость, дескать, вот он какой, не трус, не тряпка, настоящий мужчина, сам идет на последний, решающий разговор. Чтобы уж раз и навсегда! Чтобы не трепать нервы! Хватит, за три года их встреч и расставаний он извелся окончательно, терпеть больше не намерен! И пускай болтают, что ревность удел глупцов, пускай! Тут случай особый!
Вчера за кружкой пива излил он душу другу Славику. Тот долго не размышлял: «Да чего ты прилип к ней? Рви смелей, раз такое дело, не пропадешь!» Так и надо – смело, сразу! Все равно у них ничего не получится и не сложится, раз за три года даже съехаться не смогли, значит, тут что-то не так, значит, не больно-то она и хочет съезжаться, нет, пора!
И все-таки по дороге он свернул в знакомый переулочек. Там располагались две достопримечательности: средняя школа, а напротив заветная точка, магазин «Вино». В соответствие с последним постановлением магазин работал с восьми утра до двенадцати ночи. Сашка взял пару «бомб». Водки не было, спозаранку расхватали все восемь завезенных машин. Но Сашка не брезговал и бормотухой. Одну бутыль он раскокал, когда продирался сквозь очередь. Облился сам, облил других. И от этого совсем остервенел. Вторую выглушил из горла тут же, за углом. Но ведь что получалось! Не брала, зараза! Второй раз в магазин-забегаловку Сашка не полез. Ну их! Надо было задуманное выполнять! Он обтер ладонью замоченные черной грязной слизью бормотени усы. И решительно развернулся – да, пора!
Дошел он быстро. Но еще прежде, чем дверь захлопнулась за спиной, на Сашку навалились недобрые предчувствия, ощущение какой-то нереальности и глупости всего происходящего. Он даже остановился, провел рукой по лицу. «Бред какой-то!» сказал вслух сипато и неуверенно. До лифта надо было протопать вверх полтора пролета. И он пошел – не хватало еще всяким предчувствиям верить, враки все это!
У двери лифта стояла бабка в сером мужском макинтоше. У ее ног лежала неподъемная связка газет и журналов. «На два абонемента!» – невольно отметил Сашка. Бабка смотрела из-под надвинутого на самые брови толстенного платка угрюмо и недоверчиво, так, будто незнакомый парень собирался у нее спереть тюк с макулатурой. И Сашка не стал дожидаться лифта.
Два этажа прошмыгнул мигом, на подходе к четвертому дыхание сбилось, и он мысленно поклялся завязать с куревом в самое ближайшее время. Из всех его предыдущих клятв запросто можно было сложить антиникотиновую книжонку страниц на четыреста, К шестому этажу он выдохся окончательно и остановился передохнуть. Сверху доносились какие-то невнятные звуки, напоминающие рассерженное бурчание унитаза. Сашка прислушался. Нет, это был не унитаз, кричал человек. Видимо, из квартиры кричал, из-за запертых дверей, потому и не разобрать было толком – о чем кричал.
Дыхание налаживалось медленно, да и сердце постукивало с надрывом. Но дольше выстаивать Сашка не захотел, он неторопливо пошел вверх. Звуки становились отчетливее, уже можно было разобрать, что это бесконечная череда пока еще невнятных угроз и ругательств.
До Светкиной квартиры оставалось не больше полусотни ступенек, когда Сашка понял, откуда несутся крики. Он вспомнил про неясное предчувствие, охватившее его внизу, и нахмурился. Не хватало только, чтобы сбывались всякие дурацкие вещи! Он сам не заметил, как сбавил шаг, и принялся напряженно вслушиваться. Из-за двери хриплым пропитым басом обещали «засудить кого-то за издевательство над человеческой личностью». Из-за Светкиной двери!
А он еще боялся не застать ее дома. Да уж лучше бы и не застал! Сашка замер, прислонившись к стенке – а не уйти ли, ко всем чертям, навсегда, чтобы никогда не появиться здесь?! Над его плечом процарапанная в зеленой краске, затертая, но, наверное, вечная, маячила знакомая до тошноты надпись: «Светка + Сашка =», далее было уродливое сердечко, пронзенное стрелой, и совсем свежее и корявое: «дураки!»
Крики стихали на полминуты, затем возобновлялись примерно на то же время – периодичность угроз и ругани начинала забавлять Сашку, но как-то по-злому, настраивая его на что-то мало предсказуемое. Ситуация окончательно убедила его в правильности принятого утром решения: раз уж дошло до такого терпеть нельзя!
«А ведь и впрямь – дураки!» – процедил он сквозь зубы. И тут же до ушей донесся Светкин оправдывающийся, маловнятный голосок.
Сашка с силой рванул ручку на себя и чуть не упал – дверь оказалась незапертой, и он поскользнулся на коврике. Пытаясь сохранить равновесие, уцепился рукой за косяк и влетел в прихожую. Но все-таки устоял, качнувшись напоследок на полусогнутых.
Светка смотрела на него ошалело-восторженными глазами и вытирала руки о передник.
– Во-о, еще один придурок! – сказала она глубокомысленно.
Сашка промолчал, лишь метнул в ее сторону короткий взгляд. Он прямиком шагнул к двери в комнату, из-за которой голосили. Затаившийся там тип помалкивал. «Сообразил, что нарвался! – отметил Сашка про себя, испытывая муки острой и обессиливающей ревности. – Ничего, мы с вами обоими щас разберемся!» Он толкнул дверь рукой. Та не поддалась. Толкнул еще, и еще раз – с тем же результатом.
– Не имеете права! – нахально и вместе с тем трусливо пробасило из комнаты. – Я жаловаться буду!
Сашка, шумно дыша, засовывая руки в карманы и не находя прорезей, развернулся, привалился к двери спиной.
– Может, мне уйти? – спросил он тихо, не глядя в сторону Светки. – Я тут посторонний, видно, вон уже и жаловаться кое-кто надумал, помешал кое-кому, так?!
Светка явно ничего не понимала, и глаза ее шалели все больше.
– Помог бы лучше, чем орать! – сорвалась она наконец.
– Ага, значит, еще и помочь надо, так-с, – Сашку жгла собственная ирония, он чувствовал, что вот-вот закричит, или убежит, или еще чего наделает, – помочь, значит?!
– Значит, да! – бросила Светка с вызовом и подошла ближе.
– Ты скажи-ка лучше – зачем его туда заперла, ты что, думаешь, я совсем болван, думаешь, меня так просто за нос провести – заперла в комнате, и дело с концом, а я, выходит, идиот полный, ничего не понимаю?! Ты зачем замок врезала, отвечай? – про замок Сашка вспомнил в самую последнюю очередь, и это окончательно взбесило его: – Зачем тебе замок, от кого?!
Светка, дергая губами, потянула передник к лицу.
– Он и врезал, чего ты…
– Ага, он и врезал, понятно! – заявил Сашка спокойно и твердо. – Тогда понятно! – он сделал шаг к выходу.
Светка повисла у него на руке и, чтобы тяжесть была ощутимее, подогнула ноги. Стало тихо. Этой тишиной воспользовался невидимый враг.
– Открывайте, живо! Не имеете прав человека держать взаперти! Я на вас управу-то найду!
Сашка отпихнул Светку, выскочил на лестничную площадку и, разбежавшись, всем телом ударил в дверь. Та скрипнула, задрожала, но выстояла. Пришлось повторить.
На этот раз дверь не выдержала, отлетела в сторону. Вместе с ней отлетело что-то мягкое, в ватнике – Сашка не разобрал. Он по инерции проскочил дальше, упал и, продолжая скользить по паркету, остановился лишь когда врезался головой в батарею под окном. Это было что-то! В таком броске, таким ударом можно было не только разбить батарею, проломить стену, но и самому вылететь наружу пушечным ядром! Но произошло странное: сам Сашка увяз в стене, в искореженной батарее, застрял плечами, телом, а его голова… да-да, оторвавшаяся голова и впрямь пушечным ядром пробила кирпичную кладку и вылетела наружу! Но не на улицу! На улице было светло! А голова эта вылетела в нечто непроглядно темное и мрачное, ударилась о невидимую преграду, мячиком отскочила, замерла.
От неожиданности Сашка даже не успел испугаться. Боли он не чувствовал, лишь немного ломило затылок. Первой мыслью, появившейся в мозгу, было – ощупать себя, определить, что же случилось. Мысль-то появилась, и команду мозг дал, только ощупать нечем – безжизненное и безголовое тело лежало там, за стеной. И это было невероятно! Почему? Почему он все чувствует, почему он не умер?! Сашка начинал привыкать к темноте, глаза уже кое-что разбирали – здесь и не тьма была вовсе, это лишь после освещенной комнаты так казалось, здесь был полумрак, тени, какая-то возня, чье-то сопение… Но разве в этом дело?! Сашка несколько раз открыл и закрыл глаза – веки слушались, пошевелил носом, губами, открыл рот, прикусил зубами кончик языка – все было в норме! Но как могло быть так?! Ему вспомнилась дурацкая история про отрезанную голову какого-то профессора. Но ведь там она на чем-то стояла, к ней были подключены трубочки, шланги и всякая прочая ерунда, там подавались питательный раствор, кровь… Нет! Это явный бред! И в то же самое время Сашка ощущал свои руки, ноги, но не мог ими пошевелить – это в мозгу еще продолжали работать рефлекторные механизмы, мозг хотел и дальше управлять телом, но управлять ему было нечем. На Сашку вдруг накатили такие горестные чувства, что он зарыдал, слезы потекли из глаз. Ему так стало обидно за себя, что будто ножом резануло по сердцу… нет, сердца у него теперь не было. Но он все чувствовал. И в мозгу стучало: за что?! почему такая несправедливость?! почему именно я?! Сашка, никогда в жизни не проронивший ни слезинки, зарыдал пуще прежнего, с захлебами, прихлюпыванием, стонами.
Он так увлекся своими переживаниями, так зашелся в плаче, что и не заметил, как из угла полутемного помещения к нему подползло нечто большое зыбкое и неопределенное, ни на что не похожее. Оно посопело, покряхтело, повздыхало, а потом проговорило внятно и глухо:
– Раньше плакать-то надо было!
Сашка сразу прервал рыдания, проглотил слезы.
– Чего-о?! – спросил он слабеньким дрожащим голоском.
– Чего слыхал, вот чего!
– Ты кто? – поинтересовался Сашка.
Существо засопело, запыхтело, пробубнило обиженно:
– Это тебя надо спросить – кто ты! Не я ж к тебе приперся, а?! Вваливаются всякие, как к себе домой! А так и до инфаркта довести недолго! Ты бы лучше того, убирался бы ты лучше к себе, восвояси, то есть!
Сашка разглядел два широкопоставленных тусклых глаза с фиолетовыми круглыми зрачками, широченную щель, чем-то напоминавшую рот, но почти не приоткрывающуюся, массивную и плоскую голову, вросшую в широченные плечи… Все остальное терялось в полумраке. Сашка не мог поверить, что такое существо, такая жуткая тварь могла обладать даром речи. Но она обладала. И надо было ответить.
– Да я это, случайно, – промямлил он, осознавая свою беспомощность и зависимость от любого, наделенного способностью к передвижению, живого существа. – Я не нарочно, так получилось, видите ли. Сам-то я там, у батареи, наверное, а голова вот… И как я могу убраться?! – Он осмелел, голос окреп, Я ж без рук, без ног, колобком катиться покуда не научился! Да и… – Сашка вдруг вспомнил про Светку-изменщицу, про свою жизнь никудышнюю, и выдавал с горечью: – Да и незачем! Кому я там нужен?!
– А здесь? – вопросило существо.
– Что – здесь?
– Кому вы здесь нужны, я спрашиваю?!
Сашка замялся. До него вдруг с пронзительной ясностью дошло, что он вообще нигде не нужен, что он лишний и тут, и там. Но куда ж тогда?
И все-таки он спросил, пытаясь разобраться, что к чему:
– А вы кто?
Существо махнуло неопределенно длиннющей рукой или лапой с множеством шевелящихся гибких пальцев на ней и ответило каким-то будничным невыразительным голоском:
– Да мы здешние, живем тут.
– И давно? – задал глупый вопрос Сашка.
– Да почитай всегда! – ответило существо.
– А я вот за стеной живу… – Сашка замялся, – раньше жил, то есть! Теперь, наверное, помер! – Он грустно вздохнул.
Существо вздохнуло вместе с ним, похлюпало, посопело немного и спросило в свою очередь:
– Чего ж это – помер?
– А откуда мне знать!
– И не помер вовсе! Мы ж тут не мертвые, живые. И ты стало быть живой покуда, ты погоди еще помирать-то!
– Значит, это не тот свет? – обрадовался Сашка. Существо призадумалось.
– Тот-то он тот! – проговорило оно с оттенком недоумения. – Но ежели ты думаешь, что это загробное какое царство или там, скажем, пастбище умерших, так тут ты ошибаешься! Наш свет он то ли параллельный к вашему, то ли перепендикулярный, то ли наискось лежащий, я в премудростях этих не шибко волоку, образования не получил, ты уж прости, но скажу попросту – наш свет к вашему свету – соседний, вот и все!
– Все?!
– Конечно, все! Чего тут голову ломать… – существо поглядело на Сашку и осеклось, – хм-м, впрочем, голова тут не причем, каждый как может, так и существует. Ежели нравится жить с одной головой – так и живи себе, мы не против! Надо только без шуму, гвалта и без всяких непрошенных вторжений! Да еще вот так, чтоб как из пушки прям!
– Извиняюсь! – ответил Сашка невежливо и грубо.
– Да теперь-то уж чего виниться! Теперь лежи себе, да глазей! А хошь, я тебя обратно закину!
– Как это?! – Внутри у Сашки все перевернулось, появилась надежда. У него даже голос задрожал.
– А вот как!
Существо ухватило своей лапищей Сашкину голову, сжало гибкими и сыроватыми пальцами словно какой-нибудь апельсин или яблоко. Размахнулось.
– Сто-ой! – завопил Сашка.
– Чего это? – удивилось существо.
– Вы мне сначала все объясните, как да что! А потом уже будем возвращаться… – прохрипел Сашка. Он теперь смотрел прямо в лиловые глаза – существо поднесло его голову к своей морде. Вид у него был неприятный и жутковатый. Но Сашка и глазом не моргнул – в гостях надо было вести себя подобающим образом.
– А чего тут объяснять-то? – удивилось существо. – Вот щас как швырну в стенку, так и выскочишь сразу, где положено, чего тут разговоры-то разговаривать?!
Сашка не дал ему и секунды на размышления, сомнения.
– Нет! – выкрикнул он. – Давайте погодим немного!
Не хотелось Сашке во второй раз пробовать собственной башкой крепость кирпичной стены. Да и представил он, как влетит вдруг его голова сейчас в Светкину комнату, как завопит она, а то и в обморок грохнется! Мало ей, что ли, его безголового тела у батареи?! Там сейчас, небось, уже и санитары, и следственная бригада, и отпечатки снимают, и понятые через плечи заглядывают… и тут вдруг его башка влетает! Нет, погодить надо было непременно!
– Вы мне хоть малость о себе поведайте, прошу вас, перед расставанием, ведь такая встреча, такая встреча! – залебезил Сашка.
– А какая встреча такая? Дело обыденное! – ответило существо.
– Как это?! Ведь первый контакт двух миров! – завопил Сашка.
– Это кому как, – вяло просопело существо, – нам все эти ваши дела уже надоели порядком, скукотища жуткая, хоть бы сменили чего!
– Так вы нас видали раньше?!
– И раньше, и позже, мы вас по-всякому видали! Это у вас там телевизоры и всякая такая мура, а у нас нету ничего, только на вас-то и глазеем… – Существо особо горестно вздохнуло. И выдало замогильным шипом: – Все вы нам настроение портите только! Эх, и безрадостное же зрелище!
Сашка был поражен. За ними наблюдают… да чего там, всегда наблюдали, следили! А они какмладенцы-несмышленыши! Они-то и не подозревали! А может, врет?
– Не-е, правда! – проговорило существо, угадывая мысли. Тошно нам на вас глядеть, тошно и противно, вот что я скажу!
Сашка вдруг обиделся, взъярился.
– Тошно, так и не смотрите! – заявил он довольно-таки строго, позабыв про дипломатичность.
Существо сжало его голову еще сильнее, поднесло к самым глазам, заглянуло в Сашкины глаза. И тому показалось, что существо это сейчас проникло внутрь его мозга, читает там что-то, самому Сашке не ведомое, срезает слой за слоем заложенное на всех уровнях сознания, подсознания и надсознания, срезает и тонюсенькими ломтиками перекладывает в свой мозг. Но ответило существо сразу:
– Как же не смотреть?! Мы не можем не смотреть! У нас зрение такое!
– Поня-ятненько-о, – протянул Сашка. Ни черта ему не было понятно.
– У нас один недостаток, – пожаловалось вдруг существо, видим мы только ваше прошлое и будущее во всех направлениях. А вот сего мига, настоящего, – не дано нам узреть! Может, это и к лучшему?!
Сашка пропустил большую половину мимо ушей. Уцепился за одно:
– Как это – во всех направлениях?
– Проще пареной репы! – разъяснило существо. – Ведь каждый поступок влечет за собою цепь других, так? А если там, скажем, человек поступает по-другому, что происходит?
– Что?
– Вся цепочка изменяется. Все складывается в общих рамках развития, но иначе, понял?
Сашка на вопрос не ответил. Но задал свой:
– И сколько может быть таких направлений?
– А сколько хочешь!
– Вот это да-а! – выдохнул Сашка. Ему вдруг показалось будто все можно переменить, все можно вернуть к лучшим денькам, к прежнему. Он поверил…
– Хошь, прошлое покажу? – поинтересовалось существо, подбрасывая Сашкину голову на ладони как волейбольный мяч.
Сашке не очень-то нравилось подобное обращение, но он терпел. В чужой монастырь не суйся со своими обычаями.
– Нет, не надо, и так видал, – ответил он. – Мне бы будущее!
– Какое?
– Ну-у… – Сашка не сразу сообразил, какое именно ему будущее нужно. – Да какое-такое?! Ну, то самое, которое должно было быть по цепочке-то по этой вашей.
– Понятно, – существо положило Сашкину голову на пол, отодвинулось, приподнялось на задние лапы – они оказались совсем короткими, раза в три короче передних. – Тут надо все четко выверить! Та-ак, лежал ты тут, это у нас до миллиметрика, та-ак-с, направление было задано такое, значит, тридцать восемь градусов… двенадцать минут… секунды, угол… прицельная щель, та-ак-с, все точнехонько. Все! Приготовились! На сколько обзор давать?!
– Как это? – не понял Сашка.
– Ну, стало быть, на сколько погружение в будущее и осмотр его?
Сашке стало страшновато. И он не решился на большой срок.
– Одной минуты за глаза хватит! – сказал он с искусственной бодростью.
– Минута, так минута! Значит, зададим начальный импульс послабже, вот и всех делов-то! Начали!
Существо отошло на три шага, качнулось, подлетело к Сашкиной голове и с такой силой пнуло в нее своей корявой лапищей, что голова футбольным мячом ударила в невидимую стену, но не отскочила от нее, а напротив, пробила! Сашка ослеп от яркого света, все замелькало, закрутилось перед глазами, замельтешило.
Он не сразу понял, куда попал и что происходит. А когда понял, ему и вовсе стало плохо. Огромным усилием воли он заставил себя смотреть, слушать – ведь всего минута была в его распоряжении.
Он сам, а точнее, его невидимая голова, висела над стоящими в огромной комнате людьми, висела эдакой люстрой. А люди стояли вокруг гроба. В гробу лежал он сам, Сашка, убранный цветами, лентами, прочей мишурой, лежал бледный, но отнюдь не безголовый – наоборот с самой настоящей головой, напомаженным лицом, подкрашенными губами… Смотреть было и впрямь тошно. Но Сашка смотрел.
Над гробом рыдала мать, стоял хмурый отец, чуть дальше друзья, товарищи, сослуживцы, родственники, знакомые и вовсе не знакомые люди.
Но больше всего поразила Сашку стоящая у изголовья Светка. Она была в подвенечном платье, фате. Она плакала, но как-то очень уж красиво и изящно, словно напоказ. Плакала, прикладывая к подведенным глазкам кружевной батистовый платочек, еле слышно всхлипывая, шмыгая носом. Никогда еще Светка не была такой красивой и привлекательной как сейчас, с нее можно было просто картину писать под названием «Добродетель у гроба» или «С любимыми не растаются». Сашка чуть было сам не зарыдал во второй раз.
Но его внимание привлек странный тип, стоящий рядом со Светкой и дергающий ее то за локоть, то за край фаты, то за платье. Тип этот был неказист и жидок. На нем поверх накрахмаленной белой сорочки была надета замызганная телогрейка, из кармана которой торчал разводной ключ. Тип был небрит, сизонос, мутноглаз, но зато он был при бабочке и в лаковых штиблетах. В руках он держал шляпу с зеленым перышком. Он шептал Светке на ухо. Но Сашка все слышал!
– Да пошли уже! – говорил тип Светке. – Горячее стынет!
Она молчала, хлюпала.
– Какого хрена с ним возиться, не понимаю, оживет, что ли?! Пошли, тебе говорю! У нас с тобой седни бракосочетание или что?!
– Щас! – нервно ответила Светка, выдергивая кончик фаты из грязной и отекшей руки. – Успеется!
– Ну, ты как хочешь, – заявил тип напыщенно и важно, – а у меня там шампаньское киснет!
Светка склонилась над телом, уронила на мраморный лоб слезинку. И прошептала типу:
– Передай, пусть без меня горячее на стол не ставят.
Тип дернулся было. Но потом опять припал к ней, шепнул:
– Ладно, я тогда, чтоб добро не пропало, посижу с полчасика на поминках у него… – он повел глазами на Сашку. Стакашек пропущу за упокой души!
Светка зашипела. И тип смолк. Ушли они вместе. Еще и минуты не прошло.
Сашку трясло и колотило, если вообще только может трясти и колотить голову без тела. Он готов был взорваться словно бочка, начиненная динамитом. Но не успел – его вдруг швырнуло обратно, в темноту.
– Ну как? – поинтересовалось существо.
– Нет, – ответил Сашка, – меня такое будущее не устраивает! Я туда не хочу!
– А куда ж ты хочешь?
– Надо еще поглядеть, может, в других-то направлениях получше будет, – с дрожью в голосе продекларировал Сашка.
– Ну нет! – отрезало существо. – Мне с тобой возиться недосуг! У меня обед скоро, прием, стало быть, пищи! А ты или тут лежи тихо, или давай назад вертайся! Там и сам выберешь направление! Лады?
– Лады? – машинально ответил Сашка. Перед его взором все еще стоял изукрашенный гроб.
– Ну, а лады, так и дело с концом!
Существо подкинуло на ладони голову раз, другой, а потом размахнулось и бросило ее в противоположную стену. Все произошло мгновенно. Сашка вдруг почувствовал, что лежит у батареи, что в руках и ногах покалывает, а голова разламывается от боли. Он жив? Жив! Да, он был жив! И это главное, все остальное приложится. Он приподнял голову. Но неожиданно накатила тьма, все пропало.
Сашка уже подумал было, что умирает, но темнота отступила. Пошатываясь, он встал сначала на четвереньки, а потом и в полный рост.
От дверей, так же ошалело, как и Светка, на него смотрел мужичонка-доходяга в ватнике и сапогах. На голове у него была зеленая шляпа с перышком, в руках обшарпанный чемоданчик, из-под ватника выглядывала чистейшая белая рубаха, стянутая в вороте цветастым галстуком. Вместе с тем как Сашка приходил в себя и постепенно выпрямлялся, мужик отходил к двери шаг по шагу, наконец и вовсе скрылся за нею. С лестницы еще долго неслось: «Вы у меня… я вас… мать вашу!..»
Голова болела жутко, заглушая даже ушибленное плечо и ободранные в падении руки. Сашка плюхнулся на диван, мрачно наблюдая, как суетится Светка. Та уже прикладывала к его лбу и затылку мокрое полотенце, ощупывала, бубнила без передышки.
– Да помолчи немного, – устало выдохнул Сашка. – И вообще, я сейчас пойду, не старайся.
Светка, оставив полотенце на голове, отступила на два шага, всплеснула руками.
– Ах, какие мы нежные, ах, какие чувствительные! С потолка свалился, да?! Ты чего взъелся, что за причина?! Дурак ты и неврастеник!
Светка отвернулась, затопталась на месте, не зная, то ли уйти из комнаты, то ли снова приняться за роль терпеливой медсестры. А Сашка как-то резко порастерял весь пыл. Мужичонка в ватнике, плюгавый и малосимпатичный, не вязался в его представлениях с образом коварного соперника, Светкиного тайного возлюбленного – это стало постепенно доходить до Сашки. И он раскис. Голова заболела еще сильнее, задергало остро и обжигающе. Он боялся поднять руку и пощупать затылок – а вдруг там дырка величиною с блюдце?
Но разве в дыре дело?! Он вспоминал этого мужичонку и ему казалось, что совсем недавно он его видал гдето. У подъезда? Нет. По дороге? Да нет, вроде. Скорее всего, у магазина, в толчее винной очереди? Нет! Не было там такого! Да и какая разница, где он видал этого мозгляка, какое это имело значение!
В Сашкиной голове вдруг прозвучали непонятные слова: «Ты и сам выберешь направление!» Какое направление? Куда? У него сейчас не об направлениях каких-то дурацких башка должна болеть! Его дело, ежели он настоящий мужик, придушить сейчас этого хмыря собственными руками, прямо здесь и придушить! Злость нарастала в Сашкиной груди. И он уже вскочил было на ноги. Он бы еще мог догнать этого прохиндея, запросто мог! Ведь тот все еще вопил с лестницы, все еще перекатывало эхом: «мать-перемать! мать-перемать!»
Уже вскочил почти… Но что-то в голове дернулось. И опять прозвучало про какие-то направления… И хватило мгновения, всего лишь мгновения, чтобы от сердца отлегло. И не то, чтоб совсем отлегло, а лишь чуточку, на малость малую. Но этой малой малости и хватило.
Сашка не встал.
Он лишь уперся руками в виски, принялся раскачиваться из стороны в сторону. Винные пары еще гуляли в головушке, туманили мозг. Но ни блажи, ни дури в нем почти не оставалось, так, немного, на чайную ложку. Перекипел, перегорел Сашка. А вместе с ним перегорело и улетучилось и все им выглушенное в один присест у магазинчика за углом. Улетучились и голоса, вещавшие про направления и какой-то выбор. Сашка тут же и забыл про них.
Молчание становилось тягостным. Каждый ждал начала разговора от другого. Сашка все-таки ощупал голову и, конечно, никакой дыры там не обнаружил, не было даже шишки. Но откуда же такая боль? Он смотрел Светке в спину и ничего ровным счетом не понимал. Та не выдержала.
– Ну чего ты всегда шум поднимаешь, – сказала она, присаживаясь рядом, – думаешь, очень приятно, да? Ну приходил слесарь, замок вставлял, ну что тут такого? Тебя ведь не допросишься! И откуда в тебе вообще эта дурь дикая, с приветом, что ли?!
Сашка молчал и соображал про слесаря, вроде бы концы с концами сходились. Но…
– Он проверял, зашел внутрь, закрыл на три оборота – вот и все! Сам закрылся и орет! Думает, это я чего-то тут, а я пробовала открыть, не выходит. А он еще изнутри грозится, говорит, дверь разломаю к чертовой матери, понимаешь! Я ему говорю: я тебе разломаю! Ты ее, что ли, делал, чтоб ломать! Еще слесарь, называется! А открыть – ну никак не может…
Сашка встал и прошел на кухню. Выпил воды прямо из носика чайника. Светка оставалась в комнате.
– И чего это с тобой всегда такая несуразица происходит? – крикнул он с кухни, чувствуя, что отходит душою. – И чего это ты такая непутевая?! – с ехидцей, но доброжелательно, говорил он, сводя все к шутке.
– Ты зато путевый! – донеслось из комнаты. – Такой путевый, что дальше некуда!
Сашка поплелся в комнату. Но по дороге, в прихожей, остановился. Из-за открытой двери высовывалась небритая рожа слесаря.
– Вот что, хозяин, – проговорил слесарь прежним баском, но с иными интонациями, – ты это, трояк за работу давай гони.
– Чего? – искренне удивился Сашка.
– Чего-чего, все путем, замочек врезал, так что за работу троячок гони! Коли чего поломал сам, так это твое дело. Давай, трояк гони, хозяин, а потом, если хошь, я тебе и замочек заново врежу и дверцу подправлю…
Сашка не выдержал.
– А ну, вали отсюда! – он вытолкнул мужика за дверь. Чтоб я тебя не видел больше! – и щелкнул входным замком.
С лестницы пробилась сквозь древесину и дермантин с поролоном такая матерщина, что Сашка резко распахнул дверь, вышел на порог.
Небритый пижон в шляпе сориентировался тут же, замолк.
– Все, хозяин, лады, – пробурчал он примиряюще и улыбнулся. – Давай рупь, и дело с концом!
Сашка понял, что дальнейшей борьбы он не выдержит, таких наглецов надо было поискать. Он полез в карман – самой мелкой из купюр была трешка.
– Держи!
Слесарь воровато заозирался по сторонам, сгорбился.
– Сдачи нету, – сказал он шепотом.
– Да иди ты уже! – Сашка переступил порог.
Вернувшись в комнату, он спросил:
– Ты заплатила ему?
Светка кивнула, встала с дивана, подошла ближе и обняла Сашку за плечи.
– А ты думаешь – по двум квитанциям каким-то замусоленным, четыре сорок… Я ему пятерку дала, да бог с ним!
– Ну и дурочка ты все же, – ласково проговорил Сашка, прижимая ее к себе. Чуть позже добавил на ухо: – А впрочем, бесплатных развлечений не бывает. – Ему было так хорошо и уютно с ней, что о цели своего сегодняшнего визита, как и об утренней необычайной решительности, он уже и не помнил.
С самого утра Сашка был настроен необычайно решительно. Все! Хватит! Пора точку ставить! И решительность эта не угасла в нем к концу рабочего дня. Он шел к Светкиному дому, распаляя себя на ходу. В тоже время он смутно ощущал в себе нечто похожее на гордость, дескать, вот он какой, не трус, не тряпка, настоящий мужчина, сам идет на последний, решающий разговор. Чтобы уж раз и навсегда! Чтобы не трепать нервы! Хватит, за три года их встреч и расставаний он извелся окончательно, терпеть больше не намерен! И пускай болтают, что ревность удел глупцов, пускай! Тут случай особый!
Вчера за кружкой пива излил он душу другу Славику. Тот долго не размышлял: «Да чего ты прилип к ней? Рви смелей, раз такое дело, не пропадешь!» Так и надо – смело, сразу! Все равно у них ничего не получится и не сложится, раз за три года даже съехаться не смогли, значит, тут что-то не так, значит, не больно-то она и хочет съезжаться, нет, пора!
И все-таки по дороге он свернул в знакомый переулочек. Там располагались две достопримечательности: средняя школа, а напротив заветная точка, магазин «Вино». В соответствие с последним постановлением магазин работал с восьми утра до двенадцати ночи. Сашка взял пару «бомб». Водки не было, спозаранку расхватали все восемь завезенных машин. Но Сашка не брезговал и бормотухой. Одну бутыль он раскокал, когда продирался сквозь очередь. Облился сам, облил других. И от этого совсем остервенел. Вторую выглушил из горла тут же, за углом. Но ведь что получалось! Не брала, зараза! Второй раз в магазин-забегаловку Сашка не полез. Ну их! Надо было задуманное выполнять! Он обтер ладонью замоченные черной грязной слизью бормотени усы. И решительно развернулся – да, пора!
Дошел он быстро. Но еще прежде, чем дверь захлопнулась за спиной, на Сашку навалились недобрые предчувствия, ощущение какой-то нереальности и глупости всего происходящего. Он даже остановился, провел рукой по лицу. «Бред какой-то!» сказал вслух сипато и неуверенно. До лифта надо было протопать вверх полтора пролета. И он пошел – не хватало еще всяким предчувствиям верить, враки все это!
У двери лифта стояла бабка в сером мужском макинтоше. У ее ног лежала неподъемная связка газет и журналов. «На два абонемента!» – невольно отметил Сашка. Бабка смотрела из-под надвинутого на самые брови толстенного платка угрюмо и недоверчиво, так, будто незнакомый парень собирался у нее спереть тюк с макулатурой. И Сашка не стал дожидаться лифта.
Два этажа прошмыгнул мигом, на подходе к четвертому дыхание сбилось, и он мысленно поклялся завязать с куревом в самое ближайшее время. Из всех его предыдущих клятв запросто можно было сложить антиникотиновую книжонку страниц на четыреста, К шестому этажу он выдохся окончательно и остановился передохнуть. Сверху доносились какие-то невнятные звуки, напоминающие рассерженное бурчание унитаза. Сашка прислушался. Нет, это был не унитаз, кричал человек. Видимо, из квартиры кричал, из-за запертых дверей, потому и не разобрать было толком – о чем кричал.
Дыхание налаживалось медленно, да и сердце постукивало с надрывом. Но дольше выстаивать Сашка не захотел, он неторопливо пошел вверх. Звуки становились отчетливее, уже можно было разобрать, что это бесконечная череда пока еще невнятных угроз и ругательств.
До Светкиной квартиры оставалось не больше полусотни ступенек, когда Сашка понял, откуда несутся крики. Он вспомнил про неясное предчувствие, охватившее его внизу, и нахмурился. Не хватало только, чтобы сбывались всякие дурацкие вещи! Он сам не заметил, как сбавил шаг, и принялся напряженно вслушиваться. Из-за двери хриплым пропитым басом обещали «засудить кого-то за издевательство над человеческой личностью». Из-за Светкиной двери!
А он еще боялся не застать ее дома. Да уж лучше бы и не застал! Сашка замер, прислонившись к стенке – а не уйти ли, ко всем чертям, навсегда, чтобы никогда не появиться здесь?! Над его плечом процарапанная в зеленой краске, затертая, но, наверное, вечная, маячила знакомая до тошноты надпись: «Светка + Сашка =», далее было уродливое сердечко, пронзенное стрелой, и совсем свежее и корявое: «дураки!»
Крики стихали на полминуты, затем возобновлялись примерно на то же время – периодичность угроз и ругани начинала забавлять Сашку, но как-то по-злому, настраивая его на что-то мало предсказуемое. Ситуация окончательно убедила его в правильности принятого утром решения: раз уж дошло до такого терпеть нельзя!
«А ведь и впрямь – дураки!» – процедил он сквозь зубы. И тут же до ушей донесся Светкин оправдывающийся, маловнятный голосок.
Сашка с силой рванул ручку на себя и чуть не упал – дверь оказалась незапертой, и он поскользнулся на коврике. Пытаясь сохранить равновесие, уцепился рукой за косяк и влетел в прихожую. Но все-таки устоял, качнувшись напоследок на полусогнутых.
Светка смотрела на него ошалело-восторженными глазами и вытирала руки о передник.
– Во-о, еще один придурок! – сказала она глубокомысленно.
Сашка промолчал, лишь метнул в ее сторону короткий взгляд. Он прямиком шагнул к двери в комнату, из-за которой голосили. Затаившийся там тип помалкивал. «Сообразил, что нарвался! – отметил Сашка про себя, испытывая муки острой и обессиливающей ревности. – Ничего, мы с вами обоими щас разберемся!» Он толкнул дверь рукой. Та не поддалась. Толкнул еще, и еще раз – с тем же результатом.
– Не имеете права! – нахально и вместе с тем трусливо пробасило из комнаты. – Я жаловаться буду!
Сашка, шумно дыша, засовывая руки в карманы и не находя прорезей, развернулся, привалился к двери спиной.
– Может, мне уйти? – спросил он тихо, не глядя в сторону Светки. – Я тут посторонний, видно, вон уже и жаловаться кое-кто надумал, помешал кое-кому, так?!
Светка явно ничего не понимала, и глаза ее шалели все больше.
– Помог бы лучше, чем орать! – сорвалась она наконец.
– Ага, значит, еще и помочь надо, так-с, – Сашку жгла собственная ирония, он чувствовал, что вот-вот закричит, или убежит, или еще чего наделает, – помочь, значит?!
– Значит, да! – бросила Светка с вызовом и подошла ближе.
– Ты скажи-ка лучше – зачем его туда заперла, ты что, думаешь, я совсем болван, думаешь, меня так просто за нос провести – заперла в комнате, и дело с концом, а я, выходит, идиот полный, ничего не понимаю?! Ты зачем замок врезала, отвечай? – про замок Сашка вспомнил в самую последнюю очередь, и это окончательно взбесило его: – Зачем тебе замок, от кого?!
Светка, дергая губами, потянула передник к лицу.
– Он и врезал, чего ты…
– Ага, он и врезал, понятно! – заявил Сашка спокойно и твердо. – Тогда понятно! – он сделал шаг к выходу.
Светка повисла у него на руке и, чтобы тяжесть была ощутимее, подогнула ноги. Стало тихо. Этой тишиной воспользовался невидимый враг.
– Открывайте, живо! Не имеете прав человека держать взаперти! Я на вас управу-то найду!
Сашка отпихнул Светку, выскочил на лестничную площадку и, разбежавшись, всем телом ударил в дверь. Та скрипнула, задрожала, но выстояла. Пришлось повторить.
На этот раз дверь не выдержала, отлетела в сторону. Вместе с ней отлетело что-то мягкое, в ватнике – Сашка не разобрал. Он по инерции проскочил дальше, упал и, продолжая скользить по паркету, остановился лишь когда врезался головой в батарею под окном. Это было что-то! В таком броске, таким ударом можно было не только разбить батарею, проломить стену, но и самому вылететь наружу пушечным ядром! Но произошло странное: сам Сашка увяз в стене, в искореженной батарее, застрял плечами, телом, а его голова… да-да, оторвавшаяся голова и впрямь пушечным ядром пробила кирпичную кладку и вылетела наружу! Но не на улицу! На улице было светло! А голова эта вылетела в нечто непроглядно темное и мрачное, ударилась о невидимую преграду, мячиком отскочила, замерла.
От неожиданности Сашка даже не успел испугаться. Боли он не чувствовал, лишь немного ломило затылок. Первой мыслью, появившейся в мозгу, было – ощупать себя, определить, что же случилось. Мысль-то появилась, и команду мозг дал, только ощупать нечем – безжизненное и безголовое тело лежало там, за стеной. И это было невероятно! Почему? Почему он все чувствует, почему он не умер?! Сашка начинал привыкать к темноте, глаза уже кое-что разбирали – здесь и не тьма была вовсе, это лишь после освещенной комнаты так казалось, здесь был полумрак, тени, какая-то возня, чье-то сопение… Но разве в этом дело?! Сашка несколько раз открыл и закрыл глаза – веки слушались, пошевелил носом, губами, открыл рот, прикусил зубами кончик языка – все было в норме! Но как могло быть так?! Ему вспомнилась дурацкая история про отрезанную голову какого-то профессора. Но ведь там она на чем-то стояла, к ней были подключены трубочки, шланги и всякая прочая ерунда, там подавались питательный раствор, кровь… Нет! Это явный бред! И в то же самое время Сашка ощущал свои руки, ноги, но не мог ими пошевелить – это в мозгу еще продолжали работать рефлекторные механизмы, мозг хотел и дальше управлять телом, но управлять ему было нечем. На Сашку вдруг накатили такие горестные чувства, что он зарыдал, слезы потекли из глаз. Ему так стало обидно за себя, что будто ножом резануло по сердцу… нет, сердца у него теперь не было. Но он все чувствовал. И в мозгу стучало: за что?! почему такая несправедливость?! почему именно я?! Сашка, никогда в жизни не проронивший ни слезинки, зарыдал пуще прежнего, с захлебами, прихлюпыванием, стонами.
Он так увлекся своими переживаниями, так зашелся в плаче, что и не заметил, как из угла полутемного помещения к нему подползло нечто большое зыбкое и неопределенное, ни на что не похожее. Оно посопело, покряхтело, повздыхало, а потом проговорило внятно и глухо:
– Раньше плакать-то надо было!
Сашка сразу прервал рыдания, проглотил слезы.
– Чего-о?! – спросил он слабеньким дрожащим голоском.
– Чего слыхал, вот чего!
– Ты кто? – поинтересовался Сашка.
Существо засопело, запыхтело, пробубнило обиженно:
– Это тебя надо спросить – кто ты! Не я ж к тебе приперся, а?! Вваливаются всякие, как к себе домой! А так и до инфаркта довести недолго! Ты бы лучше того, убирался бы ты лучше к себе, восвояси, то есть!
Сашка разглядел два широкопоставленных тусклых глаза с фиолетовыми круглыми зрачками, широченную щель, чем-то напоминавшую рот, но почти не приоткрывающуюся, массивную и плоскую голову, вросшую в широченные плечи… Все остальное терялось в полумраке. Сашка не мог поверить, что такое существо, такая жуткая тварь могла обладать даром речи. Но она обладала. И надо было ответить.
– Да я это, случайно, – промямлил он, осознавая свою беспомощность и зависимость от любого, наделенного способностью к передвижению, живого существа. – Я не нарочно, так получилось, видите ли. Сам-то я там, у батареи, наверное, а голова вот… И как я могу убраться?! – Он осмелел, голос окреп, Я ж без рук, без ног, колобком катиться покуда не научился! Да и… – Сашка вдруг вспомнил про Светку-изменщицу, про свою жизнь никудышнюю, и выдавал с горечью: – Да и незачем! Кому я там нужен?!
– А здесь? – вопросило существо.
– Что – здесь?
– Кому вы здесь нужны, я спрашиваю?!
Сашка замялся. До него вдруг с пронзительной ясностью дошло, что он вообще нигде не нужен, что он лишний и тут, и там. Но куда ж тогда?
И все-таки он спросил, пытаясь разобраться, что к чему:
– А вы кто?
Существо махнуло неопределенно длиннющей рукой или лапой с множеством шевелящихся гибких пальцев на ней и ответило каким-то будничным невыразительным голоском:
– Да мы здешние, живем тут.
– И давно? – задал глупый вопрос Сашка.
– Да почитай всегда! – ответило существо.
– А я вот за стеной живу… – Сашка замялся, – раньше жил, то есть! Теперь, наверное, помер! – Он грустно вздохнул.
Существо вздохнуло вместе с ним, похлюпало, посопело немного и спросило в свою очередь:
– Чего ж это – помер?
– А откуда мне знать!
– И не помер вовсе! Мы ж тут не мертвые, живые. И ты стало быть живой покуда, ты погоди еще помирать-то!
– Значит, это не тот свет? – обрадовался Сашка. Существо призадумалось.
– Тот-то он тот! – проговорило оно с оттенком недоумения. – Но ежели ты думаешь, что это загробное какое царство или там, скажем, пастбище умерших, так тут ты ошибаешься! Наш свет он то ли параллельный к вашему, то ли перепендикулярный, то ли наискось лежащий, я в премудростях этих не шибко волоку, образования не получил, ты уж прости, но скажу попросту – наш свет к вашему свету – соседний, вот и все!
– Все?!
– Конечно, все! Чего тут голову ломать… – существо поглядело на Сашку и осеклось, – хм-м, впрочем, голова тут не причем, каждый как может, так и существует. Ежели нравится жить с одной головой – так и живи себе, мы не против! Надо только без шуму, гвалта и без всяких непрошенных вторжений! Да еще вот так, чтоб как из пушки прям!
– Извиняюсь! – ответил Сашка невежливо и грубо.
– Да теперь-то уж чего виниться! Теперь лежи себе, да глазей! А хошь, я тебя обратно закину!
– Как это?! – Внутри у Сашки все перевернулось, появилась надежда. У него даже голос задрожал.
– А вот как!
Существо ухватило своей лапищей Сашкину голову, сжало гибкими и сыроватыми пальцами словно какой-нибудь апельсин или яблоко. Размахнулось.
– Сто-ой! – завопил Сашка.
– Чего это? – удивилось существо.
– Вы мне сначала все объясните, как да что! А потом уже будем возвращаться… – прохрипел Сашка. Он теперь смотрел прямо в лиловые глаза – существо поднесло его голову к своей морде. Вид у него был неприятный и жутковатый. Но Сашка и глазом не моргнул – в гостях надо было вести себя подобающим образом.
– А чего тут объяснять-то? – удивилось существо. – Вот щас как швырну в стенку, так и выскочишь сразу, где положено, чего тут разговоры-то разговаривать?!
Сашка не дал ему и секунды на размышления, сомнения.
– Нет! – выкрикнул он. – Давайте погодим немного!
Не хотелось Сашке во второй раз пробовать собственной башкой крепость кирпичной стены. Да и представил он, как влетит вдруг его голова сейчас в Светкину комнату, как завопит она, а то и в обморок грохнется! Мало ей, что ли, его безголового тела у батареи?! Там сейчас, небось, уже и санитары, и следственная бригада, и отпечатки снимают, и понятые через плечи заглядывают… и тут вдруг его башка влетает! Нет, погодить надо было непременно!
– Вы мне хоть малость о себе поведайте, прошу вас, перед расставанием, ведь такая встреча, такая встреча! – залебезил Сашка.
– А какая встреча такая? Дело обыденное! – ответило существо.
– Как это?! Ведь первый контакт двух миров! – завопил Сашка.
– Это кому как, – вяло просопело существо, – нам все эти ваши дела уже надоели порядком, скукотища жуткая, хоть бы сменили чего!
– Так вы нас видали раньше?!
– И раньше, и позже, мы вас по-всякому видали! Это у вас там телевизоры и всякая такая мура, а у нас нету ничего, только на вас-то и глазеем… – Существо особо горестно вздохнуло. И выдало замогильным шипом: – Все вы нам настроение портите только! Эх, и безрадостное же зрелище!
Сашка был поражен. За ними наблюдают… да чего там, всегда наблюдали, следили! А они какмладенцы-несмышленыши! Они-то и не подозревали! А может, врет?
– Не-е, правда! – проговорило существо, угадывая мысли. Тошно нам на вас глядеть, тошно и противно, вот что я скажу!
Сашка вдруг обиделся, взъярился.
– Тошно, так и не смотрите! – заявил он довольно-таки строго, позабыв про дипломатичность.
Существо сжало его голову еще сильнее, поднесло к самым глазам, заглянуло в Сашкины глаза. И тому показалось, что существо это сейчас проникло внутрь его мозга, читает там что-то, самому Сашке не ведомое, срезает слой за слоем заложенное на всех уровнях сознания, подсознания и надсознания, срезает и тонюсенькими ломтиками перекладывает в свой мозг. Но ответило существо сразу:
– Как же не смотреть?! Мы не можем не смотреть! У нас зрение такое!
– Поня-ятненько-о, – протянул Сашка. Ни черта ему не было понятно.
– У нас один недостаток, – пожаловалось вдруг существо, видим мы только ваше прошлое и будущее во всех направлениях. А вот сего мига, настоящего, – не дано нам узреть! Может, это и к лучшему?!
Сашка пропустил большую половину мимо ушей. Уцепился за одно:
– Как это – во всех направлениях?
– Проще пареной репы! – разъяснило существо. – Ведь каждый поступок влечет за собою цепь других, так? А если там, скажем, человек поступает по-другому, что происходит?
– Что?
– Вся цепочка изменяется. Все складывается в общих рамках развития, но иначе, понял?
Сашка на вопрос не ответил. Но задал свой:
– И сколько может быть таких направлений?
– А сколько хочешь!
– Вот это да-а! – выдохнул Сашка. Ему вдруг показалось будто все можно переменить, все можно вернуть к лучшим денькам, к прежнему. Он поверил…
– Хошь, прошлое покажу? – поинтересовалось существо, подбрасывая Сашкину голову на ладони как волейбольный мяч.
Сашке не очень-то нравилось подобное обращение, но он терпел. В чужой монастырь не суйся со своими обычаями.
– Нет, не надо, и так видал, – ответил он. – Мне бы будущее!
– Какое?
– Ну-у… – Сашка не сразу сообразил, какое именно ему будущее нужно. – Да какое-такое?! Ну, то самое, которое должно было быть по цепочке-то по этой вашей.
– Понятно, – существо положило Сашкину голову на пол, отодвинулось, приподнялось на задние лапы – они оказались совсем короткими, раза в три короче передних. – Тут надо все четко выверить! Та-ак, лежал ты тут, это у нас до миллиметрика, та-ак-с, направление было задано такое, значит, тридцать восемь градусов… двенадцать минут… секунды, угол… прицельная щель, та-ак-с, все точнехонько. Все! Приготовились! На сколько обзор давать?!
– Как это? – не понял Сашка.
– Ну, стало быть, на сколько погружение в будущее и осмотр его?
Сашке стало страшновато. И он не решился на большой срок.
– Одной минуты за глаза хватит! – сказал он с искусственной бодростью.
– Минута, так минута! Значит, зададим начальный импульс послабже, вот и всех делов-то! Начали!
Существо отошло на три шага, качнулось, подлетело к Сашкиной голове и с такой силой пнуло в нее своей корявой лапищей, что голова футбольным мячом ударила в невидимую стену, но не отскочила от нее, а напротив, пробила! Сашка ослеп от яркого света, все замелькало, закрутилось перед глазами, замельтешило.
Он не сразу понял, куда попал и что происходит. А когда понял, ему и вовсе стало плохо. Огромным усилием воли он заставил себя смотреть, слушать – ведь всего минута была в его распоряжении.
Он сам, а точнее, его невидимая голова, висела над стоящими в огромной комнате людьми, висела эдакой люстрой. А люди стояли вокруг гроба. В гробу лежал он сам, Сашка, убранный цветами, лентами, прочей мишурой, лежал бледный, но отнюдь не безголовый – наоборот с самой настоящей головой, напомаженным лицом, подкрашенными губами… Смотреть было и впрямь тошно. Но Сашка смотрел.
Над гробом рыдала мать, стоял хмурый отец, чуть дальше друзья, товарищи, сослуживцы, родственники, знакомые и вовсе не знакомые люди.
Но больше всего поразила Сашку стоящая у изголовья Светка. Она была в подвенечном платье, фате. Она плакала, но как-то очень уж красиво и изящно, словно напоказ. Плакала, прикладывая к подведенным глазкам кружевной батистовый платочек, еле слышно всхлипывая, шмыгая носом. Никогда еще Светка не была такой красивой и привлекательной как сейчас, с нее можно было просто картину писать под названием «Добродетель у гроба» или «С любимыми не растаются». Сашка чуть было сам не зарыдал во второй раз.
Но его внимание привлек странный тип, стоящий рядом со Светкой и дергающий ее то за локоть, то за край фаты, то за платье. Тип этот был неказист и жидок. На нем поверх накрахмаленной белой сорочки была надета замызганная телогрейка, из кармана которой торчал разводной ключ. Тип был небрит, сизонос, мутноглаз, но зато он был при бабочке и в лаковых штиблетах. В руках он держал шляпу с зеленым перышком. Он шептал Светке на ухо. Но Сашка все слышал!
– Да пошли уже! – говорил тип Светке. – Горячее стынет!
Она молчала, хлюпала.
– Какого хрена с ним возиться, не понимаю, оживет, что ли?! Пошли, тебе говорю! У нас с тобой седни бракосочетание или что?!
– Щас! – нервно ответила Светка, выдергивая кончик фаты из грязной и отекшей руки. – Успеется!
– Ну, ты как хочешь, – заявил тип напыщенно и важно, – а у меня там шампаньское киснет!
Светка склонилась над телом, уронила на мраморный лоб слезинку. И прошептала типу:
– Передай, пусть без меня горячее на стол не ставят.
Тип дернулся было. Но потом опять припал к ней, шепнул:
– Ладно, я тогда, чтоб добро не пропало, посижу с полчасика на поминках у него… – он повел глазами на Сашку. Стакашек пропущу за упокой души!
Светка зашипела. И тип смолк. Ушли они вместе. Еще и минуты не прошло.
Сашку трясло и колотило, если вообще только может трясти и колотить голову без тела. Он готов был взорваться словно бочка, начиненная динамитом. Но не успел – его вдруг швырнуло обратно, в темноту.
– Ну как? – поинтересовалось существо.
– Нет, – ответил Сашка, – меня такое будущее не устраивает! Я туда не хочу!
– А куда ж ты хочешь?
– Надо еще поглядеть, может, в других-то направлениях получше будет, – с дрожью в голосе продекларировал Сашка.
– Ну нет! – отрезало существо. – Мне с тобой возиться недосуг! У меня обед скоро, прием, стало быть, пищи! А ты или тут лежи тихо, или давай назад вертайся! Там и сам выберешь направление! Лады?
– Лады? – машинально ответил Сашка. Перед его взором все еще стоял изукрашенный гроб.
– Ну, а лады, так и дело с концом!
Существо подкинуло на ладони голову раз, другой, а потом размахнулось и бросило ее в противоположную стену. Все произошло мгновенно. Сашка вдруг почувствовал, что лежит у батареи, что в руках и ногах покалывает, а голова разламывается от боли. Он жив? Жив! Да, он был жив! И это главное, все остальное приложится. Он приподнял голову. Но неожиданно накатила тьма, все пропало.
Сашка уже подумал было, что умирает, но темнота отступила. Пошатываясь, он встал сначала на четвереньки, а потом и в полный рост.
От дверей, так же ошалело, как и Светка, на него смотрел мужичонка-доходяга в ватнике и сапогах. На голове у него была зеленая шляпа с перышком, в руках обшарпанный чемоданчик, из-под ватника выглядывала чистейшая белая рубаха, стянутая в вороте цветастым галстуком. Вместе с тем как Сашка приходил в себя и постепенно выпрямлялся, мужик отходил к двери шаг по шагу, наконец и вовсе скрылся за нею. С лестницы еще долго неслось: «Вы у меня… я вас… мать вашу!..»
Голова болела жутко, заглушая даже ушибленное плечо и ободранные в падении руки. Сашка плюхнулся на диван, мрачно наблюдая, как суетится Светка. Та уже прикладывала к его лбу и затылку мокрое полотенце, ощупывала, бубнила без передышки.
– Да помолчи немного, – устало выдохнул Сашка. – И вообще, я сейчас пойду, не старайся.
Светка, оставив полотенце на голове, отступила на два шага, всплеснула руками.
– Ах, какие мы нежные, ах, какие чувствительные! С потолка свалился, да?! Ты чего взъелся, что за причина?! Дурак ты и неврастеник!
Светка отвернулась, затопталась на месте, не зная, то ли уйти из комнаты, то ли снова приняться за роль терпеливой медсестры. А Сашка как-то резко порастерял весь пыл. Мужичонка в ватнике, плюгавый и малосимпатичный, не вязался в его представлениях с образом коварного соперника, Светкиного тайного возлюбленного – это стало постепенно доходить до Сашки. И он раскис. Голова заболела еще сильнее, задергало остро и обжигающе. Он боялся поднять руку и пощупать затылок – а вдруг там дырка величиною с блюдце?
Но разве в дыре дело?! Он вспоминал этого мужичонку и ему казалось, что совсем недавно он его видал гдето. У подъезда? Нет. По дороге? Да нет, вроде. Скорее всего, у магазина, в толчее винной очереди? Нет! Не было там такого! Да и какая разница, где он видал этого мозгляка, какое это имело значение!
В Сашкиной голове вдруг прозвучали непонятные слова: «Ты и сам выберешь направление!» Какое направление? Куда? У него сейчас не об направлениях каких-то дурацких башка должна болеть! Его дело, ежели он настоящий мужик, придушить сейчас этого хмыря собственными руками, прямо здесь и придушить! Злость нарастала в Сашкиной груди. И он уже вскочил было на ноги. Он бы еще мог догнать этого прохиндея, запросто мог! Ведь тот все еще вопил с лестницы, все еще перекатывало эхом: «мать-перемать! мать-перемать!»
Уже вскочил почти… Но что-то в голове дернулось. И опять прозвучало про какие-то направления… И хватило мгновения, всего лишь мгновения, чтобы от сердца отлегло. И не то, чтоб совсем отлегло, а лишь чуточку, на малость малую. Но этой малой малости и хватило.
Сашка не встал.
Он лишь уперся руками в виски, принялся раскачиваться из стороны в сторону. Винные пары еще гуляли в головушке, туманили мозг. Но ни блажи, ни дури в нем почти не оставалось, так, немного, на чайную ложку. Перекипел, перегорел Сашка. А вместе с ним перегорело и улетучилось и все им выглушенное в один присест у магазинчика за углом. Улетучились и голоса, вещавшие про направления и какой-то выбор. Сашка тут же и забыл про них.
Молчание становилось тягостным. Каждый ждал начала разговора от другого. Сашка все-таки ощупал голову и, конечно, никакой дыры там не обнаружил, не было даже шишки. Но откуда же такая боль? Он смотрел Светке в спину и ничего ровным счетом не понимал. Та не выдержала.
– Ну чего ты всегда шум поднимаешь, – сказала она, присаживаясь рядом, – думаешь, очень приятно, да? Ну приходил слесарь, замок вставлял, ну что тут такого? Тебя ведь не допросишься! И откуда в тебе вообще эта дурь дикая, с приветом, что ли?!
Сашка молчал и соображал про слесаря, вроде бы концы с концами сходились. Но…
– Он проверял, зашел внутрь, закрыл на три оборота – вот и все! Сам закрылся и орет! Думает, это я чего-то тут, а я пробовала открыть, не выходит. А он еще изнутри грозится, говорит, дверь разломаю к чертовой матери, понимаешь! Я ему говорю: я тебе разломаю! Ты ее, что ли, делал, чтоб ломать! Еще слесарь, называется! А открыть – ну никак не может…
Сашка встал и прошел на кухню. Выпил воды прямо из носика чайника. Светка оставалась в комнате.
– И чего это с тобой всегда такая несуразица происходит? – крикнул он с кухни, чувствуя, что отходит душою. – И чего это ты такая непутевая?! – с ехидцей, но доброжелательно, говорил он, сводя все к шутке.
– Ты зато путевый! – донеслось из комнаты. – Такой путевый, что дальше некуда!
Сашка поплелся в комнату. Но по дороге, в прихожей, остановился. Из-за открытой двери высовывалась небритая рожа слесаря.
– Вот что, хозяин, – проговорил слесарь прежним баском, но с иными интонациями, – ты это, трояк за работу давай гони.
– Чего? – искренне удивился Сашка.
– Чего-чего, все путем, замочек врезал, так что за работу троячок гони! Коли чего поломал сам, так это твое дело. Давай, трояк гони, хозяин, а потом, если хошь, я тебе и замочек заново врежу и дверцу подправлю…
Сашка не выдержал.
– А ну, вали отсюда! – он вытолкнул мужика за дверь. Чтоб я тебя не видел больше! – и щелкнул входным замком.
С лестницы пробилась сквозь древесину и дермантин с поролоном такая матерщина, что Сашка резко распахнул дверь, вышел на порог.
Небритый пижон в шляпе сориентировался тут же, замолк.
– Все, хозяин, лады, – пробурчал он примиряюще и улыбнулся. – Давай рупь, и дело с концом!
Сашка понял, что дальнейшей борьбы он не выдержит, таких наглецов надо было поискать. Он полез в карман – самой мелкой из купюр была трешка.
– Держи!
Слесарь воровато заозирался по сторонам, сгорбился.
– Сдачи нету, – сказал он шепотом.
– Да иди ты уже! – Сашка переступил порог.
Вернувшись в комнату, он спросил:
– Ты заплатила ему?
Светка кивнула, встала с дивана, подошла ближе и обняла Сашку за плечи.
– А ты думаешь – по двум квитанциям каким-то замусоленным, четыре сорок… Я ему пятерку дала, да бог с ним!
– Ну и дурочка ты все же, – ласково проговорил Сашка, прижимая ее к себе. Чуть позже добавил на ухо: – А впрочем, бесплатных развлечений не бывает. – Ему было так хорошо и уютно с ней, что о цели своего сегодняшнего визита, как и об утренней необычайной решительности, он уже и не помнил.

Третья мировая война в разгаре
Интервью с писателем Юрием Петуховым
От редакции. По многотысячным настоятельным требованиям и просьбам читателей журнала «Приключения, фантастика» и нашей газеты корреспондент «Голоса Вселенной» побеседовал с писателем Юрием Петуховым. Встречу эту было организовать не просто – напряженный рабочий день писателя составляет не менее восемнадцати часов в сутки, а отношение его к газетчикам (и это при том, что он непосредственно связан с «Голосом»!) весьма и весьма субъективное, если не сказать большего. Полностью интервью будет опубликовано в журнале «Приключения, фантастика» и всероссийском вестнике «ПФ-измерение». Мы же даем его текст с большими сокращениями ввиду отсутствия газетной площади. Редакция считает своим долгом предупредить читателя: интервьюируемый по складу характера да и по роду деятельности является человеком эмоциональным, резким, предельно откровенным, далеко не все его высказывания могут понравиться вам, большинство суждений разительно отличается от тех стереотипов, что навязали нам «демократы» и «консерваторы» за годы «перестройки». Редакция надеется, что читатель с терпимостью отнесется к словам писателя, ибо по нашему разумению, не желание обидеть кого-либо, оскорбить или обвинить движут им, а лишь боль, вопиющая, страдающая совесть и отчаяние при виде гибнущей страны, уничтожаемого народа. Особо, впечатлительных, неуравновешенных, а также слабых духом (в наше время это уже нельзя считать пороком) мы просим пролистнуть эти страницы во избежание нервных срывов и расстройств иного рода. А начнем мы с тех вопросов, которые были заключены в ваших письмах…Корреспондент. Юрий Дмитриевич, по стране о Вас ходят легенды и мифы, читатели нас замучили, причем, что интересно – чуть ли не в каждом письме своя версия: одни считают Вас «узником совести», просидевшим десятки лет в троцкистско-сталинских лагерях и скрываемым от народа, другие утверждают с полной уверенностью, будто бы Вы совсем недавно вернулись из эмиграции, что даже гражданство Вам еще не успели вернуть и что большинство Ваших романов написано на английском языке, а уже потом переведено на русский, третьи намекают, что Вы вообще никакой не писатель, а один из крестных отцов всесоюзной мафии, один из кашалотов «теневой экономики», который скупает все талантливое у бедных, затянутых в наркотические сети авторов и выдает их за свои в жажде не только богатств, но и литературной славы… Юрий Петухов. Простите, тут Вы мне напомнили совсем иного «кашалота», всесоюзного крестного отца, правда, отнюдь не «теневой» экономики. Не очень-то приятное сравнение, тем более, что никаких «богатств» я своими романами не нажил, чинов и орденов и подавно! Корр. Это еще не худший вариант! Четвертые вообще не верят в Ваше существование, так и пишут: нет никакого писателя Юрия Петухова, это, дескать, миф! легенда! А есть, как они считают, какое-то творческое объединение одаренных литераторов, художников, публицистов, поэтов, ученых, журналистов, критиков. И им не откажешь в логичности построений: где это видано, чтобы один человек писал и фантастико-приключенческие романы и сугубо научные труды по истории, филологии, лингвистике, чтобы он выпускал книги публицистики и тут же лирические поэмы, стихи – да еще со своими собственными иллюстрациями, не говоря уже про запрещенные работы, которые и поныне не могут пробиться к читателю. Ведь это физически невозможно! Согласитесь! Ю. П. Может, и невозможно. Но ведь я же сижу перед Вами, а стало быть – существую. Любая экспертиза подтвердит, что все Вами перечисленное, написано одним лицом. Тут, наверное, в другом дело. Мои вещи обрушились на читателя довольно-таки неожиданно – в последний год. Но ведь писались-то они не год и не два. У нас в стране, и не только у нас, существовала, существует и еще долго будет существовать изощренная и многосложная система сокрытия нежелательных авторов. Тут ничего поделать невозможно! Скажем, за последние десять лет советские издательства выпустили всего лишь три моих книги, причем, настолько их изуродовав, переврав и перепортив, что и моими-то я их считать не могу. На прочее же просто был навален тяжеленный свинцовый крест. Газетные и журнальные публикации сокращали, обрезали, искажали до неузнаваемости… Что об этом говорить! У меня ведь нет собственного сыскного агентства, и я не знаю точно – кто именно организовывал травлю в масштабах страны, кто давал негласные инструкции издательствам и редакциям, кто запрещал публикацию обо мне каких-либо сведений кроме порочащих. Корр. Были и такие?! Ю. П. Были! И, можете не сомневаться, еще будут. Система работает. После тех инструктажей, которые мне давали в так называемых «вышестоящих органах», после телефонных звонков с угрозами и подметных писем, состряпанных неизвестно кем, у меня никаких иллюзий оставаться не может. Хотя… это все надо пережить. Не будем травить душу читателю. Корр. Зато какой теперь успех! Какой триумф! Три миллиона… Ю. П. Это хорошо, что Вы мне напомнили про три миллиона и триумф. Позвольте выразить всей редакции «Голоса» крайнее мое неудовольствие и протест по поводу дифирамбов, которые пелись в первом номере! Так нельзя делать даже из благих побуждений, это уже какая-то иная крайность. Надеюсь, впредь ничего подобного не случится! Корр. Юрий Дмитриевич, мы написали то, что есть, не приукрасив ни слова, ни цифры… и кстати, сейчас число желающих подписаться приближается уже к пяти миллионам. А многие пишут: «у нас бы и еще прислали заявок, да сомневаются, слишком необычно». Так что число потенциальных подписчиков можно смело увеличивать и втрое, и вчетверо! Чего ради мы должны умалчивать факты?! Ю. П. Дело не в фактах! Дело в ответственности! Вы можете пообещать каждому из приславших заявку, что он получит собрание сочинений? Нет?! И я не могу! Нас душат! Нас давят со всех сторон! Кто нам позволит развернуться до миллионных тиражей?! Проклятый дефицит! Это мы с Вами прекрасно знаем, что он искусственный, что в стране навалом бумаги и простаивают типографии, что можно выпускать сколько угодно печатной продукции, на всех!!! Но читатель этого не знает, ему заморочили голову бесконечными запугиваниями: того нету, сего нету! И все покорно жмутся по своим углам, готовы терпеть и молчать! А бумага гниет и мокнет на складах, станки плесневеют и ржавеют, колбаса разлагается на свалках, рыба тухнет в трюмах… Мы не имеем права обнадеживать людей, мы не имеем права уподобиться тем болтунам, что обещали горы золотые, а усевшись в кресла, позабыли про все и сровняли с землею даже пригорочки. И потому – не надо лишних слов! Только дело! Только дело! Корр. Ну, хорошо. Вернемся же к теме, Вы так и не ответили на многие вопросы. Ю. П. Тогда слушайте. В лагерях я не сидел, в психиатрических спецтюрьмах тоже. Хотя ходил по лезвию, иногда клевал на провокации… но всегда что-то удерживало, что-то спасало, наверное, работа, вся эта бесконечная писанина. Работа помогала не замечать слежки, не думать о тяготах, об этом страшном полулегальном существовании, о возможности каждую секунду распрощаться если не с жизнью, то со свободою – это жуткое напряжение, если бы не писанина, или сошел бы с ума, или же – в петлю. Первые годы травли пытался бежать в гульбу, запои, лишь бы хоть на время уйти от реальности невыносимого бытия. Это не спасало, лишь усугубляло дело… Но прихвастну малость, позволю себе: так пройтись по лезвию и не свалиться ни влево, ни вправо, ни на острие, мало кому удавалось, может, и вообще никому, ведь сгорали на мелочах, на пустяках, на случайно оброненном слове, на оставленной записке… нашего брата били с двух сторон: и власти, и пятая колонна, мы были изгоями и в собственной стране и за рубежами ее, где официальных советских диссидентов принимали с распростертыми объятиями. Нам же нигде не было места! Сейчас, когда я слушаю все эти басни о том, как настрадались наши придворные диссиденты в Союзе, как их выперли якобы отсюда, я испытываю приступы тошноты! Насильно выдворили из страны Александра Исаевича Солженицына, подлинного русского писателя, подвижника Святой Руси, еще троих-четверых вывезли чуть ли не в мешках. Но все те, что сейчас въезжают в Россию на белых конях, уматывали на запад, потому что им не на что было уже тратить здесь свои деньги, они были пресыщены изданиями, премиями, наградами, их подолгу уговаривали, чтоб они остались – уговаривали все подряд: и партейцы, и гэбэшники, и в творческих союзах, обещали еще орденов, чинов и премий, но они хотели долларов! долларов!! долларов!!! Хотели они, разумеется, и раскрепоститься в творчестве, это понятное дело… но все раскрепощение выливалось в известную форму: «Россия – сука!» Обратите внимание, «страдальцы» обижались почему-то не на власти, не на органы, не на партию, а на Россию, на Русский Народ! Можно подумать, это от народа они обиды терпели. А настоящие-то страдальцы и страстотерпцы так из лагерей и не выбрались, так и сгинули в них навечно, многих мы не узнаем никогда! И к слову, Вы напрасно назвали лагеря эти «троцкистко-сталинскими». Систему концентрационных лагерей в России ввели по указам Ленина, Дзержинского, Бухарина, Троцкого, Свердлова и прочих, так что выделять двоих не стоит. И система эта продолжает процветать – вполне можно добавлять в цепочку имена всех последующих руководителей. Интересно, что наряду с ней, параллельно, с успехом вводится новая система концентрационных лагерей: система «лечебно-трудовых профилакториев»! Такой новации, такого архипелага не могла себе вообразить даже «сталинская административно-командная система» – при ней пресловутой «тройке» хотя бы для виду надо было обосновать ярлык «врага народа», а ныне – стандартное заключение никому не ведомой медкомиссии, и вперед – за колючую проволоку. Я твердо верю, что узнаем мы всю правду обо всем еще нескоро, когда появится титан наподобие Солженицына, когда он как продолжение «Архипелага ГУЛАГА» напишет второй том документальной хроники-трагедии, и будет тот том называться «Архипелаг ЛТП». Корр. Но ведь надо же лечить больных, надо исправлять их?! Ю. П. Вот-вот! И раньше всё «лечили», да «исправляли». Хороши лекари с овчарками да автоматами! Тут дело в другом: тогда не трогали пьяниц, потому что здоровых рабочих рук в достатке было по стране – загребай и сажай дармовую рабсилу, вот тебе и «стройки коммунизма», а сейчас дошло до того, что здоровых ребят для армии не хватает, народ поискалечили, довели почти до вырождения – если геноцид будет продолжаться такими же темпами, через поколение в лучшем случае всесоюзный инвалидный дом-лагерь образуется на нашей территории, а в худшем… читайте «Чудовище», там все описано, правда, я в этом романе старался сгладить многое, приукрасить – если писать «чистую жизнь» этого жуткого грядущего, читатель не выдержит, есть пределы восприятия, после которых наступает шок или же необратимая депрессия. Тут особая закалка нужна! Корр. Насколько я понял, Вы работали в России? Ю. П. Да, слухи об эмиграции преувеличены. Надо жить болью своего народа. Не каждому дано хранить его боль на чужбине. Подлинной эмиграцией была Великая Белая Эмиграция – плоть от плоти России, все остальное это уже «а над Гудзоном тучи пролетают» в ритме «семь-сорок», это водевиль одесского пошиба, это нечто вроде кэвээновских «джентльменов» с местечковыми ужимками. Про исключения я говорил. К тому же Вы знаете, что такое быть «невыездным»! С большим трудом, на грани нарушения закона удалось объездить бывшие наши дорогие соцстраны. Но чтобы бежать куда-то навсегда – нет, только под дулом пистолета! Да и то, прямо сказать, не побегу уже, пускай на родной земелюшке стреляют! Корр. Давайте оставим политику, у нас газета иного направления, люди хотят немного отвлечься от ужасного бытия, почитать что-то интересное, увлекательное, погрузиться в романы… Ю. П. Вот Вы сказали «отвлечься» – очень к месту. Отвлечься, рассеяться, передохнуть. Вы сами-то прекрасно знаете, но для читателей я все же скажу: романы строчу в часы и минуты отдыха, после настоящей своей работы. Везде пишут почему-то: «писатель-фантаст» Юрий Петухов. Почему? Я себя никогда не называл так. Увлечение это никогда не было главным в моей жизни. Занимаюсь я серьезным, даже сухим и для многих скучноватым делом: копаюсь в «преданьях старины глубокой». История, лингвистика, археология, мифология, этногенез – вот моя подлинная работа, вот моя настоящая жизнь. В ней практически нет места фантазии, наука требует напряженной работы мысли, определенного воображения, гибкости ума… но не фантазии. Другое дело, что потом, после титанического напряжения, после скрупулезного и долгого исследования сдерживаемая фантазия, накопившийся заряд невоплощенной мысли воплощаются в роман, повесть или, скажем, поэму. Но для меня это как игра. Корр. На научной ниве Ваши дела шли успешнее? Ю. П. Я бы не сказал. На свою беду я выбрал для исследования не международное рабочее движение и не историю, скажем, парижской коммуны, а историю славян. Это практически запретное дело не только у нас, но и во всем мире… Корр. Это, по-моему, нонсенс… Во всем мире царит свобода исследований. Ю. П. Разумеется, полная свобода. За исключением отдельных моментов. Есть некоторые вещи, которых не желают официально признавать. Хотя, я уверен, ведущие историки мира абсолютно четко представляют себе подлинную картину. Вот, скажем, когда Карамзин или Соловьев ограничивали время появления славян третьим-пятым веками нашей эры, это понятно – у них не было мощнейшего щупа современного исследователя, не было лингвоанализа, других методов. Наши исторические познания искусственно заморозили на уровне XVIII века – я говорю лишь про сведущих людей, у прочих вообще никаких познаний в рамках советского обучения нет. Наука же сделала колоссальный прыжок! Не буду описывать, скажу лишь, что есть все основания считать славян и протоиндоевропейцев одним этносом, породившим народы Европы и часть народов Азии. История россов-протославян насчитывает не менее двенадцати тысячелетий! А нам усиленно вбивают в голову, что наш предок вылез из каких-то болот в девятом или десятом веке нашей эры. Нас нагло и цинично обманывают, смеясь нам же в лица! Корр. В чем же дело? Ю. П. Гипертрофированный национал-патриотизм германцев – и немцев, и англичан, и скандинавов, не позволяет ученым этих стран признать очевидного. Стоит только коснуться исследования славянских древностей – и они сворачивают все работы, они просто не хотят допустить даже самой мысли, что их народы – лишь ветви на могучем протославянском древе, что их языки – это преобразовавшиеся диалекты протославянского языка. То же самое можно сказать про романцев, греков, индийцев, которые все же еще чувствуют свою связь с Россией, но у которых практически нет исторической науки. Корр. А как наши ученые реагируют на Вашу теорию? Ю. П. Те, кого Вы называете «нашими» учеными, не хотят ссориться ни с немцами, ни с англичанами, ни со шведами – они очень любят загранкомандировки, стажировки за морем, и они прекрасно понимают, кого приглашают, а кого нет. Это первое. Второе в том, что за исключением единиц всю русскую историческую школу физически уничтожили, мало кому из ее представителей удалось бежать в двадцатые годы… А перед советскими историками была поставлена определенная цель: раз и навсегда покончить с «великоросским великодержавным шовинизмом». Вот и покончили! И с «шовинизмом»! И с самими великороссами. При всем моем уважении к Великому Русскому Народу скажу прямо истинных Великороссов нам надо будет возрождать – медленно, постепенно, но обязательно! А что касается моей научной монографии «Подлинная история русского народа», то она трижды рецензировалась Отделением истории Академии Наук СССР. Ни один из аргументов монографии рецензенты опровергнуть не смогли – они неопровержимы, и это подтвердит любой серьезный и честный исследователь. Но к публикации в научной печати труд не приняли – по их заключению монография должна была вписываться в схемы, созданные административными чинами Академии. Монография не вписывалась в эти схемы. Рисковать никто не захотел. Корр. Ну и какая у нее судьба теперь? Ю. П. Запрета пока не сняли… Корр. А что – разве накладывается какой-то запрет? Ю. П. Не будьте наивны! Ни на романы, ни на труды иные никто уже давно не выдает «официальных запретов» со штампом и подписями. Их просто не пропускают нигде. Сверху дают негласную команду: «не печатать ни при каких обстоятельствах». И все! Никакие законы о печати и гласности, никакие «перестройки» вам не помогут в этом случае. Если на ваше произведение наложено «вето», можете его класть в стол и смело лезть в петлю или просто позабыть про все, иначе истреплете все нервы и закончите жизнь в психушке. И все же дела не столь плачевны. Мне удалось добиться публикации чрезвычайно малым тиражом популярного изложения моего труда. Это изложение выйдет отдельной книгой под тем же названием. Но хочу предупредить читателя – даже это популярное изложение написано сугубо специфично, в нем сможет разобраться лишь знаток или же большой любитель истории, мифологии, лингвистики. Переложение для свободного чтения, я надеюсь, сделает кто-либо из моих коллег по литературе. Очень мало времени! Корр. А ведь Вы обещали отвечать на письма читателей! Ю. П. Опрометчиво пообещал. Теперь корю себя. На миллионы писем ответить невозможно. Надо бросать тогда писанину, бросать все. Но вот этого как раз читатели мне и не простят. Корр. До недавнего времени считалось, что самую большую корреспонденцию в стране получает Президент. Что Вы скажете по этому поводу? Ю. П. Подсчитывать не берусь. Но я как-то слышал, что, дескать, Михаил Сергеевич успевает просматривать свою почту и даже отвечать многим, причем просматривать почти всю. Для меня подобная задача невыполнима. Корр. Как Вы пишете свои романы? Ю. П. Это особый процесс. Я отключаюсь полностью, переселяюсь в вымышленный мною мир и живу в нем. Иногда мне кажется, что я сам не имею ни малейшего отношения к этому миру, что он вовсе не является порождением моей фантазии. У меня возникает такое ощущение, будто некая Высшая Сила берет мой мозг, а может, и целиком, всего меня, и переносит в самое реальное, настоящее будущее. Понимаете, я чувствую себя в эти минуты и часы не писателем, не творцом, а очевидцем, описателем, хроникером… Корр. Извините, Юрий Дмитриевич, но ведь будущее в Ваших романах бывает разное: будущее в «Звездной мести» – это одно, а будущее в «Чудовище» или «Сатанинском зелье» – другое. О какой реальности может идти речь? Ю. П. А кто Вам сказал, что будущее одно?! Это ошибка! Это последствие нашего примитивного первобытного мышления. Каждая узловая точка бытия дает множество разветвлений. И мы просто не знаем, где именно окажемся мы после прохождения этой узловой точки, а где наши отдвоившиеся клоны. Другое дело, что есть магистральная дорога будущего и есть ответвления и тупики. Страшный тупик – это Подкуполье из «Чудовища». Мы можем попасть в этот тупик, выродиться в мутантов, на которых будут охотиться наши собратья по «общеевропейскому дому» и заокеанские добродетели. Но мы должны найти в себе силы, отказаться от того гибельного пути, на который нас толкают сейчас всем миром. И тогда мы пойдем по магистрали, по той великой дороге, что предначертана нашей Державе и нашему Народу Господом Богом и самим естеством нашим. Вот тогда мы придем к будущему, чем-то похожему на то, что описывается в «Звездной мести», к будущему Великой Возрожденной России, в сердце которой стоит Несокрушимая Твердыня Храма Христа Спасителя. Я верю в Возрождение! Корр. Сейчас?! Когда мы летим в адскую бездну?! Ю. П. В истории России часто бывали времена, когда казалось, что все летит к черту на рога. Правда, ничего подобного произошедшему с ней в нашем веке, пока не случалось… и все же нельзя терять веры. Надо верить в Спасение! Недаром ведь сказано, что Бог испытывает того, кого любит. В этом заложен огромный смысл. Вы вспомните – на Россию ополчались все племена, все народы, на нее набрасывался весь мир, казалось она не выстоит, погибнет… Но она всегда возрождалась, всегда сбрасывала с себя врага. Если считать всерьез, Россия не проиграла ни одной войны за всю свою историю, она побеждала если не мечом на поле брани, то долготерпением, выносливостью, верой, трудом. Почему мы должны считать, что Россия проиграет эту войну? Корр. Не совсем понимаю, о какой войне идет речь. Я не слишком привык доверять метафорам, эпитетам. Вы, наверное, намекаете на нынешнее тяжелое положение? Или может быть, подразумеваете грядущую третью мировую войну, которой нас пугают уже пятьдесят лет, но которая все никак не разразится. Никто не верит в саму возможность начала этой войны, особенно теперь, после так называемой оттепели… Ю. П. Можно верить, можно не верить… но третья мировая война давно идет, она в разгаре! Не делайте удивленного лица. Все мы прекрасно знаем, ради чего ведутся мировые войны, верно? Это передел зон влияния, перекройка мира, перераспределение сырьевых регионов планеты, рынков сбыта продукции и рынков дешевой рабочей силы. Нас намеренно оболванивали долгие десятилетия, пугали бомбами и ракетами, грозили термоядерной катастрофой. Но поверьте, те, кто нас дурачил – и с одной, и с другой стороны – прекрасно знали, какую они ведут игру. И им ровным счетом было наплевать, что миллиарды людей запуганы и забиты, что они ждут сверху чего-то страшного, более того, именно этой запуганности и забитости добивались двусторонней пропагандой. А когда массы созрели, когда уже никто ни черта не понимал, идущая тихой сапой третья мировая война за колонии, рабсилу и рынки перешла в новую фазу, если хотите – «решающую». И силы на фронтах распределились следующим образом: на одной стороне обескровленная, разграбленная Россия, на другой – весь мир, включая не только тех, кого мы вполне обоснованно называли потенциальными противниками, но и бывшие «друзья»-соратники. На обессилевшую, подготовленную к разграблению Россию набросились все, у кого сил хватило дотянуться. Корр. Страшная картина! Ю. П. Картина значительно страшнее, чем мы можем себе представить. Стремительно разрушается система всепланетного равновесия. В течение тысячелетия Россия была несмотря на все беды и горести могучей сверхдержавой, гарантом мира на планете. Россию не могли перетянуть на всемирных весах ни Византийская империя, ни Орда, ни объединенная германо-польско-шведско-литовская средневековая Европа, ни Императорская Франция, взбаламученная авантюристом Наполеоном, ни кайзеровская Германия, ни гитлеровский рейх! Свыше тысячи лет наша планета, ее цивилизованная часть держалась на России… И вот сейчас, в одночасье Величайшая Держава мира превращается в кучку марионеточных государств, которыми управляют извне. Корр. Кто? Ю. П. Да все, кому не лень. В первую очередь, конечно, Штаты. Те самые Штаты, которые были созданы лишь благодаря России. Мало кто сейчас у нас вспомнит факт, что Россия не позволила Англии подавить бунт в ее заокеанской колонии – одна лишь Россия! Своим рождением США обязаны нам. И вот благодарность. Крестная мать погибает при немалом старании своей крестницы. Миллиарды долларов, вложенных в «русские» революции, миллиарды на разжигание национальных страстей. Что рассчитывают получить вкладчики? Думается, не только наши территории, лес, нефть, бесплатную и бесправную рабочую силу, алмазы, золото, меха, панты и другое, но и безраздельное господство в мире! Это серьезный куш! Уже сейчас Штаты празднуют победу в третьей мировой войне! Иначе они бы не сунули носа к Ираку, Вы поглядите, на чужой земле они ведут себя как господа, они указывают, кому как жить, кому и за какую цену продавать нефть – цинизму и наглости нет предела. Они уже требуют, чтобы и наши войска участвовали в их агрессии на Ближнем Востоке! Это не просто нахальство, это требование победителя – вспомните историю: когда Орда завоевывала азиатские, европейские государства, она первым делом заставляла армии, войска, дружины побежденных участвовать в своих завоевательных походах, причем против бывших союзников-друзей. Вот и нас толкают идти с мечом под американским флагом на Ирак. Безусловно, нельзя было захватывать суверенный Кувейт. Но станет ли лучше оттого, что американские ястребы обрушат свои бомбы и ракеты на безвинный иракский народ и к уничтоженным сотням кувейтцев добавят сотни тысяч иракских трупов. Что это за справедливость такая на крови?! Кому, кому, а уж нам-то знаком подобный метод. Но наши «демократы» вопят, словно одержимые бесами: «в поход!!!» Мы проигрываем по всем пунктам. Наши оборонительные рубежи разрушены, мы отброшены чуть ли не к Москве, как в 41-м году! Бывшие союзники по Варшавскому Договору через год будут в НАТО, в Европе оставлено в качестве контрибуции имущества на несчитанные миллиарды рублей. Американцы ниоткуда не уходят, уходим только мы! Нас заставили сократить вчетверо больше ракет средней дальности, причем ракет сверхсовременных, каких штатники не смогли сделать – они сами в этом признались – в ответ они списали керосиновые лоханки «Першинг» начала пятидесятых годов, списали те, что и подлежали списанию. Вспомните, в завоеванных странах всегда победитель разрушал оборонительные рубежи побежденного, разрушал крепости, уничтожал то оружие, которое невозможно вывезти. Далее, более сорока лет назад победители-американцы вывезли из побежденной Германии почти всех ученых и заставили работать на свою оборону. Нынешняя утечка мозгов из России в США, Англию, Германию, Израиль многократно превышает ту, послевоенную немецкую утечку. Да еще используются иные методы – как писала пресса, теперь многие наши военные НИИ будут работать по заказам Пентагона, в частности, на американских спутниках, разрабатываемых по программе «звездных войн» СОИ, будут устанавливаться советские ядерные микрореакторы и т. д. Знаете, я очень не люблю палача русского народа Сталина-Джугашвили, но в данном вопросе солидаризировался бы с некоторыми стариками и сказал бы с чувством: эх, христопродавцы, Сталина на вас нету! Палач он был и разрушитель России, но он не допустил бы оснащения фашистских самолетов, летящих бомбить Москву, советскими бомбами, даже он понимал, что это было бы пределом цинизма и подлости! Нас заставили разобрать Красноярский локатор, несмотря на то, что подобные сооружения прекрасно функционируют в натовских странах – опять сотни миллиардов на ветер. Сотни миллиардов народных денег! Нас все укоряют в бедности, «нецивилизованности». Хорошо, пусть мы были бедны. Но задумаемся, сейчас мы не просто бедные, сейчас мы нищие! Так что же лучше: быть бедными, но могучими или нищими и слабыми?! Нашу армию – лучшую армию в мире (и это признает любой зарубежный кадровый офицер) разваливают со всех сторон, потому что это русская армия, потому что в настоящее время, когда и «народные избранники» и правители отказались от народа, лишь она остается оплотом России. На фронтах жесточайшей третьей мировой войны, в которой сгорает наша Отчизна, против России и Русского Народа исполчились не только внешние враги и внутренняя пятая колонна, но и власть имущие, примкнувшие к побеждающей стороне. И такое бывало в нашей истории: бояре сдавали Москву польским интервентам, возводили их ставленников на престол… так себя могут вести по отношению к коренному населению только совсем чужие, чуждые силы! А улыбки на лицах – это хорошая мина при плохой игре. Ужасна участь нашего народа, если он будет побежден окончательно – подняться с колен нам не дадут. Вот посмотрите, сколько лет уже нас западники похлопывают по плечу и поговаривают по-ильичевски: «Вы на правильном пути, товарищи!» Их здешние ставленники с экранов телевизоров уверяют русских людей – вы плохо работаете, с вами трудно делать перестройку, вы получаете больше, чем производите! И мы верим в этот бред, вот что горько. А ведь выплачивают русскому человеку лишь десятую часть того, что он зарабатывает. И он плохо работает! Цинизм и подлость! На западе изобилие товаров, но туда эшелонами и «антеями», теплоходами и тягачами везут наши товары. Что ж это за гнусность такая, ведь грабят нищих, обездоленных, для того, чтобы у богатых и заевшихся было еще больше выбора, чтобы в каждом, скажем, английском местечке стояли телевизоры не только японские, американские, корейские, бельгийские и т. д., но и советские. А что в России их нет – плевать! Это все похоже на послевоенный вывоз из той же Германии! Или вспомните Брестский позорный и подлый мир, когда вывезли три четверти богатства Российской Империи. Вот и сейчас – с побежденного взимают контрибуции… и хлопают по плечу, и шлют грузовик кукурузных хлопьев (вспомните, как мы кормили немцев после победы). Разве это не война?! Передел мира практически завершен. Дальний Восток, можно сказать, нам уже не принадлежит – почти все его территории отданы в концессии. Сибирь отдана под химические производства. Алмазы, золото, меха, пушнина, икра и прочие природные богатства проданы на корню за бесценок на десятилетия вперед. Почему заключены позорные договора? А какие еще заключают с побежденными?! Сейчас в большей степени идет война между местными посредниками – кто дешевле продаст очередные российские ценности. Почемудешевле? А потому, что за выгодный контракт он получит премию от западных хозяев больше. Именно по этой причине и пресса, и телевидение, сосредоточенные в руках пятой колонны, внушают нам комплекс неполноценности: вы ничего не стоите, вы ничего не умеете, все у вас плохо… а вот придут варяги, они вас и научат жить! И верно, для того, чтобы купить нас по дешевке, надо унизить нас до предела, обобрать нас, сгноить наши урожаи на корню – дескать, и накормить вы себя не можете, дескать, зовите американского фермера, он вас спасет. И будто бы никому невдомек, что наши урожаи уничтожаются специально, чтобы процветал этот «американский фермер» и вся цепочка посредников; будто бы невдомек, что у нас организуются дефицит за дефицитом, чтобы выручить прогорающие западные фирмы, перебросить сюда за нашу же заработанную валюту залежалый товар, а потом и сгноить его тут, чтобы дефицит был бесконечным! Так ведут себя только с униженным, поставленным на колени побежденным. Недалек тот день, когда все наши суперсовременные, созданные нами «неспособными», космические, ракетные, авиационные, корабельные фирмы, будут работать только на запад. А мы будем гнуть спины на новоявленных уничтожителей России, на всевозможных хаммеров за поистине «деревянные» рубли. Приглядитесь, чем чаще и больше ездят на консультации за океан наши вершители, тем хуже дела в стране! Неужели вы поверите, что страна сама по себе вдруг стала разваливаться, что вот, дескать, народы ее спали, а потом вдруг проснулись, обрели самосознание национальное и захотели стать суверенными?! Это же смешно! Национальная бойня развязана искусственно при помощи пятой колонны. Этот метод стар как мир. Еще в древности завоеватели посылали бунтарей в страны, которые их прельщали, сеяли там рознь, злобу, недовольство. По сути сейчас под аплодисменты и гром салюта победителей и их местных исполнителей осуществляются гитлеровские планы: самостоятельная Молдавия, самостийная Украина, германизированная и нацистская Прибалтика, раздел России на четыре части – и полный контроль надо всеми этими марионеточными государствами, абсолютное владение их природными и людскими ресурсами. В ход идет все: разрушение Всероссийского национального единства, развал Православной Церкви – могучей и объединяющей силы… Корр. А церковь разве кто-то разваливает? По-моему, сейчас стало проще со всеми церковными делами и свободой вероисповедания?! Ю. П. На первый взгляд! Стало значительно сложнее. И вот почему – провоцируется искусственный раскол Русской Православной Церкви путем сеяния розни между различными ее возрастными и территориальными единицами. Кроме того в страну искусственно внедряют некую «международную» церковь, что-то на вроде нового церковного «интернационала». А мы ведь знаем на опыте, чем кончаются «интернационалы» – миллионами смертей, разрухой, упадком. Будто во времена крестовых походов простер над Россией свою страшную и цепкую длань папа римский. Первым делом Президент наш заключил соглашение с Ватиканом. И тут же начались бойни на Западной Украине, тут же начали громить православные соборы, убивать священнослужителей. Католицизмом одурманивают молодежь под вывеской «общезападной» «фирменной» культуры – молодежь клюет. Как и в 17-м году ставка делается на раскол и отчуждение поколений. Но если тогда были устои, традиции, духовное развитие, то ныне все падает на благодатную, подготовленную руссоненавистниками почву. Корр. Мрачно, очень мрачно. И все же, что Вам кажется наиболее страшным в этой ужасной войне, в этом бескровном сражении? Ю. П. Бескровном? А Чернобыль? А миллионы смертей от химических отравлений? А девять больных на десять новорожденных?! Кровь льется водопадом, Ниагарой! Мы просто не желаем ее замечать! А народ уже на пределе! Фактически смертность Русского Народа давно превышает его рождаемость. Война, да еще такая как эта, не может быть бескровной! Это война на полное уничтожение! Это геноцид! А что самое страшное? На мой взгляд то, что средства массовой информации, вещающие на русском языке, находятся в руках тех, кто ведет войну против русских – почти все! Обратите внимание – с какой маниакальной навязчивостью, целеустремленно, настойчиво русским людям внушают: все идет нормально! все идет к лучшему! а если что не так, сами виноваты! Кайтесь! кайтесь!! кайтесь!!! В чем каяться русским людям? В том, что их почти полностью истребили?! В том, что их разорили дотла?! Вот этот обман страшен. В нем я вижу Зло подлинное, великое, дьявольское, ибо на такое чудовищное Зло не способен человек, оно по плечу лишь сатанинским силам. И вот от этой дьявольщины и надо отречься! Надо сказать себе – чур! чур меня! изыди сатана!!! ты больше не обольстишь меня, не обманешь, не заставишь меня униженно лизать сапоги заморских господ и их местных лакеев! я великий русский человек! я создал Великую Страну! и я не позволю ее разрушать! не позволю глумиться над собой!!! Правда! Сейчас нужна только Правда! Я верю, что Россия переживет эту страшную затянувшуюся третью мировую войну! Верю, что и на западе и на востоке найдутся добрые люди, что они воскликнут: что мы делаем?! мы же уничтожаем величайшую культуру?! мы убиваем цивилизацию, которая дала нам всем жизнь и которая нас удерживала от кровавой бойни Востока с Западом тысячи лет! мы не имеем права быть столь бесчеловечными! Мне кажется, в первую очередь России должны помочь ее сыны и дочери, разбросанные по всему миру, они должны вспомнить про свою Мать! Они сохранили Веру, они сохранили Силы, они должны влить свою здоровую кровь в наши высохшие вены. Они должны остановить наших убийц! Остановить грабеж Родины!
На руинах третьей мировой войны
Капитуляция подписана
Из запрещенного интервью с писателем Юрием Петуховым
(фрагменты)
Примечание редакции. Мы берем на себя смелость опубликовать отдельные отрывки из беседы нашего корреспондента с писателем Юрием Петуховым. Редакция ответственно заявляет, что не разделяет точку зрения интервьюируемого на процессы, происходящие в нашей стране и за рубежом. Редакция подчеркивает, что всегда занимала открыто демократические позиции, под-держивала курс на свержение тоталитарного режима. Редакция всецело и безоговорочно поддерживает курс нынешнего руководства страны (союзного и российского), заранее приветствует и одобряет все инициативы, предпринимаемые на благо советского и российского народов. Объединенное демократическое движение, по мнению редакционного коллектива, является на нынешнем трудном этапе главной направляющей силой, умом, честью и совестью эпохи. Измышления писателя Юрия Петухова публикуются в предельно сокращенном виде исключительно из соображений плюрализма и достойной отповеди, которую мы надеемся получить не только от возмущенных читателей, но и от профессиональных журналистов демократической прессы.Корр. Юрий Дмитриевич, прошло более полугода после публикации нашей с Вами беседы под претенциозным заголовком «Третья мировая война в разгаре». Что Вы теперь можете сказать? Юрий Петухов. Война проиграна. Капитуляция полная и безоговорочная. Мы разгромлены в пух и прах на глазах у всего рукоплещущего и раздающего награды и премии мира. Такого поражения Россия не знала за всю свою многотысячелетнюю историю. Если взять даже самые близкие времена, можно вспомнить, что в 1941 году нам удалось отстоять целостность нашей Родины. Гитлеровский план предусматривал расчленение нашей Державы на буферные германизированные прибалтийские «государства», самостийную Украину, «независимую» Белорус-сию, присоединенную к фашистской Румынии Молдавию, «свободную зону» Крым, вассальные «государства» Кавказа и Средней Азии; на месте искусственно ограниченной комиссарами Рэсэфэсээрии нацистами предполагалось создание четырех «независимых» государств (с учетом того, что Дальний Восток и Сибирь попадали под протекторат Японии). Свыше сорока мил ионов Русских людей заплатили жизнями, чтобы предотвратить гибель страны. Они спасли Россию! Цена, видно, была слишком велика – настолько велика, что на очередной бой уже некому было встать, мы отдали Родину на растерзание без боя, больше того, мы сами (как это и было спланировано спецслужбами) способствовали разрушению своей державы. Ложь вокруг! И мы закрываем глаза на ложь! Нам говорят: воссоединение Германии благо! Да, благо для немцев. Но почему же тогда нам надо разваливаться, разъединяться?! Я не могу себе представить, и не хочу представлять, что Киев – «мать городов русских», столица исконной изначальной Руси, будет находиться в другом государстве. Это у меня лично, это у вас, у каждого из вас отнимают мою и его землю, нашу историю, часть нашей жизни! Никаких объективных причин для развала России нет и быть не может, вся эта болтовня о взрыве национального самосознания и прочем – бред, такой же бред, как большевистские байки о «революционной ситуации» в России накануне преступного октябрьского переворота. Расчленение России – это условие капитуляции, предъявленное нам победителями, разгромившими нас в третьей мировой войне. Сейчас не секрет, что все так называемые национальные фронты республик были созданы по решению Политбюро ЦК КПСС, что «бархатные» революции в странах Варшавского Договора были санкционированы и финансированы из тех же центров. Обратите внимание, что и сама КПСС была разгромлена и распущена только лишь после того, как ведущие ее функционеры в течение ряда лет так называемой «перестройки» создали разветвленные параллельные «демократические» структуры и полностью обосновались в них на ведущих должностях – практически все наши пламенные революционеры-демократоры являются партаппаратчиками с огромными стажа-ми… Корр. Наши читатели хотят четко знать Ваши позиции. А Вы отвечаете так, что Вас невозможно понять – к какому же все-таки лагерю принадлежите Вы? Только честно и прямо! Ю. Д. К лагерю Господа Бога, Правды и Великой России! Опять непонятно? Разъясняю. Есть извечные объективные ценности. Это – страна, в которой ты родился и живешь, это – народ, к которому ты принадлежишь, который вокруг тебя. Страна должна быть (и была до 1917 года) Великой, Могущественной, Независимой, Справедливой к своим гражданам, Обеспечивающей все их права и свободы, Защищающей их в любой точке земного шара. Российская Империя была Империей Добра и Справедливости, Империей Процветания и Равенства – все это сейчас начинает доходить до самых туполобых и истеричных либералов, визжавших с пеной на губах все семьдесят три года о вымышленной большевистской пропагандой «тюрьме народов». Штаты до сих пор не достигли ни уровня свободы и демократии, ни жизненного уровня дореволюционной России. Нынешние показатели преступности в десять тысяч (!!!) раз превышают дореволюционные показатели. Задумайтесь над этим числом! Корр. Вы снова уклоняетесь от ответа. Ю. Д. Нет, я хочу, чтобы вы вместе со мною логически пришли к ответу. Наберитесь терпения. Итак, Великая страна просто обязана быть Великой, Могучей, Богатой, Независимой. Если вы ее начнете кроить и крушить, вы останетесь у разбитого корыта, у развалин – это однозначно. Второе, народ. Он в Великой Державе должен быть богатым, здоровым, свободным. Истины предельно простые, доступные. У нас была фантастически богатая страна, у нас был фантастически богатый и свободный народ, живший не догмами классовых учений, а собственным здравым умом и государственными уложениями, у нас была демократия, которая и не снилась немцам, американцам, англичанам… Все было до тех пор, пока нас не поделили на два лагеря: на правых и левых, на белых и красных, на прогрессистов и супостатов. Принцип старый – разделяй и властвуй! Банды горлопанов-интернационалистов, финансируемые всемирным банковским капиталом, кайзеровскими спецслужбами, зарождавшейся отечественной мафией, принялись с бесовской истеричностью, подмеченной еще великим Федором Михайловичем Достоевским, сеять среди мирных и добролюбивых россиян злобу, ненависть, зависть. Отцов и детей, братьев и сестер совершенно искусственно поделили на лагеря, стравили, заставили убивать друг друга. Россию надо было уничтожить любой ценой. И так называемое «мировое сообщество» ее уничтожало, не жалея ни сил, ни средств (кстати, все потом окупалось: то же «сообщество» вывезло из разгромленной России ценностей на сотни триллионов золотых рублей – весь мир стоит на русских костях, русском золоте). Понимаете, к чему я клоню? Есть Великий Русский Народ – единый, объединенный одной целью: жить богато, независимо, свободно, достойно, жить так, как Он достоин жить. И есть своры бесов, одержимых неистовым стремлением все крушить, ломать, перестраивать. Вот эти бесы и придерживаются «лагерных» принципов – дескать, кто не в нашем «лагере», тот враг, ату его! режь на куски до двенадцатого колена! преследуй! трави! обличай! жги! расстреливай! И все это с ветхозаветной иудейской злобой, с лютой нетерпимостью, сатанинской одержимостью. Зачем нам все это?! Я ненавижу всю эту полпотовско-марксистскую, троцкистско-ленннскую, бухаринско-маоцзедуновскую мразь, истребляющую в свои сатанинских игрищах целые народы! Я предлагаю собрать всю эту бесовскую лево-правую мерзость в одну кучу, раздать им оружие, оградить их получше и подальше от нормальных людей – пускай выясняют отношения, пускай отстаивают свои «принципы», которыми ни одна из сторон не желает поступиться – режьте, ешь-те друг дружку! Но народы не трогайте, хватит! И самим нам, всем, надо остановиться, призадуматься – как мы легко клюем на дешевую наживку, как запросто нас обводят вокруг пальца все эти демагоги, обещающие царствие небесное на земле и колбасный рай на третий день после их избрания. Любой психиатр, честный психиатр, вам скажет однозначно: все эти лево-правые бесы, взвинчивающие истерию, сами почти без исключения истерики, неврастеники, психопаты, латентные и практикующие гомосексуалисты, маньяки, одержимые бредовыми параноидальными идеями. Их надо лечить! А мы слушаем их с раскрытыми ртами, идем за ними толпа-ми… Пора кончать с этими «лагерями»! Хватит с нас «лагерной» жизни! Пора жить по-человечески! Корр. Что-то у Вас концы с концами не сходятся – жить по-человечески, когда проиграна война и мы разгромлены?! Ю. Д. Другого выхода нет. Мы переживаем период величайшей после октябрьского переворота трагедии России. Мы повержены и избиты, изранены почти до смерти. Надвигаются полная кабальная зависимость, новый кровавый этап гражданской войны, голод, разруха, колониальное рабство в самых его диких первобытных формах… Запад нам поможет дойти до ручки, можете не сомневаться. Уже сейчас происходят странные вещи: те, кто вещали о развитии отечественного предпринимательства и использовали поддержку предпринимателей на этапе пути к власти, ныне гордо от них отвернулись, отказав практически во всем и предоставляя право скупки земель, заводов, фабрик, помещений и зданий под офисы, рабочей силы и т. д. исключительно западникам – колониальная администрация пунктуально исполняет условия полной и безоговорочной капитуляции. Какая же это «рыночная система»?! Это самое обычное администрирование… (Примечание редакции. Мы вынуждены опустить большую часть рассуждений интервьюируемого ввиду их полного противоречия демократическим основам нынешнего курса на вхождение страны в мировую хозяйственную систему)… Но нам надо пройти через все это, нам следует стиснуть зубы и терпеть, нас должен в какой-то мере воодушевить пример разгромленной во второй мировой войне Японии, которая прошла через чудовищные унижения, но возродилась, вознеслась. Россия обязательно возродится! И не в качестве разжиревшей ублюдочной ленинско-бухаринской рэсэфэсээрии, а в качестве Великой Неделимой и ни от чьей злой воли не зависящей Державы – духовного, научного и технического ядра Земной Цивилизации. Я верю в это! Корр. Вы не боитесь преследований со стороны властей?! Ю. Д. Не привыкать! Дважды не расстреляют! Я не хочу уподобляться всем этим нашим «демократам», которые лижут любую руку, лишь бы она свисала с подлокотника трона. Я никогда не поддерживал ни одного из существовавших режимов. И будьте уверены – не поддержу и по-следующих. Я писатель. И для меня нет властей земных, я выше всех этих политиканов, президентов, совещателен и заседателей. Я признаю над собою лишь одну власть – власть Творца нашего, Вседержителя, создавшего весь этот странный, непонятный мир. Ни один из властителей-тиранов и властителей-демократоров уже не сможет отнять у людей Земли миллионы моих книг, статей, газет, никто не сможет собрать мои книги и полностью их уничтожить, сжечь… а значит, мне нечего бояться, мое слово неистребимо – оно уже живет вне зависимости от воли правителей. И оно будет жить. Тираны должны помнить, что даже вынужденный юридически и физически подчиняться их законам человек все равно в душе своей живет по своим установкам, по божескому духовному уставу – закабалить нашу вечную душу никому не удастся. Я могу смириться с юридическим оформлением поездок, скажем, на Украину, вымаливанием въездных виз в Белоруссию или на территорию будущих «свободных» дальневосточных зон, находящихся под японским протекторатом. Но никто в душе не заставит меня считать Украину, Белоруссию, дальний Восток чужими суверенными государствами – это мои земли, это моя Родина, это моя Россия, пусть эти земли отчуждены, оккупированы, отняты у меня – все равно – это мои земли. Это Моя Земля! Все природные богатства, лежащие в недрах Великой России – это мои личные богатства, это и ваши личные богатства, россияне, только ваши! Никто не имеет законного права отдавать эти богатства оккупантам. И если это делается, это не законный юридический акт, это воровство нашего имущества, это ограбление нас! Ответьте мне – куда пошли средства от проданных тоннами якутских алмазов, миллионов гектаров отданных на распыл сибирских лесов, миллиардов кубометров выкаченных из нашей с вами земли нефти, газа?! Где вырученные деньги?! Где валюта?! Мы с вами ее не получили! У нас отняли все! Нас ограбили! Я не хочу такого «международного разделения труда», когда у меня отбирают все, а взамен плюют мне в лицо! Корр. Вы против взаимовыгодного сотрудничества с Западом?! Ю. П. Я был за такое сотрудничество, когда все наши будущие демократоры-западники клеймили «буржуазных акул мира наживы». Я и теперь за полноценное сотрудничество. Но я против колонизации нашей страны. В процессе колонизации наживутся посредники, наживутся колонизаторы, а нам с вами привезут грузовик с кукурузными хлопьями и будут месяц подряд показывать по телевизору как нас неблагодарных дураков гуманный запад спасает от голодной смерти. Вы думаете, что всесоюзная истерическая игра на понижение рубля идет уже три-четыре года напрасно?! Нас просто обязаны купить по минимуму-миниморуму! Мы повержены, лежим во прахе ног победителей, но нынешний век не позволяет им просто придти и отнять все у нас дикарским способом, теперь поступают иначе – победителя понижают, опускают до нулевого предела, приходят и покупают за гроши (потом эти гроши из нас же высосут, не сомневайтесь). Все кредиты, которые сейчас униженно вымаливаются у Запада и Востока, вы сами знаете, будут разворованы, растасканы посредниками. А платить будем мы! Платить будут наши дети! И не природными богатствами – их уже не будет! Платить придется рабским трудом задарма, кровью, как в фашистских концлагерях. Уже сейчас идет процесс перекачки всего стоящего на Запад… Нет, нам нужны другие формы сотрудничества. Корр. Все так уж плохо? Ю. Д. Разумеется, нет. В жизни всегда хорошее идет в ногу с плохим. Зачастую они совсем рядом. Хорошо, что сняли запреты на предпринимательство и частную собственность – это единственные двигатели прогресса. Но плохо, что русских людей лишили фактического права на то и другое, обрекли на одну лишь работу в рудниках, на фабриках и заводах. Очень хорошо, что посшибали поганых идолов всевозможным отродьям нечистой силы типа Свердловых, Дзержинских, Калининых… но Марксы и Энгельсы стоят незыблемо. Хорошо, что с Петербурга сняли мерзкое именное клеймо Дьявола. Но дорогие Русскому сердцу кремлевские башни и по сию пору опечатаны каббалистическими дьявольскими пятиконечными печатями, а забальзамированный труп величайшего преступника за всю историю человечества продолжает лежать между небом и землею посреди святого для нас места… (Примечание редакции. Ввиду того, что все дальнейшее носит отвлеченный характер, мы опускаем двенадцать страниц текста)… Как может наш советский рубль стать конвертируемым, если он изначально (с 1918 года) проклят?! Патриарх Тихон предал большевиков вместе с их вождями и приспешниками вечной анафеме. Никто это проклятье не снимал. А на каждом банковском билете красуется профиль трижды проклятого вождя. Мы тасуем туда-обратно проклятые деньги и тщимся, что они станут полно-ценными. Глупость! Корр. Это все из области идеалистичной философии и далеко от жизни… Ю. Д. Далеко? Вы так думаете?! Христианская Церковь стоит два тысячелетия и Сила ее крепнет. А преданные анафеме, несмотря на то, что под их властью была богатейшая в мире страна, колоссальный научный, технический потенциал, рухнули в семьдесят три года. Помяните мое слово – когда дьявольский профиль наконец исчезнет с купюр, наш рубль резко пойдет в гору. Но и здесь трудности: демократоры-посредники прекрасно знают обо всем, они будут без передыху плясать на костях поверженной компартии, но заклятья с национальной валюты не снимут и идолов верховного своего божества не уберут. Уже сейчас раздаются голоса, что, дескать, памятники не виноваты, что их все надо оставить на своих местах, кому-то выгодно, чтобы над Россией висело вечное проклятие! А пока идолы слуг Сатаны будут стоять – проклятье не снимется и беды наши не прекратятся. Можете мне верить, можете нет. Но подумайте сами, если Вы повесите у себя в доме над своей головой знамя Антихриста – то Вы и будете жить под знаменем Антихриста со всеми вытекающими последствиями, Благие Силы не будут оберегать того, кто сам встал в ряды воинства Антихристова, отрекшийся от Бога всецело попадает в цепкие лапы Дьявола! Нельзя творить добрые дела под кровавыми полотнищами. Это уже поняли самые отупелые и ортодоксальные материалисты-атеисты, и они зачастили в Храмы Божий… А мы, неумело начиная одной рукой креститься и смотреть в Небо, все еще бьем поклоны Вельзевулу и несем ему жертвы. Короче, все сатанинское должно быть изъято из нашей жизни, отринуто. Двум богам молиться нельзя, пришло время выбирать, с кем мы. Корр. За что Вас столь дружно поносит демократическая пресса? Ведь есть же объективные причины? Или Вы не склонны к самокритике? Ю. Д. Причины есть. Так называемая демократическая пресса это единый очень слаженный оркестр, которым дирижирует один дирижер – тысячи оркестрантов старательно выводят те ноты, которые им приказано выводить… И вдруг они видят – стоит в сторонке совсем не ПОХОЖИЙ на них музыкант и играет свою мелодию. Представляете, какие эмоции начинают обуревать подневольных «демократов»? Чего только нет тут – и раздражение, и зависть, и слепое несдерживаемое бешенство. А когда они своими «демократическими» послушными мозгами начинают соображать, что музыкант-одиночка не только игрок, не только сам себе дирижер, но и композитор, творец собственных мелодий, начинается вообще невообразимое. Вот угадайте, какая первая реакция у всех этих прописных «демократов». Запретить! Немедленно запретить игру вольного музыканта! А почему? А потому, что он играет не так, как они! Вот вам и вся «демократия». Корр. Но Вы на самом деле проповедуете Зло. С обложек Ваших книг смотрят в лица людям чудовищные хари, рожи, лики упырей, монстров, мутантов… Вы живописуете какую-то дикую невозможную жизнь выродков человечества… все это настолько отталкивает, что поневоле соглашаешься с мнением Ваших критиков – надо пресечь, запретить, уничтожить тиражи, обуздать самого распоясавшегося, потерявшего меру автора. Неужели Вы сами не чувствуете такой реакции?! Ю. Д. Вот Вы и затронули один их важнейших, философских вопросов моего бытия и моего творчества. Но по порядку. Реакцию я чувствую: озлобленная ненависть со стороны гопманов, арбитманов и прочих «критиков» и тысячи необычайно теплых, добрых писем от моих читателей. Последнее время только эти проникнутые искренней любовью и пониманием письма думающих, честных людей России не дают мне погибнуть, сойти с ума от колоссального напряжения, от непрекращающейся кошмарной травли, от мерзости нашего постперестроечного недочеловеческого бытия, от инфарктно острой сердечной и душевной боли при виде распинаемой, разрываемой в кровавые клочья России. Эти письма – мое спасение, моя вера! Пока в России есть люди, способные писать такие письма, она не погибнет, хоть ты перегороди ее колючей проволокой «суверенитетов» через каждую версту! Россия – это умные, добрые Русские люди, это Русский язык. И пока эти Люди, пока этот Язык существуют, пока Их не истребили полностью, до конца, Россию не убьешь, не уничтожишь! Арбитманам и гопманам не пишут таких писем, и потому они не знают России, им кажется, что все закончено, осталось лишь добить непокорных, неугодных… Зло?! Да, в нашем протухшем больном обществе существуют влиятельные силы, которым чрезвычайно выгодно затушевать подлинное лицо Зла, которые хотят сместить понятия Добра и Зла, перемешать все, запутать всех. Вспомните, сколько нам твердили: вот он, злой человек, но ведь и в нем есть нечто доброе, вы увидите светлое, надо только постараться. Мы приглядывались… а этот «добрый-злой», «хороший-плохой» человек всаживал нам в загривок нож, ломал ребра и бросал наземь. Искусственно навязываемый нам бесконечными слащавыми боевиками образ «хорошего злого человека» настолько внедрился в наши мозги, что мы стали терять ориентацию, путаться, мы уже не могли отличить, где же подлинное Зло, где настоящее Добро. Милые и элегантные убийцы поглядывали на нас умными глазами с экранов кинотеатров и телеэкранов, обходительные жулики, казнокрады, воры обаятельно улыбались, снисходили до нас – и мы чувствовали себя польщенными, целые синклиты ученых-политологов восхищались беллетристическо-публицистическими шедевриками патологических садистов-убийц типа бухариных, Свердловых, Троцких… закамуфлированное Зло выглядело не просто прекрасно, а даже и восхитительно – тысячи юнцов замирали, смакуя это Зло, впитывая его в себя. Дошло до того, что потеряли ориентацию и почти все писатели, художники, а многие просто боялись говорить Правду, называть Зло Злом – ведь осудят, застыдят, заулюлюкают демократоры и сожрут потом с потрохами, лишив всего привычного, нажитого, нет, казалось нашим живописателям, будем как все, будем помалкивать, будем рядить Зло в нежные сверкающие одежды… И вдруг по-является некто, кто выплескивает Зло наружу в его натуральном, неприглядном виде – нате, смотрите, это подлинное, черное, страшное, гибельное Зло! Надо не прятаться от него, надо видеть его, иначе оно обволокет тебя, погубит. Подлость – это всегда подлость! Насилие – это всегда насилие! Убийство – это всегда убийство! И вот именно это больше всего напугало кое-кого: страх оказаться голыми перед одураченным, но прозревшим Народом, это уже не страх, это смертный ужас. И Зло принялось защищать себя! Да еще как! Конечно, в мире есть не только белые и черные тона, это само собой. Но я, как писатель, как художник, не могу больше молча, скрепив сердце, смотреть на яркие красивые фантики, в которых таятся отравленные черные конфетки – я разорву эти лживые бумажные обертки, я покажу то, что таится под ними… а там люди сами решат, глотать отраву Зла или нет! Как этого боятся! Вы себе не представляете, как боятся Правды наши «демократические» обличители и обвинители. Сколько грязной, гнусной брани вызвала публикация моего «Чудовища», романа-предостережения, книги, каждая строка которой пропитана болью моего сердца. Почему же? Да все предельно просто. Я попытался показать невообразимо страшный, жуткий мир нашего с вами будущего, к которому опять-таки нас с вами ведут новоявленные посредники-колонизаторы, палачи Русского народа с за-гребущими руками и завидущими глазами. А ведь этим-то посредничкам-христопродавцам, губителям России хочется видеть себя благодетелями, подателями благ, профессорами и цивилизаторами, несущими счастье «дикому нецивилизованному ленивому и пьяному русскому народу». Вот они-то и их окололитературные наместнички все сразу поняли! Они подавились моим романом, аж глаза на лоб повылезали – привыкли к раутам и вояжам, презентациям и льстивым речам, презентам и кушам, а тут прямо в лоб отрезвляющей на миг дубиной Правды шарахнули! То-то визгу было, то-то припадочных истерик, а чуть позже затаенной глухой злобы. И пошла-поехала контора писать – за год с небольшим выпулили несколько десятков статеек-доносов, думали пройдет номер. И в каких только грехах ни обвиняли, стыдно перечислять да вспоминать. Только это все еще не Зло. Это мерзость, гнусь и плебейство. А само Зло – оно за спинами борзописцев, Оно во тьме, ибо боится Света, привыкло на свету в чужие одежды рядиться. А мы их раз сорвали, еще раз сорвали… и еще раз сорвем! Очень важно, что на этот раз борзописцам не удалось охмурить народ, не удалось спровоцировать «всенародную» травлю. Люди все поняли. И поддержали, подставили плечо, встали плечом к плечу, прикрыли спину. И за это низкий поклон мой и величайшая благодарность сынам и дочерям России, которую все хоронят да никак похоронить не могут! Мы, Русские люди, выстояли на Куликовом поле, выстоим и теперь. Корр. Юрий Дмитриевич, сама концепция «третьей мировой войны», ее хода, ее результатов, не говоря уже о терминологии, принадлежит исключительно Вам. Ничего похожего не было опубликовано ни в нашей, ни в зарубежной прессе до Ваших публичных выступлений. Как же по-лучилось так, что Ваше открытие закамуфлированного тайного хода мировой истории было просто-напросто уворовано многими авторами публикаций о «третьей мировой войне»? И что крайне печально, что говорит о явной нечистоплотности, так это отсутствие в публикациях ссылок на Вас, на Ваш приоритет! Ю. Д. Наплевать! Если я сейчас займусь тяжбами да подсчетами, сколько и чего у меня уворовано, и мне и моим помощникам хватит разгребать на всю оставшуюся жизнь. Мне вообще нет дела до этих борзописцев.
Г. Ражнев
Герб города Смоленска и космические пришельцы
В истории отечественной и мировой геральдики есть уникальный феномен – смоленский герб, на щите которого изображена пушка с сидящей на ней райской птицей Гамаюн. Герб был учрежден в 1392 году и с тех пор неоднократно изменялся, поставляя современным ученым все новые и новые загадки. Но одной из самых увлекательных из них по-прежнему остается тайна происхождения птицы Гамаюн, этимологическое исследование и символика которой позволяет высказать обоснованное предположение о космических истоках возникновения этой мифической птицы.
Заметим, что ни в четырехтомном Словаре русского языка, ни в Большой Советской Энциклопедии, ни в двухтомном мифологическом словаре термин «гамаюн» даже не упоминается. Вместе с тем, слово «гамаюн» было особо популярно в средневековой Руси: оно, как и изображение птицы Гамаюн, украсило известный «Букварь» К. Истомина, а В. Корень поместил изображение райской птицы на пятом листе иллюстрированной Библии, по мотивам которой издавались лубочные картинки в XVIII веке.
Герб был учрежден в 1392 году и с тех пор неоднократно изменялся, поставляя современным ученым все новые и новые загадки. Но одной из самых увлекательных из них по-прежнему остается тайна происхождения птицы Гамаюн, этимологическое исследование и символика которой позволяет высказать обоснованное предположение о космических истоках возникновения этой мифической птицы.
Заметим, что ни в четырехтомном Словаре русского языка, ни в Большой Советской Энциклопедии, ни в двухтомном мифологическом словаре термин «гамаюн» даже не упоминается. Вместе с тем, слово «гамаюн» было особо популярно в средневековой Руси: оно, как и изображение птицы Гамаюн, украсило известный «Букварь» К. Истомина, а В. Корень поместил изображение райской птицы на пятом листе иллюстрированной Библии, по мотивам которой издавались лубочные картинки в XVIII веке.
 Напомним, что этимология слова «гамаюн» – древнеиранская: хума в переводе на русский язык означает птица, приносящая счастье, богатство и силу. Слово «хумайа» встречается и в памятниках младоавестийской письменности, где оно употреблялось в значении «чудодейственная».
Широкое распространение птица Хума получила в персо-таджикской литературе, где она предстает популярным литературным образом в виде птицы, тень которой обладает чудесной силой: человек, на которого пала тень Хумы, приобретает богатство, счастье и становится шахом. По древним восточным преданиям, Хума обитает в поднебесье, где царствует мир ангелов – посредников между богами и людьми, поэтому считалось, что воля Гамаюна – это воля богов, воля всевышних сил.
Напомним, что этимология слова «гамаюн» – древнеиранская: хума в переводе на русский язык означает птица, приносящая счастье, богатство и силу. Слово «хумайа» встречается и в памятниках младоавестийской письменности, где оно употреблялось в значении «чудодейственная».
Широкое распространение птица Хума получила в персо-таджикской литературе, где она предстает популярным литературным образом в виде птицы, тень которой обладает чудесной силой: человек, на которого пала тень Хумы, приобретает богатство, счастье и становится шахом. По древним восточным преданиям, Хума обитает в поднебесье, где царствует мир ангелов – посредников между богами и людьми, поэтому считалось, что воля Гамаюна – это воля богов, воля всевышних сил.
 Одной из мифологических птиц в древнем Китае была птица Фэнхуан. Слово «Фэнхуан» состоит из двух слов: «Фэн», от которого произошла птица Феникс, и «Хуан», от которого произошла птица Хумаюн (Гамаюн). И «Фэн» и «Хуан» переводятся на русский язык как чудесная птица, высшая божественная сила, небесный дух или небесный государь. Эти слова имеют и другое, тождественное слову «гамаюн» значение: высочайший, августейший, царственный.
Примечательно и то, что и практическое употребление слов «гамаюн» и «хуан» имело идентичное значение. Так, например, если в средневековье термин «гамаюн» применялся в дипломатических грамотах для выражения превосходной степени, то и слово «хуан» применялось для этих же целей.
Обратимся к истории древнего Китая. Китайский правители начали величать себя князьями (иероглиф «ван») только в Чжоускую эпоху (одиннадцатый – третий века до н. э.). В конце периода Чжаньго (пятый – третий века до н. э.) некоторые удельные князья начали называть себя императорами (иероглиф «ди»). Войны между ними закончились победой императора Цинь-Ши. Объединив весь Китай, он создал первое в Китае централизованное государство, существовавшее с 221 по 207 годы до н. э. Во время правления Цинь-Ши в Китае был принят ряд прогрессивных реформ, а по его приказу начали воздвигать Великую китайскую стену.
Стремясь сделать свой титул более величественным, Цинь-Ши присвоил себе высочайший титул – хуан-ди (хуанди), т. е. августейший император. Таким образом, хуан стал определением к «ди» и подчеркивал величие и высшее верховенство императора.
Каковы же истоки самого слова «хуан»?
Опираясь на древнейшие китайские источники, советский китаевед И. Лисевич установил, что в китайских книгах (родословные списки «Шибэнь», исторические сочинения «Диван шицзи», даосский канон «Даоцзан», книги Ван-Чуна «Критические рассуждения» и Сыма Цяня «Исторические записки» и др.) описано знаменательное историческое событие, происшедшее в третьем тысячелетии до н. э. в бассейне реки Хуанхэ. Тогда на Землю приземлились «совершенно-мудрые сыновья Неба», т. е. инопланетяне. Они, как сообщается, приобщили диких аборигенов к цивилизации, прожив на Земле не один месяц. Сохранилось описание отдельных эпизодов приземления, деятельности и отлета пришельцев. Приземление их описано так: «сначала появилась великая молния, а затем великая звезда, словно ковш, опустилась на цветущий остров» (в районе озера Грома в северо-западной части пустыни Гоби).
Главного из «сыновей Неба» китайцы назвали Хуан-ди, а его первого помощника – Фэн. Пришельцы развили кипучую деятельность: начали создавать земные карты и «рисованные» образы различных предметов, брали пробы грунта и камней. Местами их активной деятельности были еще два пункта: в специально оборудованном «дворце» в горах Куэнь-Луня и в долине реки Хуанхэ. Инопланетяне передвигались на разных аппаратах: китайцы записали, что у них была «каменная корзина, прочная, но чрезвычайно легкая, по ветру свободно плывет над песками». Другой аппарат китайцы называли «драконом». Одноместный аппарат был похож на насекомого: он имел шесть конечностей, обладал высокой маневренностью и проходимостью, мог взлетать, «пожирал железные камни и песок». Когда пришельцы улетели и оставили этот аппарат, то дикари захоронили его металлическую «голову», которая несколько лет излучала тепло, а из захоронения выбивалось облачко пара, которому аборигены поклонялись. У Хуан-ди был летательный аппарат, не имеющий крыльев. Для него были не безразличны погодные условия: однажды Хуан-ди отменил полет, хотя все было готово и «дракон» уже «набрал воду». По земле инопланетяне перемещались на самодвижущей коляске (видимо, это было нечто вроде современного автомобиля).
Первое время пришельцы носили скафандры в виде шлема, которые китайцы называли «медными головами». У одного из «сыновей Неба» по бокам и сзади «медной головы» могли выдвигаться металлические стержни, которые дикари называли трезубцами.
Одной из мифологических птиц в древнем Китае была птица Фэнхуан. Слово «Фэнхуан» состоит из двух слов: «Фэн», от которого произошла птица Феникс, и «Хуан», от которого произошла птица Хумаюн (Гамаюн). И «Фэн» и «Хуан» переводятся на русский язык как чудесная птица, высшая божественная сила, небесный дух или небесный государь. Эти слова имеют и другое, тождественное слову «гамаюн» значение: высочайший, августейший, царственный.
Примечательно и то, что и практическое употребление слов «гамаюн» и «хуан» имело идентичное значение. Так, например, если в средневековье термин «гамаюн» применялся в дипломатических грамотах для выражения превосходной степени, то и слово «хуан» применялось для этих же целей.
Обратимся к истории древнего Китая. Китайский правители начали величать себя князьями (иероглиф «ван») только в Чжоускую эпоху (одиннадцатый – третий века до н. э.). В конце периода Чжаньго (пятый – третий века до н. э.) некоторые удельные князья начали называть себя императорами (иероглиф «ди»). Войны между ними закончились победой императора Цинь-Ши. Объединив весь Китай, он создал первое в Китае централизованное государство, существовавшее с 221 по 207 годы до н. э. Во время правления Цинь-Ши в Китае был принят ряд прогрессивных реформ, а по его приказу начали воздвигать Великую китайскую стену.
Стремясь сделать свой титул более величественным, Цинь-Ши присвоил себе высочайший титул – хуан-ди (хуанди), т. е. августейший император. Таким образом, хуан стал определением к «ди» и подчеркивал величие и высшее верховенство императора.
Каковы же истоки самого слова «хуан»?
Опираясь на древнейшие китайские источники, советский китаевед И. Лисевич установил, что в китайских книгах (родословные списки «Шибэнь», исторические сочинения «Диван шицзи», даосский канон «Даоцзан», книги Ван-Чуна «Критические рассуждения» и Сыма Цяня «Исторические записки» и др.) описано знаменательное историческое событие, происшедшее в третьем тысячелетии до н. э. в бассейне реки Хуанхэ. Тогда на Землю приземлились «совершенно-мудрые сыновья Неба», т. е. инопланетяне. Они, как сообщается, приобщили диких аборигенов к цивилизации, прожив на Земле не один месяц. Сохранилось описание отдельных эпизодов приземления, деятельности и отлета пришельцев. Приземление их описано так: «сначала появилась великая молния, а затем великая звезда, словно ковш, опустилась на цветущий остров» (в районе озера Грома в северо-западной части пустыни Гоби).
Главного из «сыновей Неба» китайцы назвали Хуан-ди, а его первого помощника – Фэн. Пришельцы развили кипучую деятельность: начали создавать земные карты и «рисованные» образы различных предметов, брали пробы грунта и камней. Местами их активной деятельности были еще два пункта: в специально оборудованном «дворце» в горах Куэнь-Луня и в долине реки Хуанхэ. Инопланетяне передвигались на разных аппаратах: китайцы записали, что у них была «каменная корзина, прочная, но чрезвычайно легкая, по ветру свободно плывет над песками». Другой аппарат китайцы называли «драконом». Одноместный аппарат был похож на насекомого: он имел шесть конечностей, обладал высокой маневренностью и проходимостью, мог взлетать, «пожирал железные камни и песок». Когда пришельцы улетели и оставили этот аппарат, то дикари захоронили его металлическую «голову», которая несколько лет излучала тепло, а из захоронения выбивалось облачко пара, которому аборигены поклонялись. У Хуан-ди был летательный аппарат, не имеющий крыльев. Для него были не безразличны погодные условия: однажды Хуан-ди отменил полет, хотя все было готово и «дракон» уже «набрал воду». По земле инопланетяне перемещались на самодвижущей коляске (видимо, это было нечто вроде современного автомобиля).
Первое время пришельцы носили скафандры в виде шлема, которые китайцы называли «медными головами». У одного из «сыновей Неба» по бокам и сзади «медной головы» могли выдвигаться металлические стержни, которые дикари называли трезубцами.
 Для нас представляется важным описание эпизода, когда Фэн «сжег себя в куче пламени и вместе с дымом вознесся».
Для нас представляется важным описание эпизода, когда Фэн «сжег себя в куче пламени и вместе с дымом вознесся».
 Но он умер «временно и возродился через 200 лет». Без сомнения, перед нами описание старта космического корабля, управляемого Фэном и возвращение его на Землю через определенное время. Уместно заметить, что все предания и символика птицы Феникс абсолютно совпадают с той реальностью, которую наблюдали древние китайцы. На всех рисунках из геральдических справочников птица Феникс изображается в гуще пламени, а в описаниях говорится, что она возрождается из пепла. Таким образом, это не плод больной фантазии, а событие, вполне обычное для космонавтов. Итак, прообразом птицы Феникс стал космический пришелец Фэн, стартовавший с Земли раньше других и вернувшийся к основной группе.
Что же касается Хуан-ди, то в одном из источников приводится интересное замечание о том, что Хуан-ди мог во время нахождения в одном из своих аппаратов приобретать такой вид, что он «ногами не опирался на землю, но при этом не имел крыльев». Возможно, что именно такой вид Хуана закрепился в сознании аборигенов и дошёл до средних веков: книжники донесли до нас описание птицы Гамаюн, которая «ног и крыльев не имать». Именно такой – без ног и без крыльев (похожей на космический корабль) запечатлели художники птицу Гамаюн не только в геральдических справочниках, но и в гербе Смоленска из Титулярника царя Алексея Михайловича и в других книгах.
Но он умер «временно и возродился через 200 лет». Без сомнения, перед нами описание старта космического корабля, управляемого Фэном и возвращение его на Землю через определенное время. Уместно заметить, что все предания и символика птицы Феникс абсолютно совпадают с той реальностью, которую наблюдали древние китайцы. На всех рисунках из геральдических справочников птица Феникс изображается в гуще пламени, а в описаниях говорится, что она возрождается из пепла. Таким образом, это не плод больной фантазии, а событие, вполне обычное для космонавтов. Итак, прообразом птицы Феникс стал космический пришелец Фэн, стартовавший с Земли раньше других и вернувшийся к основной группе.
Что же касается Хуан-ди, то в одном из источников приводится интересное замечание о том, что Хуан-ди мог во время нахождения в одном из своих аппаратов приобретать такой вид, что он «ногами не опирался на землю, но при этом не имел крыльев». Возможно, что именно такой вид Хуана закрепился в сознании аборигенов и дошёл до средних веков: книжники донесли до нас описание птицы Гамаюн, которая «ног и крыльев не имать». Именно такой – без ног и без крыльев (похожей на космический корабль) запечатлели художники птицу Гамаюн не только в геральдических справочниках, но и в гербе Смоленска из Титулярника царя Алексея Михайловича и в других книгах.
 Космические пришельцы стартовали с Земли у подножия горы Цзиншань. По рассказам «сыновей Неба», они должны были вернуться в район своей звездной системы Сяньюань (Регул) – наиболее яркой системы из трех светил в созвездии Льва светимостью в 170 раз больше солнечной, расстояние до которой-80 световых лет.
Итак, древние китайские источники приоткрыли завесу о реальных истоках мифических птиц Феникс и Гамаюн: Фэн и Хуан были космическими пришельцами, побывавшими на Земле три тысячи лет до н. э. в бассейне реки Хуанхэ.
Таковы наиболее достоверные толкования реальных истоков птицы Гамаюн, красующейся сегодня на гербе Смоленска, под сенью которого родился и первый космонавт Земли Ю. А. Гагарин.
Одна из целей нашей статьи – не только привлечь внимание к сообщениям персо-таджикской и древнекитайской литературы, которые дают пищу для размышлений не только сторонникам гипотез о посещении Земли инопланетянами, но и откровенным противникам. Другая цель статьи – показать, что в отечественной и мировой геральдике есть уникальный памятник, увековечивший следы космических пришельцев. Этот памятник – герб Смоленска.
Г. РАЖНЕВ, кандидат философских наук, доцент.
Космические пришельцы стартовали с Земли у подножия горы Цзиншань. По рассказам «сыновей Неба», они должны были вернуться в район своей звездной системы Сяньюань (Регул) – наиболее яркой системы из трех светил в созвездии Льва светимостью в 170 раз больше солнечной, расстояние до которой-80 световых лет.
Итак, древние китайские источники приоткрыли завесу о реальных истоках мифических птиц Феникс и Гамаюн: Фэн и Хуан были космическими пришельцами, побывавшими на Земле три тысячи лет до н. э. в бассейне реки Хуанхэ.
Таковы наиболее достоверные толкования реальных истоков птицы Гамаюн, красующейся сегодня на гербе Смоленска, под сенью которого родился и первый космонавт Земли Ю. А. Гагарин.
Одна из целей нашей статьи – не только привлечь внимание к сообщениям персо-таджикской и древнекитайской литературы, которые дают пищу для размышлений не только сторонникам гипотез о посещении Земли инопланетянами, но и откровенным противникам. Другая цель статьи – показать, что в отечественной и мировой геральдике есть уникальный памятник, увековечивший следы космических пришельцев. Этот памятник – герб Смоленска.
Г. РАЖНЕВ, кандидат философских наук, доцент.

Юрий Петухов
Дорогами богов
Глава пятая. Второй ряд?
…Славянские историки преодолели пренебрежение своих предшественников к мифологическим представлениям предков и стали собирать письменные и этнографические данные о языческих богах и деталях культа… Необходимо отметить, что при всем различии исторических путей славянства и греческого мира между ними не было непроходимой пропасти, дорийцы до переселения жили в сравнительной близости от праславян…Б. А. Рыбаков. Язычество древних славян
Гера же гнева в груди не сдержала, воскликнула к Зевсу: …Я божество, как и ты, исхожу от единого рода, И богиня старейшая, дщерь хитроумного Крона.Гомер. Илиада
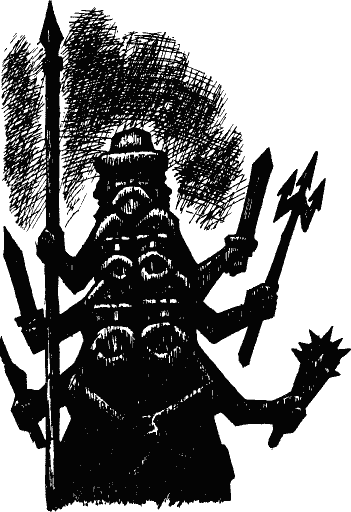 «Повесть временных лет» под 980 г. сообщает: «И стал Владимир княжить в Киеве один и поставил кумиры на холме за теремным двором: деревянного Перуна с серебряной головой и золотыми усами, затем Хорса, Дажьбога, Стрибога, Симаргла и Мокошь. И приносили им жертвы, называя богами, и приводили к ним своих сыновей и дочерей, а жертвы эти шли бесам и оскверняли землю жертвоприношениями своими».
Мы не будем акцентировать внимание на оценках летописца-христианина – они соответствующие. Иначе он и не мог отозваться о «поганьских идолищах». Сосредоточимся на тех, кто из божеств был поставлен в первый ряд. Их шестеро. Да еще внизу, на Подоле, как мы писали уже, стоит идол седьмого – Велеса. Почему-то из десятков, если не сотен, общеславянских кумиров всех разрядов была отобрана только эта «великолепная семерка».
Теперь мы можем без сомнения говорить о том, что отбор был произведен авторитарным путем, это было волевое решение великого князя могущественнейшей и обширнейшей в Европе державы – Руси. Здесь, к сведению читателя, заметим, что обитатели и устроители великого государства не знали привычных для нас добавок-эпитетов типа «Киевская» или «Древняя», таковые утвердились в нашем сознании благодаря исследователям и публикаторам новейшего времени.
Русь была Русью, называлась она также Землей Русьской. И каждому было ясно, что речь идет не о племени пришельцев и его самоназвании и не о каких-то иных путаных вещах, а об огромном освоенном и заселенном русскими людьми пространстве – «от моря и до моря», с севера на юг и от «гор до гор» с запада на восток. После разгрома паразитического образования на юго-востоке, каковым являлся Хазарский каганат, ничто и в этом направлении не ограничивало роста державы – многонациональной по своему составу и обеспечивающей для всех народов, народностей, племен и отдельных личностей, входящих в них, совершенно равные права и неограниченные возможности для роста.
Авторитета великому князю Владимиру Первому Красному Солнышку было не занимать. Князь-философ и книжник был в первую очередь князем-воином. Поэтому вполне понятно, что во главе языческого Пантеона он поставил грозного покровителя воинов – Перуна.
Громовержец-герой стал превыше всех прочих богов, в том числе и «верховных». Его возвышение – результат победоносных войн, которые вела Русь на протяжении двух столетий.
Но почему рядом с«божеством-победоносцем» встали вдруг малопонятные для нас Мокошь, Симаргл и Хоре? Почему не возвысились над холмом многославные Яровит и Святовит, Ругевит и древний Ко-поло, не говоря уже о Роде, Диве, Суде? Здесь же следует спросить у сторонников «норманнских теорий»: как же так, викинги-культуртрегеры «создали государство» на Русской земле, а где ж хотя бы намеки на их «торов», «одинов», «фьергуний» и пр.? Или, может, эти «завоеватели-преобразователи», насаждая повсюду «государственность» и «культуру», тут же, на местах, из гуманизма и альтруизма немедля отказывались от своих божеств и героев, забывали свои предания и легенды, саги и мифы? Странная история с этими норманнами, непонятно ведут они себя в «покоренных и осчастливленных» землях: до границ с этими землями, у себя в «нормандиях», – расцвет мифоэпоса, буйная фантазия, рост неслыханный в сагосочинительстве; но стоит пересечь границу – все: ни саг, ни преданий, ни памяти, ни языка-ни-че-го-шень-ки! Впрочем, оставим викингов в покое, у них и так дел хватало – и по всей Западной и Центральной Европе, и в местах иных, незачем их искусственно внедрять туда, где нога их без спросу и разрешения не ступала.
Итак, Пантеон был образованием в значительной степени искусственным. Владимир в силу своих личных симпатий и, разумеется, при согласовании и одобрении его нововведений русским «парламентом – государственной думой», то есть «старшей дружиной» и «ближним боярством» выбрал тех, кто, на его взгляд, мог лучшим образом. олицетворять государственные и народные идеалы. Старопрежние боги, при которых Русь и предшествовавшие ей государственные славянские объединения не достигали желаемых высот, были отведены во второй ряд или же вовсе исключались из списков кандидатур на место в Пантеоне.
По правую руку от Перуна стоял идол бога-солнца Хорса. Солнечный кумир просто обязан был занять свое место в Пантеоне «на холме», и, понятное дело, без солнца и его содействия не обойдешься, божество – одно из солиднейших (правда, заметим, что энциклопедия «Мифы народов мира», находя возможным в мельчайших деталях рассказать нам о ритуалах африканских или австралийских племен, одному из важнейших славянских кумиров не отвела статьи – очень показательно).
На протяжении многих десятилетий, а то и двух с лишним столетий Хорса упрямо стремились привязать к какому-нибудь иракскому, скифскому богу, полубожеству или хотя бы понятию. Но так и не нашли ничего толкового, достаточно близкого по смыслу, содержанию и лингвистике. Но не надо быть крупным специалистом, чтобы догадаться – теоним Хоре происходит от «хоро», «хороса», праиндоевропейской формы, закрепившейся у славян, означающей почти то же, что и «коло» (вспомним Колоксая), а именно «круг», «округлый».
Такое значение, как никакое иное, подходит для солнечного «диска», чьим олицетворением и является Хоре. А слова «хорошо», «хороший», имеющие тот же корень, первоначально и имели значение «округлый, кругленький», ибо именно такая форма наводила человека на мысли о чем-то добром, «хорошем», круг и шар всегда приятны и «хороши» в отличие от угла или бесформенной фигуры.
Нет сомнений, что Хоре изображался шарообразным, в нем должно было меньше наличествовать антропоморфных черт. Потому он и соседствовал с громовержцем, как бы подчеркивая право этого «выбившегося в боги героя» занимать место всемогущего «верховного бога» – новоявленного «неба-отца». На наш взгляд, Хорса следует считать исконным, древним божеством и одновременно ипостасью Дажьбога, чье имя, как мы писали, являлось, скорее, эпитетом-прозвищем неназываемого, табуированного у отдельных племен в период, примерно, с середины I тысячелетия до н. э. по середину I тысячелетия н. э. всемогущего бога солнечного света, плодородия – Кополо.
Со временем Дажьбог преобразовался в самостоятельное божество, про первообраз позабыли – произошло смещение понятий и обозначений.
Хоре и Вивасват древнеиндийской мифологии – это близнецы-братья, а в самом начале – одно божество. Вивасвата, ипостась солнечного бога Сурьи, так и описывают – дескать, родился без ног и без рук, круглый, шарообразный. Добавить здесь нечего:
солнце оно и есть солнце. Но если индоарии основной упор сделали на «сват» – «свет, сияние», то праславяне – на «округлость» и «хорошесть», на «хо-росо-видность». Попутно заметим – в самом привычном нам слове «хоровод» корень и понятие заключены те же.
Никто, кроме Дажьбога, не мог стоять третьим. Именно между ним, «подателем благ и света», и Перуном должен был «висеть» Хорс-шар. Для любого славяноязычного читателя теоним не нуждается в переводе, смысл заключен в самом словосочетании. «Дающий», «податель», «подающий блага».
И снова параллель с древнеиндийским Бхага – «наделителем». Его имя означает также «доля», «часть» – в смысле «хорошая, полезная часть», что и означает наше слово «счастье», то есть, «у-частие, со-частие» в смысле «наделенность, необделенность». И здесь снова дуализм: «доля» – «недоля», «часть» – …? На первый взгляд, противопоставления нет. Но оно есть. Это мало кому известный злой демон славянской мифологии – Анчутка, Анча. Возможно, вам приходилось слышать: «Анчутка тебя прихвати-побери!» В самом слове заключена «анча» – «маленькая часть», «нечасть», «не-доля» и уменьшительный суффикс-окончание.
Совершенно неправомерно делать вывод, что «ан-чутка» – это «анчи-уте», то есть, по-литовски «маленькая утка». Утки здесь не причем. В этом мы можем убедиться, рассмотрев унесенного далеко от прародины «анчу». Таковым является древнеиндийский абстрактный демон Анша, что с санскрита переводится как «доля, часть». Абстрактность его характерна так же, как характерны абстрактные, отнюдь не антропоморфные или, скажем, зооморфные понятия славян, такие, как «часть», «доля», «зло», «кривда», и т. д. Здесь же добавим, что проникновение с Индостанского полуострова на Русь или славянские земли «анши» и преобразование его в «анчутку» исключается. Возможен только естественный ход: от изначального к последующему, от истока к устью, от прародины к новым обживаемым землям. Вторичное эхо докатывается лишь в особо значительных, как мы писали, случаях.
Случайно ли в древнеиндийских языке и мифологии бесчисленное употребление слова и понятия «бха-га»? Например, Бхагавати – «обладающая долей, счастьем», Бхагават – «благословенный», Бхагават-гита – «божественная песнь»? Разумеется, не случайно. «Бхага», авестийское «баха», персидское «бага» и славянское «бог» – это производные от одного первослова.
Необыкновенную древность для славян этого понятия подчеркивает разошедшееся на первый взгляд, но фактически так и не смогшее разойтись понятие глубокой архаики «бог-благо». И потому Даждьбог, или Дажьбог, имеющий аналоги у южных и западных славян – Дабог и Дасбог, – это одновременно Дажь-бог и Дажь-блага, то есть, «божественный податель благ». Но безусловно, это не первоимя, это эпитет. И потому на месте Дажьбога в Пантеоне мы вполне можем себе представить «дающего блага» Рода, или «дающего блага божественного» Кополо, или «бога-подателя благ» Дива… А скорее всего, нечто совмещающее и первого, и второго, и третьего, и наверняка еще многих подразумеваемых «высших» и всемогущих для человека того времени богов.
Понятия «бог», «богатство», «у-божество», «благо» отнюдь не пришли на Русь и в славянские земли с христианством. Это исконные слова-обозначения, так же как, например, «святой», «святость» с корнем 'свет-свят-', существовавшие на землях, занятых индоевропейцами, тысячелетия. Конечно, несколько менялось со временем их значение, но слова, понятия оставались и остаются.
Б. А. Рыбаков отмечает в своей книге «Язычество древних славян» тождественность Дажьбога и Аполлона. Такое представление в какой-то мере отвечает и нашим представлениям о Дажьбоге-Кополо, полностью укладывается в функциональные и образные рамки нашего божества-переселенца, прародителя Аполлона.
По правую руку от Дажьбога-Кополо стоит Стрибог. В его древности и исконности для славян сомнений у серьезных исследователей нет. Первая составляющая теснима 'Стри-' восходит к индоевропейскому обозначению «неба-отца» – «птр-си деи-во» и значительно ближе к исходному, чем, скажем, Иупатер-Юпитер.
Само 'Стри-' породило такие слова, как «старый, старик», и «стрый» – дядя по отцу (дядя по матери – «вуй»). Стри-бог – Старый бог, Бог-Отец, Бог-патер, Деива-патер, Зевс-отец, Ю-питер. Такова лингвоцепочка. Но у цепочки, отражающей эволюцию божества, иные законы. И потому Стрибог на славянской почве не совместился, подобно Зевсу, с Перуном. Перун его оттеснил, оставаясь бого-героем и на «верховном» месте. Но, оттеснив, оставил и ему возможность не покидать Пантеона. Рядом они стоять не могли: это было бы чревато «приближением» Старого бога к молодому Верховнику и соответствующим противостоянием. Князь Владимир и его волхвы, конечно, понимали все это значительно лучше, тоньше и глубже нас. Но, к сожалению, их не воскресить, не пригласить на нашу беседу.
Стрибог, судя по всему, не был антропоморфен. Он олицетворял еще не очеловеченную природу, стихию – в основном, небесную. И потому его внуки (вспомните «стрибожьи внуци» в «Слове о полку Игореве») – это ветры: ураганы, смерчи.
Стрибог отдален от человека. Он равнодушен к нему и ко всему человеческому в отличие от антропоморфных богов-героев, порожденных героями-людьми. Ведь его породило «небо», он сам и есть «небо». И потому он не близок Дажьбогу, он может не только «подать блага», но и хорошенько «врезать» сверху, причем, и без причины, по хотению. Конечно, заручиться и его поддержкой следует. Но он слеп, как слепа стихия. И вместе с тем Дажьбог-Кополо, Хоре, а прежде и Перун зависят или зависели от него, ибо они, если так можно выразиться, «в нем самом», во всесильном небе.
Перун, правда, в какой-то мере преодолевает всемогущество Старого бога, возвышается над ним, но это он делает как бого-человек, преодолевающий слепые силы природы, берущий-таки верх над ними. И это не просто игра фантазии древних. Это целое мировоззрение, присущее всем индоевропейцам, ставящее человека, несмотря на его слабость по сравнению с могучими слепыми силами, на главенствующее место. Тут вовсе не гордыня, не хвастовство или желание себя выпятить, тут то качество человеческого характера, без которого он бы не выжил.
Полностью этимологизируются Стрибог и его расселившиеся по белу свету родственники только из славянских языков. Кого бы мы ни взяли – этрусского Сатре, римского Сатурна или «греческих» сатиров, мы не найдем ни у этрусков, ни у древних греков и их соседей созвучных и переводимых слов. Единственное близкое латинское «сат» – сеять – абсолютно не соответствует образу Сатурна. Иных нет.
Зададимся вопросом: «Мог ли сатир, или Сатурн, или Сатре оказаться привнесенным на славянскую почву и превратиться там в Старого бога, в Стрибога, возникшего из праиндоевропейской корневой основы?» Ответ однозначный: «Ни при каких обстоятельствах, исключено!»
А мог ли протославянский 'Стри-' попасть в Средиземноморье и развиться в соответствии с законами развития языков в Сатре, сатиров и Сатурна, имеющих ту же корневую основу 'стр-'? Мог! Вне всяких сомнений. И именно с Севера попасть на Юг, от протославян к средиземноморцам. Ведь если бы Сатурн, сатиры и Сатре самостоятельно в лингвистическом плане развивались из индоевропейской основы, без захода к протославянам, они бы именовались так: Патре, патиры и Патурн. И примеры такого развития есть – это развившееся из 'птр-' «патер» и все его производные, так что наше предположение вполне логично.
Проверим себя. Соответствуют ли образы привнесенных в Средиземноморье протославянских божеств первоначальному образу 'Стри-'? Ведь если упомянутые попали в виде «стри-я» в места своего дальнейшего обитания, в них обязательно должны сохраниться отголоски изначального типажа-предка, как бы они ни развивались, как бы бурно и пышно ни разрастались в экзотических краях.
Сатре – «старый бог». Он олицетворяет древние времена, когда царил «золотой век», то есть, допраиндоевропейскую бытность. Мы видим однозначное равенство: Стри = Сатре.
Сатиры – олицетворение дикости и древности. Они покрыты шерстью, волосаты, бородаты, даже козлоноги (это последнее, разумеется, фантазия, но определенно намекающая на неразвитость конечностей и их кривизну у первобытных людей). Сатиры первоначально изображались вообще почти неантропоморфными. Недаром им противостоит «культурный герой» Аполло-Кололо, убивающий зверообразного дочеловека сатира Марсия. Сатиры – это порождение «старого» мира. В их множественности видна приобщенность к Сатиру-Старому богу, они его слуги-демоны и его же ипостаси. Эволюция Стри – Сатре – Сатир – сатиры не может вызвать возражений.
Сатурн также древнейший бог, «старый» бог. Исследователи отождествляют его с Кроносом, отцом Зевса. Здесь мы видим, вообще, самую прямую связь:
громовержец Зевс, сын Кроноса-Сатурна, свергший его и занявший место «верховника», и громовержец Перун, сын Стрибога, также отодвинувший отца на задний план. Сатурн неантропоморфен, это олицетворение стихии, он безжалостен и бесчеловечен, он «пожиратель детей». Никакого отношения к «сеянию» он не имеет. И, повторим, никак не переводится даже в самых отдаленных приближениях ни с древнегреческого, ни с латинского. Это явно привнесенный с Севера бог-стихия. Иного толкования пока нет. Мы видим снова равенство: Стри = Сатурну.
Такой вот сосед у Дажьбога по Пантеону – Стрибог, прадедушка средиземноморских сатиров, Сатре и Сатурна, совсем заслонивших от исследователей своего родоначальника-предка пышностью, эпическо-литературной изукрашенностью образов и, разумеется, популярностью, созданной как античными художниками, так и творцами эпохи Возрождения.
Следующий в Пантеоне – не совсем нам понятный Симаргл-Семаргл. Как выглядел идол этого божества, мы не знаем. Можем лишь предполагать.
Одна из наиболее модных и широко распространяемых «гипотез» гласит: Семаргл – это заимствованная у иранцев сказочная птица Сэнмурв. С какой стати князь Владимир приобщил к славянским божествам иранскую птицу, не объясняется. И птица ли вообще Семаргл? Подобные «гипотезы» мы не беремся рассматривать в силу необходимости экономить и бумагу и время, а также ввиду их полной несостоятельности. Можно лишь добавить, что лингвистически «Семаргл» и «Сэнмурв» не более близки, чем уже упоминавшиеся Искоростень и Йошкар-Ола.
Большего внимания заслуживает предположение, что теоним Семаргл восходит к «Седмо-глав» или более древнему «Седмор-голв», что означает «семиголовый» или Семиглав. Семь-число священное для славян и индоевропейцев вообще. Триглав нам в славянской мифологии известен.
Высказывались, правда, предположения, что Семаргл – это некая «священная собака», что. это «крылатый пес» Переплут, а отсюда и собако-птица, и птице-дева, и просто птица с непонятными функциями. Предположения эти, надо признать, ошибочны уже по той причине, что в киевском Пантеоне не было богов второразрядных или даже третьеразрядных, не говоря уже о «собако-птицах» и прочей мелкой живности, относящейся к разряду «мелких бесов-демонов», прислужников богов. Это был не архаичный протопантеон, а продуманное и искусственное, как мы говорили, собрание. И потому в Семаргле-Семиглаве нельзя усматривать божества даже второго ряда. Он должен быть непременно из первого, из ведущих кумиров. На наш взгляд, Семаргл – это тот единственный представитель полабско-рюгенских славян в киевском Пантеоне.
Нигде мы не встречаем на Русской земле того времени присутствия даже остаточных форм германо-скандинавских кумиров. Но все же было нечто привнесено тем, кого на самом деле по праву родства, – по династическому праву призвали на Русь, а именно Рюриком-Рарогом? В чем-то должно было проявиться и остаться на Руси воздействие, влияние ближайших родичей восточных славян – руян и полабов? Разумеется, да. Они принесли с собой культ высшего для их племени-рода и для большого сообщества славян божества – Руевита-Семиглава. Это бог-воин, наделенный огромной жизненной силой, что исходит из второго составляющего теонима – «вит». Он опоясан ремнем, на котором висят семь мечей. Восьмой меч Руевит держит в правой руке. Так описывается дубовый идол Руевита западными хронистами, сопровождавшими германцев, которые в результате длительного и упорного натиска разрушили цивилизацию полабско-руянских славян. Но главнее для нас то, что идол Руевита имел семь ликов!
Семиглавый бог-воин Руевит прибыл, по всей видимости, вместе с рюриковским родом и его дружиной, вместе с матерью Рюрика Умилой – дочерью новгородского выборного князя-посадника Гостомысла. Это был главный бог руян. Игнорировать столь величественного гостя-родича было никак нельзя. И Руевиту-Семарглу, несмотря на то, что прошло более ста лет со дня воссоединения братских славянских племен и, казалось, могло бы и позабыться, на наш взгляд, многое, благодарные и помнящие родство потомки отвели достаточно почетное место в Пантеоне. Но разумеется, главным божеством, как на Руяне-Рюгене, он на Руси не мог быть.
Далее идет богиня Мокошь или Макошь, – единственное женское божество Пантеона. Нам не кажутся убедительными попытки вывести теоним от слов «мокрый», «мокнуть». Также не годятся и якобы исходные «мокушка-макушка», «мякоть-мякушка». И то и другое, на наш взгляд, из разряда откровений «народной этимологии».
Неубедительны и старания представить Макошь как божество чисто женского труда-прядения, вышивания, б готовки и пр. Все эти функции присутствуют в образе Макоши, но они представляют лишь незначительную часть ее «интересов». Хотя, например, прядение как свитие-прядение жизненной нити, разумеется, гораздо более емкое понятие, чем просто рукоделие. И в этом просматривается аналогия с мойрами, прядущими нити судьбы человеческой. Но для Макоши все это узко, очень узко. Трудно представить себе, чтобы Владимир ввел богиню в Пантеон, только чтобы ублажить женщин-рукодельниц, пусть даже и судьбоносных.
Теоним состоит из двух частей: «Ма» – «мать» и «кошь» – «жребий, участь». В этом случае Макошь – «мать жребия», «мать удачи, доли» или даже «мать судьбы».
Но нам представляется, что образ значительно глубже и емче. Во всяком случае, в своей первооснове. Наверняка в нем заключается понятие о Матери всего сущего – и богов, и земли, и людей, и животных – всего, ибо это общий для индоевропейцев образ Мадивии – Материнского Божества. Только такая роль могла обеспечить Макоши место в продуманном языческом Пантеоне, где не предполагалось «ячеек» для «домовиков» и «домовух», бесенят и ведьмочек, «попутников» и «негодников».
С полным основанием мы можем считать Макошь эволюционированным образом Праматери, восходящим, по меньшей мере, к Рожаницам, а точнее, к Рожанице-матери (их было две: мать и дочь-Лада и Леля, Лето и Артемида и т. д.). И здесь мы сразу получаем, что Лада, Рожаница-мать, Мадивия, Макошь – это, по всей видимости, разные названия одной Богини-матери, и притом, возможно, разные ее ипостаси. Но мы не будем углубляться в проблему Изначального женского божества, Праматери, ибо она неисчерпаема и требует отдельного объемного исследования. С нас хватит пока общего представления.
Попутно следует сказать, что великие государственные деятели Руси, ее устроители заслуживают более уважительного отношения с нашей стороны. Предполагая, что личность, сумевшая сплотить множество племен-этносов – союзов суперсоюзов племен, может по своей прихоти заставить весь «честный люд» в государстве почитать «собачку» или неведомую «иранскую птичку» и поклоняться им, мы тем самым унижаем и очерняем эту личность. И в первую очередь унижаем себя, показывая таким подходом крайнюю поверхностность суждений. Впрочем, «гипотезы» об «иранских птичках» высказывались первоначально в 30-х гг. нашего столетия. Они не нуждались бы в комментариях, если бы не продолжали кочевать из издания в издание, несмотря на то, что, казалось бы, «эпоха Покровского и его школы» давно миновала, оставив после себя зияющие пустоты, искореженную, полувытравленную память и руины.
Каждому божеству Владимирова Пантеона соответствовал свой день недели, причем, не всегда он совпадал с «порядковым номером» в общем ряду. Так, у Перуна, разумеется, был четверг, у Хорса – понедельник, у Дажьбога – воскресенье, у Стрибога – вторник, у Семаргла-Руевита – суббота, а у Макоши – целых два дня: среда и пятница. Насколько естественным было это распределение, нам судить трудно.
Таков был на 980 г. от Рождества Христова первый ряд языческих русских богов. Входил в него и Велес-Волос. Но ему положено было стоять как богу народа, близкого к земле, да и самому к ней близкому, в самом низу, никак не «на холме». О Велесе мы говорили много. Добавим лишь, что и со сменой религий ему стало не лучше, вернее, его прообразу – медведю. Святой Егорий, как называли его в народе, тот самый, что взял на себя обязанности Перуна после христианизации, сразу вошел в фольклор как защитник скота от медведя. Основной миф остался каким и был, только теперь Егорий-Перун воевал с медведем-волосом. Имя Егория вошло во множество заговоров, какими пытались защищать коров от медведя. Такие вещи не бывают случайными.
Итак, с первым рядом богов мы разобрались, более или менее. Переходя ко второму ряду, необходимо упомянуть, что славяне-язычники, как писали летописцы, поклонялись сначала упырям и берегиням, потом им на смену пришли Род и рожаницы и только после этого все остальные боги-кумиры. В таком трехфазном членении мифогенезиса есть своя логика. Но мы не будем специально касаться упырей, берегинь. Рода, рожаниц и пр. Отметим лишь первостепенную важность многоликого божества Рода, чье имя отразилось в таких привычных для нас словах, как «природа», «родной», «родиться», «родичи», «народ», «родина» и многих других. Случайный божок не смог бы оказать на язык подобного воздействия.
Характерно и следующее явление: верховный бог всегда в единственном числе и мужского рода, а сопутствуют ему божества женского рода, их двое или несколько. Например, Див – дивы (девы). Суд – суденицы. Род – рожаницы. Исходя из такого положения, наверное, можно себе представить, что и берегиням предшествовал какой-то бог – предположим, Оберег. Выводить берегинь от слова «берег (реки)» не следует. Ведь если бы работала такая схема, то мы бы знали сейчас и «рощинь» (от «священных рощ»), и «небесынь», и «землинь», и «ду-бынь-деревинь» (от «дуба», «священного дерева») и др. Однако мы таковых искусственных созданий не знаем.
Скорее всего, Суд, Род, Див да и гипотетический Оберег были ипостасями одного Верховного Бога. И это затрудняет поиск.
Исследователи выводят теоним «Род» из индоевропейского «Хорд-ху» или «Хорд-у». И этому отвечают, например, хеттское слово «харду» – потомок и лувийское «харту» с тем же значением. И все-таки изначальной формой нам представляется именно слово «Род». Почему? А потому, что, если бы было иначе, индоарийские переселенцы унесли бы с прародины понятия и культы божеств, обозначаемые как «хорд», «хард». Но у древних индийцев бытовали божества Родаси причем в очень сходном понимании со славянскими Родом и рожаницами, практически совпадающем. Так, в единственном числе Родаси означало «рожающая земля», то есть, полный аналог Рода, но в женской ипостаси. А во множественном числе Родаси – две богини, исполненные благ, то есть, те же славянские рожаницы:
«Повесть временных лет» под 980 г. сообщает: «И стал Владимир княжить в Киеве один и поставил кумиры на холме за теремным двором: деревянного Перуна с серебряной головой и золотыми усами, затем Хорса, Дажьбога, Стрибога, Симаргла и Мокошь. И приносили им жертвы, называя богами, и приводили к ним своих сыновей и дочерей, а жертвы эти шли бесам и оскверняли землю жертвоприношениями своими».
Мы не будем акцентировать внимание на оценках летописца-христианина – они соответствующие. Иначе он и не мог отозваться о «поганьских идолищах». Сосредоточимся на тех, кто из божеств был поставлен в первый ряд. Их шестеро. Да еще внизу, на Подоле, как мы писали уже, стоит идол седьмого – Велеса. Почему-то из десятков, если не сотен, общеславянских кумиров всех разрядов была отобрана только эта «великолепная семерка».
Теперь мы можем без сомнения говорить о том, что отбор был произведен авторитарным путем, это было волевое решение великого князя могущественнейшей и обширнейшей в Европе державы – Руси. Здесь, к сведению читателя, заметим, что обитатели и устроители великого государства не знали привычных для нас добавок-эпитетов типа «Киевская» или «Древняя», таковые утвердились в нашем сознании благодаря исследователям и публикаторам новейшего времени.
Русь была Русью, называлась она также Землей Русьской. И каждому было ясно, что речь идет не о племени пришельцев и его самоназвании и не о каких-то иных путаных вещах, а об огромном освоенном и заселенном русскими людьми пространстве – «от моря и до моря», с севера на юг и от «гор до гор» с запада на восток. После разгрома паразитического образования на юго-востоке, каковым являлся Хазарский каганат, ничто и в этом направлении не ограничивало роста державы – многонациональной по своему составу и обеспечивающей для всех народов, народностей, племен и отдельных личностей, входящих в них, совершенно равные права и неограниченные возможности для роста.
Авторитета великому князю Владимиру Первому Красному Солнышку было не занимать. Князь-философ и книжник был в первую очередь князем-воином. Поэтому вполне понятно, что во главе языческого Пантеона он поставил грозного покровителя воинов – Перуна.
Громовержец-герой стал превыше всех прочих богов, в том числе и «верховных». Его возвышение – результат победоносных войн, которые вела Русь на протяжении двух столетий.
Но почему рядом с«божеством-победоносцем» встали вдруг малопонятные для нас Мокошь, Симаргл и Хоре? Почему не возвысились над холмом многославные Яровит и Святовит, Ругевит и древний Ко-поло, не говоря уже о Роде, Диве, Суде? Здесь же следует спросить у сторонников «норманнских теорий»: как же так, викинги-культуртрегеры «создали государство» на Русской земле, а где ж хотя бы намеки на их «торов», «одинов», «фьергуний» и пр.? Или, может, эти «завоеватели-преобразователи», насаждая повсюду «государственность» и «культуру», тут же, на местах, из гуманизма и альтруизма немедля отказывались от своих божеств и героев, забывали свои предания и легенды, саги и мифы? Странная история с этими норманнами, непонятно ведут они себя в «покоренных и осчастливленных» землях: до границ с этими землями, у себя в «нормандиях», – расцвет мифоэпоса, буйная фантазия, рост неслыханный в сагосочинительстве; но стоит пересечь границу – все: ни саг, ни преданий, ни памяти, ни языка-ни-че-го-шень-ки! Впрочем, оставим викингов в покое, у них и так дел хватало – и по всей Западной и Центральной Европе, и в местах иных, незачем их искусственно внедрять туда, где нога их без спросу и разрешения не ступала.
Итак, Пантеон был образованием в значительной степени искусственным. Владимир в силу своих личных симпатий и, разумеется, при согласовании и одобрении его нововведений русским «парламентом – государственной думой», то есть «старшей дружиной» и «ближним боярством» выбрал тех, кто, на его взгляд, мог лучшим образом. олицетворять государственные и народные идеалы. Старопрежние боги, при которых Русь и предшествовавшие ей государственные славянские объединения не достигали желаемых высот, были отведены во второй ряд или же вовсе исключались из списков кандидатур на место в Пантеоне.
По правую руку от Перуна стоял идол бога-солнца Хорса. Солнечный кумир просто обязан был занять свое место в Пантеоне «на холме», и, понятное дело, без солнца и его содействия не обойдешься, божество – одно из солиднейших (правда, заметим, что энциклопедия «Мифы народов мира», находя возможным в мельчайших деталях рассказать нам о ритуалах африканских или австралийских племен, одному из важнейших славянских кумиров не отвела статьи – очень показательно).
На протяжении многих десятилетий, а то и двух с лишним столетий Хорса упрямо стремились привязать к какому-нибудь иракскому, скифскому богу, полубожеству или хотя бы понятию. Но так и не нашли ничего толкового, достаточно близкого по смыслу, содержанию и лингвистике. Но не надо быть крупным специалистом, чтобы догадаться – теоним Хоре происходит от «хоро», «хороса», праиндоевропейской формы, закрепившейся у славян, означающей почти то же, что и «коло» (вспомним Колоксая), а именно «круг», «округлый».
Такое значение, как никакое иное, подходит для солнечного «диска», чьим олицетворением и является Хоре. А слова «хорошо», «хороший», имеющие тот же корень, первоначально и имели значение «округлый, кругленький», ибо именно такая форма наводила человека на мысли о чем-то добром, «хорошем», круг и шар всегда приятны и «хороши» в отличие от угла или бесформенной фигуры.
Нет сомнений, что Хоре изображался шарообразным, в нем должно было меньше наличествовать антропоморфных черт. Потому он и соседствовал с громовержцем, как бы подчеркивая право этого «выбившегося в боги героя» занимать место всемогущего «верховного бога» – новоявленного «неба-отца». На наш взгляд, Хорса следует считать исконным, древним божеством и одновременно ипостасью Дажьбога, чье имя, как мы писали, являлось, скорее, эпитетом-прозвищем неназываемого, табуированного у отдельных племен в период, примерно, с середины I тысячелетия до н. э. по середину I тысячелетия н. э. всемогущего бога солнечного света, плодородия – Кополо.
Со временем Дажьбог преобразовался в самостоятельное божество, про первообраз позабыли – произошло смещение понятий и обозначений.
Хоре и Вивасват древнеиндийской мифологии – это близнецы-братья, а в самом начале – одно божество. Вивасвата, ипостась солнечного бога Сурьи, так и описывают – дескать, родился без ног и без рук, круглый, шарообразный. Добавить здесь нечего:
солнце оно и есть солнце. Но если индоарии основной упор сделали на «сват» – «свет, сияние», то праславяне – на «округлость» и «хорошесть», на «хо-росо-видность». Попутно заметим – в самом привычном нам слове «хоровод» корень и понятие заключены те же.
Никто, кроме Дажьбога, не мог стоять третьим. Именно между ним, «подателем благ и света», и Перуном должен был «висеть» Хорс-шар. Для любого славяноязычного читателя теоним не нуждается в переводе, смысл заключен в самом словосочетании. «Дающий», «податель», «подающий блага».
И снова параллель с древнеиндийским Бхага – «наделителем». Его имя означает также «доля», «часть» – в смысле «хорошая, полезная часть», что и означает наше слово «счастье», то есть, «у-частие, со-частие» в смысле «наделенность, необделенность». И здесь снова дуализм: «доля» – «недоля», «часть» – …? На первый взгляд, противопоставления нет. Но оно есть. Это мало кому известный злой демон славянской мифологии – Анчутка, Анча. Возможно, вам приходилось слышать: «Анчутка тебя прихвати-побери!» В самом слове заключена «анча» – «маленькая часть», «нечасть», «не-доля» и уменьшительный суффикс-окончание.
Совершенно неправомерно делать вывод, что «ан-чутка» – это «анчи-уте», то есть, по-литовски «маленькая утка». Утки здесь не причем. В этом мы можем убедиться, рассмотрев унесенного далеко от прародины «анчу». Таковым является древнеиндийский абстрактный демон Анша, что с санскрита переводится как «доля, часть». Абстрактность его характерна так же, как характерны абстрактные, отнюдь не антропоморфные или, скажем, зооморфные понятия славян, такие, как «часть», «доля», «зло», «кривда», и т. д. Здесь же добавим, что проникновение с Индостанского полуострова на Русь или славянские земли «анши» и преобразование его в «анчутку» исключается. Возможен только естественный ход: от изначального к последующему, от истока к устью, от прародины к новым обживаемым землям. Вторичное эхо докатывается лишь в особо значительных, как мы писали, случаях.
Случайно ли в древнеиндийских языке и мифологии бесчисленное употребление слова и понятия «бха-га»? Например, Бхагавати – «обладающая долей, счастьем», Бхагават – «благословенный», Бхагават-гита – «божественная песнь»? Разумеется, не случайно. «Бхага», авестийское «баха», персидское «бага» и славянское «бог» – это производные от одного первослова.
Необыкновенную древность для славян этого понятия подчеркивает разошедшееся на первый взгляд, но фактически так и не смогшее разойтись понятие глубокой архаики «бог-благо». И потому Даждьбог, или Дажьбог, имеющий аналоги у южных и западных славян – Дабог и Дасбог, – это одновременно Дажь-бог и Дажь-блага, то есть, «божественный податель благ». Но безусловно, это не первоимя, это эпитет. И потому на месте Дажьбога в Пантеоне мы вполне можем себе представить «дающего блага» Рода, или «дающего блага божественного» Кополо, или «бога-подателя благ» Дива… А скорее всего, нечто совмещающее и первого, и второго, и третьего, и наверняка еще многих подразумеваемых «высших» и всемогущих для человека того времени богов.
Понятия «бог», «богатство», «у-божество», «благо» отнюдь не пришли на Русь и в славянские земли с христианством. Это исконные слова-обозначения, так же как, например, «святой», «святость» с корнем 'свет-свят-', существовавшие на землях, занятых индоевропейцами, тысячелетия. Конечно, несколько менялось со временем их значение, но слова, понятия оставались и остаются.
Б. А. Рыбаков отмечает в своей книге «Язычество древних славян» тождественность Дажьбога и Аполлона. Такое представление в какой-то мере отвечает и нашим представлениям о Дажьбоге-Кополо, полностью укладывается в функциональные и образные рамки нашего божества-переселенца, прародителя Аполлона.
По правую руку от Дажьбога-Кополо стоит Стрибог. В его древности и исконности для славян сомнений у серьезных исследователей нет. Первая составляющая теснима 'Стри-' восходит к индоевропейскому обозначению «неба-отца» – «птр-си деи-во» и значительно ближе к исходному, чем, скажем, Иупатер-Юпитер.
Само 'Стри-' породило такие слова, как «старый, старик», и «стрый» – дядя по отцу (дядя по матери – «вуй»). Стри-бог – Старый бог, Бог-Отец, Бог-патер, Деива-патер, Зевс-отец, Ю-питер. Такова лингвоцепочка. Но у цепочки, отражающей эволюцию божества, иные законы. И потому Стрибог на славянской почве не совместился, подобно Зевсу, с Перуном. Перун его оттеснил, оставаясь бого-героем и на «верховном» месте. Но, оттеснив, оставил и ему возможность не покидать Пантеона. Рядом они стоять не могли: это было бы чревато «приближением» Старого бога к молодому Верховнику и соответствующим противостоянием. Князь Владимир и его волхвы, конечно, понимали все это значительно лучше, тоньше и глубже нас. Но, к сожалению, их не воскресить, не пригласить на нашу беседу.
Стрибог, судя по всему, не был антропоморфен. Он олицетворял еще не очеловеченную природу, стихию – в основном, небесную. И потому его внуки (вспомните «стрибожьи внуци» в «Слове о полку Игореве») – это ветры: ураганы, смерчи.
Стрибог отдален от человека. Он равнодушен к нему и ко всему человеческому в отличие от антропоморфных богов-героев, порожденных героями-людьми. Ведь его породило «небо», он сам и есть «небо». И потому он не близок Дажьбогу, он может не только «подать блага», но и хорошенько «врезать» сверху, причем, и без причины, по хотению. Конечно, заручиться и его поддержкой следует. Но он слеп, как слепа стихия. И вместе с тем Дажьбог-Кополо, Хоре, а прежде и Перун зависят или зависели от него, ибо они, если так можно выразиться, «в нем самом», во всесильном небе.
Перун, правда, в какой-то мере преодолевает всемогущество Старого бога, возвышается над ним, но это он делает как бого-человек, преодолевающий слепые силы природы, берущий-таки верх над ними. И это не просто игра фантазии древних. Это целое мировоззрение, присущее всем индоевропейцам, ставящее человека, несмотря на его слабость по сравнению с могучими слепыми силами, на главенствующее место. Тут вовсе не гордыня, не хвастовство или желание себя выпятить, тут то качество человеческого характера, без которого он бы не выжил.
Полностью этимологизируются Стрибог и его расселившиеся по белу свету родственники только из славянских языков. Кого бы мы ни взяли – этрусского Сатре, римского Сатурна или «греческих» сатиров, мы не найдем ни у этрусков, ни у древних греков и их соседей созвучных и переводимых слов. Единственное близкое латинское «сат» – сеять – абсолютно не соответствует образу Сатурна. Иных нет.
Зададимся вопросом: «Мог ли сатир, или Сатурн, или Сатре оказаться привнесенным на славянскую почву и превратиться там в Старого бога, в Стрибога, возникшего из праиндоевропейской корневой основы?» Ответ однозначный: «Ни при каких обстоятельствах, исключено!»
А мог ли протославянский 'Стри-' попасть в Средиземноморье и развиться в соответствии с законами развития языков в Сатре, сатиров и Сатурна, имеющих ту же корневую основу 'стр-'? Мог! Вне всяких сомнений. И именно с Севера попасть на Юг, от протославян к средиземноморцам. Ведь если бы Сатурн, сатиры и Сатре самостоятельно в лингвистическом плане развивались из индоевропейской основы, без захода к протославянам, они бы именовались так: Патре, патиры и Патурн. И примеры такого развития есть – это развившееся из 'птр-' «патер» и все его производные, так что наше предположение вполне логично.
Проверим себя. Соответствуют ли образы привнесенных в Средиземноморье протославянских божеств первоначальному образу 'Стри-'? Ведь если упомянутые попали в виде «стри-я» в места своего дальнейшего обитания, в них обязательно должны сохраниться отголоски изначального типажа-предка, как бы они ни развивались, как бы бурно и пышно ни разрастались в экзотических краях.
Сатре – «старый бог». Он олицетворяет древние времена, когда царил «золотой век», то есть, допраиндоевропейскую бытность. Мы видим однозначное равенство: Стри = Сатре.
Сатиры – олицетворение дикости и древности. Они покрыты шерстью, волосаты, бородаты, даже козлоноги (это последнее, разумеется, фантазия, но определенно намекающая на неразвитость конечностей и их кривизну у первобытных людей). Сатиры первоначально изображались вообще почти неантропоморфными. Недаром им противостоит «культурный герой» Аполло-Кололо, убивающий зверообразного дочеловека сатира Марсия. Сатиры – это порождение «старого» мира. В их множественности видна приобщенность к Сатиру-Старому богу, они его слуги-демоны и его же ипостаси. Эволюция Стри – Сатре – Сатир – сатиры не может вызвать возражений.
Сатурн также древнейший бог, «старый» бог. Исследователи отождествляют его с Кроносом, отцом Зевса. Здесь мы видим, вообще, самую прямую связь:
громовержец Зевс, сын Кроноса-Сатурна, свергший его и занявший место «верховника», и громовержец Перун, сын Стрибога, также отодвинувший отца на задний план. Сатурн неантропоморфен, это олицетворение стихии, он безжалостен и бесчеловечен, он «пожиратель детей». Никакого отношения к «сеянию» он не имеет. И, повторим, никак не переводится даже в самых отдаленных приближениях ни с древнегреческого, ни с латинского. Это явно привнесенный с Севера бог-стихия. Иного толкования пока нет. Мы видим снова равенство: Стри = Сатурну.
Такой вот сосед у Дажьбога по Пантеону – Стрибог, прадедушка средиземноморских сатиров, Сатре и Сатурна, совсем заслонивших от исследователей своего родоначальника-предка пышностью, эпическо-литературной изукрашенностью образов и, разумеется, популярностью, созданной как античными художниками, так и творцами эпохи Возрождения.
Следующий в Пантеоне – не совсем нам понятный Симаргл-Семаргл. Как выглядел идол этого божества, мы не знаем. Можем лишь предполагать.
Одна из наиболее модных и широко распространяемых «гипотез» гласит: Семаргл – это заимствованная у иранцев сказочная птица Сэнмурв. С какой стати князь Владимир приобщил к славянским божествам иранскую птицу, не объясняется. И птица ли вообще Семаргл? Подобные «гипотезы» мы не беремся рассматривать в силу необходимости экономить и бумагу и время, а также ввиду их полной несостоятельности. Можно лишь добавить, что лингвистически «Семаргл» и «Сэнмурв» не более близки, чем уже упоминавшиеся Искоростень и Йошкар-Ола.
Большего внимания заслуживает предположение, что теоним Семаргл восходит к «Седмо-глав» или более древнему «Седмор-голв», что означает «семиголовый» или Семиглав. Семь-число священное для славян и индоевропейцев вообще. Триглав нам в славянской мифологии известен.
Высказывались, правда, предположения, что Семаргл – это некая «священная собака», что. это «крылатый пес» Переплут, а отсюда и собако-птица, и птице-дева, и просто птица с непонятными функциями. Предположения эти, надо признать, ошибочны уже по той причине, что в киевском Пантеоне не было богов второразрядных или даже третьеразрядных, не говоря уже о «собако-птицах» и прочей мелкой живности, относящейся к разряду «мелких бесов-демонов», прислужников богов. Это был не архаичный протопантеон, а продуманное и искусственное, как мы говорили, собрание. И потому в Семаргле-Семиглаве нельзя усматривать божества даже второго ряда. Он должен быть непременно из первого, из ведущих кумиров. На наш взгляд, Семаргл – это тот единственный представитель полабско-рюгенских славян в киевском Пантеоне.
Нигде мы не встречаем на Русской земле того времени присутствия даже остаточных форм германо-скандинавских кумиров. Но все же было нечто привнесено тем, кого на самом деле по праву родства, – по династическому праву призвали на Русь, а именно Рюриком-Рарогом? В чем-то должно было проявиться и остаться на Руси воздействие, влияние ближайших родичей восточных славян – руян и полабов? Разумеется, да. Они принесли с собой культ высшего для их племени-рода и для большого сообщества славян божества – Руевита-Семиглава. Это бог-воин, наделенный огромной жизненной силой, что исходит из второго составляющего теонима – «вит». Он опоясан ремнем, на котором висят семь мечей. Восьмой меч Руевит держит в правой руке. Так описывается дубовый идол Руевита западными хронистами, сопровождавшими германцев, которые в результате длительного и упорного натиска разрушили цивилизацию полабско-руянских славян. Но главнее для нас то, что идол Руевита имел семь ликов!
Семиглавый бог-воин Руевит прибыл, по всей видимости, вместе с рюриковским родом и его дружиной, вместе с матерью Рюрика Умилой – дочерью новгородского выборного князя-посадника Гостомысла. Это был главный бог руян. Игнорировать столь величественного гостя-родича было никак нельзя. И Руевиту-Семарглу, несмотря на то, что прошло более ста лет со дня воссоединения братских славянских племен и, казалось, могло бы и позабыться, на наш взгляд, многое, благодарные и помнящие родство потомки отвели достаточно почетное место в Пантеоне. Но разумеется, главным божеством, как на Руяне-Рюгене, он на Руси не мог быть.
Далее идет богиня Мокошь или Макошь, – единственное женское божество Пантеона. Нам не кажутся убедительными попытки вывести теоним от слов «мокрый», «мокнуть». Также не годятся и якобы исходные «мокушка-макушка», «мякоть-мякушка». И то и другое, на наш взгляд, из разряда откровений «народной этимологии».
Неубедительны и старания представить Макошь как божество чисто женского труда-прядения, вышивания, б готовки и пр. Все эти функции присутствуют в образе Макоши, но они представляют лишь незначительную часть ее «интересов». Хотя, например, прядение как свитие-прядение жизненной нити, разумеется, гораздо более емкое понятие, чем просто рукоделие. И в этом просматривается аналогия с мойрами, прядущими нити судьбы человеческой. Но для Макоши все это узко, очень узко. Трудно представить себе, чтобы Владимир ввел богиню в Пантеон, только чтобы ублажить женщин-рукодельниц, пусть даже и судьбоносных.
Теоним состоит из двух частей: «Ма» – «мать» и «кошь» – «жребий, участь». В этом случае Макошь – «мать жребия», «мать удачи, доли» или даже «мать судьбы».
Но нам представляется, что образ значительно глубже и емче. Во всяком случае, в своей первооснове. Наверняка в нем заключается понятие о Матери всего сущего – и богов, и земли, и людей, и животных – всего, ибо это общий для индоевропейцев образ Мадивии – Материнского Божества. Только такая роль могла обеспечить Макоши место в продуманном языческом Пантеоне, где не предполагалось «ячеек» для «домовиков» и «домовух», бесенят и ведьмочек, «попутников» и «негодников».
С полным основанием мы можем считать Макошь эволюционированным образом Праматери, восходящим, по меньшей мере, к Рожаницам, а точнее, к Рожанице-матери (их было две: мать и дочь-Лада и Леля, Лето и Артемида и т. д.). И здесь мы сразу получаем, что Лада, Рожаница-мать, Мадивия, Макошь – это, по всей видимости, разные названия одной Богини-матери, и притом, возможно, разные ее ипостаси. Но мы не будем углубляться в проблему Изначального женского божества, Праматери, ибо она неисчерпаема и требует отдельного объемного исследования. С нас хватит пока общего представления.
Попутно следует сказать, что великие государственные деятели Руси, ее устроители заслуживают более уважительного отношения с нашей стороны. Предполагая, что личность, сумевшая сплотить множество племен-этносов – союзов суперсоюзов племен, может по своей прихоти заставить весь «честный люд» в государстве почитать «собачку» или неведомую «иранскую птичку» и поклоняться им, мы тем самым унижаем и очерняем эту личность. И в первую очередь унижаем себя, показывая таким подходом крайнюю поверхностность суждений. Впрочем, «гипотезы» об «иранских птичках» высказывались первоначально в 30-х гг. нашего столетия. Они не нуждались бы в комментариях, если бы не продолжали кочевать из издания в издание, несмотря на то, что, казалось бы, «эпоха Покровского и его школы» давно миновала, оставив после себя зияющие пустоты, искореженную, полувытравленную память и руины.
Каждому божеству Владимирова Пантеона соответствовал свой день недели, причем, не всегда он совпадал с «порядковым номером» в общем ряду. Так, у Перуна, разумеется, был четверг, у Хорса – понедельник, у Дажьбога – воскресенье, у Стрибога – вторник, у Семаргла-Руевита – суббота, а у Макоши – целых два дня: среда и пятница. Насколько естественным было это распределение, нам судить трудно.
Таков был на 980 г. от Рождества Христова первый ряд языческих русских богов. Входил в него и Велес-Волос. Но ему положено было стоять как богу народа, близкого к земле, да и самому к ней близкому, в самом низу, никак не «на холме». О Велесе мы говорили много. Добавим лишь, что и со сменой религий ему стало не лучше, вернее, его прообразу – медведю. Святой Егорий, как называли его в народе, тот самый, что взял на себя обязанности Перуна после христианизации, сразу вошел в фольклор как защитник скота от медведя. Основной миф остался каким и был, только теперь Егорий-Перун воевал с медведем-волосом. Имя Егория вошло во множество заговоров, какими пытались защищать коров от медведя. Такие вещи не бывают случайными.
Итак, с первым рядом богов мы разобрались, более или менее. Переходя ко второму ряду, необходимо упомянуть, что славяне-язычники, как писали летописцы, поклонялись сначала упырям и берегиням, потом им на смену пришли Род и рожаницы и только после этого все остальные боги-кумиры. В таком трехфазном членении мифогенезиса есть своя логика. Но мы не будем специально касаться упырей, берегинь. Рода, рожаниц и пр. Отметим лишь первостепенную важность многоликого божества Рода, чье имя отразилось в таких привычных для нас словах, как «природа», «родной», «родиться», «родичи», «народ», «родина» и многих других. Случайный божок не смог бы оказать на язык подобного воздействия.
Характерно и следующее явление: верховный бог всегда в единственном числе и мужского рода, а сопутствуют ему божества женского рода, их двое или несколько. Например, Див – дивы (девы). Суд – суденицы. Род – рожаницы. Исходя из такого положения, наверное, можно себе представить, что и берегиням предшествовал какой-то бог – предположим, Оберег. Выводить берегинь от слова «берег (реки)» не следует. Ведь если бы работала такая схема, то мы бы знали сейчас и «рощинь» (от «священных рощ»), и «небесынь», и «землинь», и «ду-бынь-деревинь» (от «дуба», «священного дерева») и др. Однако мы таковых искусственных созданий не знаем.
Скорее всего, Суд, Род, Див да и гипотетический Оберег были ипостасями одного Верховного Бога. И это затрудняет поиск.
Исследователи выводят теоним «Род» из индоевропейского «Хорд-ху» или «Хорд-у». И этому отвечают, например, хеттское слово «харду» – потомок и лувийское «харту» с тем же значением. И все-таки изначальной формой нам представляется именно слово «Род». Почему? А потому, что, если бы было иначе, индоарийские переселенцы унесли бы с прародины понятия и культы божеств, обозначаемые как «хорд», «хард». Но у древних индийцев бытовали божества Родаси причем в очень сходном понимании со славянскими Родом и рожаницами, практически совпадающем. Так, в единственном числе Родаси означало «рожающая земля», то есть, полный аналог Рода, но в женской ипостаси. А во множественном числе Родаси – две богини, исполненные благ, то есть, те же славянские рожаницы:
Род (сл.) = Родаси (др.-инд.) Рожаницы (сл.) = Род-аси (др.-инд.)Соответствие полное, случайное совпадение исключается. Все это нам помогает укрепиться в мысли, что культ Рода и рожаниц существовал на прародине индоевропейцев задолго до выделения и переселения индоарийских племен. И культ этот, разумеется, был унесен именно с прародины на новые места, а не наоборот, ибо представить себе, что древнеиндийские Родаси каким-то неестественным образом возвратились на прародину и положили основание культу Рода и Рожаниц, никак нельзя. То есть, и в этом случае мы сталкиваемся со вполне четкой закономерностью: распространение богов, божеств, понятий идет из ядра на периферию, но не наоборот. Надо сразу сказать о том, что мы не рассматриваем в данной работе вторичных, или обратных, заимствований. Чтобы дотошный читатель не заподозрил нас в некой предвзятости, скажем – они, разумеется, были, и мы их признаем. Так, вполне возможно, что русская птица Сирии – это заимствование от греков-византийцев, в основе которого лежали небезызвестные Сирены. Или же Алконост – райская птица. Она позаимствована также через Византию из греческого мифа об Алкионе. То же можно сказать о Кентавре-Полкане и множестве прочих прижившихся на Руси персонажей. Но во всех случаях это литературные заимствования позднего, средневекового периода. Мы же ведем поиск в глубочайшей древности. А там действовали отнюдь не литературные законы. Нам может показаться странным, что в Пантеон не вошел такой всемогущий бог стихий, как Сварог, которого по его функциональным особенностям можно смело поставить в один ряд со Стрибогом, Родом, Судом, Дивом как одну из ипостасей Верховного Бога. Но он потому и не вошел, что в Пантеоне уже стоит Стрибог, олицетворяющий и всех прочих. Сварог, как и Стрибог, – отец Дажьбога. Он олицетворение небесных стихий, самого неба. Его сын Сварожич – огонь и, наверное. Солнце, то есть, это одновременно Хоре и Дажьбог. Сварожич, разумеется, лишь эпитет или, выражаясь более точно, отчество. Можно было бы с полным основанием записать: Дажьбог Сварожич и Хоре Сварожич – это было бы абсолютно верным. Сварог известен и у западных славян под таким же именем. Но, наверное, выводить Сварога из «огненного духа» славян Рарога, или Рарожека, как это делают некоторые исследователи, было бы неправильно. Ибо его образ полностью укладывается в его теоним – санскрит сохранил слово, которое, видимо, было утрачено на прародине и не оставило заметных следов в славянских языках (этот вопрос о следах еще не разработан). «Сварга» означает «небо» «небесный». Имея такое четкое обозначение, абсолютно точно передающее сущность и лингвистически точное, нам нет смысла выискивать какие-то иные – маловнятные и путаные. И здесь мы сталкиваемся с интересным, но в то же время и обыденным, нормальным явлением – прародина сохранила образ и утратила понимание теонима, переселенцы утратили образ, но сохранили слово-значение. Это и есть жизненность, отсутствие схематизма. Славянского Сварога невозможно объяснить никакими заимствованиями ниоткуда. Но унесенное переселенцами понятие «неба» ярким лучом прожектора высвечивает праславянскую древность на рубежах III и II тысячелетий до н. э. Мы снова и снова возвращаемся к изначальному праиндоевропейскому ядру, к этому горнилу кумиров-божеств, разнесенных народами индоевропейской языковой семьи по всему свету. И все же надо переходить к божествам второго ряда. Они заслуживают самого пристального внимания. Такой ли уж «второй» этот ряд? Мы уже сопоставляли древнеиндийского бога огня Агни со славянским Огнем. Здесь бесспорно родство, так же как и между древнеиндийскими Ваю и Вата – богами ветра и славянским Ветром. Какие еще соответствия мы можем выявить с ходу, на слух? Разумеется, само название Веды говорит нам о многом: «ведать», то есть «знать». Веды – «знание». А наши «ведь-мы» – «знающие», обладающие каким-то недоступным всем прочим знанием. Откуда принесено это Знание-Веды?

Возрождение или перерождение богов
Ты, Агни светлокрылый, Спасешь меня, разъединишь со тьмой. Смотрите, братья, недруги и други, Как бог, гудя, охватит мой костер, Отсвечивая золотом в кольчуге! Смирите скорбь рыдающих сестер: Бог взял меня и жертвою простер, Чтоб возродить на светозарном Юге!Мы не сможем посвятить каждому божеству или демону по главе. Наша задача пока просто обозначить их в системе образов-аналогов, выявить прообраз, если это удастся. Но пойдет уже процесс без красочных описаний. Мы будем лишь намечать вехи, по которым в дальнейшем, в следующих работах, пойдем или мы сами, или иные исследователи. А потому за дело. Существует мнение, что «ангел» – это перевод с древнееврейского на греческий слова «малак», то есть «вестник». И на самом деле, ангелы по своим функциям посредники между богом и людьми. Но так ли все просто? Такое ли здесь примитивное заимствование? На наш взгляд, нет. Греческое «аггело» близко к просторечному русскому «аггелы, аггел». Казалось бы, все очень просто, цепочка наглядная: древнееврейский «вестник» – греческий перевод «аггел» – русское заимствование «аггел-ангел». Но дело в том, что задолго до появления на свет древнееврейского этноса и, тем более, греческих переводчиков уже оформилось и бытовало древнеиндийское, а возможно, и праиндоевропейское «Ангирас» – посредник между богами и людьми. Ангирас породил целый класс полубогов-ангирасов, через которых и осуществляется связь между богами и людьми. Самые настоящие «ангелы», только не двухтысячелетней давности, а как минимум четырехтысячелетней. Лингвистическое совпадение также абсолютное: переход «и» в «е»-дело понятное, «л» при переходе из праиндоевропейского и славянских превращается в «р», пример тому мы уже приводили – это «слава» – «сравас». Ангирас = Ангелу. И без всяких посредников-переводчиков! Интересен и тот факт, что Ангирас одновременно сын Брахмы – высшего бога – и сын Агни, одного из наиболее упоминаемых «Ригведой» божеств, идущего следом за Индрой. Бесспорно, христианство вложило в понятие «ангел» и свою особенность, но сам образ существовал задолго до оформления христианского учения и к древнееврейской мифологии отношения не имел. Агни – Ангирас – ангирасы – ангелы и Огонь. Вот эта «огненная» сущность полубогов-посредников, на наш взгляд, очень характерна, ведь именно она отвечает требованиям к какому-то переходному состоянию между реальной, физической материей, которую можно взять, пощупать, и чем-то «божественным», неощутимым на ощупь. В сознании людей тех времен Огонь и был таковым «посредником», несущим от богов вполне определенные блага. В дальнейшем образ развивался. Что еще? Богиня Вяч-Вач древнеиндийского, а точнее, ведийского пантеона. Это богиня речи. Вяч-Вач так и переводится – «речь», «слово». Хотя и не следовало бы переводить то, что понятно и так. «Вяк», «вякнуть», «вякать» – это просторечные «говор», «сказать», «говорить». Само древнеиндийское понятие «вякти» – говорить – полностью совпадает со славянским «вякати». Разумеется, индоарии унесли с прародины слово-понятие вместе с соответствующей богиней. Ничего близкого к славянскому и древнеиндийскому слову у их соседей нет. Латинское «вокс» отдалено и вообще сомнительно. Персидское «ванг» – шум – также не совсем укладывается в образно-лингвистические рамки. Ну и, конечно, всем нам известное новгородское, да и во всех иных славянских местах распространенное «вече». Нет сомнений в том, что оно произошло именно от «вякати», «вакти». «Вече-вяче» – это «говорильня», место, где можно «говорить, обсуждать». Иные предположения нам не представляются серьезными, хотя они, конечно, есть. Сплошь и рядом мы встречаем в древнеиндийских языках и мифологии образы и слова, унесенные с прародины индоевропейцев. Но ни у одного народа мы не найдем стольких «совпадений», как у славян с индоариями. Взять, например, женское начало, сияющую и парящую жену Индры – Вирадж (правильно Виражь). Это сам «женский дух». В славянской мифологии «женские духи» вилы. В единственном числе – Вила, летающая женщина с распущенными волосами, олицетворяющая саму женственность и вместе с тем способная и навредить при случае недругу (чисто по-женски). Совпадение? Случайность? Памятуя о переходе славянского «л» в древнеиндийское «р», это не скажешь. Вила = Виражь и лингвистически, и по образу. Снова – прародина и периферия, автохтоны и переселенцы. Проверим себя. Причем, проверим не на «мелочи» какой-либо, а на верховном божестве ведийской мифологии. Кто такой Брахма? Кто такие брахманы? Ну, со вторыми более или менее ясно, для нас брахманы – это соответствующая категория жрецов, обслуживающих Брахму (в более сложные, многотрудные для понимания значения, развившиеся на поздних этапах, мы вникать не будем). Итак, брахман – жрец, волхв. Ну а Брахма? В слове заключен праин-доевропейский корень «бел», о котором мы уже говорили, еще он звучит «бхел», «бхелг» и означает «раздуваться», «вспучиваться», «разбухать». Знакомые нам вещи, характерные для Волоса-чудища. Для переселенцев образ начал развиваться в ином направлении, в сторону «верховника», по всей видимости, очень давно, еще до начала переселения. И в него вошло в основном то, что имелось в первоначальном властителе-волостителе «подземных пастбищ», владыке. Но распространилось это «володение» уже на весь обитаемый мир, заключавший в себе и подземные сферы, и земные, и надземные. Все «вредительское» и «злое» полностью ушло в Валу-Балу и Вритру. Осталось всемогущество, величие. Почему мы говорим с такой уверенностью? Потому что такой взгляд отвечает не только самому образу и его эволюции, но и лингвистическим закономерностям. Снова вспомним «слава»-«сравас», вспомним переход «б» в «в». Из первого получим: Брахма – Блахма. Из второго: Блахма – Влахма. Влах – это Волох, так же как «град» – это «город». Дополнение «ма(н)» в слове по естественным причинам, из которых образовалось сложное слово, отпадает, ведь основа – Брах. Получается: Брахма=Волоху. И соответственно «брахманы» это «волхвы». Непривычное толкование, не так ли? Но другого, столь же аргументированного и осмысленного, просто не существует в природе. Все попытки вывести Брахму, да и прочих богов и демонов древнеиндийского пантеона из каких-либо иных языков и мифологий разбиваются вдребезги ввиду отсутствия даже единичных, даже случайных совпадений. В нашем же варианте все укладывается в очень стройную и логичную систему, не входящую ни в одну из бытующих поверхностных схем. И система эта – сама жизнь, сама эволюция на протяжении шести-семи тысячелетий праиндоевропейцев и их потомков. Много еще придется поработать нашим исследователям, прежде чем им удастся создать доподлинные представления в своем сознании и сознании читателя о древнеиндийском этнокультурном сообществе и его родстве с праславянами. Изучая древнеиндийскую культуру по отражению в «английском зеркале», это не сделаешь. Нам предстоит начинать почти с самого начала. Да и немудрено, лишь в 1987 г. издательство «Наука» выпустило более или менее системное описание самой архаичной разновидности древнеиндийского языка. Книга так и называется: «Ведийский язык». Но, прямо скажем, маловато. Продолжим наш поиск. Культ умерших, так называемых «предков», существует у всех народов мира. Славянские деды, дзяды, нави, предки нам отчасти знакомы. У древних индийцев таковых называли «преты», ушедшие. Некоторое время преты продолжали жить среди людей невидимыми. И надо было совершать ряд обрядов, чтобы «проводить» их в мир иной, приобщить к прочим усопшим и успокоившимся. Иначе они превращались в «бхуту»-демонов из свиты злого бога Шивы. Все, до деталей почти, совпадает с соответствующими ритуалами славян. Вспомните хотя бы «де-вятины», «сороковины» и прочие «юбилеи» усопшего. Все это нехристианские обычаи. Они пришли из древности. Души усопших надо было препроводить по всем правилам, иначе они превращались в навей – злых духов, которые преследовали живых, в бесов. Древнеиндийское «бхута» так и переводится – бывший. Бесы, нави, бхуты бродили вокруг деревень, могли загрызть человека и съесть его, жили они, как правило, на кладбищах. Слово «предок» можно понимать как «предшествующий». Но одновременно он и «ушедший», так как живых предками называть не полагалось, это достижение лишь последнего столетия – жаргонное выражение. Понятия-слова «предки» и «преты» полностью совпадают. Совпадает и весь комплекс представлений, связанных с ними. И опять из далекой Индии прийти на родину индоевропейцев этот комплекс в самом архаичном виде не мог. Он был унесен переселенцами с исконных земель. Нет сомнения, что и славянский Ядрей связан с древнеиндийским Атри, что переводится как «едящий». В ведийской мифологии образ изукрашен. Но теоним, конечно, не случаен. Ядрей же, разумеется, происходит не от «ядра» и не от «ядрицы». Здесь заключены корни, связанные с едой и «ядрением», то есть «набиранием сил». Недаром ведь Ядрей – дух, отвечающий за урожай. Хотя в данном случае вполне возможны и варианты самостоятельного развития двух слов-образов из общего праиндоевропей-ского или доиндоевропейского корня. Здесь мы сделаем совсем короткое отступление. У читателя может возникнуть сомнение и даже подозрение – дескать, все эти случаи – самые обычные совпадения. Хорошо, предоставим такому читателю возможность обложиться всеми существующими справочниками, энциклопедиями и соответствующей литературой. И если его многолетние (тут месяцем-другим не отделаешься) старания по нахождению совпадений между какими-либо иными мифологиями, их персонажами и их образной и лингвистической сущностью увенчаются хотя бы десятком более или менее приемлемых примеров, признаем, что бывают и «случайные» совпадения. Но не советуем впустую тратить время. Все мы слышали про латинскую Аврору – богиню утренней зари. Мало кто знает про древнеиндийскую Ушас, соответствующее божество. И никто наверняка не ведает про славянского Овсеня. Этот бог олицетворяет приход весны, он связан с началом весеннего солнечного цикла. Через балтского Усиньша он сближается с древнеиндийской тезкой. У всех троих был один общий предок. Как звучало его имя? К какому было ближе? Судя по сохранившемуся и непереводимому древнегреческому «авсон», исходная форма была недалека от Овсеня-Авсеня. Авсон же – сын «хитроумного» Одиссея, фигура, разумеется, достаточно условная. Нам он запомнился лишь как родоначальник древнейшего италийского племени авсонов. Мы знаем, каким образом попадали в Средиземноморье «непереводимые» слова, теонимы, понятия. Но в этом случае могло быть и совпадение – у нас мало данных, чтобы говорить наверняка. Единственный аргумент тот, что иного толкования нет. Зато в Древней Индии богиня зари Ушас предшествовала божеству рассвета по имени Аруна, что означает «красноватый». Такая этимология соответствует и Авсеню-Овсеню. Возможно, они с Аруной близнецы-братья.Иван Бунин. Агни

В восточнославянской мифологии, как и во всех индоевропейских мифологиях, существуют образы великанов-богатырей. Эти великаны громоздили горы, меняли русла рек, всячески проявляли свою силу: выкорчевывая деревья, подбрасывая вверх топоры и ралицы (в первоначальном варианте каменные), соперничали с чудовищами и помогали людям. Но, как правило, великаны эти в итоге обязательно сталкивались с богами из-за обуявшей их гордыни и желания помериться силами с высшими существами. Боги наказывают возгордившихся – так уж заведено. Славянских великанов-богатырей называют Асилками или Осилками (иногда Велетами). Есть предположение, что их имя связано с индоевропейским корнем «ак», что означает «камень». Возможно, в начале образа, при его зарождении, камень играл какую-то роль. Но не исключено, что главным составляющим в теониме все же был не «камень»… Скорее, «сила», «осиливание». Хотя здесь может быть простое созвучие. Но такое толкование совпадает с образом. Из «Авесты» мы знаем, что в иранской мифологии существует некий образ «телесного воплощения великой славы». Телесное воплощение – это в первую очередь физическое совершенство и сила. Образ персонифицирует саму удачу и носит теоним Аши, в котором без труда узнается Аси (а может, и «асы»). От наших Асилков мы можем перейти и к носителям культов, к людям. Связаны ли этнические асы с Асилками и Аши? Или они, асы, стали прообразами богатырей? Или, может быть, именем мифических силачей прозвались сами? И здесь мы можем вспомнить иных асов – «светлых богов» скандинавской мифологии. Они даже не совсем боги, а полубоги, обожествленные герои далекой, утраченной родины. У иранцев кроме Аши есть еще и божественные существа, называемые ахурами. Ахуры борются против сил тьмы, хаоса, то есть, против мирового зла. Борьба их не словесная, а действенная, если можно так выразиться – «силовая» борьба. Чем не Асилки? Единственная разница между Асилками и ахурами заключается в том, что ахуры выступают на стороне богов, а Асилки противостоят богам. И вот этот очень важный момент сразу сводит на нет желания многих исследователей объяснить теоним и функциональные особенности Асилков заимствованием из иранской мифологии и иранского языка. Зато у асилков есть близнецы-братья, находящиеся в их же лагере, выступающие против богов. Это древнеиндийские Асуры. Буквально «асура» означает «обладающий жизненной силой» или попросту «силач», «богатырь», «великан». Объяснение теонима как «а-сура», то есть, «небоги», трудно принять, слишком оно поверхностно. Скорее всего, здесь произошла именно та самая, известная трансформация букв «л» в «р» – первоначально слово звучало «асулы» или «асилы». И хотя мы знаем значение древнеиндийского слова, перевода его нет, то есть, оно пришло в Индию готовым, наделенным значением-смыслом, но непереводящимся, как Кополо в Средиземноморье. И снова мы сталкиваемся с одним и тем же явлением явлением возможности лишь однозначной и односторонней передачи: с запада на восток, с прародины индоевропейцев в Древнюю Индию, минуя места расселения иранцев. Как могли Асуры с далекого Юго-Востока через многие народы, в том числе и ираноязычные, у которых ахуры-асуры наделены противоположными функциями, попасть к славянам и стать великанами-богатырями Асилками-Осилками? Никак! И опять мы видим, что слово-теоним сохраняет свое значение-смысл-образ, да к тому же и переводится на родине, в местах, где обитали первичные индоевропейцы. Многое откроется нам, если мы взглянем на историю и на мир своими глазами, если мы перестанем воспринимать Вселенную человечества через порядком запылившиеся английские или германские зеркала. Вот возьмем так называемую древнеиндийскую, а точнее, ведийскую, индоарийскую Яджур-веду. Почему Я-дж-ур, никто объяснить не сможет. Наверное, потому, что так произносят английские исследователи, им так сподручнее по языковым особенностям. Нам же следует, как и индийцам, особенно древним, произносить так, какэто звучало и звучит, Ящур-веда! Всем известно, что Ящур-веда – это Веда «жертвоприношений». Но почему Ящур-Яджур связан с жертвоприношениями, опять-таки никто объяснить не может: какой-то непонятный «яджур», неизвестно откуда взявшийся. Между тем у славян и у их предков, как и у предков индоариев, подземный Змей-чудовище ассоциировался с Ящером, гипертрофированной ящерицей. Еще академик Б. А. Рыбаков заметил, что считалоч-ка про «Яшу» далеко не проста. Вспомним:
Яростная Гера и славный яростный Геракл
Дубовый Ярила На палке высокой Под деревом стал, Глазами сверкал.Наверное, с каждой третьей, а может, и второй картины мастеров эпохи Возрождения глядит на нас пухленький и розовощекий божок с крылышками – Амур. В руках у него лук и стрелы, коими беспощадно поражаются сердца людей, с момента меткого попадания превращающихся во влюбленных. Нет нужды распространяться на тему «амуровых игрищ» и самого Амура, все это известно и так. Божок прост и бесхитростен. Имя его идет от «амор», что значит «любовь». Римляне без лишних затей перевели имя греческого прототипа «любовного божка» на латынь – Эрос превратился в Амура. Считается, что сам теоним «эрос» переводится с греческого как «любовь». Но бывает так, что слова приобретают новые или просто более широкие значения по ходу развития языка. Разумеется, слово «эрос» не исключение. В. Н. Топоров связывает «эрос» с понятием предела. Об этом он пишет в своей статье, включенной в сборник «Античная балканистика», выпущенный издательством «Наука» в 1987 г. «Вожделение, желание того, чего нет, но что нужно, сродни голоду, и оно-то определяет устремленность Эроса к цели – к прекрасному телу, прекрасным телам, прекрасным душам, к обладанию вечным благом, к рождению в прекрасном – к бессмертию» – так описывает исследователь значение самого понятия «эрос». Оно, это значение, постоянно находится в некоем соприкосновении со значением иного слова – «пэрос», что переводится как «предел». Стремление и предел, желание и барьер. И соответственно преодоление. А это уже связано с корневой основой 'пер-', то есть «сквозь», «через», «пере». Мы говорили уже об этом корне, связанном и с Перуном. 'Пер-', «переть», «пронзать», «проходить». А отец Эроса – Порос. Это один из «старейших» богов. Его функциональные качества связаны с «богатством», «обилием», «доходом». Греческий Порос не просто двойник или близнец, это само праславянское божество Пор, или, как еще его называют. Пора, а в более поздних вариантах Порей. Именно с этим славянским теснимом, да и с самим понятием, связаны слова «пора», «опора», «подпора», «порить» – наливаться, толстеть, набирать силу и здоровье. Греческий Порос и славянский Порей уходят корнями в индоевропейское прошлое, это понятно. Богатство и здоровье, достаток и сила порождают Эроса-любовь, Эроса-стремление, Эроса-вожделение. Здесь перечислены далеко не все значения понятия «эрос». Да и мог ли этот самый Эрос быть замкнут в глубокой древности на самом себе? Нет. Мы уже убеждались, что слова-понятия могут переплетаться в невероятных комбинациях и порождать сказочные и вместе с тем реальные, фантастически непредсказуемые и жизненные образы. Наверняка у истоков Эроса были не только «порос» и «эрос» как «достаток» и «любовь». Попробуем немного разобраться. Эрос рождается сияющим, златокрылым, златоволосым. Он довольно-таки далек чисто внешне от изображавшихся на древнегреческих вазах «греков» – смуглокожих и черноволосых. Его, скорее, можно сравнить со светлейшим Арьюной или Арьяманом, такими же изначальными божествами первого поколения. Или же с асами, с Асилками и еще множеством подобных героев, имеющих почти наверняка одного общего предка на еще доиндоевропейском уровне. И здесь снова сплетаются и «греки», и индоарии, и славяне, как они сплетаются в известных нам славянских Анче-Анчутке, древнеиндийской Аньше, древнегреческой Айсе – божестве «доли», «части», «участи» и в какой-то степени «судьбы». Это сравнение не случайно, ибо Порос и Айса имеют самое, непосредственное отношение к Эросу. Последний рождается не из одного «достатка», а из совмещения или сложения противоположностей: «богатства» и «нищеты», «всего» и «ничего». Но как бы нам ни хотелось, как бы мы ни старались, до конца понять образ Эроса-пэроса из древнегреческого языка и древнегреческой мифологии мы не сможем. Мы вечно будем доходить до какого-то «предела», наталкиваться на него, а вот 'пере'-йти через него мы не сумеем. Почему? Да потому, что для подобного перехода мало вторичной и запоэтизированной «греческой» мифологии, здесь нужно нечто иное. У хеттов и прочих анатолийцев существовало божество Ярри. Уже на слух мы можем довериться себе и сказать: это нечто, связанное с кастой «кшатриев» воинов, нечто яростное и воинственное. И не ошибемся. Ярри – бог войны, он вооружен луком и стрелами. И как написано в энциклопедии «Мифы народов мира», Ярри непосредственно связан с индо-европейским корнем «йар». С этим же корнем самым тесным образом связаны Яровит и Ярила. Нам нет надобности переводить имя Ярилы. В нем звучит и «ярость», и «ярь», и «ярение», и множество других производных. В имени-понятии собраны и «ярость» как «гнев», «раздражение», и «ярь» как «яр-жар», «любовное вожделение». Очень образно передал суть второго замечательный русский поэт Сергей Городецкий в цикле стихов «Ярь». Жрицы Ярилы поют ему «яростно-ярый» гимн-призыв:Сергей Городецкий. Ярь
Софокл тождествен Собиславу Досиклей – Даниславу Стисикл – Станиславу Перикл – Переяславу и ПредславуКакие формы ближе к исходным? На первый взгляд и славянские и древнегреческие примерно равно удалены от индоевропейских. Но если мы сделаем поправку на то, что греческие имена зафиксированы две, а то и три тысячи лет назад, а славянские, в основном, в последней трети нового двухтысячелетия (то есть, они «жили», видоизменяясь и развиваясь вместе со славянскими языками как минимум на тысячу лет дольше «греческих»), то убедимся, что именно славянские имена были наиболее близки первоначальным. Да нам это и так достаточно ясно: Переслав мог трансформироваться в Перикла, но не наоборот. Собеслав-Собуклев мог превратиться в Софокла, но Софокл в Собеслава – никогда. Правда, исследователи не берутся устанавливать чье-то первенство. Но, тем не менее, от такого подхода никуда не денешься, он сам собой напрашивается – что-то всегда старше, что-то младше. Мы привыкли считать, что любое «греческое» явление, будь то слово или образ, непременно старше и что это незыблемое положение, константа. Но более детальное изучение вопроса показывает – это не так. И дело здесь не в гонке за первенство, дело в установлении научной истины и совершенно новой постановке вопроса. Нужна ли такая новая постановка? Ведь и так все расписано по ранжиру, разложено по полочкам? Нет, отвечаем мы, расписано схематично, разложено очень условно и неверно. Старая схема не дает нам ответов на все прибывающие новые и новые вопросы, она хороша лишь при отсутствии лингвистических, антропологических, этнографических, археологических и прочих данных, умножающихся с каждым годом. Она хороша лишь для усвоения некоторых античных письменных источников, как правило компилятивных, а то и написанных лжеавторами средневековья. На примере того же Ярилы и его тезки Ярослава мы очень многое начинаем понимать, даже то представляем себе, чего сами древние «греки» не знали о Гере или Геракле. Но сам корень 'йар-' или 'яр', на наш взгляд, породил гораздо больше слов и понятий, чем мы привели. По сию пору не стихают дебаты о происхождении этнонима «арии». Много существует различных предположений на этот счет. Но все они достаточно искусственны, ни одно нельзя признать полностью удовлетворительным. Скажем, ставится знак равенства между словами «арии» и «свои». Но смысл, заключенный в слове «свои» и без того входит в самоназвание народов, он уже заключен в этнониме. А зачастую и совсем упрощают: «арии» – это иранцы, а «индоарии» – индоарийцы (то есть – получается, что индоарии – это те иранцы, которые дошли до Индии). Все это заведомо неверно, ибо с прародины вышли никакие не «иранцы» и даже не «индоарии» – таких-то и слов и понятий не было в те времена. С родины индоевропейцев вышли предки иранцев и предки древних индийцев – арии. Это потом уже они стали «иранцами» и «индийцами». И снова вопрос – кто они, арии? У самих иранцев и древних индийцев сохранились воспоминания о родине – об «арйане ведже», то есть, «ариевом просторе» (но зовут его персы-иранцы «Эранвеж», уже по-своему) и об «арьяварте» – стране ариев, стране благородных. Это обычная идеализация предков, родины предков. А предки пасли скот и пахали землю, слагали песни-гимны и былины. И в их самоназвании заключалось именно то, о чем мы говорим: и понятие «яриться» – созревать, наливаться, и понятие «яр» – жизненный жар, жизненная сила духа, и «ярь» – вожделение, даже шире, сама возможность активного постоянного продолжения рода – этому древние придавали наиважнейшее значение, поутраченное века спустя, без «яри» для них ничего не существовало, лишенный «яри» считался проклятым богами, последним существом на земле.

Но в этом же самоназвании заключалось и понятие «ари», «арати», «орати» – пахать, взрывать землю, прорезать ее, вспарывать этот положенный природой «предел», и тут совмещались и «ар» – взрывание, и «ярь» – любовное вожделение, то есть, способность к самому «взрытию» самого разного рода: от оплодотворения женщины до «оплодотворения» взрываемой земли. Туда же вмещались и понятия «эроса», «пероса» – предела, обязательно преодолеваемого, и, возможно, «пороса» – достатка, богатства, ибо «ярение» и «арание-орание» дают именно достаток: прибыль в племени, в стадах, урожаи. Нет сомнения, что все это очень тесным образом переплетено. Таково наше мнение. Арии – это жизненно здоровые люди, способные и к продлению рода, и к борьбе за свои жизни и свой род. Именно такова, на наш взгляд, первооснова этнонима, распространившегося по белу свету. Именно «жизненная сила, способность» в самых широких смыслах, а вовсе не «благородные» или какие-то «бестии». Нам видится, что все объяснения этнонима какой-то «особостью» – это романтический налет, порожденный романтическим XIX веком. Все «благородство» ариев заключалось в их исключительной способности «вспарывать» саму землю и держаться за жизнь. Позже это понятие «взрезания», «вспарывания» стало переходить и на иные занятия, в том числе и воинские. Племенная молодежь, сыны и внуки землепашцев и скотоводов переносили знакомую «терминологию» в сферу своих занятий и влечений. Именно этим пастухам-«кшатриям» мы обязаны появлением самых разноплановых «яров» и «аресов», как, впрочем, и «Ярославов» и «гераклов». Что же касается упоминавшегося нами славянского понятия «юр», трактуемого как половой инстинкт, мужская половая сила и все, что с этим связано (в отличие от обоюдополых «яра» и «яри»), так и оно не пропало в Средиземноморье, а нашло себе достойного бога. Таковым стал, на наш взгляд. Уран. Да-да, тот самый бесконечно плодовитый Уран, который олицетворяет собою мужское начало и является в «греческой» мифологии «отцом-небом», оплодотворяющим «мать-землю» Гею. Но если «Гея» и переводится как «земля», то для «Ура-на» нет в древнегреческом перевода. Он есть лишь в славянских и, разумеется, праславянском, протославянском языках. Думаем, читатель согласится, что и в данном случае Уран из Средиземноморья не мог попасть в славянские земли и превратиться там из легендарного и мифопоэтического божества в архаичного, первобытно-целостного и однозначного Юра. Могло быть только наоборот: от первобытности, от архаики к расцвеченному образу, от простоты Севера к пышной витиеватостия Юга. Можно было бы и дальше знакомить читателя с божествами и демонами, а также с абстрактно-смысловыми понятиями славян-праславян-протославян. Но слишком много перечисленных в так называемом «втором ряду». Да и, прямо скажем, где «второй» ряд, где «первый» – трудно разобрать, все слито воедино, нет никаких «корпускул-шариков», нет никаких моделей, есть целостность мифологии и мифологий, есть Вселенная человеческой мысли.
Заключение. Разгадка
Пойми великое предназначенье Славянством затаенного огня: В нем брезжит солнце завтрашнего дня И крест его – всемирное служенье.По поводу периодизации славянской истории и предыстории много спорят. Кое-какие мнения на сей счет мы уже приводили, потому не будем повторяться. Постараемся уяснить для себя лишь одну вещь – коли есть предки, прапредки у германцев и иранцев, индийцев и романцев, то есть таковые и у славянского племени. Тот гипотетический довод, что первые записки о славянах появились в середине I тысячелетия, а следовательно, и сами славяне тогда появились, мы не принимаем ни в какой форме, ибо от него разит расистским, германофильским душком. И подобную постановку вопроса категорически отвергаем как псевдонаучную, отличающуюся явной притянутостью к «желаемым результатам». Заслуживает внимания периодизация Б. Горнунга:Максимилиан Волошин
V–III тыс. до н. э. – языковые предки славян; конец III – нач. II тыс. до н. э. – протославяне; с XV в. до н. э. – праславяне.Последний период занимает приблизительно две тысячи лет и длится до V–VI вв. н. э. Время распада праславянства, а точнее, просто славянства, на наш взгляд, надо уточнить, так как к V в. уже существовали, видимо, какие-то существенные различия между славянами южными, западными и восточными. Мы это видим хотя бы на примере руянских и полабских славян V–VI вв., которые отнюдь не смешивались со славянами – предками поляков. То есть, на наш взгляд, никакого общего славянства и, тем более, праславянства к началу I тысячелетия н. э. не существовало. Если мы будем спускаться по временной лесенке вниз, то увидим следующую раскладку:
после XIV в. – великороссы, малороссы, белорусы (и соответствующие деления в других славянских группах); с IV по XIV в. – русские-русичи (сюда включаем все восточнославянские «племена»), племена западных славян и племена южных славян; с начала I тыс. по IV в. – западные и восточные славяне (а также уже обособившиеся внутри этих групп сообщества будущих южных славян); до начала I в. н. э. – славяне.Такая периодизация нам кажется более точной хотя бы потому, что в V в. никакого «общеславянства» уже не было. Не ощущалось и его следов. Языки восточных и западных славян в достаточной степени различались, то есть, эти группы какое-то время просуществовали обособленно, развивались самостоятельно. И мы их с полным правом можем отнести к славянским народам, подгруппам, но назвать славянством не в поэтическом, а в научном плане никак не можем. Так же как различные племена германские мы вправе называть «германцами», но в совокупности их «германством» назвать нельзя, они разнятся между собой очень сильно. Но и до начала нашей эры мы не видим совершенно определенного единства среди славян. Вникая в суть вопроса глубже, мы снова и снова будем сталкиваться с троичным делением «славянства», например, на кельто-славян, балто-славян, скифо-славян. Каждую из этих групп объединяет лишь наличие в них славянского элемента. Но совокупность этих групп опять-таки «славянством» или «славянами» в обобщенном плане не назовешь. Здесь мы видим все тот же интересный фактор цементирующей силы. Мы видим опять некое условное ядро, из которого по мере продвижения к периферии выделяются «ядрышки»-этносы: на запад – «кельтизированное», на юго-восток – «скифизированное», на северо-восток – «балтизированное». И на первый взгляд может показаться, что таково влияние на расселяющихся славян, скажем, кельтов, иранцев-скифов и балтов. Но это вовсе не так. Мы ведь знаем, что, например, воздействия славян на балтов и балтов на славян можно принимать в расчет лишь после разделения и обособления как тех, так и других. А до этого разделения существовала общая бал-то-славянская группа, балто-славянская культурно-языковая общность. То есть, мы постоянно должны иметь в виду, что в приведенной, например, периодизации славянской истории Б. Горнунга или в приблизительно такой же периодизации, используемой Б. А. Рыбаковым, праславяне на позднем этапе – это балто-славяне, а на раннем – германо-балто-славяне, ведь именно таким образом шло языковое расслоение, а следовательно, и расслоение культурно-этническое. И снова мы сталкиваемся со знакомым явлением: ядро в германо-бал-то-славянском сообществе, или, как мы говорили «цементирующая» сила, – славяне, они же праславяне. Германцы выделяются из общности лишь тогда, когда начинают осваивать западные земли и приобретать свое культурно-этническое лицо, отличающееся от общегруппового. Опускаясь еще ниже по временной шкале, мы видим древних «греков», пришедших с севера и принесших в Средиземноморье праславянских кумиров. Кто они эти «греки»? Откуда пришли? Почему принесли то, что оценивается вполне однозначно как славянская архаика? «Греки» «грекам» – рознь. Протогреческие племена на протяжении двух тысячелетий переселялись в Средиземноморье. Считать их какими-то одними и теми же «греками» никак нельзя. Мы разбирались уже в этом вопросе. И снова, опять и опять мы подходим к тому же «ядру», из которого шли кумиры и их носители по всей Европе. И в данном случае мы вынуждены будем признать, что до германо-бал-то-славянской общности существовала некая общность, условно называемая нами в данном случае «греко»-германо-балто-славянской или же, что точнее для того отрезка времени, протогреческо-праславянской. Унесенная индоариями протославянская архаика, как мы имели возможность убедиться, сохранилась у них в более чистом, в более первозданном виде, чем у тех же протогреков и «греков», выделившихся позже. То есть, и здесь мы можем говорить о существовании до протогреческо-праславянской культурно-языковой общности некого индоарийско-праславянско-протогреческого сообщества. То, что индоарии по пути своего следования разделились на протоиранцев и индоарийцев, нас занимает в меньшей степени. Важен сам факт переноса культурных праславяно-, или уже протославяно-индоарийских ценностей на новую родину. Снова и снова мы сталкиваемся с вопросом о существовании некоего обособленного «славянства». Вопрос есть, а самого «славянства» в чистом виде нет. Мы спустились до праиндоевропейских глубин. И что же мы видим? Мы видим тех самых древних индоевропейцев, которых столь долго и безуспешно разыскивают. И опять ядро этого сообщества, его «цементирующую» силу и первооснову составляют те, кого мы в разные времена пытаемся обозначить каким-то конкретным и определенным термином: славяне, праславяне, протославяне. Сейчас мы видим, что терминология эта остается в любом случае достаточно условной. «Славяне», «русские», «французы», «греки» и т. д. – все это очень недолго живущие этнонимы, которые нас порою сильно запутывают и сбивают с толку. Но мы убедились, что есть слова-значения, корневые основы совсем иного рода. И они практически неподвластны действию тысячелетий. Ну какое, например, воздействие было оказано за восемь тысяч лет на нашего знакомого «волоха»? Да почти никакого. Каким он был у протославян, таким и дошел (лингвистически) почти без изменений до нас. Или Перун-Перкун со всеми его значениями? Сменилось множество самоназваний племен и народов, а сама корневая основа «пер-к» остается. Но означает ли это, что «славянство» или «протославянство» начинается с древних праиндоевропейцев и в значительной мере и является именно ими? И да, и нет. Протославяне, на наш взгляд, – это культурно-языковое ядро праиндоевропейской общности, но, «создавая» эту общность, они уже были каким-то вполне конкретным праядром. И следы этого праядра мы четко видим в так называемом бореальном, доиндоевропейском праязыке. Так, бореальная корневая основа «Т-В» – это знакомое нам слово «твердь», то есть «опора»; бореальное «Т-М» – это тьма; «Д-Р» – это «драть», «дыра»; «Д-В» – это «двинуть», «с-двиг»; «С-Р» – струить; «С-Л» – «слизь»; «Н-В» – «новь», «новый» (сохранилось также почти у всех индоевропейцев); «Л-П» – «липнуть» и т. д. Так сколько же тысячелетий протославянству? Ответить на этот вопрос невозможно по той причине, что славяне – неважно, с какой приставкой или же вовсе без нее, – по всей видимости, на всех этапах своего развития были смешанным народом, то есть, им не грозила судьба замкнутого этноса, обреченного на вымирание в течение максимум двух тысячелетий, или даже некоего субэтноса, который должен сойти на нет, по мнению Л. Н. Гумилева, за 1200 лет, пройдя все запрограммированные стадии – от пассионарности до угасания. К слову отметим, что Л. Н. Гумилев предначертал подобную судьбу и русскому народу. Но он не учел того, что русский народ многократно обновлялся за счет постоянных вливаний извне и потому не терял своей «пассионарности»; единственное, что подвело его к роковой черте, – это не некая «программа по Гумилеву», а совокупность невиданного по масштабам геноцида, развязанного против данного этноса в 20-30-х и 80-90-х гг. нашего столетия, алкогольно-химического геноцида, продолжающегося по сию пору и грозящего превращением большей части народа в мутантов, не способных давать здоровое потомство. Но здесь мы не беремся предугадывать будущее, ибо история частенько смешивала карты предрекателям катастроф и гибели наций. Скажем лишь то, с чего начали, при естественных условиях развития крупные смешанные культурно-этнические сообщества практически неистребимы, они могут существовать, внешне изменяясь, но сохраняя первичные формы внутренне, десятки тысячелетий. И примером тому судьбы народов, входящих основными частями в крупные языковые семьи, чьи имена, как правило, эти семьи и носят. Итак, подводя итоги нашего исследования, мы можем представить себе следующую картину. Как из восточных славян в свое время выделились русские-великороссы, украинцы-малороссы и белорусы, так же из славян выделились до этого восточные славяне, западные, а позже и южные… Если же мы будем идти от условного начала, а не спускаться по временной шкале вниз, то получится примерно следующее: протославяне-русы, являвшие собой этническое ядро праиндоевропейцев, «породили из себя» сначала расселившихся индоариев и предков анатолийских народов – хеттов, ликийцев, лувийцев и др. Затем, по всей видимости, началось длительное, растянувшееся на тысячелетия выпускание из ядра порциями протогреческого элемента, заселявшего Средиземноморье. Однотипно, но с большим опозданием произошло такое же «испускание» италийского элемента, преобразовавшегося впоследствии при различных вливаниях в романскую группу. Одновременно с выделением предков анатолийцев и с первыми, еще совсем негреческими переселенцами в Средиземноморье проходило и выделение этрусков – первичное в Малую Азию, вторичное в Этрурию с одновременным перемещением малоазийского слоя на италийские земли (что и создало видимость прихода с двух сторон). Но окончательное выделение этрусков в самостоятельный этнос произошло позже, примерно тогда же, когда начали появляться «греки», которых можно было в какой-то степени назвать древними греками, как складывающейся самостоятельной культурно-языковой общностью. Прагерманские племена выделялись уже не из протославянской общности, а из праславянской (при нашей терминологии). В то же время, судя по всему, произошло испускание кельтского элемента. Но по-настоящему кельтским он стал, лишь вырвавшись из праславянской общности и смешавшись с неиндоевропейским элементом, носящим субстратный характер и еще имеющим место на континенте и острогах.

На наш взгляд, мощнейший выброс прагерманского элемента из праславянского ядра-общности был последним сильным выделением, последней крупной ветвью на дереве протославян-индоевропейцев. Следующее ответвление или испускание было уже и тоньше и слабее. Балты не смогли уйти далеко от ядра – у них также в достаточной степени сохранена архаика. К тому же они время от времени вновь вступали в теснейший контакт с ядром, то вливаясь в него какой-либо своей частью, то вырываясь отростком наружу. Членение внутри самого «славянства» происходило в более позднее время, и мы примерно представляем себе этот процесс. Разумеется, при выделении каждой новой «порции» народов и племен сжималось и само ядро, теряло часть своей жизненной энергии, часть культурного и генетического потенциала. Стоило накопить новый заряд – и происходило новое испускание-выделение. Именно этим объясняется, на наш взгляд, некоторое отставание «ядра» в социально-культурном плане по сравнению с переселенцами. Сами переселенцы, получившие мощный толчок, освоившие более благодатные земли и впитавшие в себя новые культуры и народы, постоянно, после каждого «испускания-выделения», оказывались в лучшем положении и развивались в ускоренных темпах. Их можно сравнить, скажем, с предприимчивыми и энергичными сыновьями и дочерьми, которые оставляли своих родителей в деревнях и уезжали в города (с той лишь разницей, что сами переселенцы по большей части и создавали эти «города» на новых территориях, используя, конечно, и достижения бытовавших там малых этносов. Проходило время, и высокомерные и «цивилизованные» потомки забывали своих «бедных деревенских родственников», начинали от них открещиваться. Вряд ли какой-либо древний грек или же германец, как и германец или грек нынешний признает тот факт, что он вышел из общеславянского или протославяно-индоевропейского лона. Но тем не менее, все именно так и было. Не культуртрегерами и не «белокурыми бестиями-завоевателями» шли по белу свету с протославянской прародины народы-переселенцы, а подросшими и обретшими самостоятельность сыновьями пастухов-земледельцев. Именно в этом и заключалась сущность невиданно живучей общности. Правда, не всегда потом «сыновья» свято блюли заветы «материнского племени». Но само это «племя» всегда было повернуто лицом к любому народу, к любой народности, не принимало оно теорий об «избранных», привечало всех, всех ставило на ноги. Таково решение проблемы. Мы выяснили, кем были древние индоевропейцы. Теперь надо попытаться разобраться с прародиной. Представлять себе местоположение этой прародины на всех территориях, заселенных славянами ныне, было бы неправильным. Мы можем лишь предположить, что прародина была там, где находилось этническое «ядро» протославян-индоевропейцев. На наш взгляд, прародина была «кочующей». В какое-то время она, безусловно, находилась на Балканах и за ними, к северу, какое-то время в Северном Причерноморье. Вполне возможно, что она длительное время «кочевала» по Малой Азии. Мы не беремся выяснять, какая именно «прародина» была первичной или вторичной. Но о циркумпонтийской зоне можно говорить с большой долей уверенности. И все же, как мы видели из наших розысков, наибольшую и значительнейшую часть времени «прародина» находилась к северу от Балкан и на самих Балканах. Именно в этих местах – как сообщают нам русские летописи – следует искать Первичную Прародину. Наверное, именно там мы сможем отыскать следы той части протославянства, которая никогда и никуда не уходила, а лишь перемещалась то чуть севернее, то чуть восточное или северо-восточнее.

Мы уже писали о том, что один из ведущих лингвистов нашей страны и мира, О. Н. Трубачев, считает, что область формирования индоевропейцев совпадает с прародиной славян. Наше исследование также показывает, что славяне как прямые наследники, прямые потомки праиндоевропейцев сохранили больше архаических индоевропейских черт, чем любой другой народ, вычленившийся из их общности. Их язык наиболее близок языку, первичному для индоевропейцев. Но разумеется, мы не ставим знака равенства между протославянами-индоевропейцами и славянами рубежа старой и новой эры или нынешними потомками славян. Памятуя об этом постоянно, читатель найдет в наших рассуждениях ответ на множество вопросов, неразрешимых для исследователей, которые опираются на псевдоклассические лжесхемы. В рамках этих схем-стереотипов невозможно увязать даже самые простые и вполне сопоставимые события или явления, постоянно одно противоречит другому или же о чем-то умалчивается. В нашу же логическую цепь, которая в какой-то мере также схематична, эти события и явления укладываются так, будто в ней для каждого существует своя подогнанная по размеру ячейка. Вместе с тем мы признаем и то, что в какой-то мере сами породили новую схему. Но эта схема уже иного порядка. Это не схема-клетка, в которую при всем желании невозможно впихнуть больше, чем в нее входит. Это – схема-каркас с наращиваемыми и расширяющимися ребрами-решениями, которые если и не пронзают, одновременно охватывая, самое жизнь, то по крайней мере существуют в ней, являясь ее же частями. И это принципиальное отличие очень существенно. И еще раз об уже известном, но наверняка еще не усвоенном. Для того чтобы выработать объективный подход к рассматриваемым проблемам, надо полностью отрешиться от пренебрежительного и уничижительного отношения ко всему славянскому или, скажем, русскому. Мы должны быть бес-пристрастны по отношению к любому существующему или существовавшему народу. Иногда предвзятость играет злые шутки с исследователями, подверженными ей, как, впрочем, и всеми попавшими в сферу деятельности таковых «исследователей». Не следует впадать и в идеализацию, как это часто случалось с немецкими исследователями в отношении германцев-арийцев. Как из одной семьи могут выйти инженер, тракторист, преподаватель, военный, художник, так из протославянского лона вышли индоарии и протогреки, анатолийские индоевропейцы и предки романских народов германцы и балты. Бесспорно, что формировались эти народы или группы народов в силу законов собственного развития и под воздействием соответствующих сред, в которые они попадали, оторвавшись от материнского народа, но истоки их – там, в недрах протославянской общности, которую мы именуем по установившемуся порядку общностью индоевропейской. Удалось ли нам разрешить ЗАГАДКУ ТЫСЯЧЕЛЕТИИ? Автор считает – да, удалось, ничего более стройного и доказательного на сегодняшний день не представлено для обсуждения по той простой причине, что все прочие гипотезы носят частный характер и могут объяснить какой-либо процесс генезиса индоевропейцев лишь на небольшом временном отрезке, но ни в коей мере не на всем многотысячелетнем пути их и тем более не объемлют они самого пути этого. Кто же даст нам окончательный и точный ответ? Возможно, будущее. А может быть, и никто.
Выходные данные
© Приключения, фантастика ISSN 0869–2726 Обложка художника А. ЗавалийОбщесоюзный литературно-художественный журнал Адрес редакции 111123, Москва, а/я 40. Главный редактор Ю. Д. Петухов
Сдано в набор 10.08.91 Подписано к печати 12.10.91 Формат 60X84 1/16. бумага офсетная, печать офсетная, усл.-печ.л. 10. уч.-изд. л. 10. заказ 2202 тираж 20 000 экз.
2-я типография издательства «Наука» 121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6


Последние комментарии
2 часов 2 минут назад
2 часов 19 минут назад
2 часов 40 минут назад
5 часов 22 минут назад
12 часов 45 минут назад
18 часов 29 минут назад